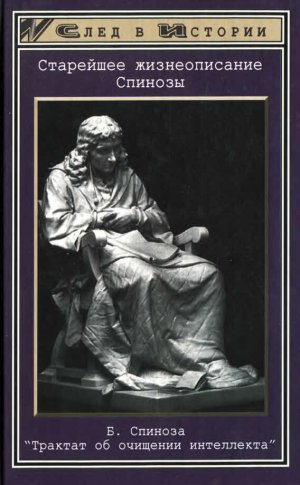
*Серия «СЛЕД В ИСТОРИИ»
Книга написана при содействии финской Академии наук в рамках международного проекта, возглавляемого доктором Весой Ойттиненом (Dr. Vesa Oittinen)
Автор и составитель А. Д. Майданский
© А. Д. Майданский, 2007
© Оформление: ООО «Феникс», 2007
Старейшее
жизнеописание Спинозы
В 1719 году вышел в свет десятый том «Литературных новостей» (Nouvelles litteraires), где среди прочего был напечатан очерк, озаглавленный «Жизнь покойного господина де Спинозы» (La Vie de feu Monsieur de Spinosa). В том же году появилась отдельная книга, содержавшая, помимо жизнеописания, еще и большой антирелигиозный трактат «Дух Спинозы» (L’Esprit de Spinosa)[1]. Оба издания были анонимными, не указывалось и место издания. Предосторожности, как вскоре выяснилось, не слишком помогли: книги были запрещены, большая часть тиража уничтожена — до наших дней сохранилось всего по два-три экземпляра этих изданий. Плюс множество рукописных списков, причем старейшие из них имели хождение задолго до публикации книг. Предположительно самый аутентичный список — так называемый «кодекс Таунли» (Towneley codex) — был обнаружен в начале XX века в Англии. Профессор Лондонского университета Э. Вулф (Abraham Wolf) издал его вместе с собственным английским переводом и обширным комментарием[2].
Долгое время старейшими биографиями Спинозы считались две, написанные его идейными недругами: Себастьяном Кортхольтом (Sebastian Kortholt) — в предисловии к книге его отца, профессора теологии, — и лютеранским пастором Иоганном Келером (Johann Kohler, в более распространенном латинизированном написании: Colerus)[3]. Первая увидела свет в 1700 году, вторая — в 1705 В настоящее время достоверно известно, что «Жизнь покойного господина де Спинозы» была написана намного раньше, никак не позднее 1688 года. Наиболее вероятной датой считается 1678 (всего годом ранее умер Спиноза).
В отличие от Кортхольта и Келера, наш биограф был лично знаком со Спинозой и мог черпать сведения из первых рук. Он не стремился выглядеть беспристрастным, открыто преследуя своей целью защиту доброго имени и философских воззрений Спинозы. Перед нами не простой мемуар, но одновременно и апология. Этим во многом объясняется экзальтированная тональность повествования, напоминающая жития святых — и потому дающая нынешним ученым повод для скептического отношения к написанному.
«Посмертные труды» Спинозы[4] до крайности возмутили ревнителей веры. У его биографа имелись все основания полагать, что «было немалым счастьем для него [умерев] избегнуть бури, поднятой против него врагами». Стоит ли удивляться тому, что биограф утерял чувство меры, отстаивая честь своего учителя и друга? Или же тому, что он предпочел скрыть свое имя?[5]
Считается, что то был Жан-Максимильен Люка (Jean-Maximilien Lucas)[6] — французский эмигрант, публицист и неистовый враг «короля-солнца» Людовика XIV. В предисловии к первоизданию биографии Спинозы говорилось: «Автор доподлинно не известен, хотя очевидно, что сочинивший ее был одним из учеников [Спинозы], как то излагается им с ясностью. Однако, если позволительно опираться на догадки, можно было бы сказать, и не без уверенности, что весь этот труд есть дело рук покойного г-на Люка, столь известного своими «Квинтэссенциями», но еще более — своей нравственностью и образом жизни».
Имеются, впрочем, и некоторые резоны считать автором шевалье Габриеля де Сен-Глена (Gabriel de Saint-Glain), немолодых лет журналиста, писавшего для «Газетт д’Амстердам»[7].
В 1735 году жизнеописание Спинозы вышло в новой, улучшенной редакции и с иным названием: «Жизнь г-на де Спинозы, от одного из его учеников: Новое издание, неурезанное, другим его учеником дополненное несколькими примечаниями и каталогом его сочинений»[8].
Это издание было взято мной за основу для русского перевода. Я сличил его с кодексом Таунли и исключил несколько позднейших вставок, в том числе одну довольно пространную — историю с завещанием Симона де Фриса (прямое заимствование у Келера). При этом я восстановил два-три предложения, которые имелись в рукописи, но отсутствовали в «Новом издании». Разбивка на абзацы дана по кодексу Таунли.
Перевод с французского был сверен мной с английским переводом Вулфа. Я хотел бы также выразить искреннюю благодарность д-ру Е. Гутырчику (Мюнхен), который взял на себя труд сверить русский перевод с немецким (под редакцией Карла Гебхардта[9]) и внес несколько существенных корректив.
А. Д. Майданский
Жизнь покойного господина
де Спинозы
Наш век весьма просвещенный, но от этого он не сделался более справедлив к великим людям. Хотя он и обязан им своими прекраснейшими озарениями (lunares)[10], из коих с успехом извлекает пользу, однако — из зависти ли, по невежеству ли — он не терпит им восхвалений; и удивительно, что приходится таиться, описывая их жизнь, словно совершаешь некое преступление[11], а в особенности если эти великие люди прославились воззрениями беспримерными и неведомыми для заурядных умов. Ну и вот, те, под предлогом верности принятым взглядам, пусть и абсурдным либо смешным, отстаивают собственное невежество, принося ему в жертву благотворнейший свет разума (les plus saines lunares de la raison), так сказать, самое истину. Но как ни рискованно идти столь тернистой тропой, слишком мало пользы я вынес бы из философии того, чью жизнь и принципы взялся описать, если бы побоялся приступить к делу. Я мало страшусь гнева людей, ибо имею честь жить в республике, в коей подданным предоставлена свобода мнений и где было бы нечего более желать для спокойствия и счастья, только бы к людям, доказавшим свою честность, относились без зависти. Даже если это сочинение, которое я посвящаю памяти прославленного друга, и не одобрит весь мир, его, по крайней мере, одобрят те, кто любят только истину и испытывают некоего рода отвращение к наглой толпе.
Барух де Спиноза родился в Амстердаме, прекраснейшем городе Европы, и был весьма невысокого происхождения. Его отец, иудей по вероисповеданию и португалец по национальности, не имея средств для содействия сыну в коммерции, побуждал его к изучению еврейской литературы. Такого рода занятия, составляющие всю науку евреев, не могли удовлетворить ум столь блестящий, как у него. Ему не было и пятнадцати, когда он обнаружил трудности, с которыми едва справлялись самые ученые иудеи; и хоть столь юный возраст не слишком наблюдателен, он все же заметил, что его сомнения приводили учителя в замешательство. Из опасения рассердить его он делал вид, что вполне удовлетворен ответами, довольствуясь тем, что записывал их, чтобы использовать при случае. Так как он читал одну только Библию, то вскоре смог уже обходиться без наставников. Его комментарии (reflexions) были столь верны, что раввинам нечего было возразить — разве как на манер невежд, которые, исчерпав доводы разума, обвиняют противников в том, что их взгляды плохо согласуются с религией. Этот нелепый прием позволил ему понять тщетность такого разыскания истины. «Люди не знают ее, — сказал он, — и потом, слепо доверять даже испытанным книгам (les li vres authentiques) значит слишком любить старые ошибки». Он решился впредь размышлять не иначе как самостоятельно, не жалея никаких усилий для ее [истины] открытия. Требуется великий ум и необычайная сила, чтобы замыслить, не достигнув и двадцати, столь серьезный план. В результате он скоро увидал, что предприятие его вовсе не безрассудно. Ибо, начав читать все Писание сызнова, он проник в его темноту (obscurite), раскрыл его тайны и пролил свет на туманности, за которыми, как ему говорили, прячется истина.
После исследования Библии он с тем же тщанием прочел и перечел Талмуд. И так как ему не был равных в знании еврейского языка, он не нашел там ничего трудного, равно как и ничего приемлемого. Однако ему достало благоразумия, чтобы дать своим мыслям созреть, прежде чем их высказывать.
Меж тем Мортейра, знаменитость среди евреев и наименее невежественный из всех раввинов своего времени, был восхищен поведением и дарованиями своего ученика. Он не мог взять в толк, отчего это юноша, столь смышленый, держит себя так скромно. Желая в том удостовериться, он всячески испытывал его и наконец признал, что его не в чем упрекнуть ни в части нрава, ни в части благородства духа. Признание со стороны Мортейры, упрочив доброе имя его ученика, не прибавило ему и капли тщеславия. Даже будучи столь молод, он, в силу развитого благоразумия, мало полагался на приязнь и похвалы людей. Да и чувство любви к истине руководило им настолько, что он почти не замечал никого вокруг. Но какие бы предосторожности он ни принимал, дабы утаиться от других, бывают обстоятельства, нередко весьма опасные, избегнуть которых не позволяет честь.
Среди тех, кто с наибольшей пылкостью и настойчивостью искал общения с ним, были два молодых человека, которые, притворяясь его задушевными друзьями, упрашивали поведать им свои подлинные взгляды. Они делали вид, что, каковы бы ни были его суждения, ему нечего опасаться с их стороны, их любопытство не преследует иной цели, кроме как рассеять собственные сомнения. Юный школяр, удивленный столь неожиданными речами, некоторое время оставлял их без ответа, но в конце концов, терзаемый их навязчивостью, в шутку сказал, что у них есть Моисей и пророки, бывшие истинными сынами Израиля и уже рассудившие обо всем, — за ними и надлежит следовать без сомнений, коль вы сами истинные израилиты.
— Если верить им [пророкам], — отвечал один из молодых людей, — тогда я не вижу ни что есть нематериальное сущее (etre immateriel), ни что у Бога нет тела, ни что душа бессмертна, ни что ангелы суть некая реальная субстанция. А как вы считаете? — продолжил он, обращаясь к нашему школяру. — Есть ли у Бога тело? Существуют ли ангелы? Бессмертна ли душа?
— Сознаюсь, — ответствовал школяр, — что так как в Библии нельзя найти ничего о нематериальном или бестелесном, ничто не мешает нам верить, что Бог — это тело, тем более, что, как говорил царь-пророк, Бог велик (Dieu etant grand)[12], а невозможно мыслить величину без протяжения (une grandeur sans еtendue) и, следовательно, без тела. Насчет духов Писание определенно не говорит, что это реальные и постоянные субстанции, а не просто фантомы, именуемые ангелами и служащие Богу для провозглашения Его воли. Одного сорта с ангелами и все прочие виды духов, невидимые лишь оттого, что материя их весьма тонка и прозрачна, так что ее возможно увидеть, как видят фантомы, только в зеркале, во сне или же в ночи; подобно тому, как Иаков во сне видел ангелов, взбиравшихся и нисходивших по лестнице[13]. Вот почему мы не прочтем, что евреи изгнали саддукеев за то, что те не верили в ангелов, — ибо в Ветхом Завете и не сказано ничего об их [ангелов] сотворении. Что касается души, то повсюду, где о том говорится в Писании, слово «душа» употребляется в значении «жизнь» или для [обозначения] всего живущего. Бесполезно было бы искать там подтверждение ее бессмертия[14]. Обратное же мы видим в сотне мест, и нет ничего легче, чем доказать это; но тут не место и не время говорить о том.
— То немногое, что вами сказано, — отвечал один из двух друзей, — убедило бы и самых недоверчивых. Но этого недостаточно для удовлетворения ваших друзей, ожидающих нечто более основательное, да и материи эти слишком важны, чтобы затрагивать их так вот вскользь. Мы оставляем вас теперь лишь при условии, что вы продолжите в другой раз.
Школяр, искавший повода прервать разговор, обещал им все, что они хотели. Однако впоследствии он всячески избегал случаев, которые казались ему подходящими для возобновления беседы, и памятуя, сколь редко человеческое любопытство проистекает из добрых намерений, он исподволь изучал поведение своих друзей и открыл в нем столько дурного, что порвал с ними и не пожелал больше говорить.
Его друзья, обнаружив его намерение, довольствовались тем, что перешептывались о нем меж собой, полагая, что их лишь испытывают. Однако когда они увидали, что смягчить его не удастся, то поклялись отомстить, и чтобы сделать это вернее, принялись очернять его в глазах людей. Они говорили, что люди ошибаются, веря, что этот юноша мог бы стать одним из столпов синагоги; что скорее он сделается ее разрушителем, ибо не испытывает ничего, кроме ненависти и презрения к Закону Моисееву; что они часто навещали его, вняв свидетельству Мортейры, пока наконец не распознали за его речами настоящего безбожника; и что раввин, сколь он ни проницателен, был неправ и тяжко обманывался, составив о нем хорошее мнение, — беседа с ним повергла их в ужас.
Эти ложные слухи, мало-помалу рассеиваемые, вскоре проникли в умы людей, и, как только представился подходящий случай подкрепить их, они [лжедрузья] отправились с доносом к главам синагоги, которых рассердили до того, что [обвиняемому] едва не вынесли приговор, даже его не выслушав. Когда первоначальный пыл иссяк (первосвященники Храма подвержены гневу не менее прочих), его обязали предстать пред ними. Чувствуя, что ему не в чем себя упрекнуть, он охотно пошел в синагогу, где его судьи с удрученным видом и как люди, снедаемые заботой о доме Божьем, сообщили ему, что после великих надежд, которые возлагались на его благочестие, им трудно было поверить идущей о нем дурной молве, и что они с горьким сердцем призвали его, с тем чтобы получить доказательства его веры; что он обвиняется в самом черном и самом великом из всех преступлений, каковым является пренебрежение Законом [Моисея]; что они горячо жаждут, чтобы он обелил себя, но если же его изобличат, то нет кары достаточно суровой для его наказания. Затем они заклинали его сознаться, если он виновен; и, увидев его отказ, его ложные друзья, там присутствовавшие, выступили вперед и бесстыдно засвидетельствовали, что слышали, как он осмеивал евреев — «суеверное племя, рожденное и выросшее в невежестве, не знающее, что такое Бог, и при этом дерзнувшее называть себя Его [избранным] народом в ущерб прочим нациям. Что до Закона, его установил человек более ловкий, чем другие, в политике, но не слишком сведущий ни в физике, ни даже в богословии; что любой, имея толику здравого смысла, смог бы раскрыть обман, и что нужно было обладать глупостью евреев времен Моисея, чтобы принять того за человека благородного (galant homme)».
То, что они присочинили к его речам о Боге, ангелах и о душе, про которые обвинители тоже не позабыли упомянуть, возмутило умы [судей], и те провозгласили анафему, даже не дав обвиняемому времени оправдаться.
Судьи, проникнувшись святой жаждой мщения за осквернение Закона, допрашивали его, оказывали давление, угрожали и старались запугать. На все это, однако, обвиняемый отвечал лишь, что эти их гримасы вызывают жалость, и что ввиду показаний столь верных свидетелей, он сознался бы в содеянном, если бы для подтверждения не требовались неоспоримые доводы.
Тем временем Мортейра, прослышав о грозящей его ученику опасности, тотчас прибыл в синагогу, где, заняв место среди судей, вопросил: «Забыл ли ты о добрых примерах, которые тебе подавались? стал ли твой мятеж плодом трудов, потраченных мною на твое обучение? и не боишься ли ты угодить в руки Всевышнего? Скандал уже велик, но у тебя есть время для покаяния».
После того, как Мортейра истощил свое красноречие, не сумев поколебать решимость ученика, он, как глава синагоги, самым грозным тоном поторопил его склониться к покаянию либо понести наказание, и поклялся подвергнуть отлучению, если тот не подаст немедля знаков раскаяния. Ученик, не павши духом, отвечал: «Я знаю, чего стоит эта угроза, и в возмещение труда, который вы затратили на обучение меня еврейскому языку, готов преподать вам урок отлучения».
При этих словах возмущенный раввин излил на него всю свою желчь и после нескольких холодных укоров прервал собрание, покинул синагогу и поклялся вернуться не иначе, как с отлучением (la foudre а la main)[15]. Но какие бы клятвы он ни давал, он не верил, что у его ученика достанет смелости дождаться [их исполнения]. Он, однако, ошибся в своих предположениях, ибо дальнейшее показало, что если он и знал хорошо о благородстве духа (lа bеаute de l’esprit) Спинозы, то не знал о его твердости. Время, данное ему, чтобы представить, в какую пропасть он готов себя ввергнуть, минуло понапрасну — настал час его отлучения. Только услыхав об этом, он приготовился к отъезду и, нисколько не напуганный, сказал принесшему эту новость: «Пусть так, меня не заставят сделать что-либо вопреки себе, ибо скандал меня не страшит. Но раз они так хотят, я с радостью вступаю на уготованный мне путь, утешаясь тем, что мой отъезд будет еще безвиннее, чем былой исход евреев из Египта, — пускай мои припасы и меньше, чем у них[16]. Я не возьму ничего ни у кого, и сколь бы несправедливо со мной ни поступили, я могу гордиться тем, что меня не в чем упрекнуть».
С некоторых пор он мало общался с евреями; ему приходилось иметь дела с христианами, он завел дружбу с мыслящими людьми (personnes d’esprit), которые сожалели, что он не владеет ни греческим языком, ни латинским, — сколь бы сведущ он ни был в еврейском, итальянском и испанском, не говоря уже о немецком, фламандском и португальском, каковые были его родными языками. Он и сам отлично понимал, как нужны ему эти языки ученого мира; однако трудно было изыскать возможность выучиться им, не имея ни богатства, ни знатности, ни дружеского покровительства.
Поскольку он непрестанно думал об этом и говорил всем, кого встречал, ван ден Энден, преуспевающий учитель греческого и латыни, предложил ему свои услуги и поселил в своем доме, не требуя иной благодарности, кроме как время от времени помогать, по мере способностей, в обучении школьников.
Меж тем Мортейра, рассерженный безразличием, которое выказал его ученик к нему и к Закону, переменил дружбу на ненависть, и отлучением доставил себе то удовольствие, какое низкие души находят в мщении.
В ритуале отлучения у иудеев нет ничего особенного. Впрочем, чтобы не пропустить ничего поучительного для читателя, коснусь здесь основных обстоятельств. Собравшись в синагоге для этого обряда, именуемого Херем, люди возжигают множество черных свечей и отпирают ковчег, где хранятся книги Закона. Потом певчий, стоя на небольшом возвышении, скорбным голосом декламирует слова проклятия, в то время как другой певчий трубит в рог[17], свечи же опускаются книзу, роняя каплю за каплей в сосуд, наполненный кровью. При этом люди, трепеща от священного ужаса и религиозного пыла при виде этого черного спектакля, отвечают «аминь» яростным тоном, этим свидетельствуя о своем желании хорошенько услужить Богу, разорвав отлучаемого на куски, — что несомненно и проделали бы, встреть они его в этот момент или при выходе из синагоги. К этому надо добавить, что звук рога, перевернутые свечи и сосуд, полный крови, — все эти условия соблюдаются лишь в случае богохульства; в прочих же ситуациях довольствуются провозглашением отлучения, как поступили и в отношении г-на де Спинозы, который не был изобличен в богохульстве, а только выказал неуважение к Моисею и к Закону.
Отлучение — столь тяжкая кара у евреев, что и близкие друзья отлученного не смеют оказать ему ни малейшей услуги, и даже заговорить с ним, иначе понесут ту же самую кару. Так что те, кто страшатся горести одиночества[18] и дерзости толпы, предпочитают вытерпеть любую иную кару, нежели анафему.
Г-н де Спиноза, найдя убежище, где он полагал себя в безопасности от оскорблений со стороны евреев, не думал более ни о чем, кроме продвижения в гуманитарных науках[19], где с его столь блестящим дарованием в весьма короткое время добился значительных успехов.
Тем временем евреи, крайне расстроенные и смущенные тем, что удар их не достиг цели, и видя, что тот, кого они решили погубить, оказался вне их власти, обвинили его в преступлении, в коем он не был уличен. (Я говорю о евреях вообще, ибо, хоть служители алтаря никогда и не прощают, все же я бы не решился сказать, что Мортейра с коллегами были единственными обвинителями в этом деле.) Быть им неподсудным и жить без их поддержки — эти два преступления казались им непростительными. Особенно Мортейра не мог ни успокоиться, ни стерпеть пребывание в одном городе с учеником, нанесшим ему, как он полагал, бесчестье. А как его прогонишь? Он ведь возглавлял не город, а синагогу. Однако злоба, осененная неправедным рвением, столь могущественна, что старец добился своего. И вот как он принялся за дело. Взяв себе в провожатые раввина одного с ним склада, он отправился искать магистратов, коим представил дело так, что г-н де Спиноза был отлучен им по причинам не рядовым, но из-за мерзкой хулы против Моисея и против Бога. Эту ложь он преувеличил всеми теми доводами, какие святая злоба (sainte haine) внушает непримиримому сердцу, и потребовал изгнания обвиняемого из Амстердама. Видя горячность раввина и то, с каким неистовством он обрушивается на своего ученика, легко было рассудить, что дело тут не столько в благочестии, сколько в затаенной злобе, взывающей к мести. Заметили это и судьи — стремясь отделаться от их жалоб, [раввинов] отослали к духовным властям (ministres). Те, разобрав дело, оказались в затруднении. В оправдательных речах обвиняемого они не заметили ничего безбожного. С другой стороны, обвинителем был раввин одного с ними ранга, — так что, хорошо все обдумав, они не могли, не оскорбив духовенство, признать невиновным человека, которого равный им [клирик] желал погубить. И этот довод, плох он или хорош, склонил их принять решение в пользу раввина. Магистраты, не посмев отменить [приговор] — в силу причин, о которых легко догадаться, — обязали обвиняемого на нескольких месяцев удалиться в изгнание.
Вот каким образом отомстили раввины. Не столько это, впрочем, было их главной целью, сколько прекращение нежелательной шумихи вокруг самого несносного и самого докучливого из всех людей. Впрочем, приговор этот отнюдь не был вреден для г-на де Спинозы, а напротив, совпадал с его желанием покинуть Амстердам.
Изучив гуманитарные науки так, как надлежит знать их философу, он мечтал удалиться от столпотворения большого города, с тех пор как ему стали досаждать [раввины]. Так что вовсе не притеснения изгнали его, а любовь к уединению, в котором — он ни капли в том не сомневался — отыскал бы истину. Это страстное чувство, не дававшее ему покоя, заставило его с радостью уехать из родного города в селение под названием Рийнсбург, где, вдалеке от всяческих помех, которые ему было не одолеть иначе как бегством, он всецело отдался философии. Поскольку ему нравились лишь немногие авторы, он приступил к самостоятельным размышлениям, полный решимости испытать, сколь далеко они могут дойти. При этом он дал столь высокий пример остроты ума, что, несомненно, мало кому ранее довелось настолько же проникнуть в материи, его занимавшие.
Два года провел он в своем убежище, где, несмотря на принятые им меры во избежание всяких сношений с друзьями, самые близкие из них навещали его время от времени и расставались не без труда.
Друзья его, бывшие большей частью картезианцами, делились с ним своими затруднениями, которые, утверждали они, нельзя разрешить посредством одних лишь принципов их наставника (maitre) [Декарта]. Г-н де Спиноза выручал их, рассеивая заблуждения ученых того времени при помощи совершенно противоположных [общепринятым] доводов. Но изумитесь складу ума людей и силе предрассудков: по возвращении домой тех друзей едва не поколотили, когда они во всеуслышание заявили, что г-н Декарт не единственный философ, заслуживающий, чтобы ему следовали. Духовенство, в большинстве своем обеспокоенное учением этого великого гения, уверовав в собственную непогрешимость, негодовало против этой оскорбительной для себя молвы и делало все возможное, чтобы пресечь ее на корню. Но что бы ни предпринимали, зло все разрасталось, едва не приведя к гражданской войне в ученом мире (l’empire des Lettres), — тогда было решено просить нашего философа открыто разъяснить свое отношение к г-ну Декарту. Не желавший ничего так, как мира, г-н де Спиноза охотно уделил этой работе несколько часов своего досуга и напечатал ее в 1664 году[20]. В этом сочинении он геометрически доказал две первые части «Начал» г-на Декарта, о чем сообщается в Предисловии, принадлежащем перу одного из его друзей[21]. Но что бы тот ни сказал в пользу этого славного автора, приверженцы великого человека [Декарта], защищаясь от обвинений в атеизме, сделали впоследствии все, что могли, чтобы гром грянул-таки над головой нашего философа[22].
Однако эта травля, длившаяся всю его жизнь, нисколько не пошатнула, но закалила его в поисках истины.
Большинство людских пороков он приписывал ошибкам ума, из опасения впасть в которые он все глубже погружался в одиночество, переехав из края, где жил, в Фоорбург, где, как он считал, ему было бы покойнее.
Истинные ученые, тотчас же заметив, что он исчез из виду, не замедлили разыскать его и обременить своими визитами в этом последнем селении так же, как это делалось и в прежнем. Не оставаясь равнодушным к искренним чувствам людей достойных (gens de bien), он уступил их просьбам переехать из сельской местности в какой-нибудь город, где его можно было бы повидать с меньшими трудностями. Он поселился в Гааге, предпочтя ее Амстердаму, ввиду того, что воздух там здоровее, и постоянно пребывал там до конца жизни.
Поначалу его посещали лишь немногие друзья, не слишком его отягощая. Но в этом приятном месте не бывало недостатка в путешественниках, жаждавших увидеть все, что того заслуживало, — самые просвещенные из них, какое бы положение в обществе они ни занимали, считали путешествие неудавшимся, если не могли увидеться с г-ном де Спинозой. И так как впечатления подтверждали реноме, то не было ученого, который не писал бы ему с целью разрешить свои сомнения. Свидетельство тому — множество писем, вошедших в книгу, напечатанную после его смерти. Хотя столько визитов он принимал, столько ответов ему приходилось давать ученым, писавшим ему отовсюду, и те дивные книги, которыми сегодня мы так наслаждаемся, [все же] не вполне поглощали этот великий гений. Несколько часов ежедневно он уделял шлифованию линз для микроскопов и телескопов, в чем преуспел настолько, что, не помешай тому смерть, он смог бы открыть глубочайшие тайны оптики.
Он настолько страстно искал истину, что, имея слабое здоровье и нуждаясь в отдыхе, тем не менее, так мало отдыхал, что однажды целых три месяца не выходил из дома, и даже отказался публично преподавать в Академии Гейдельберга, из опасения, что эта работа нарушит его планы.
Учитывая, сколько трудов положил он для очищения своего разума (a rectifier son entendement)[23], неудивительно, что все, на что он пролил свет, несет его неповторимую печать. До него Священное Писание было неприкосновенной святыней. Все толковали о нем вслепую. Он единственный говорил о нем как ученый в своем «Богословско-политическом трактате», ибо, без сомнения, никто не овладел столь хорошо, как он, иудейскими древностями[24].
Хотя нет ран опаснее и нестерпимее тех, что наносят злые языки, он ни разу не обнаружил злобы на своих хулителей. Многие пытались очернить эту книгу, ругая словами, полными ада и желчи, однако вместо того, чтобы сокрушать их тем же оружием, он довольствовался разъяснениями мест, неверно ими понятых, опасаясь, как бы их озлобление не помрачило чистые души[25]. Если книгой этой он и вызвал шквал преследований — что ж, мысли великих людей искажались и прежде, и великая слава опаснее славы дурной.
Он столь мало гнался за дарами фортуны, что когда после смерти г-на де Витта[26], назначившего ему пенсию в двести флоринов, он показал подписанную бумагу наследникам, а у тех возникли некоторые трудности с продолжением выплат, он отдал им ее в руки с таким спокойствием, будто ему хватало иных доходов. Этот жест бескорыстия смутил их, и ему с удовольствием предоставили то, в чем только что отказывали. Доход этот был для него главным средством к существованию: от отца он унаследовал лишь несколько запутанных сделок. Или, скорее, те евреи, с которыми сей добрый человек вел коммерческие дела, рассудив, что его сын не в состоянии раскрыть их плутни, до того запутали [те дела], что он охотнее предпочел оставить им все, нежели жертвовать покоем ради смутных надежд.
Он настолько не стремился к людскому вниманию и восхищению, что, умирая, просил не указывать его имя в «Этике», сказав, что подобные [тщеславные] устремления недостойны философа[27].
Известность его была столь велика, что о нем говорили уже и в высших сферах. Г-н принц де Конде, прибывший в Утрехт в начале недавних войн[28], послал ему охранную грамоту вместе с любезным письмом, приглашавшим его приехать. Г-н де Спиноза был слишком благовоспитан и слишком хорошо знал, что обязан [повиноваться] особе столь высокого ранга, чтобы игнорировать приглашение встретиться с Его высочеством. Однако он никогда не прерывал надолго свое одиночество и не решался отправиться в вояж длиной в несколько недель. Наконец, после некоторой отсрочки друзья убедили-таки его пуститься в путь; тем временем г-н принц, получив приказ от короля Франции, отбыл в другое место; в его отсутствие [Спинозу] принял г-н де Люксембург, расточая ему тысячи любезностей и уверяя в благорасположении к нему Его высочества. Эта толпа льстецов нимало не впечатлила нашего философа. Учтивостью он более походил на придворного, чем на уроженца торгового города, — в ней, можно сказать, не имелось ни пробелов, ни изъянов. Хотя этот образ жизни полностью противоречил его принципам и вкусу, он приноровился к нему с обходительностью придворного. Желавший повидаться с ним, г-н принц часто писал ему, повелевая дожидаться. Пытливые умы, находившие все новые поводы любить его, радовались, что Его высочество обязал [философа] ждать. Несколько недель спустя принц известил его, что не может вернуться в Утрехт, — к досаде всех любознательных французов, ибо, несмотря на учтивые предложения г-на де Люксембурга, наш философ тотчас простился с ними и возвратился в Гаагу.
Было у него одно качество — тем более ценное, что его редко встретишь в философе, — необычайная опрятность, и когда бы он ни вышел, в его платье было нечто, что обыкновенно и отличает джентльмена (un honnete homme) от педанта. «Нас делает учеными не запущенный и неряшливый облик, — говаривал он и продолжал: — напротив, нарочитая неряшливость — примета низкой души (une ame basse), в которой нечего искать мудрости, науки не сумели воспитать тут ничего, кроме распущенности и нечистоплотности».
Его самого не прельщали богатства и нисколько не страшили тяжкие последствия бедности. Добродетель возвысила его над всеми подобными вещами; и хоть милости фортуны нечасто выпадали на его долю, он никогда не роптал и не выпрашивал их у нее. Будь судьба к нему благосклоннее, она лучше вознаградила бы его дух всем тем, что дается людям великим. Он оставался бескорыстным и в крайней нужде, делясь тем малым, что имел от щедрот друзей, и столь же великодушным, как если бы он жил в роскоши. Услышав, что человек, задолжавший ему двести флоринов, разорился, он ничуть не взволновался: «Мне нужно урезать обычные расходы на стол, — сказал он с улыбкой, — чтобы возместить эту небольшую утрату, — прибавив, — такой ценой и покупается стойкость». Я не выдаю этот поступок за нечто блистательное. Поскольку, однако, ни в чем так не сказывается гений, как в подобных вот мелочах, я не мог пренебречь упоминанием о том [случае].
Не обладая хорошим здоровьем на протяжении всей жизни, с самой ранней юности он учился терпеть страдания; никто другой не освоил эту науку лучше него. Он искал утешение лишь внутри себя, и если он и был восприимчив к каким-либо горестям, так это к горестям других. «Думать, что зло переносится легче, когда разделяешь его с многими людьми, есть — говорил он, — верный признак невежества, и мало здравого смысла в том, чтобы находить утешение в общих невзгодах». Он был способен проливать слезы, видя, как его сограждане растерзали общего всем им отца[29]; и хотя он лучше, чем кто-либо, знал, на что способны люди, он не переставал содрогаться при мысли о том гнусном и жестоком спектакле[30]. С одной стороны, он видел, как свершается беспримерное отцеубийство и черная неблагодарность; с другой — лишался блестящего покровителя, единственной опоры, которая у него еще оставалась. Этого хватило бы, дабы сразить личность заурядную, но не такую, как у него, приученную превозмогать душевные тревоги, не теряя присутствия духа. Поскольку он всегда владел собой, то весьма скоро пришел в себя после этого ужасного происшествия. Когда один друг, почти его не покидавший, удивился этому, наш философ ответил ему: «Чего стоила бы мудрость, если подвергшись страстям человеческим, нам не достало бы силы взять себя в руки?»
Не примыкая ни к какой партии, он ни одной не отдавал предпочтения. За каждой он оставлял право иметь свои предрассудки, однако утверждал, что большинство партий противятся истине; что разум бесполезен, если им пренебрегают и воспрещают применять там, где требуется делать выбор. «Два величайших и обычнейших порока людей, — говорил он, — праздность и самодовольство. Одни лениво погрязли в том грубом невежестве, что ставит их ниже скота; другие возносятся, подобно тиранам, над людьми простодушными, выдавая невесть какие ложные мысли за вечные оракулы. Таков источник тех абсурдных верований, которые так увлекают людей, разобщают их и прямо противятся цели Природы, для которой [все люди] одинаковы, как дети для своей матери. Вот почему, — говорил он, — лишь те, кто освободился от [усвоенных] с детства максим, могут познать истину, ибо нужно приложить особые старания, чтобы превозмочь силы обычая и устранить ложные идеи, коими человеческий дух наполняется прежде, чем обретает способность самостоятельно судить о вещах». Вырваться из этой тьмы [предрассудков] было, по его мнению, таким же великим чудом, как привести хаос в порядок (debrouiller le chaos).
Не надо, стало быть, удивляться тому, что всю свою жизнь он вел войну против суеверия. Чему, помимо имевшихся у него природных наклонностей, немало способствовали и наставления его здравомыслящего отца. Сей превосходный человек учил его ни в коем случае не путать [суеверность] с твердым благочестием (la solide piete) и, желая испытать своего сына, которому не было и десяти лет отроду, велел ему пойти и получить сколько-то денег, что задолжала ему одна пожилая женщина из Амстердама. Войдя к ней, он застал ее за чтением Библии, и она подала ему знак ожидать, пока не кончит свою молитву. Когда она закончила, мальчик поведал ей о данном ему поручении, и эта добрая старушка отсчитала ему деньги. «Вот, — сказала она, указывая ему на стол, — то, что я должна твоему отцу. Стать бы и тебе таким порядочным человеком, как он; никогда не отступал он от Закона Моисеева, — будь на него похожим, и Господь так же благословит и тебя». С этими словами она взяла деньги, чтобы положить мальчику в сумку. Однако он, распознав в этой женщине все признаки ложного благочестия, о которых предупреждал отец, пожелал пересчитать [деньги], вопреки ее сопротивлению, и обнаружив, что недостает двух дукатов, которые набожная старуха смахнула в ящик стола через нарочно для того проделанную щель, он утвердился в своем суждении. Радуясь успеху этого приключения и похвале отца, он присматривался к людям этого сорта внимательнее прежнего и выставлял их на смех столь искусно, что все вокруг изумлялись.
Добродетель была целью всех его действий. Однако так как он не рисовал себе ужасных картин в подражание стоикам, то не был и врагом невинных удовольствий. Правда, сам он предавался, в основном, духовным удовольствиям — телесные мало его занимали. Когда же ему случалось присутствовать при такого рода развлечениях, уклониться от коих не позволяют приличия, он воспринимал их с безучастием и не нарушая спокойствия души, каковое предпочитал всем мыслимым вещам. Я же наиболее ценю в нем то, что, родившись и выросши среди людей грубого склада, источающих суеверия, он не проникся горечью и очистил-таки свой дух от тех ложных принципов, коими довольствуется большинство.
Он полностью исцелился от пошлых и нелепых иудейских воззрений на Бога. Человек, познавший цель здравой философии (la saine philosophic) и, по единогласному мнению ученейших людей нашего века, наилучшим образом применивший ее на практике, — такой человек, говорю я, был далек от того, чтобы воображать себе Бога таким, каким он мнится толпе.
А то, что он не верил ни Моисею, ни пророкам — когда они, по его словам, приноравливались к грубости людей, — разве это причина для порицания? Я прочел большинство философов и чистосердечно свидетельствую, что нет более прекрасных идей о Божестве, нежели те, что дал нам в своих сочинениях покойный г-н де Спиноза.
Он говорил, что чем больше мы знаем Бога, тем больше властвуем над своими страстями, и в этом знании обретаем совершенную гармонию духа и истинную любовь к Богу, в которой заключается наше спасение, которая есть блаженство и свобода.
Таковы главные положения, которые, как учил наш философ, предписывает разум относительно праведной жизни и наивысшего блага для человека. Сравните их с догмами Нового Завета, и вы увидите, что это все одно и то же. Закон Иисуса Христа побуждает нас любить Бога и ближнего своего, и это ровно то же самое, что внушает нам разум, по суждению г-на де Спинозы. Откуда легко заключить, что причина, по которой св. Павел зовет христианскую религию разумной (raisonnable), в том, что это разум ее предписывает и образует ее фундамент[31]. То, что зовется разумной религией, согласно Оригену, есть все, что подвержено власти разума. Добавьте к этому то, что утверждал один древний святой отец, — что мы должны жить и действовать по законам разума.
Так что положения, которым следовал наш философ, подтверждаются отцами Церкви и Писанием[32]. Меж тем его осуждают — но, очевидно, те, в чьих интересах выступать против разума, или же те, кто никогда не был знаком с ним. Я слегка отступаю от темы, с тем чтобы побудить простодушных сбросить иго завистников и лжеученых, которые, не сумев стерпеть славу людей порядочных, лживо вменяют им в вину взгляды мало схожие с истиной.
Возвращаясь к г-ну де Спинозе — его речи обладали столь притягательной силой, а сравнения были столь справедливы, что мало-помалу он всех до единого склонял к своему мнению. Он был убедителен, хотя и не старался говорить ни гладко, ни изящно. Он изъяснялся столь вразумительно (intelligible), и речи его были столь преисполнены здравого смысла, что любой слушавший их человек оставался доволен.
Эти прекрасные таланты привлекали к нему всех разумных людей (personnes raisonnables), и всегда, в любое время он пребывал в расположении духа ровном и приятном.
Среди всех, с кем он виделся, не было никого, кто не выказывал бы к нему чрезвычайной приязни. Впрочем, нет ничего скрытнее сердца человеческого: со временем выяснилось, что их дружеские чувства к нему бывали чаще всего притворными, — те, кто больше всех был ему обязан, без всякого повода, мнимого или реального, обходились с ним самым что ни на есть неблагодарным образом. Эти фальшивые друзья, по виду его обожавшие, за его спиной злословили, то ли чтобы снискать расположение власть имущих, которые не любят людей духа (les gens d’esprit), то ли чтобы, критикуя его, сделать себе имя. Однажды, услыхав, что один из его самых больших почитателей пытается восстановить против него народ и магистрат, он бесстрастно ответил: «Истина издавна обходилась дорого, злословие не заставит меня отвергнуть ее». Мне бы очень хотелось знать, видел ли кто большую стойкость или более чистую добродетель, и сравнится ли кто-нибудь с ним в такой терпимости к врагам?
Но я отлично вижу, что его несчастьем были чрезмерная доброта и просветленность (etre trop eclaire). Он раскрыл всему миру то, что [многим] хотелось скрыть. Он отыскал ключ к алтарю[33] там, где люди не видели ничего, кроме праздных обрядов. Вот по этой причине человек столь благородный, как он, не мог жить в безопасности.
Хотя наш философ был не из тех аскетов, которые считают брак помехой для умственных занятий, он, тем не менее, не завел семьи, то ли опасаясь дурного нрава женщины, то ли потому, что отдал себя целиком философии и любви к истине.
Кроме того, он не обладал очень уж крепким телосложением, а упорные занятия еще больше ослабляли его; поскольку же ничто так не изнуряет, как бодрствование ночами, его недомогания сделались почти беспрерывными, осложняясь затяжной мелкой лихорадкой, которую вызывали напряженные размышления. Все больше слабея в последние годы, он скончался на середине жизненного пути.
Так он прожил сорок пять лет или около того, родившись в 1632 и скончавшись 21 февраля 1677 года.
Если желаете узнать также о его манерах и о наружности — роста он был скорее среднего, чем высокого, имел доброжелательное выражение лица и держался с непринужденностью[34].
Ум его был велик и проницателен, а нрав он имел в высшей мере обходительный. Он умел приправить свою речь отличной шуткой, в которой и самые деликатные и строгие натуры находили необыкновенный шарм.
Он прожил недолгий век, и все же можно сказать, что он много жил, обретя истинные блага, согласные с добродетелью, и ему не оставалось желать ничего большего, чем высокая репутация, которую он приобрел благодаря своим глубоким познаниям. Скромность, терпение и правдивость — вот наименьшие из его добродетелей. Он имел счастье умереть на вершине своей славы, ничем не запятнанной, — заставив скорбеть всех мудрых и ученых людей, лишившихся светоча (lumiere), который был полезен им не менее, чем свет солнца. Ибо, хотя ему и не посчастливилось увидеть конец последних войн — когда Соединенные Провинции возобновили правление своей империей, наполовину потерянной, то ли из-за военных неудач, то ли по злополучному жребию, — было немалым счастьем для него избегнуть бури, уготованной ему врагами.
Его представили ненавистным к людям — за то, что он дал средства для различения лицемерия от истинного благочестия и для искоренения суеверий.
Наш философ, стало быть, очень счастлив, не только благодаря его славной жизни, но и ввиду обстоятельств смерти, которую он встретил с бесстрашным взором — как мы знаем от тех, кто при этом присутствовал, — словно он очень рад был пожертвовать собой ради своих недругов, дабы те не осквернили руки отцеубийством. Это нас, оставшихся, надобно жалеть — всех тех, кого очистили его сочинения и для кого присутствие его было еще большим подспорьем на пути к истине.
Но так как он не мог избегнуть удела всего живого, постараемся же идти по его стопам или, по крайней мере, чтить его с восхищением и похвалой, если уж не можем на него походить. Вот что я советую тем, кто тверд душой, — следовать его принципам и идеалам (lunares), держа их всегда перед глазами в качестве правил для собственных действий.
То, что мы любим и почитаем в великих людях, по-прежнему живо и проживет века. Большинство проведших жизнь в невежестве останутся бесславно погребены во тьме и забвении. Барух де Спиноза будет жить в памяти истинных ученых, и в их разуме (esprit) — в этом храме бессмертия[35].
Бенедикт Спиноза
Трактат
об очищении интеллекта
(Перевод с латинского,
предисловие и комментарии В. Н. Половцовой)[36]
Предлагаемый здесь перевод Трактата de intellectus emendatione является одним из результатов моего специального исследования философии Спинозы. Основные результаты этого исследования должны появиться особым изданием.
При издании перевода мною руководила, во-первых, уверенность в том, что данный Трактат является необходимым введением в философию Спинозы и, с этой точки зрения, заслуживает особенного внимания, а во-вторых — то, что предварительное специальное исследование учения данного автора дает в особенности право на перевод его произведений, с надеждой на действительно точную передачу его мыслей. На самом деле, всякое словесное выражение, без исключения, само по себе допускает несколько толкований, а следовательно, несколько способов его передачи на другой язык, причем все такие переводы могут быть объективно вполне точными переводами данного словесного выражения. Восприятие словесных комплексов аналогично в этом смысле восприятию
того, что психологи исследуют под названием восприятий «реверсибельных», или обращаемых, фигур: если дан, например, рисунок куба, то мы легко можем воспроизвести себе куб по этому рисунку так, что то одна, то другая из его сторон будет казаться нам выступающей, а противоположная ей — уходящею вглубь; между тем, рисунок при этом останется неизменным. В этих случаях часто не существенно, какое именно толкование мы даем перспективе данного рисунка, между тем, по отношению к словесным выражениям определенных мыслей некоторых авторов, от такого, а не другого перевода зависит все понимание дальнейшего. Таким образом, по существу дела, всякому научному переводу должно предшествовать специальное изучение автора, так как только оно дает возможность видеть в данных словесных выражениях именно то, что видел в них этот последний.
Переводы философских сочинений представляют в этом смысле особые трудности, так как даже и самые философские оригиналы находятся в отношении к языку в особенно неблагоприятных условиях. Философский язык, за самыми ничтожными исключениями, должен заимствовать свои выражения из языка обычного словоупотребления, т. е. философия вообще вынуждена пользоваться для новых мыслей старыми обозначениями. Между тем, если и всегда нужны интенсивные усилия ума, чтобы уметь отвлечься от привычных содержаний, разрушить давние ассоциации и перейти через старые обозначения к чему-либо новому,
то тем более велика должна быть работа изучения и понимания, необходимая в тех случаях, когда это новое представляет собой сложные и выходящие за пределы всех обычных ассоциаций философские содержания.
Философия Спинозы, в частности, находится по отношению к терминологии в исключительно неблагоприятных условиях: непосредственно следуя за схоластической философией, она, так же как и философия Декарта, представляет в то же время переход к новым содержаниям, оставаясь, между тем, поневоле в атмосфере средневековой философской речи.
Правда, как Декарт, так и Спиноза неоднократно указывают на вытекающие отсюда затруднения, и предостерегают читателя, оговаривая, что хотя они берут выражения ut vulgo dicitur, но вкладывают в них содержания совершенно иного рода, чем те, какие до сих пор в них вкладывались; они разъясняют, что вынуждены это делать только потому, что не имеют под рукой новых соответствующих терминов. Однако их предостережения недостаточны, чтобы всюду предупредить недоразумения, а для переводов, которым не предшествует специальное изучение авторов, их указания, можно сказать, пропадают и вовсе бесследно. Это показывают на деле некоторые переводы Спинозы, наполняющие его философию рядом словесных противоречий, которые затем постепенно переходят в приписываемые автору противоречия по содержанию, и создают «привычки» к неправильному пониманию, ведущие даже в наиболее строго научных
исследованиях к прямо противоположным точкам зрения на одни и те же вопросы.
Все это вместе взятое, как и многое другое, на чем сейчас нет места останавливаться[37], требует того, чтобы переводам философского произведения предшествовало предварительное изучение не только этого самого произведения, но и вообще философских воззрений того автора, сочинения которого должны быть переведены на чуждый для него язык. Кроме того, необходимо, чтобы самый перевод был снабжен данными, которые облегчали бы читателю правильную точку зрения на словесные выражения, и, что особенно важно, подготовляли возможность непосредственного перехода от перевода к оригиналу. Последнее потому особенно важно, что при всех усилиях в указанном направлении перевод все-таки никогда не будет в состоянии, особенно в философии, служить полной заменой для оригинала. Для достижения последней указанной цели я даю особые разъяснения некоторых наиболее важных терминов Трактата, поскольку их возможно дать для лиц, еще незнакомых со всей философией Спинозы. Кроме того, в самом переводе, рядом с русскими терминами и выражениями, я привожу наиболее характерные выражения и термины оригинала. Наконец, перевод снабжен моими
примечаниями, цель которых разъяснить и сопоставить те места Трактата, которые могут взаимно облегчить понимание одно другого, и которые, кроме того, во всяком случае должны останавливать читателя в стремлении идти от слов по линии наименьшего сопротивления к наиболее привычным, но в данном случае нс имеющимся в виду значениям. Содержание Трактата конденсируется к концу Трактата, в связи с чем соответственно увеличивается и число необходимых примечаний.
Чтобы закончить эти замечания общего характера, отмечу, что мне представляется принципиально отрицательным в переводе философских произведений ставить как самостоятельную цель литературность изложения, в смысле красоты оборотов и обхода иностранных терминов. Ввиду общей бедности философского языка вообще и русского философского языка в частности, для философских сочинений и переводов пока на первом плане должна стоять единственная задача, а именно, — облегчение истинного понимания, и «литературность» только с этой точки зрения может играть ту или другую, и, во всяком случае, второстепенную роль. Для русских ученых и читателей, которым приходится искать всю основную литературу по философским вопросам на чужих языках, введение национальных оборотов и русификация терминов может служить лишь камнем преткновения для изучения и развития философии в России. С другой стороны, однако, я считаю, что передача, например, латинских терминов только одними латинизированными словами была бы равносильна
предоставлению свободы своеволию неподготовленного читателя, которое наполняло бы вполне чуждые ему звуки самым разнообразным содержанием. Поэтому, если по тем или другим основаниям желательно удержать в переводе, в том или другом случае, латинизированный термин, то путем примечаний или особых разъяснений автор перевода обязан наполнить его для читателя тем содержанием, которого требует истинное понимание оригинала.
Переходя к более специальным данным, отмечаю прежде всего, что предлагаемый перевод сделан с латинского издания Van Vloten’а, которое в настоящее время считается наиболее точным изданием сочинений Спинозы. [38]
Некоторые различия по сравнению с латинским текстом заключает в себе первое голландское издание сочинений Спинозы, появившееся в 1677 году, т. е. одновременно с первым латинским изданием посмертных сочинений Спинозы. В этих обоих изданиях Трактат de intellectus emendatione был опубликован впервые. Для некоторых справок относительно отличий голландского издания может служить книга Leopold’а[39].
Из переводов Трактата на иностранные языки я укажу только некоторые из современных переводов. Чрезвычайно распространенным и наиболее употребительным в философских семинариях германских университетов является немецкий перевод Gebhardf’а[40]; он допускает, однако, нередко совершенно сбивчивую передачу наиболее существенных терминов, главным образом? в результате недостаточно строгого разграничения специфически различных областей познания, устанавливаемых Спинозой[41].
Из французских переводов новейшим является перевод Appuhn’а[42] в полном собрании сочинений Спинозы, снабженный многими примечаниями; он носит, однако, местами характер вольного перевода, и вообще недостаточно точен по сравнению с теми требованиями, которые должны быть предъявлены к переводу не литературного, но философского сочинения.
Как на безусловно лучший из современных переводов я укажу на английский перевод Трактата, сделанный W. Hale White’ом, под редакцией мисс Amelia Hutchinson Stirling, М.А.[43] Этот перевод снабжен хорошим введением и отличается чрезвычайно
тщательной обработкой текста. Кстати, можно заметить, что этим же авторам принадлежит и один из лучших современных переводов «Этики» Спинозы[44].
Что касается издания Трактата на русском языке, то справки с моей стороны относительно существования русского перевода, вследствие крайней неорганизованности печатного дела в России, долгое время давали отрицательные результаты. Уже только после окончания мною перевода удалось, наконец, установить, что, во всяком случае, один русский перевод существует, а именно, перевод Г. Поттковского, изданный в Одессе, и в настоящее время давно распроданный[45].
Перевод этот сделан весьма тщательно, с латинского издания сочинений Спинозы Bruder’a[46]. Однако автор перевода не ставил себе целью более глубокое проникновение в содержание текста. Переводу предпослана глава из истории философии Куно Фишера, воззрения которого на учение Спинозы вообще и на содержание Трактата в частности не могут считаться в настоящее время способствующими его пониманию.
В заключение еще несколько частных указаний более формального характера.
Издания во времена Спинозы не отличались большим количеством красных строк. Например, как первое, так и второе издание «Размышлений» Декарта, вышедшие при его жизни, были напечатаны без одного перерыва[47]. Такой способ печатания имеет, может быть, ту положительную сторону, что требует неослабного внимания, не располагая к остановкам и отвлечениям. Поэтому, хотя я и ввожу еще несколько красных строк, по сравнению с изданием Van Vloten’a, считаясь с современным способом печатания, но не так много, как это нередко делается в современных изданиях и переводах Спинозы.
Примечания к тексту, сделанные самим Спинозой, обозначены звездочками *. Мои собственные примечания обозначены цифрами, идущими в последовательном порядке.
В круглых скобках () в тексте перевода даны вводные слова оригинала и латинские термины;
угловые скобки [] заключают в себе мои добавления в тех случаях, где таковые являлись желательными для попутного краткого пояснения сказанного.
Наконец, для облегчения общей ориентировки в содержании Трактата мною даны в краткой формулировке на полях основные мысли, характеризующие соответствующие части его изложения.
В.Н.П.
Трактат de intellectus emendatione имеет вполне самостоятельную ценность, и его содержание является необходимым введением для понимания всей философии Спинозы. Ввиду этого он должен занимать важное место в исследовании учения Спинозы, и во всяком случае более важное, чем то, какое он, вследствие некоторых более или менее второстепенных обстоятельств, занимал до сих пор. Правда, редкие голоса уже давно указывали на выдающееся значение Трактата, как в его собственном содержании, так и по отношению к «Этике» Спинозы. Но эти указания не получали дальнейшего развития. Между тем, незаконченность Трактата, обыкновенно переоценивавшаяся слишком далеко в отрицательном смысле, затем утверждаемая без достаточных оснований незрелость содержания этого произведения, а также то преимущественное внимание, которое привлекала и привлекает к себе система положительных данных «Этики», и, наконец, что особенно важно отметить, недоразумения, господствовавшие по отношению к вопросу о методе и к вопросу о теории
познания Спинозы, причем вопрос о теории познания смешивался с вопросом о методе, а вопрос о методе исследования с вопросом о способе изложения[48], — все это являлось значительной помехой к надлежащей оценке Трактата.
Малое внимание к этому Трактату выразилось, между прочим, и в исчезающе ничтожном количестве специальных исследований по его поводу, сравнительно с подавляющим количеством специальных исследований в виде обширных монографий, диссертаций и журнальных статей по поводу «Этики» и философии Спинозы вообще. Из огромной литературы о Спинозе последнего времени, не считая переводов, только две небольшие работы берут Трактат de intellectus emendatione специальной темой своего исследования, а именно, работы Ismar Elbogen’a[49] и Carl Gebhardt’a [50].
Кроме того, конечно, некоторое место отводится ему во всех общих исследованиях учения Спинозы, как в трудах, специально посвященных Спинозе (см. в особенности: Sigwart, Trendelenburg, Freudenthal Meinsma, Pollock, Martineau, Caird, Brunschvicg, Couchoud и др.), так и в основных трудах по истории философии (см. Buhle, Теппетапп, Ritter,
J. Ed. Erdmann, Кипо Fischer, Ueberweg и др.[51]). В этих сочинениях можно найти более или менее точное воспроизведение некоторых мыслей Трактата и несколько более или менее обоснованных критических замечаний по поводу этих мыслей, но наибольшее внимание отводится при этом обыкновенно не содержанию самого Трактата, но сравнению его с содержанием «Этики» и предшествовавших ему сочинений Спинозы, главным образом так называемого «Короткого Трактата» (Tractatus de Deo etc.), причем как замечания, так и сравнения, которым не предпосылается специальное исследование Трактата как такового, сводятся в конце концов к тому, чтобы установить «историю развития» взглядов Спинозы и определить «время появления» Трактата, а не выяснить внутреннее положительное значение последнего. В этом последнем отношении данные чрезвычайно скудны, причем даже и две указанные выше
специальные работы не ставят себе этой задачи в ее обособленности, но и в них на первом плане стоят рассуждения историко-сравнительного характера, на что указывают уже и самые заглавия этих работ.
Ценные мысли, касающиеся содержания и значения Трактата как такового, встречаются только разрозненно, почти затерянными среди других данных. Если ограничиться некоторыми примерами, то в этом отношении заслуживают особого внимания исследования Pollock’а[52] и, касающееся теории познания, мало известное исследование норвежского ученого Void’a[53]. Из философских статей интересные мысли в указанном направлении заключает в себе статья Kuhnemann’a[54], которая особенно подчеркивает самостоятельную ценность Трактата; эта работа, представляя в общем серьезное и интересное исследование, впадает, однако, в тяжелую по последствиям и в то же время очень обычную ошибку, предвиденную уже самим Спинозой, а именно: абстрактные примеры Спинозы, употребляемые им для иллюстрации своих воззрений, Kuhnemann принимает за типические случаи, характерные для самой сущности взглядов Спинозы.
Здесь можно указать еще на некоторые специальные работы, освещающие, хотя и не в связи с Трактатом, те или другие отдельные вопросы в учении Спинозы, которые, тем не менее, являются существенными и для понимания Трактата. Я обращаю внимание на исследования по поводу различения содержаний терминов essentia и existentia у Спинозы: Busse[55], Rivaud[56], Wenzel’я[57], хотя их данные далеко не исчерпывают вопроса, главным образом вследствие недостаточного различения установленных Спинозой границ истинного и неистинного познания.
Как на специальные работы по вопросу о методе у Спинозы, можно указать на сочинения Bertauld[58], Wahle[59], Brunschvicg[60] и др. Вопрос о методе является однако до сих пор настолько запутанным, что на нем придется далее остановиться несколько подробнее.
темой для ряда исследований, из авторов которых, кроме уже упомянутого Vold’a, могут быть названы Camerer, Kalischek, Zeitschel, Behrendt und Friedldnder, Pasig, von Voss[61].
Но как уже сказано, ни в одном из указанных произведений, так же как и вообще во всей обширной литературе о Спинозе, смысл Трактата как такового и его значение для философии Спинозы не выступают с желательной отчетливостью. Между тем, специальное изучение Трактата как такового не только помогает уяснению всего учения Спинозы, но и разрешает вполне естественным образом часто наиболее спорные из так называемых «противоречий» этого учения, так что уже в этом одном специальное исследование о нем находит право на свое существование.
Данный перевод, являясь, с одной стороны, одним из следствий именно такого специального исследования, должен, с другой стороны, сам служить для читателя введением к последующему сообщению основных результатов этого исследования. Примечания, которыми он снабжен, должны в особенности обращать внимание на сложность затронутых здесь Спинозой проблем, ожидающих дальнейшего рассмотрения. По этому самому, примечания, в моем намерении по отношению к данному изданию, непосредственно принадлежат к разъяснению текста и должны читаться одновременно с ним. Повторные ссылки имеют в виду различные стороны отмечаемого.
Здесь, во Введении к этому изданию, я вкратце укажу на некоторые моменты, особенно заслуживающие внимания, и в частности, как уже было упомянуто в Предисловии, дам краткое объяснение некоторых характерных терминов, которые недостаточно перевести тем или другим словом, но с которыми необходимо связать то или другое особое и не вполне обычное содержание.
Я не буду останавливаться на спорах относительно времени написания Трактата. По этому поводу ср. данные Gebhardt’а. Скажу только, что в настоящее время уже никто не считает его, как некогда Avenarius или Bohmer, одним из самых ранних произведений Спинозы. Во всяком случае в связи с последними относящимися сюда исследованиями даже его начало не может быть отнесено ко времени ранее 1661 года, при этом в особенности должно быть обращено внимание на то, что, как по указаниям первых издателей Спинозы (см. «praefatio» и
«admonitio ad lectorem» латинского издания), так и на основании писем Спинозы и на основании данных «Этики» (как это будет выяснено в другом месте, в связи с результатами специального исследования Трактата), Спиноза никогда не оставлял намерения закончить этот Трактат. Скажу более, — оставляя за собой обязательство обосновать эту мысль против мнения многих, — содержание Трактата в основных чертах, по моему мнению, никак нельзя считать устаревшим по отношению к «Этике».
Здесь важно также отметить, что неотделанность Трактата идет совсем не так далеко, как думают некоторые исследователи. Правда, примечания, сделанные Спинозой, до некоторой степени как бы говорят о том, что даже написанные уже части Спиноза не считал вполне законченными. Примечания указывают на это, с одной стороны, уже самим фактом своего существования, так как во времена Спинозы «примечания» в нашем смысле слова не были обычным явлением: то, что желал сказать автор, он перерабатывал в большинстве случаев в содержание текста; с другой же стороны, в них встречаются даже и прямые указания на некоторые предполагавшиеся дополнения. Но по этому последнему поводу необходимо заметить, что таковые дополнения, главным образом, намечались Спинозой или по отношению к продолжению Трактата, и тогда они не требовали изменения уже написанного, или же по отношению к «его Философии», т. е. опять-таки не по отношению к уже данным содержаниям, из которых указанные в примечаниях мысли исключались как пока неуместные, также как нередко
они исключались при этом вообще из намеченных границ данного исследования (ср. примеч. Спинозы на с. 61, 83, 88 и мои примеч. на с. 66, 83). Таким образом, примечания сами по себе не могут служить свидетельством о далеко идущей неотделанности уже написанного.
Доводы за неотделанность Трактата заключаются, кроме того, в указаниях на якобы имеющиеся пропуски и непоследовательности изложения. Но и эти доводы также не достаточно убедительны, так как при ближайшем рассмотрении некоторые из них оказываются вполне необоснованными (см., например, с. 95, примеч. 47).
С другой стороны, нередкие обращения к читателю указывают, что Спиноза видел в Трактате рукопись, предназначаемую им для печати. Стройность же и архитектоника этого произведения, не только выраженные в определенно намеченном Спинозой плане изложения (см. с. 88–89, 98), но и проведенные, сточки зрения этого плана, в большей мере, чем это принято думать, а также чрезвычайно богатое содержание выполненного, заставляют нас не находить особой помехи для исследования в неоконченности этого произведения.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении Трактат ни в своем содержании, ни в форме изложения не дает достаточных оснований для пренебрежения им, и, наоборот, заключая в себе в первом отношении важные данные для понимания основных мыслей Спинозы, а во втором — не ставя серьезных препятствий к их усвоению, позволяет требовать по отношению к нему полного и непредубежденного внимания.
Избегая здесь, вообще говоря, каких бы то ни было исторических ссылок, а также сопоставлений содержания Трактата с содержанием других произведений Спинозы, на основании того мнения, что эти ссылки и сопоставления, хотя и могут быть полезными сейчас, приобретут однако еще больший смысл и значение, если их отложить до более позднего времени, я остановлюсь здесь более подробно только на одном вопросе, выходящем за пределы Трактата, и именно на вопросе о методе, но и это только потому, что он дает возможность определеннее установить границы именно данного произведения.
Трактат de intellectus emendatione есть трактат о методе, и именно о методе истинного исследования, дающего нам новые и истинные познания и позволяющего отличить их от смутных и неистинных данных.
Можно думать, что собственное изложение Спинозы в предшествовавшем Трактату de intellectus emendatione «Коротком Трактате», где некоторые элементы метода были даны в связи с сообщением положительных содержаний его философии как результатов этого метода, привело Спинозу к мысли о желательности и необходимости разделить эти задачи. В Трактате de intellectus emendatione мы все время встречаем в высшей степени сознательное отношение к такому разделению. Спиноза отстраняет в Трактате всякое углубление в содержания истинного познания как таковые, с указанием, что они принадлежат к «его Философии», Трактат же должен ограничиваться исследованием о методе. Имеет ли Спиноза при этом под названием «Моя Философия» в виду «Этику», как это
думают некоторые исследователи, или какое-либо другое не написанное им произведение, мы здесь обсуждать не будем. Существенно только одно, что под «Моей Философией» Спиноза имеет в виду изложение системы уже полученных данных истинного познания, что он имеет в виду и в «Этике», а в Трактате de intellectus emendatione он хочет ограничиться и ограничивается указаниями пути и метода к получению этих данных.
Таким образом, Трактат de intellectus emendatione с точки зрения самого Спинозы получает вполне самостоятельное значение, но в то же время ставится им как необходимое введение в его философию, для всех тех, кто хочет отнестись сознательно к предлагаемым им положительным содержаниям истинного познания.
При этом «Этика», поскольку она заключает в себе главным образом положительные содержания философии Спинозы, во всяком случае, требует предварительного изучения Трактата de intellectus emendatione, так как для понимания ее данных и для возможности действительно критического к ним отношения, необходимо предварительное знание того метода, которым были получены эти данные.
Поскольку Трактат de intellectus emendatione является для Спинозы трактатом о методе истинного исследования, все его содержание устраняет то непостижимое недоразумение, которое заставляло и заставляет многих исследователей смешивать «метод исследования» Спинозы с «геометрическим способом сообщения и изложения» тех результатов его исследования, которые даны им в «Этике». Недоразумения по поводу
выражения «more geometrico demonstrata», входящего в заглавие «Этики» и часто употребляемого как Декартом, так и Спинозой (ср., например, уже упомянутое произведение Bertauld или доклад Kirchmann’a[62]), настолько характерны для способов истолкования Спинозы, и их разрешение настолько существенно для правильного понимания его учения вообще и значения Трактата de intellectus emendatione как учения о методе, в частности, что здесь является необходимым остановиться несколько более подробно на значении этого выражения, хотя полное рассмотрение этого вопроса и должно быть отложено до специального исследования[63].
Как уже было указано в Предисловии, переводы как таковые, в особенности в области философии, нередко являются одним из источников всевозможных недоразумений. В читателях переводы часто с самого начала укореняют некоторые привычки, далее уже с трудом допускающие самостоятельную переоценку.
По отношению к Спинозе переводы особенно часто давали основание к созданию таких привычек в читателях и вели, таким образом, к ослеплению их по отношению к данным оригинала.
Как раз одной из таких, главным образом, переводами созданных «привычек» является привычка идентифицировать выражение Спинозы «more geometrico» с выражением «геометрическим
методом». Раз усвоив себе такое обозначение и связав с ним по ближайшей ассоциации некоторое обычное представление о роли и значении метода, большинство исследователей уже не обращает достаточного внимания на то, что Спиноза ни в письмах, ни в других своих произведениях не употребляет выражения «methodo geometrico», наоборот, в ряде замечаний Спиноза подчеркивает свое отношение к геометрическому способу, как к способу изложения; при этом самая сущность учения Спинозы показывает, что геометрический способ как таковой и не может дать ни одного нового содержания истинного познания или укрепить истинность уже данного.
В своем сочинении «Principia philosophiae Cartesianae» Спиноза употребляет геометрический способ для изложения далеко не всегда истинных, с его точки зрения, мыслей Декарта, уже тем самым отмечая формальный характер геометрического способа изложения. Далее, в Трактате de intellectus emendatione Спиноза прямо объясняет, что именно он понимает под Методом; причем, разбирая, что есть «methodus», он даже не упоминает о совершенно не относящемся к методу исследования способе изложения, т. е. о том, что он в своем месте называет «mos geometricus». Декарт, воззрения которого на геометрический способ изложения в этом отношении нисколько не отступают от воззрений Спинозы, в своих «Ответах» на «Возражения», сделанные ему по поводу его «Размышлений», подробно разъясняет, какую роль может играть mos geometricus, и ставит как равнозначные ему выражения такие выражения, как «геометрический стиль»,
«геометрический способ для обучения» (ad docendum) и др., которые в краткой формулировке объясняют полную независимость геометрического способа сообщения и изложения от метода отыскания истины.
Декарт дает, наконец, сам французский перевод для выражения mos geometricus в выражении: «facon geometrique». Говоря о своих доводах по поводу существования Бога и отличия души от тела как о доводах «more geometrico dispositae», он переводит последнее выражение: «disposees d’une facon geometrique»[64].
Все это ускользает, однако, от внимания под воздействием традиционных взглядов и привычек, и геометрический способ изложения продолжает толковаться и оцениваться как «геометрический метод» исследования. На основании этого смешения строятся немедленно соответствующие выводы. Так, например, вопрос о том, выражено ли некоторое положение в виде аксиомы или же в виде теоремы, считается вопросом о важности их философского содержания. То есть иерархия аксиом и теорем в геометрии переносится на иерархию философских содержаний. Между тем, как для Декарта, так и для Спинозы положения (Propositiones) их философии могут быть выражены и в виде теорем, и в виде аксиом, так как эти формы выбираются не соответственно необходимости содержаний, но в виду отношений к читателю: теорема с ее «доказательствами», demonstrationes (которые и Декарт, и Спиноза понимают не только
в узком смысле силлогистических выводов, но в широком смысле «демонстрации» вообще: иллюстрациями, аналогиями, примерами. Ср. прим. Спинозы, с. 103), считается с пониманием читателя, а не с важностью философского содержания; она имеет в виду облегчить понимание той или другой идеи, которая однако для того, кто раз понял ее, ясна «сама собой» (est per se notum) без всякого «доказательства». Именно этим объясняется, почему Спиноза одно и то же содержание давал иногда в форме аксиом, иногда в форме теорем. Декарт в свою очередь разъясняет, что содержание его теорем суть аксиомы для тех, кто способен понимать так, как это учит истинный метод исследования, и способ изложения в виде теорем есть снисхождение к умственной слабости читателя, причем самое содержание по существу не зависит от того или другого способа его изложения[65].
В связи с указанными недоразумениями, геометрическим аналогиям и примерам Спинозы обыкновенно приписывается несоответствующее им значение (см., например, Kiihnemann l.c.), и в математических абстракциях хотят видеть основные положения учения Спинозы, не обращая никакого внимания на учение Спинозы об абстракциях, которые не должны входить ни в какое истинное рассуждение, касающееся основ его философии (ср. с. 157), и забывая о возражениях и разъяснениях Декарта по поводу подобных же заблуждений[66].
Однако, надо думать, что именно специальное изучение Трактата de intellectus emendatione способно излечить от этих недоразумений всех тех, кто вообще способен к беспристрастному исследованию и пониманию также и таких вещей, с которыми он не может согласиться лично. Здесь мы должны ограничиться сказанным, главная задача которого была пока обратить внимание на то, что вопрос о демонстрации «more geometrico» уже ранее полученных автором философских содержаний не должен быть смешиваем с вопросом о Методе исследования, но, наоборот, должен быть принципиально отделяем от этого последнего. Отсюда, естественно, что геометрическая форма изложения дана Спинозой в «Этике» и в изложении «Принципов Философии Декарта», т. е. там, где дело идет об уже полученных положительных философских данных, между тем как по отношению к Трактату de intellectus emendatione, где обсуждается Метод исследования для получения и, следовательно, до получения тех положительных данных, которые затем могли бы быть изложены тем или другим способом, она даже не упоминается, являясь здесь по меньшей мере неуместной.
Правда, с другой стороны, геометрический способ изложения, именно как способ изложения, т. е. создания «понимания» в читателе, а вместе с тем и геометрические примеры, как проекции и аналогии, имеют гораздо большее значение, чем то, какое им придавалось до сих пор, даже и с переоценивавшей их неправильной точки зрения; но это может быть показано уже только в специальном исследовании этого вопроса.
Итак, мы подходим к Трактату de intellectus emendatione как к трактату о Методе исследования для получения истинного познания, и таким образом устанавливаем, с одной стороны, его самостоятельность, с другой стороны, отмечаем то подчиненное значение, которое он, как учение о методе, занимает по отношению к Философии Спинозы, данной в его «Этике».
Содержание Трактата в его главных чертах заключается в следующем.
Основному изложению предшествует вступительная часть, которая указывает и разъясняет необходимость истинного познания, не только для науки, но, главным образом, для жизни, если жизнь должна давать истинное счастье; в то же время, если можно так выразиться, она оправдывает необходимость дальнейшего знакомства с методом, обеспечивающим возможность такого истинного познания.
Все дальнейшее изложение посвящается затем вопросу о Пути или Методе достижения истинного познания.
Необходимой предпосылкой является установление возможности истинного познания вообще, и, в связи с этим, вопрос о критерии истины. Ясно, что если бы здесь мы должны были прийти к тому, что истинное познание нам недоступно, то все остальное отпадало бы само собой. Предпосылка возможности или наличности истинных идей есть необходимая предпосылка всякого исследования, и Спиноза специально останавливается на ее выяснении[67]. Твердо
установив, что мы вообще имеем истинные идеи, Спиноза указывает, что дальнейшие шаги должны заключаться в установлении следующих задач метода: 1) очистить истинные идеи от всех неистинных примесей, иначе, установить область неистинного познания и показать способ устранения последнего (этому посвящена с. 99–155), и 2) определенно установить область истинного познания в его собственной сущности и мощи, т. е. в специфической области его применения (с. 155 сл. сл.)[68].
Ход мысли Спинозы здесь чрезвычайно ясен, причем с особенной определенностью выражено его требование, чтобы после выяснения данности истинного познания были установлены границы как для неистинного познания, поскольку оно не должно переходить своих границ и смешиваться с истинным познанием, так и для истинного познания в его положительном движении.
Остановимся еще несколько на каждой из указанных частей Трактата.
Во вступительной части следует обратить особенное внимание на следующие два чрезвычайно характерные момента.
Во-первых, здесь выясняется цель, которую Спиноза кладет в основание всей своей философии, — это вечное и непреходящее благо, которое для Спинозы заключается в достижении совершенства человеческой сущности, причем необходимым условием для него, в свою очередь, является истинное познание,
в котором заложена возможность единения с самой интимной сущностью всех сущностей — Природой — в смысле Спинозы — или Богом (не в смысле природы или Бога в обычном понимании, см. с. 67, прим. 8).
Только это благо является для Спинозы истинным благом, и только то, что ведет к нему, т. е. только то, что ведет к усовершенствованию человеческой сущности, может быть, с его точки зрения, названо этим именем; все. что обычно считается людьми хорошим и желательным — богатство, наслаждения и почести, — для Спинозы скорее только помеха к достижению истинного блага, но не благо само по себе.
Вторым характерным моментом во вступлении является отношение Спинозы к его установлениям и вместе с тем ко всему, что он считает истинным, следовательно, к его философии вообще. В противоположность схоластическим злоупотреблениям философией, как служанкой теологии, в средние века, и в противоположность легкому отношению к философии, как некоторой научной «специальности», дающей звание и положение, в настоящее время, многие ученые XVII века кладут в нее и за нее свою жизнь в буквальном смысле слова. Так и для Спинозы его философские воззрения требуют изменения жизни, серьезного отказа от всего, что переоценено, и искреннего стремления ко всему, что должно способствовать отысканию истины.
С этой точки зрения, вступительные требования и замечания Спинозы идут значительно далее вступительных замечаний Декарта в «Discours de la Methode», с которыми их нередко сравнивают, не замечая, однако, важного различия: у Декарта мы находим
остроумное и содержательное освещение некоторых его личных взглядов, относящихся к обстановке его личной жизни, а также его отношения к наукам как более или менее беллетристическое введение к его популярно изложенным соображениям. Декарт в этом произведении и не намерен давать большего. Введение же Спинозы является, между тем, не только введением ко всей философии, при этом философии, необходимой для жизни, но в то же время и введением к жизни, необходимой для философии.
Параллельным этому вступлению Спинозы до некоторой степени являются не мысли из «Discours de la Methode», но скорее некоторые места из «meditationes» Декарта, где этот последний говорит о необходимости для читателя его исследований специально изолировать себя от всех чувственных восприятий и посвятить долгое время усиленному размышлению для подготовки себя к пониманию истины. Но и тут Декарт говорит о подготовке к пониманию его философского исследования, не затрагивая, как Спиноза, принципиальных вопросов философии вообще в связи с вопросами всей человеческой жизни.
Переходя от вступительных мыслей к специальному содержанию Трактата, необходимо заметить несколько слов по поводу выражения «истинная идея» и в связи с этим выражения «идея» вообще.
Идея как для Декарта, так и для Спинозы является нередко обозначением как для истинного, так и для неистинного содержания сознания. Истинные идеи, однако, специфически отличны от неистинных идей и не должны быть переводимы ни словом представление, ни словом понятие, так как всякое
представление в обычном смысле для Спинозы, как и для Декарта, принадлежит исключительно к области неистинного познания; понятие же, поскольку оно заключает в себе абстракцию, ни для того, ни для другого не может быть распространено на всю область истинных идей. Здесь невозможно останавливаться подробно на этом вопросе, но самый текст Трактата и примечания к нему дадут в этом направлении еще некоторые разъяснения.
Наличность в нашем познании истинных идей есть та основа, которая необходима для всех дальнейших рассуждений о познании. Истинные идеи не требуют доказательств, но тот, кто имеет истинную идею, знает, что она есть истинная идея (но не обратно, тот, кто имеет неистинную идею, может, тем не менее, воображать, что она истинна). Затруднения заключаются в том, чтобы уметь иметь истинную идею и очистить ее от всего неистинного.
Только уже имея в истинной идее первое орудие исследования, мы получаем возможность перейти к методу в собственном смысле слова.
Первая задача метода: очищение истинных идей от неистинных, сопровождается у Спинозы более определенным разделением двух основных способов познания[69]: один, резко различаемый как Спинозой, так и Декартом, является познанием путем интеллекта, он равнозначен истинному или адекватному
познанию, или отчетливому и ясному пониманию. Другой вид познания, — неистинного, неадекватного, смутного и неясного — Спиноза называет imaginatio, иначе имагинативным познанием, или представлением. Последний, несмотря на выражение imaginatio, не равнозначен воображению в смысле фантазии, но охватывает все как образное, так и абстрактное представление наших обычных познаний, локализованных в смысле числа, пространства и времени; его область есть область возможного. Между тем, интеллект познает вечные истины, независимые от числа, пространства и времени, и все его содержания принадлежат к области необходимого. При этом последнем способе познания идеи необходимо соответствуют их объекту, или идеату, по выражению Спинозы, все равно, будут ли эти объекты — «вещи» в более узком смысле слова или в свою очередь «идеи». Соответствие идеи ее идеату ни в каком случае не есть тожество. Спиноза с особенной настоятельностью подчеркивает то, что idea est quid diversum a suo ideato.
Интеллект распадается затем для Спинозы на рациональное (не рациональное в обычном смысле слова) понимание вещей (ratio) и интуитивное понимание вещей (intuitio). Ввиду того, что для этого разделения необходимо привлечь другие произведения Спинозы, мы не будем здесь останавливаться на этом вопросе подробнее. Отметим только, что «intellectus», «intellectio», «intelligere» всегда означает в Трактате de intellectus emendatione истинное познание a «imaginatio», «imaginare» — познание неистинное. Строгое различение границ имагинативного и истинного познания есть первое и основное условие для понимания Спинозы. Эти границы
не допускают никакого перехода или слияния между разделяемыми областями. Между имагинативными содержаниями и содержаниями интеллекта находится непереходимая пропасть; их содержания специфически отличны друг от друга. (Ср. с. 122 сл., 149; примеч. 90, 91, 141, 142).
Отделив в общем imaginatio — неистинное познание от истинного познания — интеллекта, Спиноза устанавливает сначала специфические особенности, область и элементы неистинного познания в его различных проявлениях, — в фиктивных, ложных, сомнительных идеях. Их устранение есть то, что Спиноза требует как очищение интеллекта, на которое указывает и заглавие Трактата[70].
Во второй части метода Спиноза дает более подробное разъяснение специфической области интеллекта, результаты познания которого выражаются в «Определениях» (в особом смысле, который придает выражению «Определение» Спиноза[71]), и еще раз проводит границы между содержанием истинного и неистинного познания.
Специфическое содержание познания интеллектом и имагинативного познания требует строгого разделения терминов, поскольку они касаются той или другой области познания, между тем обычный язык толпы не дает такой дифференциации. Кроме того, бедность языка вообще вынуждает брать одни и те же слова для выражения как содержаний имагинативного
познания, так и для содержаний интеллекта; между тем, как было сказано, содержания эти специфически различны, и, следовательно, их различие поневоле приходится устанавливать только с помощью контекста и предварительных замечаний. Вспомогательным средством для различения этих специфических содержаний является в значительной мере часто употребляемое Спинозой слово quatenus (поскольку); им Спиноза облегчает различение тех случаев, когда говорится о содержаниях интеллекта, от тех случаев, когда говорится о содержаниях имагинативного познания. Слово «quatenus» имеет в исследованиях Спинозы, повсюду, большое критическое значение, обращая внимание и останавливая мысль на той познавательной точке зрения, с которой рассматривается данное содержание, и, таким образом, это слово заслуживает не легкого отношения или даже насмешки[72], но серьезного внимания. Тем не менее, ясно, что такое положение дел, когда специфически различные содержания обозначаются одними и теми же терминами, несмотря на многочисленные предостережения Спинозы, должно было подавать и подает повод к постоянным недоразумениям. Во избежание их я останавливаюсь здесь особо на наиболее важных содержаниях некоторых характерных терминов, а также и в тексте стараюсь удерживать границы их содержаний путем особых примечаний.
Отмечаю, что понимание терминов Спинозы не облегчается, но нередко только затрудняется частым сопоставлением их с внешне соответствующими
им выражениями у схоластиков; и, наоборот, несмотря на многие принципиальные различия, это понимание чрезвычайно облегчается серьезным предварительным изучением средневековой философии и Декарта. Из произведений Декарта в этом отношении главного внимания заслуживают «Размышления» (Meditationes de Prima Philosophia etc.) с Возражениями на них (Objectiones) и Ответами Декарта (Responsiones ad Objectiones)[73]. Особого внимания заслуживает также письмо Декарта к аббату Picot, переводчику французского издания Принципов Декарта[74], которое в то же время может служить как бы введением ко всей философии Декарта.
Следующие разъяснения не могут охватывать разбираемых содержаний в желаемой полноте именно потому, что Трактат о Методе как таковой, говоря о пути приобретения истинного познания, останавливается на результатах истинного познания только постольку, поскольку это необходимо для вопроса о методе. Поэтому более полное освещение их может быть дано только в специальном исследовании, касающемся не только Трактата de intellectus emendatione, но и «Этики» Спинозы, причем должно быть подробно обосновано и разъяснено то, что здесь поневоле должно носить более или менее догматический характер.
Как уже было сказано, разъяснения терминов даны отчасти в примечаниях к тексту; здесь я
остановлюсь только на тех из них, понимание которых представляется мне наиболее важным для понимания Трактата в его целом.
Я привожу эти дополнительные замечания в той последовательности, которая кажется мне наиболее выгодной для их усвоения, поэтому желательно, чтобы эти замечания были прочтены подряд, а не только отрывочно в связи со ссылками на них, встречающимися в примечаниях.
Прежде всего скажу несколько дополнительных слов по поводу терминов intellectio и imaginatio. Intellectio и intellectus я намеренно не перевожу ни словом «разум», ни словом «рассудок»; каждый из этих терминов имеет, с одной стороны, слишком определенные, а, с другой стороны, слишком различные значения (и та, и другая сторона, например, резко выражены в пользовании ими Кантом и Шопенгауэром); притом ни одно из многих имеющихся значений не соответствуют вполне значению термина интеллекта для Декарта и Спинозы. Поэтому, пользуясь латинским термином «интеллект», я заменяю его, кроме того, в некоторых случаях только теми выражениями, которыми заменяет его сам Спиноза; для Спинозы выражение интеллект равнозначно выражениям: «истинное познание», «ясное и отчетливое познание или понимание», «адекватное познание».
Я не пользуюсь выражением «интеллектуальное познание» (скорее, можно бы было употребить выражение «интеллективное» познание), так как такое выражение нередко соединяется с неподходящим и отрицаемым здесь Спинозой чисто рационалистическим или абстрактным содержанием познаваемого.
Imaginatio я перевожу словами «имагинативное познание или представление»; равнозначны также выражения: «смутное, неотчетливое познание», «неадекватное познание». Термин imaginatio нельзя переводить словом воображение, так как в содержание первого входят не только представления воображения в собственном смысле слова, не только представления фантазии, но все образные представления о единичных вещах, так же как и все абстракции на основании этих представлений.
Выражаемые в этих двух терминах (intellectus и imaginatio) содержания философии Спинозы требуют особенно точного различения. Как познание интеллекта, так и имагинативное познание есть «познание», потому нельзя переводить только интеллект, как это делает, например, Gebhardt выражением «познание». Затем, ни то, ни другое не есть некоторая духовная способность, так как Спиноза отрицает всякие способности такого рода. Поэтому перевод Gebhardf ом выражения интеллект, как «познавательная способность» (Erkenntnisvermogen), в двояком смысле является недопустимым.
Также по указанным сейчас основаниям нельзя переводить imaginatio ни словом «воображение», ни словом «способность воображения»; переводя же его, как делает Gebhardt, словом «представление», нельзя употреблять этого же самого слова, поскольку оно относится к содержаниям имагинативного познания для тех или других содержаний интеллекта, как это делает Gebhardt.
Я не предполагаю, однако, заниматься здесь критикой недопустимых переводов и, указывая на только что
сказанное, как на пример нежелательных неточностей, я буду иметь в виду далее главным образом желательное, а не имевшее место недопустимое обращение с терминами Спинозы.
Intelligere, соответственно переводу intellectus, я перевожу: «ясно и отчетливо понимать»; «истинно, адекватно познавать»; imaginare — «смутно познавать», «не адекватно, не истинно познавать», «представлять», «имагинативно познавать».
В связи с отсутствием для Спинозы, так же как и для Декарта, каких-либо духовных «способностей», а также души, как чего-то вещественного, выражение душа — anima — заменяется ими более соответствующим выражением: дух — animus, mens, а этот последний они рассматривают как модус сознания (cogitatio).
Cogitatio не должно быть переводимо узким по содержанию словом «мышление», но, в связи с указаниями Декарта и Спинозы, выражением: «сознание».
Cogitationes при этом только в узком смысле слова будет означать мысли; вообще же это выражение надо переводить как «содержания сознания», мысли и суждения нашего размышления будут занимать при этом только одно небольшое место среди всех содержаний сознания. Для Спинозы к Декарта cogitatio включает в себе не только все содержания как истинного, так и имагинативного познания, но, кроме того, и все аффекты, соответствующие этим содержаниям.
Правильное понимание термина cogitatio чрезвычайно важно для того, чтобы не вводить обычную, но совершенно недопустимую рационализацию в учение Декарта и Спинозы, поэтому я даю здесь, как
подтверждение вышесказанному, некоторые из собственных разъяснений по поводу того, что он понимает под термином cogitatio. «Cogitationis nomine complector illud omne quod sic in nobis est, ut ejus immediate conscii simus. Ita omnes voluntatis, intellects, imaginationis et sensuum operationes sunt cogitationes»[75].
На вопрос, что есть res cogitans, Декарт отвечает: «nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque et sentiens»[76].
То есть cogitatio для Декарта не ограничивается мышлением, но охватывает все содержания нашего сознания, не исключая чувствований.
Спиноза вполне разделяет это словоупотребление; так, например, в конце Трактата (с. 185) он определенно говорит об аффектах как о содержаниях сознания — cogitationes.
Недопустимая рационализация учения Декарта и Спинозы, возникающая отчасти на основании недостаточного внимания к содержанию выражения cogitatio, имеет другой важный источник в неправильном понимании взглядов Спинозы на абстракцию.
Необходимой предпосылкой для понимания выражения абстракции у Спинозы — как, впрочем, и всех других его выражений — является указанное различие «истинного познания» «интеллекта» и «имагинативного познания». Имея в виду эту предпосылку, я считаю возможным указать пока следующее: абстракции в современном смысле слова являются для Спинозы
содержаниями имагинативного, неистинного познания. К ним относится то, что он называет «общими понятиями» в обычном смысле слова — notiones universales (не notiones communes)[77]. Другие виды имагинативной абстракции, не отмеченные в Трактате, указаны в «Этике». Все абстракции в обычном смысле слова являются для Спинозы результатом неясного и смутного познания многих вещей зараз[78], никогда не заключают в себе содержаний истинного познания и, как неистинные, никогда не могут лежать в основе истинного исследования. Самое содержание их является смутным, частичным содержанием нашего представления. С абстракциями в обычном смысле слова не следует смешивать содержаний истинного познания, которые, как по своему возникновению, так и по содержанию специфически отличны от имагинативных абстракций, например, «идеи чистого духа» (ex pura mente), иначе entia rationis. Entia rationis — единичны и истинны в своей сущности; но сущность их не требует необходимого существования. Им, как содержаниям истинного познания ex pura mente, Спиноза противопоставляет наиболее существенные для него содержания того же истинного познания, которые он называет «реальными сущностями», или entia realia. Эти последние обладают необходимым существованием, и их не следует смешивать с преходящими, так называемыми действительными
вещами имагинативного познания, с их только возможным существованием[79]. Entia rationis в некотором смысле абстрактны, если им противопоставить entia realia, но не в том смысле, что они абстрагированы от чего-либо данного, как часть этого последнего, они самостоятельны и истинны в своей сущности, их содержание, само по себе, не абстрактно, но, поскольку они не причастны к необходимому существованию, они, как и имагинативные абстракции, не могут лежать в основе истинного исследования об истинных реальных вещах, сущность которых необходимо связана с необходимым существованием. Поэтому из истинного исследования о реальных сущностях Спиноза требует устранения как абстракций имагинативного познания или представления, т. е. общих понятий в обычном смысле слова, так и своеобразных идей чистого духа, хотя эти последние — entia rationis — и истинны в своей сущности.
Отсюда следует, между прочим, что математические примеры Спинозы, которые он берет из области entium rationis, не могут никогда быть во всех отношениях отожествляемы с теми истинно существующими вещами, для разъяснения особенностей которых они служат (поскольку они сами истинны в своей сущности) аналогиями и примерами. Можно сказать, что сущность необходимо
существующей вещи так относится к своему существованию, как сущность треугольника относится к равенству его углов двум прямым, но никак нельзя сказать, что сущность необходимо существующей вещи так относится к своему существованию, как сущность треугольника относится к существованию треугольника; последнее было бы нелепостью. Из разъяснений Декарта по этому поводу в его «Ответах» особенно ясно выступает принципиальное различие между entibus rationis и entibus realibus, характерное как для Декарта, так и для Спинозы, и в то же время вполне выясняется, что с их точки зрения математические примеры могут служить для истинных реальных содержаний аналогиями и иллюстрациями, но никогда не должны быть рассматриваемы как их типические случаи, так же как mos geometricus может быть способом изложения и демонстрирования истинных реальных содержаний их философии, но никогда не методом исследования, т. е. получения новых философских данных.
Сказанное едва затрагивает вопрос об абстракции у Спинозы, но здесь этому вопросу не может быть отведено большего места.
В связи с пониманием абстракции у Спинозы устраняется точка зрения многих исследователей, которые приписывают ему с крайней упорностью абстрактность в основных реальных содержаниях его философии — с упорностью, которая нередко принимает форму: а «все-таки» они абстрактны! — против всех доводов Спинозы, отрицающих такое утверждение. Эта форма утверждения обусловливается тем, что эти исследователи не видят для себя никакого
другого выхода, так как все, что не является непосредственным чувственным восприятием, должно быть для них абстракцией, между тем как Спиноза на место как того, так и другого ставит нечто третье. Окончательное устранение недоразумений по этому поводу требует, наконец, кроме понимания абстракции у Спинозы, еще ясного понимания того, что Спиноза называет «определением», а также того, что он имеет в виду под «реальными, вечными, неизменными, единичными вещами» интеллекта, которые он выражает определениями и в которых он видит основу всякого истинного исследования, из которого он сознательно исключает всякую абстракцию. Для всех этих идей Трактат de intellectus emendatione дает хотя и не исчерпывающие, но чрезвычайно ценные указания.
Значение определения у Спинозы должно быть выяснено в специальном исследовании. Пока обращаю внимание на примечания 159, 162, 167 и на главу об определении в моей статье о Спинозе (1. с. с. 356 (42) сл.). Здесь замечу еще, что аналогии по этому поводу со старыми писателями, и в частности с Аристотелем, нередко запутывают вопрос не менее, чем слишком решительные попытки логизирования его современными писателями, причем и те, и другие упускают из виду основные идеи и требования философии Спинозы. Так, например, Гегель, разбирая логический смысл определения у Спинозы, смешивает выражения Спинозы determinatio и definitio; большинство исследователей упускает из виду значение выражения intelligere, которое входит в каждое определение у Спинозы; многие исходят из такого понимания
выражения causa sive ratio, которое недопустимо с точки зрения философии Спинозы и т. д.
Опять-таки в связи с различением содержаний интеллекта и имагинативного познания стоит понимание термина causa у Декарта и Спинозы.
Многие исследователи чрезвычайно ясно показали, что causa для Спинозы не есть действующая причина — causa efficiens — в обычном смысле слова, но отсюда они приходят к заключению, что causa для Спинозы равнозначна логическому основанию. В этом случае мы опять встречаемся с одной из альтернатив научных привычек вроде той, которая была отмечена выше по поводу абстракции. Здесь альтернатива носит такой характер: если causa не выражает для Спинозы действующую причину, как мы понимаем ее, исходя из привычного нам механического воззрения, то она должна выражать логическое основание, и, что бы ни говорил Спиноза против этого последнего, его causa «все-таки» есть логическое основание, раз она не есть действующая причина. С этой точки зрения, они видят в выражении Спинозы causa sive ratio подтверждение своего заключения. Однако и здесь Спиноза под термином causa не имеет в виду ни того, ни другого толкования, а некоторое третье. Понимание же выражения: causa sive ratio представляет собой хороший пример возможности того «обращения», о котором было упомянуто в Предисловии по аналогии с реверсибельными фигурами психологических исследований. Это выражение, оставаясь в словах тем же, допускает не только одно приписываемое ему значение, а у Спинозы даже и требует как раз не такого, а другого понимания.
Только немногое может быть сказано здесь для разъяснения термина Спинозы causa; из понимания последнего вытечет само собой соответствующее ему понимание выражения causa sive ratio.
Как уже сказано, для понимания выражения причины у Спинозы надо все время иметь в виду границы, проводимые им между истинным и имагинативным познанием[80]. Причина с точки зрения истинного познания для Спинозы, как и для Декарта, есть нечто вполне отличное от причин с точки зрения имагинативного познания, т. е. причина для интеллекта выражает содержание, специфически отличное от того содержания, которое обычно обозначается как causa efficiens. Если Декарт и Спиноза употребляют иногда выражение causa efficiens, то, как разъясняет Декарт, по отношению к истинному познанию это выражение надо понимать только в смысле causa quasi efficiens[81]. Причина для истинного познания не есть причина по действию, но причина по сущности. Не уметь различать этих содержаний является, по мнению Декарта, признаком недостаточного развития философского мышления. Только для имагинативного познания истинная причина может представляться в виде causa efficiens обычного понимания. Декарт называет невежественными людьми — illiterari — тех, которые «tantum ad causas secundum fleri non autem
esse attendant», т. e. тех, которые принимают во внимание действующие причины, не замечая причин по сущности[82].
Таким образом, causa efficiens, в обычном смысле слова, в котором причина, действуя, вызывает следствие, для Декарта и Спинозы является причиной только для неистинного познания; неистинное познание находит в ней условие для существования той или другой вещи, но эти вещи суть преходящие вещи, существование которых для Декарта и Спинозы есть только возможное существование, специфически отличное от того существования, которое присуще вечным и неизменным вещам, постигаемым интеллектом, и которое является необходимым существованием.
Очень важно отметить, что с точки зрения понимания слова causa как causa efficiens в обычном смысле слова, Декарт и Спиноза считали бы абсурдным говорить о causa sui; не менее абсурдным,
чем это казалось Шопенгауэру в его критике этого выражения, с точки зрения причины, понимаемой как causa efficiens. Для Шопенгауэра осталось совершенно незамеченным то воззрение на causa sui, которое является характерным для Декарта и Спинозы. Декарт особенно подробно останавливается на вопросе о «само-причине» в своих ответах на возражения Арно и Гассенди, и разъясняет, что для истинного познания и causa sui является исключительно причиной по сущности, «causa secundum esse»; у Спинозы встречается как равнозначное этому выражение: «causa essentialiter».
И Декарт, и Спиноза приводят как аналогию для отношения причины и следствия в истинном познании отношения между сущностями и свойствами математических вещей, например, между сущностью треугольника и равенством его углов двум прямым. Однако, как уже сказано, не надо забывать и здесь, что это последнее отношение дает только аналогию для первого, а не представляет собой типический точный случай этого отношения, как и все математические примеры, употребляемые Декартом и Спинозой для разъяснения их основных философских содержаний. В этом примере Декарт и Спиноза аналогируют вечность и неизменность причинного отношения secundum esse с вечностью и неизменностью отношения математических вещей к их свойствам. Но, как было указано, если в первом случае идет речь о необходимых отношениях между сущностью и существованием, то во втором — только о необходимых отношениях сущности и свойств, так как математические вещи, как entia rationis, не имеют
необходимого существования истинно реальных сущностей[83].
Отношение между сущностью треугольника и равенством его углов двум прямым может быть, как это делает Шопенгауэр, рассматриваемо как особая форма причинного отношения, Шопенгауэр называет этого рода причину causa essendi («grund des Seins»); но, согласно сказанному, causa essendi в этом смысле не является тожественной причине, которую Декарт и Спиноза называют causa secundum esse или causa essentialiter, хотя дает хорошую аналогию для облегчения понимания этой последней. Математические отношения являются, если можно так выразиться, особым индивидуальным случаем истинных отношений, касаясь вещей истинных, но не истинных реальных вещей; для последних causa secundum esse необходимо включает в себе не только истинную сущность, но и необходимое существование, а потому и в определяемой ею вещи обусловливает как ее сущность, так и необходимое существование.
Далее надо отметить, что вещь, рассматриваемая как causa secundum esse, есть нечто данное formaliter, для истинного познания, как говорят Декарт и Спиноза, идея же о ней соответствует данной формальной сущности как сущность objective. Истинная идея, как мы уже знаем, должна соответствовать — debet convenire — своему идеату, при этом порядок причин и следствий в идеатах должен быть равен — idem esse — порядку причин и следствий в истинных идеях.
Отсюда так же как истинно познаваемая вещь, данная formaliter, является причиной по сущности — causa secundum esse — для своих, также данных formaliter, следствий, так ее истинная идея является основой — ratio — для своих следствий, соответствующих следствиям данным formaliter, но данных objective. Отсюда выражение causa sive ratio, не выражая тожества между causa и ratio, так как causa относится в нем к истинным вещам, a ratio — к идеям этих вещей (причем идеат идеи и сама идея для Спинозы есть всегда quid diversum), в тоже время, имеет полное право на свое существование, именно потому, что для истинного познания ratio, т. е. данное objective содержание, или идея, должно соответствовать causae, т. е. содержанию, данному formaliter. Вне причины — causa — не может быть esse (в смысле сущности и существования) следствия, а вне идеи этой причины — ratio — не может быть концепта, или идеи этого следствия. Именно с этой точки зрения необходимо понимать утверждение Спинозы, что без (истинного) познания причины вещи эта вещь «nec esse, пес concipi potest».
Итак, с одной стороны, в согласии со многими исследователями, я подчеркиваю здесь резкое отличие между causae secundum esse для Декарта и Спинозы и causae efficientes обычного механического мировоззрения; с другой стороны, против мнения многих я утверждаю, что causa secundum esse для Декарта и Спинозы не менее принципиально отличается и от «логического основания».
Невнимание к указанным различениям, так же как и недоразумения по поводу учения Спинозы об абстракции, вносит недопустимую рационализацию его
воззрений, против которой он, как и Декарт, протестует во всех соответствующих случаях. Правда, многие исследователи, исходя из традиционно-логической точки зрения, несмотря ни на что, будут утверждать по-прежнему, что все, что не есть causa efficiens, надо понимать, как «логическое основание». Но Декарт и Спиноза так определенно отрицают в данном случае как то, так и другое толкование, что даже, не разделяя их взглядов или не понимая их мысли, ясно, что во всяком случае нельзя приписывать им того, что они сами отвергают как недопустимое; притом отвергают не попутно, но определенно и сознательно. Еще при жизни Декарта ему делали по этому поводу возражения, подобные тем, которые делаются некоторыми современными исследователями и которые носят характер заявления: «То, что я признаю наукой и понимаю, не заключает в себе подобных содержаний, а следовательно, эти содержания или не существуют вовсе, или есть то, что отрицает автор, несмотря на то, что он это отрицает». Декарт отвечает на это в том смысле, что утверждения одного важнее, чем отрицание по этому поводу многих. Действительно, отрицание некоторого содержания само по себе не может устранить утверждение, но оно в особенности не равносильно ему, когда дело идет об утверждениях великих философов, мысли которых уже пережили столетия. И потому утверждения Декарта и Спинозы, что в их истинном познании имеется нечто, что не подходит ни под рамки нашего чувственного представления, ни под рамки традиционной логики, несмотря даже на кажущуюся недоказанность этих утверждений, важнее
и заслуживает более внимания, чем отрицания возможности этих содержаний со стороны многих представителей господствующих мировоззрений.
На самом деле ясное понимание значения термина causa для Декарта и Спинозы сопряжено с немалыми трудностями, но мы уже видели, что как Декарт, так и Спиноза требуют вообще особых условий и усилий мышления для возможности истинного понимания[84]; если же сделанные пока усилия для разъяснения этого значения представляются недостаточными, то надо по крайней мере решиться признать, что данное содержание во всяком случае не может быть уложено в обычные рамки того или другого традиционного воззрения помимо всего прочего уже по одному тому, что эти рамки определенно отбрасываются Декартом и Спинозой как неподходящие, хотя и хорошо им известные; так что, навязывая их им, мы даже не можем оправдываться и своим знанием, а их незнанием. Итак, здесь, по крайней мере пока, должно быть установлено, что причина — causa — для истинного познания реальных сущностей, с точки зрения, как Декарта, так и Спинозы, не есть ни «действующая причина», ни «логическое основание».
В заключение скажу несколько слов о термине emendatio, который входит в заглавие Трактата. Выражение: «de intellectus emendatione» желательно переводить не выражением, кажущимся только на первый взгляд соответствующим ему: об «усовершенствовании» интеллекта, но выражением: об «очищении» интеллекта. Основание к такому переводу может
быть легче выяснено после уже высказанных выше соображений относительно специфических особенностей истинного познания и имагинативного познания вообще и некоторых из их отдельных содержаний в частности. Поэтому я и останавливаюсь на этом вопросе теперь, а не ранее.
Выражение emendatio в связи с выражением «интеллект» заключает в себе содержание двоякого рода.
Во-первых, его надо понимать в смысле очищения истинного познания от неясных и неотчетливых содержаний имагинативного познания[85].
В этом смысле Спиноза считает возможным заменять термин emendatio словом expurgatio. (Ср. Бэкон).
Эта задача очищения истинного познания разрешается Спинозой в первой части Метода (с. 99 сл.) и должна была затрагиваться в третьей части его.
Во-вторых, intellectus emendatio указывает на расширение области интеллекта, т. е. истинного познания для данного индивидуума. Это расширение возможно в двух отношениях:
а) в смысле приобретения новых истинных идей;
б) в смысле приобретения наиболее совершенных, наиболее богатых содержанием идей. Эта задача расширения области интеллекта рассматривается Спинозой во второй части Метода (с. 155 сл. сл.).
Как в том, так и в другом случае интеллект не подвергается совершенствованию в своей сущности; познание интеллекта есть истинное и отчетливое познание. В первом случае он очищается от неистинных идей, не относящихся к интеллекту; во втором, совершенствуется не интеллект как таковой, но тот, кто познает все больше и больше путем интеллекта[86].
Этому заключению не противоречит вторая из упомянутых возможностей расширения области интеллекта в человеческом познании — путем приобретения более совершенных истинных идей. Надо помнить, что, несмотря на различие в совершенстве отдельных идей, в зависимости, как выражается Спиноза, от большей или меньшей реальности их идеалов истинные идеи сами по себе по отношению к истине равноценны. Совершенствование здесь не является усовершенствованием уже познанных истинных идей, но приобретением новых, наиболее совершенных идей. Таким образом, интеллект как таковой, т. е. истинное познание само по себе, лежит вне вопроса о совершенствовании. Поскольку же указанное расширение истинного познания есть в то же время совершенствование — perfectio, но не его самого, а того индивидуума, который истинно познает — intelligit, то Спиноза действительно говорит как о цели истинного познания, de perfectione, но
не intellectus, a humanae naturae, т. е. о совершенствовании не интеллекта как такового, но человеческой сущности.
На основании сказанного и за неимением более общего термина, который мог бы включить как очищение интеллекта, так и расширение его области для познающего индивидуума, я считаю более подходящим для перевода выражения de intellectus emendatione, не выражение «усовершенствование», но выражение «очищение» интеллекта.
Замечу, что такой перевод выражения de intellectus emendatione, хотя и не часто, но все же встречается в литературе о Спинозе; так, например, Couturat дает выражение «lа purification de Pentendement», Freudenthal говорит о «Lauterung des Verstandes».
Многие вопросы требовали бы здесь еще особого внимания, например, вопрос о так называемом «параллелизме» у Спинозы, вопрос об «определении» и вопрос «о вечных неизменных и единичных вещах» и некоторые другие. Но я имею в виду, еще до появления окончательных результатов моего исследования, в специальных статьях ближе выяснить эти отдельные вопросы, рассмотрение которых здесь встречает себе препятствие в необходимом ограничении изложения содержанием данного Трактата.
В настоящее время напечатана статья: «К методологии изучения философии Спинозы». Она должна служить непосредственным дополнением к этому Введению и к последующим Примечаниям.
В. Н. Половцова
I. Истинное благо, препятствия к нему и средства к его достижению. (Тесная связь между философией и жизнью.)
Будучи научен опытом, что все то, что представляет собой частое явление обыденной жизни, тщетно и не ценно, и видя, что все, чего и перед чем я страшился, заключало в себе добро и зло только постольку, поскольку им вызывались волнения духа (quatenus ab iis animus movebatur)[87], я решил,
наконец исследовать, не существует ли чего-нибудь, что было бы истинным благом (verum bonum) и благом доступным, и чем одним, помимо всего остального, мог бы определяться дух; притом не существует ли даже такого чего-либо, что, раз оно будет найдено и принято, давало бы мне возможность пользоваться вечно постоянной и наивысшей радостью. Я говорю, что я решил наконец, так как на первый взгляд казалось как бы несообразным упускать нечто достоверное ради недостоверного: я с несомненностью видел те преимущества, которые достигаются в результате почестей и богатства, и сознавал, что я буду вынужден воздержаться от искания этих преимуществ, в случае если я захочу серьезно посвятить свой труд чему-то другому, новому. Тогда, если в этих преимуществах, может быть, лежало бы наивысшее счастье, то как я ясно видел, мне пришлось бы лишиться его; однако, с другой стороны, в том случае если бы оно не заключалось в них, а я старался бы достичь только их, то я также лишился бы наивысшего счастья. Таким образом я переворачивал в сознании вопрос, не оказалось ли бы случайно возможным выполнить мой новый план или, по крайней мере, убедиться в его достоверности, не изменяя порядка и обычного плана моей жизни, что я зачастую пробовал без
успеха. На самом деле, большая часть из того, что встречается в жизни, и что люди, насколько можно судить по их поступкам, считают для себя наивысшим благом, сводится к следующим трем вещам: богатству, почести и чувственному наслаждению, а эти три вещи развлекают дух до такой степени, что он оказывается не в состоянии мыслить о каком-либо другом благе. Так, что касается чувственного наслаждения, то дух отдается ему так, как будто он уже нашел при этом успокоение в некотором благе, что в высшей степени препятствует ему мыслить о каком-либо другом благе; между тем за удовлетворением чувственности следует наивысшая печаль, которая, если не вполне поглощает дух, то во всяком случае расстраивает и притупляет его. Немало также рассеивается дух в результате погони за почестями и богатствами; в особенности, если они ищутся исключительно ради них самих*, так как при этом предполагается, что они сами и суть наивысшее благо. Почести к тому же в особой мере вызывают рассеяние духа, так как они всегда рассматриваются как благо сами по себе и как конечная цель, к которой все направляется. Кроме того, с почестями и богатством не связывается, как с
* Эти мысли могли бы быть разъяснены более подробно и более отчетливо именно путем различения богатств, искомых ради них самих или ради почести, или ради чувственных наслаждений, или же ради здоровья и умножения наук и искусств; но это разъяснение откладывается до соответствующего ему случая, так как здесь не место исследовать этот вопрос так обстоятельно. [По поводу этого примечания Спинозы ср. прим. 7 на с. 66.]
чувственным наслаждением, раскаяние, наоборот, чем больше обладание ими обоими, тем больше делается радость, а, следовательно, мы все более и более побуждаемся к их умножению. Но, с другой стороны, если однажды мы обманемся в своем ожидании, то в результате возникает величайшее уныние. Почести в конце концов являются для нас особенно большим камнем преткновения, так как для того, чтобы нам достичь их, жизнь неизбежно должна направляться согласно разумению толпы, т. е. так, чтобы избегать того, чего обычно избегают люди, и стремиться к тому, к чему они обычно стремятся.
Установив таким образом, что все упомянутые вещи являются препятствием к тому, чтобы я мог посвятить свой труд некоторому новому начинанию, и даже оказываются прямо противоположны этому последнему, так что необходимо отказаться или от одного, или от другого, я был вынужден исследовать, что же именно было бы для меня более полезным, так как, как уже было сказано, казалось, будто я хочу променять достоверное благо на недостоверное. Однако, уже немного подумав над этим вопросом, я нашел прежде всего, что если бы, пренебрегши богатством, почестями и чувственными наслаждениями, я обратился бы к моему новому плану, то я лишился бы блага недостоверного по самой своей природе[88] — как это мы можем ясно видеть из только что сказанного — ради блага [тоже] недостоверного, но
недостоверного не по своей природе (так как я искал как раз по существу постоянного блага), но только по отношению к его достижимости. Путем же дальнейшего более усиленного размышления я пришел к тому, что, если бы я мог вполне решиться (modo possem penitus deliberare) [на указанное изменение жизни], то в таком случае я отказался бы от достоверного зла ради достоверного блага. На самом деле, я увидал себя подвергающимся величайшей опасности и вынужденным с напряжением всех сил искать против нее средства, хотя бы даже недостоверного. Так больной, страдающий смертельной болезнью и предвидящий неизбежную смерть, если он не примет средства против нее, вынуждается искать этого средства с напряжением всех своих сил, хотя бы оно было и недостоверным, так как в нем лежит вся его надежда. Все те вещи, однако, за которыми стремится толпа, не дают никакого средства к сохранению нашей сущности (ad nostrum esse conservandum), но даже препятствуют этому, причем часто являются причиной гибели тех, кто ими владеет*, и всегда — причиной гибели тех, кем они владеют[89]. На самом деле весьма многочисленны примеры
* Это должно быть показано более обстоятельно.
людей, которые ради имевшихся у них богатств терпели преследования вплоть до самой смерти; а также таких, которые для приобретения их подвергали себя стольким опасностям, что в конце концов платили жизнью за свое безумие. Не менее многочисленны примеры людей, которые претерпевали самые ужасные страдания во имя достижения или защиты своих почестей. И, наконец, бесчисленны примеры тех, кто в результате чрезмерных страстей ускоряли для себя приближение смерти. Из всего этого далее можно было видеть, что источник указанных зол заключается в том, что все счастие или несчастие лежит несомненно в одном — в качестве того объекта, к которому мы обращаемся с нашей любовью. Действительно, по отношению к тому, что не любимо нами, никогда не подымается споров, никогда не возникает никакой печали, если оно погибает, никакой зависти, если оно оказывается во власти другого, никакого страха, никакой ненависти, одним словом, никаких потрясений духа; между тем все они получают место при наличности любви к вещам, подверженным гибели, а таковы все те, о которых мы сейчас говорили. Обратно, любовь к вещи вечной и бесконечной питает дух исключительно радостью, притом радостью свободной от всякой печали; и эта радость является в высшей степени желательной и достойной напряжения всех сил к ее отысканию.
Однако я не без основания употребил выше слова: если бы я мог серьезно решиться (modo possem serio deliberare)[90]. Действительно, хотя я все это ясно пер-
ципировал в сознании (mente clare perciperem)[91], я, тем не менее, не мог на этом основании отбросить от себя всякое корыстолюбие, чувственность и честолюбие[92].
Одно стало мне ясным, что поскольку дух (mens) пребывал в области подобных содержаний сознания, он отвращался от указанных [преходящих] вещей и серьезно размышлял о вновь поставленном плане; это было для меня большим утешением: действительно, я видел отсюда, что указанные вещи не представляют собой таких условий, которые не поддаются никаким средствам лечения. И хотя сначала подобные периоды бывали редки и продолжались весьма короткое время, но по мере того, как истинное благо становилось мне все более и более ясным, они де-
лались более частыми и более продолжительными, в особенности после того, как я увидел, что приобретение денег или чувственные наслаждения и слава являются препятствием только постольку, поскольку они ищутся не как средство для других вещей, но ради них самих; если же они ищутся только как средство, то им ставится предел, и они не будут препятствием, но, обратно, явятся в значительной мере полезными для той цели, ради которой они ищутся, как мы покажем это в своем месте[93].
Здесь я сообщу только вкратце, что именно я буду понимать под истинным благом (verum bonum), и, в то же время, что представляет собой наивысшее благо (summum bonum). Для того, чтобы это было правильно понято, надо отметить, что о добре и зле говорят [обыкновенно] только в относительном смысле, так что одна и та же вещь может быть названа как хорошей, так и дурной, в зависимости
от различных к ней отношений, а также может быть названа совершенной или несовершенной. На самом деле, ни о чем, рассматриваемом в своей сущности (in sua natura spectatum), не будет сказано, что оно совершенно или не совершенно, в особенности, после того, что мы усвоим себе, что все вещи, которые имеют место, производятся согласно вечному порядку и определенным законам Природы (secundum aeternum ordinem et secundum certas Naturae leges)[94]. Однако так как человеческая слабость не охватывает этого порядка в своем сознании, а человек, между тем, постигает идею некоторой человеческой сущности, гораздо более мощной, чем его собственная, и в то же время не усматривает никаких препятствий к ее достижению, то он и побуждается искать средств, которые могли бы вести его к такому совершенству; при этом все, что сможет служить средством на пути к достижению этого совершенства, назовется истинным благом; наивысшее же благо будет заключаться в том, чтобы человек, вместе с другими индивидуумами, если это возможно, достиг пользования подобной сущностью[95]. Какова
именно эта сущность, мы покажем в своем месте, и именно, мы покажем, что она заключается в познании единства, которое дух имеет с Природой в ее целом*. Вот, следовательно, конечная цель, к которой я стремлюсь: достичь подобной сущности и стараться, чтобы многие достигли ее вместе со мною; последнее значит, что к моему счастью относится также содействие тому, чтобы многие другие понимали (intelligant) то самое, что я понимаю[96], и чтобы их понимание и стремление соответствовали моему пониманию и стремлению. Для этой цели необходимо познать Природу [т. е. Сущность Субстанции] постольку, поскольку этого достаточно для достижения указанной [человеческой] сущности; затем организовать общение, которое обеспечило бы возможно многим, возможно легкое и надежное достижение намеченного; далее необходимо занятие Моральной Философией, так же, как и Учением о Воспитании детей, и так как здоровье является немаловажным средством для достижения указанной цели, то требуется привлечение сюда и Медицины в ее целом, а поскольку путем [технического] искусства многие труд-
* Это разъясняется подробнее в своем месте. [Ср. прим. 7 на с. 66.]
ные вещи превращаются в легкие, и мы, таким образом, оказываемся в состоянии выиграть время и создать себе удобства в жизни, то и Механика ни в каком случае не должна остаться в пренебрежении*. Но прежде всего надо осознать способ врачевания интеллекта и его, сколько возможно вначале, очищения [от всего не истинного] (modus medendi intellectus ipsumque expurgandi)[97], для того, чтобы он мог удачно, безошибочно и по возможности наилучше понимать вещи. Из сказанного всякий в состоянии уже видеть, что я хотел бы направить все науки к одному концу** и цели, а именно, как сказано нами, к достижению наивысшего человеческого совершенства (ad summam humanam perfectionem). Таким образом, все то в науках, что не подвигает нас к этой нашей конечной цели, должно быть отброшено, как бесполезное; одним словом, к этой конечной цели должны быть направляемы все наши действия и все содержания
* Надо отметить, что я забочусь здесь только о перечислении наук, необходимых для нашей цели, не обращая внимания на их систему [в смысле иерархии].
** Конечная цель (finis), к которой все науки должны быть направляемы, для всех наук — едина (est unicus).
нашего сознания (cogitationes)[98]. Но так как пока мы будем стремиться следовать ей и стараться удерживать наш интеллект на правильном пути, необходимо жить, то мы будем вынуждены раньше всего допустить как положительные[99] некоторые правила жизни, и именно следующие:
I. Выражаться соответственно развитию массы (ad captum vulgi loqui) и выполнять все то, что не несет с собой препятствий к достижению нашей цели. Действительно, мы можем достичь немало выгоды, если будем, насколько это возможно, считаться с разумением толпы; добавим, что в результате такого способа действия люди охотно будут склонять свой слух к принятию истины (amicas praebebunt aures ad veritatem audiendam).
II. Пользоваться развлечениями ровно настолько, насколько это нужно для сохранения здоровья.
III. Наконец, искать приобретения денег или каких-нибудь других вещей не больше, чем это требуется для поддержания здоровья и жизни и для того, чтобы следовать тем нравам общества, которые не стоят в противоречии с нашим начинанием.
II. Emendatio intellectus, как основное средство к достижению истинного блага.
Перечисление возможных способов перципирования и выбор наилучшего.
Установив эти правила, я обращаюсь к тому первому, что должно быть сделано прежде всего осталь-
ного, а именно, к очищению интеллекта и к приведению его в состояние понимать вещи (ad res intelligendas) так, как это нужно для достижения нашей цели. Для выполнения этой задачи естественный для нас порядок требует, чтобы я пересмотрел здесь все способы перцепции (omnes modos percipiendi)[100], которыми я до сих пор пользовался при утверждении или отрицании чего бы то ни было, не подвергавшегося сомнению (indubie)[101], чтобы я выбрал из
них всех наилучший, и чтобы в то же время я приступил к опознанию своих сил и сущности[102], которую я стремлюсь усовершенствовать (perficere).
Если я внимательно вглядываюсь, то все они могут быть сведены наилучшим образом к четырем способам:
I. Первый способ перцепции [в смысле перцепирования — perceptio] есть перцепция «с чужих слов» (ex auditu)[103] или через посредство некоторого произвольно взятого символа (ex aliquo signo).
И. Второй способ есть перцепция путем неопределенного [случайного] опыта (ab experientia vaga)[104],
т. е. опыта, который не определяется интеллектом, и носит название опыта (experientia) только потому, что случайно возникает как таковой, и мы не имеем другого опыта (experimentum), который противоречил бы ему, почему он и остается для нас в качестве непоколебимого.
III. Третий способ есть перцепция, при которой сущность вещи выводится из другой вещи, но не адекватно; это имеет место или [I] в том случае, когда мы, исходя из некоторого следствия (ab aliquo effectu) подбираем ему причину* или же [II] если
* В этом случае [т. е. указанном в первой части [I] данной альтернативы], мы не приобретаем никакого ясного понимания относительно причины, чрез посредство того, что мы рассматриваем в следствии (nihil de causa intelligimus propter id quod in effectu consideramus)[105]. Это обнаруживается в достаточной мере в том обстоятельстве, что причина разъясняется затем только в самых общих терминах, как-то: Следовательно, имеется нечто; Следовательно, имеется некоторая сила и т. д.; а также в том, что причину выражают иногда при этом отрицательным способом: Следовательно, не имеется этого или не имеется того и т. д.
Во втором случае (in secundo casu) [указанном во второй части [II] данной альтернативы][106], причине через посредство следствия приписывается нечто, что ясно конципировано, как мы покажем на примере, но при этом ясно конципированы только свойства, но не сущность [данной] частной вещи [nihil praeter propria, non vero rei essentia particularis].
сущность вещи выводится на основании некоторого общего понятия (ab aliquo universali), которое всегда связано с некоторым свойством [вещи][107].
IV. Четвертый способ перцепции, наконец, есть перцепция, в которой вещь воспринимается [I] исключительно через ее собственную сущность (per solam suam essentiam) или [2] через познание ее ближайшей причины (per cognitionem suae proximae causae)[108].
Это все я иллюстрирую примерами. [I] Только с чужих слов (ex auditu) я знаю о дне моего рождения и о том, что я имел таких-то родителей и тому подобное,
в чем я никогда не сомневался. [II] Через посредство неопределенного опыта (per experientiam vagam) я знаю себя смертным; на самом деле, я утверждаю это потому, что видел как другие, подобные мне люди подвергались смерти, хотя не все они проживали одинаковый промежуток времени, и не все умирали от одного и того же недуга. Далее, через посредство неопределенного опыта я знаю также, что масло представляет собой подходящий продукт для поддержания пламени и что вода обладает способностью тушить это последнее, знаю также, что собака есть животное лающее, а человек — животное, обладающее рассудком; и этим же путем я усвоил себе почти все, что относится к обиходу жизни. [III] Исходя из другой вещи (ex alia re), мы выводим нечто [например] следующим образом: ясно восприняв себя чувствующими (sentire) такое-то тело и никакое другое, мы из этого — говорю я — с ясностью выводим, что душа соединена с телом*, причем это единение есть причина указанного чувствования **,
* Из этого примера ясно то, что было мною только что указано: действительно, под единением души и тела мы [обыкновенно] не имеем в виду ничего, кроме самого чувствования, т. е. того самого следствия, на основании которого мы сделали вывод о причине, не зная ничего относительно этой последней.
** Подобное заключение, хотя бы оно и было достоверно, тем не менее, недостаточно безопасно, если не принять чрезвычайно больших предосторожностей. Действительно, без крайней осторожности, здесь тотчас впадают в заблуждения; если вещи конципируются таким абстрактным путем, а не через посредство истинной сущности, они всегда спутываются имагинативным познанием (statim ab imaginatione confunduntur). На самом деле, то, что само по себе едино, является, в представлении людей множественным; к тем вещам, которые они конципируют абстрактно, отдельно и спутанно, они применяют названия, которые были присвоены ими другим более обычным им по значению вещам; в результате они представляют себе первые таким же образом, каким они привыкли представлять себе вторые, т. е. те вещи, к которым они сначала прилагали эти названия,
но что именно представляет собой это чувствование и это единение мы совершенно не в состоянии понять таким способом перцепции. Или [другой пример]: усвоив себе природу зрения и также то, что зрению присуще свойство, в результате которого мы одну и ту же вещь на большем расстоянии будем видеть в меньшем размере, чем если мы рассматриваем ее вблизи, — мы выводим отсюда, что солнце больше, чем кажется, и другие тому подобные заключения. Наконец, [IV] вещь перципируется исключительно из ее сущности, когда из того, что я усвоил нечто, я знаю что значит это — нечто усвоенное, или, [например], когда я знаю, что душа соединена с телом из того, что я усвоил [самую] сущность души. Путем этого же познания (eadem cognitione) нами было усвоено, что два и три дают пять, и что если две линии параллельны между собой и т. д. Однако то, что я до сих пор мог усвоить через посредство такого познания, было очень немногим[109].
Для того, однако, чтобы все сказанное было лучше понято, я могу взять один единственный и именно следующий пример: пусть даны три числа и ищется четвертое, которое так относится к третьему, как второе к первому. Торговые люди говорят обыкновенно в этом случае, что они знают, как надо действовать, чтобы найти четвертое число, так как они, конечно, не предали забвению того приема, который в отрывочном виде и без разъяснения они слышали от своих учителей; другие же создают общую аксиому, исходя из опыта над простыми данными, именно такими, где четвертое число самоочевидно, как-то: 2, 4, 3, 6, причем испробовав, что помножение второго числа на третье и затем деление их произведения на первое образует в частном 6, и видя при этом в результате то самое число, которое они, без указанного приема, знали как пропорциональное, они выводят отсюда, что этот прием хорош во всех случаях для нахождения четвертого пропорциональ-
ного. Что касается до математиков, то они знают, какие числа пропорциональны между собой из доказательства положения 19, книги 7 Евклида, т. е. они знают из сущности пропорции и ее свойства, что то самое число, которое получается из перемножения первого и четвертого числа, равняется числу из перемножения второго и третьего; и, тем не менее, они не видят адекватной пропорциональности данных чисел, а если бы они видели ее, то видели бы не путем указанного положения, но интуитивно (intuitive), не в результате какого бы то ни было действия[110].
Однако, чтобы из указанных способов перцепирования выбрать наилучший, требуется, чтобы мы перечислили вкратце средства, необходимые для дости-
жения нами нашей цели [т. е. совершенства нашей сущности]; для нашей цели необходимо:
I. В точности знать нашу сущность, которую мы стремимся усовершенствовать, а также сущность вещей постольку, поскольку это необходимо.
II. Чтобы, исходя отсюда [из I], мы правильно сопоставляли бы различия, сходства и противоречия вещей.
III. Чтобы правильно конципировали, в каком отношении вещи могут являться пассивными и в каком — нет[111].
IV. Причем эти данные должны быть сопоставлены с сущностью и мощью (potentia) человека. Отсюда легко выяснится наивысшее доступное для человека совершенство.
Приняв, таким образом, все это во внимание, посмотрим, какой способ перцепции (modus percipiendi) должен быть выбран нами как наилучший.
Что касается до первого способа, то само собой очевидно, что с чужих слов (ex auditu) — не говоря уже о том, что вещь остается весьма недостоверной — мы не воспринимаем никакой сущности вещи, как это видно из нашего примера; а так как существование некоторой единичной вещи не может быть усвоено помимо познания ее сущности, как это будет видно далее, то мы выводим отсюда с ясностью, что всякую достоверность по слухам необходимо исключить из области наук. Действительно, на кого
когда-либо могло воздействовать простое слышание, которому не предшествовало собственное понимание[112].
Что касается до второго способа перцепции [ab experientia vaga], то и о нем должно быть сказано, что не он будет заключать в себе [если иметь в виду данный выше пример] идею той пропорции, которая ищется. Помимо того, что он весьма недостоверен и не закончен, через его посредство к тому же никем и никогда не перципируется в естественных вещах ничего, кроме случайных признаков (praeter accidentia), которые не могут быть ясно поняты, если им не предшествовало познание сущностей. Следовательно, и этот способ восприятия подлежит исключению*.
* Здесь [по поводу этого способа перцепции] я буду много подробнее говорить об опыте [de experientia], и рассмотрю метод исследования эмпириков и современных философов[113].
Что касается до третьего способа перцепции, то по отношению к нему можно до некоторой степени сказать, что, пользуясь им, мы будем иметь идею вещи и, следовательно, будем делать выводы без опасности заблуждения, но, тем не менее, и он сам по себе не будет средством для достижения нашего совершенства[114].
Только четвертым способом постигается адекватная сущность вещи, и притом без опасности заблуждения, поэтому он преимущественно перед всеми будет пригоден к использованию, и, следовательно, нам надо стараться выяснить, как именно он должен быть применяем, чтобы неизвестные вещи становились нам ясными посредством именно такого познания, и чтобы эта цель была достигаема нами путем наивозможно более кратким.
III. Путь и метод исследования с помощью наилучшего способа познания.
а) Предварительные замечания.
После того, что мы выяснили себе, какое именно Познание (Cognitio) является для нас необходимым, должны быть разобраны те Путь (Via) и Метод (Methodus), с помощью которых мы могли бы вещи, которые должны быть познаны, познавать подобным познанием. Для этого прежде всего необходимо отметить, что здесь не будет иметь места исследование до
бесконечности; другими словами, для того, чтобы был найден наилучший метод для исследования истины, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и, чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода, и так далее, до бесконечности; так как таким путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще ни к какому познанию[115]. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда (instrumenta corporea), где было бы возможно подобное же рассуждение: действительно, чтобы выковать железо, надобен молот; чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан; для этого нужно опять иметь молот и другие орудия; чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия и т. д. до бесконечности; на этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо. Однако так же как люди вначале с помощью врожденных им [естественных] орудий (innatis instrumentis) сумели создать нечто весьма легкое, хотя с большим трудом и мало совершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее более трудное уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством и так, переходя постепенно от самых примитивных творений к орудиям труда, и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполнять весьма многое и в
высокой степени трудное, с незначительной затратой работы, точно так же и интеллект, путем прирожденной ему силы (vi sua nativa)*, создает себе интеллектуальные орудия (instrumenta intellectualia), с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений**, а путем этих последних— новые орудия или возможность к дальнейшим
* Под прирожденной силой [или орудием или возможностью] я понимаю то, что [не] определяется внешними причинами, и что мы выясним позже в моей Философии (in mea Philosophia).
** Здесь они названы творениями (opera), что они представляют собой (quid sint), будет разъяснено в моей Философии[116].
изысканиям, и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости. Что по отношению к интеллекту дело действительно обстоит именно так, нетрудно будет увидеть, как только будет понято, что представляет собой Метод исследования истинного, и каковы те врожденные орудия, в которых единственно нуждается интеллект для создания через них других орудий для перехода к дальнейшему. Чтобы выяснить это, я продолжаю следующим образом.
b) Истинная идея как орудие метода. Вопрос достоверности. Критерий истины — в самой истине.
Истинная идея* (а мы имеем истинные идеи) отлична от своего идеата [объекта][117]; так, круг
* Надо отметить, что здесь мы будем стараться выяснить не только то, что мною было только что высказано, но также и то, что до сих пор мы шли верным путем, и вместе с этим еще и другие вещи, знать которые весьма необходимо.
есть нечто одно, идея круга — нечто другое. На самом деле идея круга не есть нечто, имеющее периферию и центр, подобно кругу, и также идея тела не есть самое тело. А раз идея есть нечто отличное от своего идеата, то она будет чем-то, что доступно для понимания само по себе (per se); это значит, что идея в ее формальной сущности может быть [в свою очередь] объектом некоторой другой объективной сущности [идеи идеи]; и, опять-таки, эта другая объективная сущность, рассматриваемая сама в себе (in se), будет также представлять собой нечто реальное[118] и доступное пониманию, и так неопределенно долго далее (indefinite)[119]. Петр, например, есть нечто реальное; истинная же идея Петра есть его объективная сущность, притом сама в себе (in se) нечто реальное и вполне отличное от самого Петра. Раз, следовательно, идея Петра есть нечто реальное, имеющее свою особую сущность, она будет представлять собой также нечто доступное пониманию, т. е. она будет объектом некоторой другой идеи, каковая идея будет заключать в себе объективно (objective) все то, что идея Петра заключает в себе формально (forma-
liter) и опять-таки эта идея, которая есть идея идеи Петра, будет обладать также собственной сущностью, которая в свою очередь может быть объектом еще новой идеи, и так неопределенно долго далее (indefinite). Это каждый может испытать на опыте, поскольку он видит себя знающим, что есть Петр, и в то же время знает себя знающим это, и далее знает себя знающим, что он знает и т. д., откуда следует, что для того, чтобы понять сущность Петра, не необходимо понимать самую идею Петра и еще менее — идею идеи Петра, а это равносильно тому, как если бы я сказал, что для того, чтобы я знал, нет надобности в том, чтобы я знал себя знающим, и еще менее мне нужно знать, что я знаю себя знающим; это знать было бы не более необходимо, чем для понимания треугольника было бы необходимо понимать сущность круга*. Обратная зависимость, однако, имеет место по отношению к этим идеям. А именно, для того, чтобы я знал себя знающим, мне прежде всего необходимо знать. Отсюда следует с очевидностью, что достоверность (certitudo) есть не что иное, как сама объективная сущность (certitudo nihil sit praeter ipsam essentiam objectivam), t. e. что тот способ, каким мы чувствуем (sentimus) формальную
* Надо отметить, что здесь мы не расследуем, каким образом является нам врожденной первая объективная сущность [т. е. первая идея]. Действительно, это относится к исследованию [нашей] сущности, где и будет разъяснено более полно; там же будет показано, что помимо идеи нет ни утверждения, ни отрицания и никакой воли.
сущность, и есть сама достоверность[120]. Отсюда, в свою очередь, с очевидностью следует, что для уверенности в истине не надобно никакого другого признака (nullo alio signo) как только владеть истинной идеей (quam veram habere ideam)[121]. Действительно, как мы показали, не надобно, для того чтобы я знал, чтобы я знал себя знающим. Из этого, в свою очередь, явствует, что никто не может знать, в чем заключается высшая достоверность, кроме того, кто владеет адекватной идеей или объективной сущностью некоторой вещи, и именно потому, что достоверность и объективная сущность суть одно и то же. Итак, если
истина не нуждается ни в каком [внешнем] признаке, достаточно владеть объективными сущностями вещей, или, что то же, [истинными] идеями, чтобы было устранено всякое сомнение, то отсюда следует, что истинный метод не состоит в том, чтобы искать признака истины после того, что уже приобретены идеи, но истинный метод есть путь к тому, чтобы должным порядком отыскивать (quaerere)* самую истину, иначе объективные сущности вещей, иначе [истинные] идеи (что все означает то же самое)[122].
IV. Более точное установление сущности и задач метода. Наисовершеннейший метод.
Метод, чтобы снова обратиться к нему, необходимо должен говорить об умопостигании (ratiocinatio) или о понимании (intellectio); это означает, что метод не есть само умопостигание ради понимания причин вещей и еще менее есть само понимание (то intelligere) причин вещей, но состоит в том, чтобы понимать, что такое есть истинная идея, отличая ее от других перцепций [См. прим. 14], и исследуя
* Что значит quaerere in anima будет разъяснено в моей Философии.
ее природу [в этом состоит первая часть Метода][123], — чтобы отсюда мы знакомились с мощью нашего понимания и обуздывали дух (mens) так, чтобы все то, что должно быть понято, он понимал согласно указанной норме [истинной идеи], устанавливая в виде вспомогательных средств определенные правила и заботясь в то же время о том, чтобы не утомлять дух над вещами бесполезными [в этом состоят вторая и третья части Метода. Ср. с. 98]. Отсюда, в общем, будет следовать, что метод есть не что иное, как рефлексивное познание (cognitio reflexiva), иначе идея идеи[124], а так как идея идеи не может существовать, если сначала не будет дано идеи, то, следовательно, и метод не может быть дан, если сначала не дана идея. Отсюда, хорошим методом будет тот метод, который показывает, как должен быть направляем дух (mens) согласно норме данной истинной идеи (ad datae verae ideae normam)[125].
Затем, так как отношение между двумя [истинными] идеями таково же, как и отношение между
формальными сущностями этих идей[126], то отсюда следует, что рефлексивное познание, относящееся к идее наиболее совершенного Сущего (Entis perfectissimi), будет преимущественнее (praestantior) рефлексивного познания прочих идей, т. е. наиболее совершенным методом будет тот метод, который показывает, как должен быть направляем дух, согласно норме [не любой данной истинной идеи, но] данной идеи наиболее совершенного Сущего[127]. Отсюда
легко понять, каким образом дух (mens), чем более он понимает, тем более приобретает новых орудий, с помощью которых тем легче может продолжать идти вперед по пути понимания (intelligere). Действительно, как следует заключить из сказанного, в нас должна прежде всего иметься истинная идея как некоторое врожденное орудие: понять ее — значит в то же время понять и то различие, которое имеет место между подобной [истинной] перцепцией и всеми прочими; и в этом и заключается одна часть метода. А так как само собой ясно, что дух тем лучше будет понимать свою сущность, чем больше он будет понимать Природу [Сущность Субстанции], то отсюда следует, что указанная часть метода будет тем совершеннее, чем больше захватывает дух в своем понимании (intelliget), и наисовершенной будет в том случае, когда он достигнет наконец познания наисовершеннейшей Сущности, иначе, рефлектирует ее. Далее, чем больше усваивает дух, тем лучше понимает он как свои силы, так и порядок Природы[128]; чем лучше он понимает свои силы [ср. с. 48, прим. I] тем с большей легкостью он сможет управлять собой и ставить себе правила, а чем лучше он понимает порядок Природы, тем легче он сумеет
удерживать себя от вещей бесполезных [см. выше с. 89]. И в этом, как нами уже сказано, состоит весь метод в его целом. Добавим, что идея таким же образом дана объективно, как ее объект (идеат) дан формально. Если, следовательно, в Природе имелась бы некоторая вещь [т. е. некоторая формальная сущность), которая не стояла бы ни в какой связи с другими вещами (nihil commercit habens cum aliis rebus), и если бы была также дана ее объективная сущность т. е. ее идея], которая должна бы была вполне соответствовать формальной сущности, то и эта объективная сущность [т. е. идея] также не имела бы никакой связи с другими идеями*, т. е. мы не могли бы ничего вывести на ее основании. И обратно, по отношению к вещам, которые стоят в связи с другими вещами, а таковыми будут постигаемы все те, которые имеют свое существование в Природе[129], и объективные сущности будут стоять в соответствующей связи друг с другом, т. е. из них возможно будет вывести другие идеи, которые, в свою очередь, будут иметь связь со следующими идеями, и таким образом будут умножаться орудия для даль-
* Стоять в связи с другими вещами (commercium habere cum aliis rebus), значит быть произведенным из других (produci ab aliis) или производить другие (alia producere)[130].
нейшего движения. Что мы и пытались обнаружить (demonstrare) [см. Введение, с. 26, 27]. Далее, из последнего сказанного нами, а именно, из того, что идея [т. е. объективная сущность] должна вполне соответствовать своей формальной сущности, опять-таки с очевидностью следует, что для того, чтобы наш дух мог вполне воспроизвести данный оригинал Природы (ut mens nostra omnino referat Naturae exemplar), он должен вывести (producere) все свои идеи из той идеи, которая соответствует началу и источнику всей Природы, таким образом, в свою очередь являясь источником для всех прочих идей[131].
Здесь, может быть, кому-нибудь покажется странным, как это мы, сказав, что хорошим методом является тот, который показывает, как направлять дух согласно норме данной истинной идеи, проверяем это путем рассуждения (ratiocinando probemus); что, свидетельствует как будто о том, что сказанное не очевидно само по себе. При этом даже может быть поставлен вопрос, хорошо ли мы рассуждали? Если да, то мы должны были исходить из данной идеи, а так как необходимость исходить из данной идеи есть то, что требует доказательства, то мы должны бы были опять проверять наше рассуждение и затем опять проверять это сле-
дующее, и т. д. до бесконечности. Однако я отвечаю на это: если бы кто-нибудь, благодаря некоторому предопределению шел указанным путем в исследовании Природы, именно, получая новые идеи должным порядком (debito ordine), [т. е.] согласно норме данной истинной идеи [ср. прим. 39], то он никогда не сомневался бы в своей истине*, — поскольку истина, как мы показали, говорит сама за себя (eo quod veritas se ipsam patefacit) — и также все само собой давалось бы ему. Но так как этого никогда не случается или же случается редко, то я и был вынужден изложить сказанное здесь так, чтобы то, что мы не могли приобрести волею судьбы, мы, по крайней мере, приобрели бы с помощью заранее обдуманного предначертания (praemeditato consilio), и чтобы в то же время нам выяснилось, что для проверки истины и для хорошего рассуждения нам не надо никаких других орудий, кроме самой истины и хорошего рассуждения. Действительно, я подтверждал хорошее рассуждение, хорошо рассуждая, и до сих пор пытаюсь делать то же самое. Добавим, что этим же способом люди приучаются к углубленным в самих себя размышлениям.
Что же касается до основания к тому, почему при исследовании Природы редко случается, чтобы оно велось должным порядком (debito ordine), то оно лежит [во-первых] в предрассудках, причины которых мы разъясним позже в нашей Философии, затем [во-вторых] в том, что для этого, как мы покажем впоследствии,
* Так же, как мы здесь не сомневаемся в нашей [т. е. познаваемой нами] истине.
необходима большая и строгая отчетливость в распознавании различий (distinctio), достичь которой весьма затруднительно. И, наконец [в-третьих], в самом характере человеческих интересов (propter statum rerum humanarum), который, как уже было сказано, является совершенно непостоянным. Есть к этому еще и другие основания, которые мы не будем исследовать. Если, может быть, кто-нибудь спросит, почему же я сам тотчас же и раньше всего прочего не изложил истин Природы указанным порядком, раз истина говорит сама за себя, то я отвечаю ему и в то же время предостерегаю его, чтобы он не пожелал отбросить высказанное здесь как ложное, благодаря парадоксам[132], которые, может быть, повсюду встретятся ему, но сначала соблаговолил рассмотреть тот порядок, путем которого мы проверяем сказанное, и тогда он убедится, что мы постигаем истину; и вот почему, [чтобы вызвать это убеждение], я предпослал выше сказанное[133].
Если затем, может быть, у какого-нибудь скептика еще осталось бы сомнение относительно самой первой истины (de ipsa prima veritate) и относительно всего того, что мы будем выводить согласно норме первой истины, то, несомненно, что или он будет говорить против совести, или мы должны будем признать, что есть люди, действительно пораженные слепотою духа или от рождения, или же вследствие предрассудков, т. е. в результате той или иной внешней случайности. На самом деле, они не чувствуют даже самих себя (neque se ipsos sentiunt); если они нечто утверждают или сомневаются в чем-либо, они не знают, что они сомневаются или утверждают это;
они говорят, что они ничего не знают; и то самое, что они ничего не знают, им, как они говорят, не известно, но и это они не говорят с абсолютной уверенностью, так как они опасаются признать, что они существуют, поскольку они ничего не знают, так что в конце концов они должны замолкнуть, чтобы случайно не допустить чего-нибудь такого, что могло бы отозваться истиной (quod veritatem redoleat). С ними, наконец, не может быть речи о науках; действительно, поскольку дело касается до жизненного и общественного обихода, необходимость вынуждает их к тому, чтобы «они допустили себя существующими, искали своей выгоды и клятвенно утверждали и отрицали многое. В случае же разъяснения им чего-либо они не знают, убедительно ли рассуждение или является недостаточным. Если они отрицают, соглашаются или возражают, они не знают о том, что они отрицают, соглашаются или возражают, а потому на них приходится смотреть как на некоторые автоматы, вполне лишенные духовного содержания.
Резюмируем теперь предмет нашего исследования. До сих пор мы, во-первых [I], установили Конечную Цель, к которой мы стремимся направлять все содержания нашего сознания (cogitationes)[134]. Во-вторых, [II] мы познали, каков наилучший способ перцепции, с помощью которого мы можем достичь нашего совер-
шенства[135]. Мы познали в-третьих [III], первый Путь (т. е. Метод)[136], которого должен держаться дух (mens), чтобы исходить из хорошего начала, путь, заключающийся в том, чтобы вести исследование, согласно норме некоторой данной истинной идеи, по определенным законам. — Для правильного выполнения этого Метод обязан удовлетворять следующему: во-первых (7): отличать истинную идею от всех других перцепций и ограждать дух от этих последних; во-вторых (2): ставить правила для перцепирования не познанных вещей, согласно указанной норме; в-третьих (5): установить порядок, исключающий для нас утомление над вещами бесполезными[137]. — Ознакомившись с этим методом, мы выяснили себе, в-четвертых [IV], что наисовершеннейшим он будет в том случае, если мы овладели бы идеей наиболее совершенной Сущности (Entis perfectissimi)[138]. Исходя из
этого, нам надо будет прежде всего и более всего иметь ввиду то, чтобы насколько возможно быстрее прийти к познанию такой Сущности.
V. Специальные вопросы метода: первая часть метода
Начнем, следовательно, с Первой Частиметода, которая, как мы сказали, заключается в том, чтобы различать и отделять Истинную Идею от других перцепций и ограждать дух от смешения ложных, фиктивных и сомнительных перцепций с истинными[139]. Указанное желательно разъяснить здесь насколько возможно подробнее, для того чтобы я мог удержать читателя в размышлении над предметом столь необходимым, а также ввиду того, что есть много людей, которые сомневаются даже в истинном именно потому, что не приняли во внимание различия между
истинной перцепцией и всеми прочими. При этом они как бы уподобляются людям, которые, бодрствуя, не сомневались бы в том, что они бодрствуют, но, признав себя однажды в своих сновидениях, как это часто бывает, несомненно бодрствующими, а затем, убедившись в ложности этого, стали бы сомневаться также и в своих бодрствованиях; происходит это потому, что эти люди никогда не проводили различия между сном и бодрствованием.
Я предупреждаю, между прочим, что я не буду разъяснять здесь сущности каждой особой перцепции из ее ближайшей причины (per proximam suam causam) так как это относится к Философии, но мною будет затронуто только то, чего требует Метод, а именно вопрос о том, в какой области вращаются фиктивная, ложная и сомнительная перцепция и каким образом мы сможем освободиться от каждой из них. Пусть, следовательно, первым будет исследование о Фиктивной Идее[140].
Idea Ficta. а) Фикция, касающаяся существования.
Так как всякая перцепция является или перцепцией вещи [т. е. некоторой сущности], взятой с точки зрения существования (tanquam existentis) или же перцепцией вещи, рассматриваемой исключительно в ее сущности, фикции же чаще имеют место относительно вещей, взятых с точки зрения существования, то я прежде всего буду говорить именно о таких случаях перцепции, где фиктивно только существование вещи, самая же вещь [т. е. ее сущность], которой фиктивно приписывается подобная действительность, является или предполагается ясно постигаемой (intelligitur)[141]. Например,
я создаю фикцию (fingo), что известный мне Петр идет домой, или посещает меня и т. п.* Я спрашиваю при этом, в какой области вращается такая идея? Я вижу, что она вращается только в области возможного (possibilia), но не в области необходимого (necessaria) или невозможного (impossibilia). Я называю (voco) невозможной — вещь, сущность которой заключает в себе противоречие (contradictio) ее существованию, необходимой — вещь, сущность которой заключает в себе противоречие ее несуществованию [т. е. требует ее существования]; возможной — вещь, которая по отношению к своему существованию, в своей собственной сущности не заключает противоречия ни существованию, ни несуществованию, но для которой необходимость или же невозможность существования стоит в зависимости от причин, не известных
* См. ниже то, что мы отметим по поводу гипотез которые нами ясно понимаются [например, гипотез о движениях небесных тел. См. прим, на с. 108 сл.; сами гипотезы не суть фикции, см. с. 108 сл.], фикция же заключается в том, что мы утверждаем существование их [т. е. движений небесных тел], как таковых, в небесных телах.
нам, в то время, как мы создаем себе фикцию этого существования[142]; таким образом, если бы необходимость ее существования или его невозможность, зависящие от внешних причин, стали бы нам известны, то мы уже не могли бы создать по поводу [существования] подобной вещи никакой фикции. Отсюда следует, что если бы был некоторый Бог, т. е. нечто всезнающее, то такое всезнающее не могло бы иметь решительно никаких фикций[143]. На самом деле, по отношению к нам самим: раз я узнал себя существующим, я не могу создать фикции о себе как о существующем или же как существующем*, также я не могу создать фик-
* Так как нечто, раз оно ясно понято, говорит само за себя, то мы нуждаемся только в примере его содержания, без другой демонстрации (sine alia demonstratione) [чтобы видеть его истинность]. И таким же образом обстоит дело по отношению к прямо противоположному ему: достаточно только рассмотреть его (recenseri), чтобы оно показало себя ложным, как это выяснится тотчас же, как только мы будем говорить о фикциях по отношению к сущности.
ции слона, который прошел бы через игольное ушко, и не могу, узнав сущность Бога, фингировать себе его существующим или же не существующим*, и то же самое надо понимать по отношению к Химере, сущность которой [только в фикции] заключает в себе существование[144]. Из указанных примеров с очевидностью следует то, что я сказал, а именно, что создание фикций (fictio), о котором мы говорим здесь, не имеет места в области вечных истин**. Однако раньше, чем я пойду далее,
* Надо отметить, что хотя многие утверждают, что они сомневаются в существовании Бога, но у них [при этом] не имеется [в сознании] ничего, кроме только имени Бога, или же некоторой созданной ими себе фикции, которую они называют Богом, что не соответствует сущности Бога, как я покажу позже в своем месте.
** Я тотчас же покажу, что никакое создание фикций [ни по отношению к существованию, ни по отношению к сущности] не касается области вечных истин. Под вечной истиной я понимаю (intelligo) такую идею, которая, если она положительна, ни в каком случае не может быть отрицательной. Так, первая и вечная истина есть: Бог существует[145] — с другой стороны, не есть вечная истина: А дам мыслит. Химера не существует есть вечная истина; не есть вечная истина: Адам не мыслит[146].
следует отметить мимоходом, что то самое различие, которое имеет место между сущностью одной вещи и сущностью другой вещи, имеет место между действительностью (актуальностью) или существованием этой самой вещи и действительностью (актуальностью) или существованием другой вещи. Так, если бы мы, например, захотели конципировать существование Адама [т. е. создать идею этого существования] только на
основании существования вообще, то это соответствовало бы тому, как если бы мы для конципирования сущности Адама обратились бы к сущности сущего вообще, чтобы в конце концов дать определение: Адам есть сущее[147]. Итак, чем более обще (generalius) конципируется существование, тем в то же время оно конципируется более смутно (confusius) и тем легче оно может быть фиктивно отнесено к любой вещи, и обратно, чем оно конципируется более специально (particularius), тем яснее оно понимается, и тем труднее отнести его фиктивно к некоторой другой, а не к самой исследуемой вещи[148], как [это имеет место] если мы не принимаем во внимание по-
рядок сущности [т. е. ею определяемый порядок]. Это заслуживает того, чтобы быть отмеченным.
b) Фикция в обычном смысле слова, или вымысел не есть фикция в собственном смысле слова
Здесь подобает еще рассмотреть те случаи, которые обычно называются вымышленными (vulgo dicuntur fingi), хотя бы мы ясно понимали, что дело обстоит не так, как мы его выдумываем[149]. Например, хотя я знаю, что земля кругла, ничто не мешает мне сказать кому-нибудь, что земля есть полушар и подобна половине апельсина на блюде, или что солнце движется вокруг земли и т. п. Всматриваясь ближе в эти случаи, мы не увидим ничего такого, что не согласовалось бы с уже сказанным, если сначала мы обратим внимание на то, что однажды мы сами могли ошибаться, а затем сознать свои ошибки и, далее, что мы можем или фиктивно приписывать, или, по крайней мере, предполагать, что другие люди находятся в таком же заблуждении или могут, как раньше мы сами, впасть в него[150]. Подобные фикции — я говорю — мы можем создавать себе, пока мы не видим никакой невозможности и никакой необходимости по отношению к утверждаемому. Если, следовательно, я ска-
жу кому-нибудь, что земля не кругла и т. д., я не делаю ничего иного [в этом еще нет фикции], как только вызываю в памяти заблуждение, которое я, может быть, имел сам, или в которое я мог впасть, а затем создаю себе фикцию или предполагаю, что тот, кому я говорю это, до сих пор имеет или может впасть в это же самое заблуждение. Я создаю себе такую фикцию, как я сказал, только до тех пор, пока я не вижу никакой невозможности или необходимости [указанного]; если же я ясно понял бы (intellexissem) необходимость или невозможность, то я решительно не мог бы создать никакой фикции и можно бы было только сказать, что мною было произведено некоторое действие[151].
с) Проблемы и гипотезы не суть фикции.
Нам остается еще отметить также то, что касается допущений в проблемах (in quaestionibus), и что часто затрагивает область [не только возможного, но] и невозможного (impossibilia), например, когда мы говорим: допустим, что эта горящая свеча сейчас не горит, — или: допустим, что она горит в некотором воображаемом пространстве (in aliquo spatio imaginario), именно в таком, где нет никаких тел. Подобные допущения постоянно делаются, несмотря на то, что ясно понимаются как невозможные. Од-
нако при этом не создается решительно никаких фикций. Действительно, в первом случае я не сделал ничего иного, как только вызвал в памяти* некоторую другую свечу, не горящую (иначе, конципировал данную свечу без пламени), тогда то, что я сознаю относительно другой свечи, есть то самое, что я ясно понимаю относительно данной, поскольку я не обращаю внимания на пламя. Во втором случае имело место не что другое, как только абстрагирование[152] содержаний сознания от окружающих тел так, чтобы дух был обращен к созерцанию (ad contemplationem) исключительно данной свечи, рассматриваемой самой по себе, чтобы затем вывести заключение, что свеча сама в себе не содержит ни-
* Позже, когда мы будем говорить об образовании фикций по отношению к сущностям, станет ясно, что фикция не создает или не предлагает духу ничего нового; только те вещи, которые уже имеются в мозгу или в представлении (in imaginatione), снова вызываются в памяти, и дух направляет свое внимание смутным образом (confuse) на все разом. Пусть, например, в памяти вызваны: речь и дерево; если дух направляет на них свое внимание смутно и без отчетливого различения (sine distinctione), то он предполагает дерево говорящим. Так же надо понимать дело и по отношению к фикциям о существовании, в особенности для тех случаев, когда, как мы говорили, оно конципируется так обще, как [например] сущее вообще [ср. с. 106], так как тогда оно легко прилагается ко всем тем вещам, которые одновременно с ним возникают в памяти. Что очень заслуживает того, чтобы быть отмеченным.
какой причины к саморазрушению; и если бы не было никаких окружающих тел, то эта свеча, а также пламя остались бы неизменными и т. п. Следовательно, здесь не имеют места никакие фикции, но истинные и чистые утверждения*.
d) Фикции относительно сущности и относительно сущности и существования.
Перейдем теперь к фикциям, которые вращаются в области только сущностей или же сущностей в связи с некоторой актуальностью, иначе существованием.
По их поводу надо в особенности отметить следующее, а именно: чем менее дух ясно понимает (intelligit) и чем в то же время больше перципирует, тем больше для него возможность создавать фикции; наоборот, чем более он ясно понимает, тем более эта возможность для него уменьшается. Например, таким же образом как мы не в со-
* Так же надо понимать дело и относительно гипотез, которые создаются для объяснения некоторых определенных движений, соответствующих явлениям небесных тел, если только, применяя их к движениям небесных тел, из них не делают выводов о природе этих последних, которая независимо от этого может быть иной, тем более, что и для объяснения таких движений могут быть конципированы многие другие причины[153].
стоянии, как мы видели выше, в то самое время, как мы сознаем (cogitamus), воображать себя в фикции сознающими или же не сознающими, точно так же, познав сущность тела, мы не можем воображать [тело] мухи бесконечным, или, усвоив себе сущность души, * — иметь фикцию, что душа обладает квадратной формой; хотя словами мы можем изрекать все, что угодно[154]. Но, как мы сказали, чем меньше люди знают Природу [т. е. Сущность всех сущностей, Субстанцию], тем легче они могут создавать себе многие фикции, как-то: фикции говорящих деревьев; людей, мгновенно превращающихся в камни или в источники; появление призраков в зеркалах; создание чего-то из ничего; превращение богов в животных и людей, и бесконечно многое другое того же рода.
е) Ограничение фикции есть результат истинного познания, а не фикции же.
Возможно, что кто-нибудь предположит, что создание фикций ограничивается фикциями же, а не ясным
* Часто случается, что человек воспроизводит в своей памяти это слово — душа, и вместе с тем представляет себе некоторый телесный образ. Между тем, как только и то и другое предстанет перед ним одновременно, он легко допускает, что он имеет представление телесной души и создает себе фикцию телесной души, так как он не отличает названия вещи от самой вещи. Я требую здесь, чтобы читатели не торопились опровергать сказанное — чего, как я надеюсь, они не сделают, если насколько возможно внимательнее вникнут в примеры и в то, что будет следовать.
пониманием (интеллектом), т. е. что если я создал себе фикцию чего-нибудь и как бы добровольно пожелал признать ее данной в сущности вещей, то это поведет к тому, что после мы уже не в состоянии будем то же самое сознавать иным способом[155]. Например, раз я создал фикцию (чтобы говорить языком этих людей)[156] [мы сказали бы — истинную идею] такой-то, а не другой сущности (природы) тела, и пожелал добровольно убедить себя в том, что она в этом виде реально существует)[157], то для меня больше уже недопустимо иметь, например, фикцию тела мухи, как чего-то бесконечного; или, раз я создал себе фикцию [мы сказали бы— понял (intellexi)] сущности души, то я не смогу приписать ей квадратную форму и т. д. Однако, подвер-
гнем это исследованию. [1] Прежде всего, или эти люди отрицают или допускают, что мы вообще можем ясно понимать (intelligere) что бы то ни было. Если они допускают это, то то самое, что они говорят по поводу создания фикций, может быть сказано и по поводу понимания (intellectio). Если же они отрицают это, то посмотрим мы, которые знаем, что мы нечто знаем[158], что же они собственно высказывают. Они говорят следующее, — что душа может чувствовать и многими способами перципировать, но не самое себя и не вещи, которые существуют, но только то, чего не существует ни в себе и ни где бы то ни было[159]. То есть, что душа может одна, сама из себя (sua vi) творить ощущения (sensationes) или идеи, которые не суть ощущения или идеи вещей; таким образом, они будут душу рассматривать отчасти как Бога[160]. [2] Далее они говорят, что мы сами или наша душа обладает такой свободой, что будет в состоянии ограничивать нас самих или себя и даже свою собственную
свободу[161]; действительно, раз душа создала себе фикцию чего-нибудь и дала на это свое утверждение, она не может [по мнению этих людей] сознавать это что-нибудь (cogitare) или фиктивно воображать его себе (fingere) другим способом, и даже вынуждается этой [своей собственной] фикцией к тому, чтобы и все другое сознавалось так, чтобы не приходить в противоречие с первой фикцией; так эти люди вынуждены будут принять и здесь, во имя своей фикции, те абсурды, которые я сейчас перечисляю, и для опровержения которых мы не станем утомлять себя какими-либо демонстрациями *.
f) Пути к освобождению познания.
Предоставляя, однако, указанных лиц их фантазированиям, попытаемся из тех речей, которые мы
* Однако может показаться, что я делаю свое заключение на основании [случайного] опыта (experientia), и кто-нибудь скажет, что это ничто, так как не хватает доказательства; в таком случае, если кто желает иметь его, вот оно: так как в природе [вещей] не может быть дано ничего, что противоречило бы ее законам, но все происходит путем ее определенных законов так, что по определенным же законам дает в ненарушимом сцеплении свои определенные следствия, то отсюда вытекает, что душа в тех случаях, когда она истинно конципирует нечто [данное formaliter], перейдет объективно (objective) к образованию соответствующих же [т. е. истинных] следствий. См. ниже, где я говорю о ложной идее. [См. в моей статье разъяснения по поводу Prop. 7, II части «Этики», с. 383 (69) сл.].
вели с ними, почерпнуть нечто истинное для нашей задачи, а именно: дух, когда он направляет свое внимание на фиктивную [в смысле существования] вещь и притом ложную в ее сущности, для того, чтобы взвесить и понять ее, а также должным порядком вывести из нее те выводы, которые должны быть выведены, легко раскроет в ней ложность; если же фиктивная [по отношению к ее существованию] вещь в своей сущности (sua natura) истинна, то, вникая в нее, чтобы понять ее, и начиная должным порядком делать из нее те выводы, которые из нее следуют, дух пойдет благополучно далее, без всякого перерыва (sine ulla interruptione); так, мы видели, только что проявил себя интеллект, от ложной фикции немедленно перейдя к обнаружению ее абсурдности и других абсурдностей, из нее вытекающих. Следовательно, никоим образом не следует опасаться, что мы будем иметь дело с фикциями, если только [и] мы перципируем вещь ясно и отчетливо (si clare et distincte percipiamus)[162]. Таким образом, если мы, может быть, скажем, что люди превращаются мгновенно в животных, то это будет сказано весьма обще (valde generaliter), так что в сознании не будет дано никакого концепта, т. е. идеи или связи субъекта и предиката друг с другом; на самом деле, если бы таковая имела место, то дух
в то же время видел бы условия и причины, через которые и благодаря которым эта связь могла бы быть данной. Кроме того, здесь [в подобной фикции] не принимается во внимание сущность субъекта и предиката[163]. Далее, если только первая идея не будет фиктивной и из нее будут выведены все прочие идеи, то постепенно опрометчивость, ведущая к фикциям, исчезнет[164]. Затем [II] раз Фиктивная идея не может быть ясной и отчетливой идеей, но всегда есть смутная идея (confusa) причем смутность (confusio) является результатом того, что дух усваивает себе сложную, т. е. состоящую из многих вещей, вещь, только отчасти (ex parte), не отличая известное от неизвестного, и, кроме того, направляя свое внимание на все то многое, что заключается в этой одной вещи, разом, без всякого различения[165], то отсюда
следует: во-первых, что идея некоторой вполне простой вещи (rei simplicissimae) не может быть иной, как только ясной и отчетливой. На самом деле, такая вещь не может быть усвоена частично, но по отношению к ней должно быть усвоено или все, или ничего[166]. Следует, во-вторых, что если вещь, состоящая из многих вещей, будет разложена в сознании на простейшие части, и каждая будет принята во внимание в отдельности, то вся смутность исчезнет[167]. Следует, в-третьих, что фикция не может быть простой, но образуется из сочетания различных смутных идей, относящихся к различным вещам и деятельностям, данным в Природе, или, лучше сказать, возникает из того,
что внимание обращается на такие различные идеи одновременно и без утверждения*[168]; на самом деле, если бы фиктивная идея была простой, то она была бы ясной и отчетливой и, следовательно, не фиктивной, но истинной идеей; если бы идея являлась результатом сочетания [ясных] и отчетливых идей, то и это сочетание также было бы ясным и отчетливым и, следовательно, истинным. Например, раз я усвоил себе сущность круга и также сущность квадрата, я уже не могу сочетать их друг с другом и круг превращать в квадрат, или [раз я усвоил себе сущность души] предполагать душу квадратной и т. п. Дадим еще раз вкратце наше заключение и посмотрим, каким образом фикция ни в каком случае не должна вызывать опасения относительно смешения ее с истинными идеями. На самом деле, что касается до первого случая, о котором мы говорили [см. с. 115, 1], именно того, когда вещь будет ясно конципирована, то мы видели, что, поскольку эта вещь,
* Отметим, что фикция, рассматриваемая сама по себе, немногим будет отлична от сна, кроме только того, что в снах не дано причин, которые даются бодрствующим через посредство их чувств (оре sensuum), и на основании которых люди устанавливают, что образы, представлявшиеся им в то время [сна], не представляли собой отображения внешних вещей.
Заблуждение же (error), как тотчас выяснится, это — сон во время бодрствования, и если оно проявляется в резкой форме, оно называется безумием.
которая ясно конципирована, [как по отношению к ее сущности, так] и по отношению к ее существованию, является сама по себе вечной истиной, постольку по поводу такой вещи мы не будем в состоянии создавать никаких фикций; если же существование [в ее сущности истинно] конципированной вещи не будет вечной истиной, то [для предотвращения фикций] необходимо только дать себе труд сопоставить существование вещи с ее сущностью, имея в то же время в виду порядок Природы. Что касается до второго случая [см. с. 116, II], где фикция, как мы сказали, является результатом одновременного направления внимания, без утверждения, на различные смутные идеи, относящиеся к различным вещам и деятельностям, данным в Природе, то мы опять-таки видели, что относительно вполне простой вещи вовсе нельзя иметь фикций, но можно только или понимать (intelligere) [или не понимать ее], и точно так же сложную вещь, если только мы примем во внимание те простейшие части, из которых она составлена; при этом из этих простейших частей мы не можем вывести никаких фиктивных следствий, т. е. таких, которые бы не были истинны, так как одновременно с этим мы должны будем дать себе отчет, каким путем и почему это так совершается.
Idea Falsа. Отношение между ложной идеей; ложность по отношению к сущности и ее устранение на основании понимания того, что есть ложность.
Раз это таким образом уяснено, перейдем теперь к исследованию Ложной Идеи (Ideae Falsae) и посмотрим, в каких она вращается областях и каким путем мы будем в состоянии предохранять себя от того, чтобы не впадать в ложные перцепции. Как то, так и другое не представит нам теперь затруднений, после того, как мы исследовали фиктив-
ную идею. На самом деле между ними [т. е. между ложной идеей и фиктивной идеей] нет никакого другого различия, кроме того, что ложная идея предполагает наличность утверждения (assensus); т. е. (как мы уже отметили)[169] в случае ложной идеи не дано никаких причин, из которых, в то время как даны представляемые образы вещей (repraesentamina), и как это бывает по отношению к фикциям, можно бы было вывести, что указанные образы не обязаны своим происхождением вещам вне их, так что наличность ложной идеи представляет собой почти не что иное, как видение снов с открытыми глазами, т. е. во время бодрствования[170].
Итак, [171] ложная идея, так же как и фиктивная идея, вращается в области или (лучше говоря) отно-
сится или к существованию вещей, сущность которых (истинно) познана, или [к существованию] и к сущности вещей. Ложная идея, относящаяся к существованию, исправляется тем же путем, как и фиктивная идея; действительно, если сущность отмечаемой вещи предполагает необходимое существование, то невозможно, чтобы мы ошибались по отношению к существованию подобной вещи[172]. Если же существование вещи не является вечной истиной, каковой [по предположению] является ее сущность, но необходимость или невозможность существования будет зависеть для нее от внешних причин, то и этим всем надо будет овладевать тем же способом, о котором мы говорили, когда речь шла о фикции; т. е. и в этом случае исправление будет достигнуто тем же вышеуказанным путем.
Что касается до ложной идеи, поскольку она относится к сущностям или к активностям [вещей], то подобные перцепции по необходимости всегда смутны и слагаются из различных смутных перцепций относительно вещей, данных в Природе; например, когда люди бывают убеждены [assensus] в том, что в лесах, в изображениях, в зверях и т. д. присутствуют боги[173], что имеются тела, из одного сочетания которых может возникнуть интеллект, что могут быть трупы, которые рассуждают, блужда-
ют и разговаривают, что Бог может быть обманут и т. п.[174] Между тем ясные и отчетливые идеи никогда не могут быть ложными: на самом деле, идеи вещей, которые конципируются ясно и отчетливо, являются или простейшими идеями, или слагаются на основе простейших идей, т. е. дедуцируются из них[175]. А то, что по отношению к простейшей идее не может быть вопроса о ложности, сможет увидеть всякий, как только он уяснит себе, что есть истинное, т. е. что есть интеллект (quid sit verum sive intellectus), и что есть ложное[176].
Действительно, что касается до того, в чем состоит форма истинного, то несомненно, что истинное содержание сознания отличается от ложного не столько внешним образом, сколько, главное, вну-
тренним[177]. На самом деле, если некоторый мастер [должным] порядком конципирует [т. е. создает идею] некоторого произведения, то, хотя бы это произведение никогда не получило осуществления или же было бы однажды осуществлено, во всяком случае содержание сознания мастера остается истинным, и оно истинно, независимо от того, существует ли его произведение или не существует. Обратно, если кто-нибудь утверждает, что Петр, например, существует, не зная, однако, существует ли Петр, то это содержание сознания по отношению к говорящему есть ложная идея, или, если угодно, не есть истинная идея, хотя бы Петр и существовал на самом деле. Такое заявление — Петр существует — истинно только по отношению к тому, кто наверное знает, что Петр существует[178]. Отсюда следует, что в идеях имеется нечто реальное, с помощью чего истинные идеи отличаются от ложных идей[179]. И это
именно должно быть теперь исследовано, для того чтобы нам овладеть наилучшей нормой истины (так как нами было сказано, что мы должны определять содержания нашего сознания согласно данной норме истинной идеи, и что метод есть рефлексивное познание) и чтобы усвоить себе особенности ясного и отчетливого понимания (proprietates intellectus). Нельзя сказать, что различие между истинной и ложной идеей является результатом того, что истинное сознание (cogitatio vera) равносильно познанию вещей из их первых причин — хотя этим несомненно оно весьма отличается от ложного, как я разъяснил это выше; действительно, истинным называется также и такое сознание, которое заключает в себе объективно сущность некоторого принципа, который не имеет причины, и познается через себя и в себе[180]. Поэтому форма истинного содержания сознания должна заключаться в этом же самом содержании сознания, без отношения его к чему-либо другому; она
не признает объекта своею причиной, но должна стоять в зависимости [исключительно] от собственной мощи (potentia) и сущности интеллекта[181]. Действительно, если мы допустим, что интеллект перципировал бы нечто новое, никогда не существовавшее, подобно тому, как по концепции некоторых, перципировал вещи Божественный Интеллект до сотворения вещей[182] (каковая перцепция могла иметь место
без перцепции какого-либо объекта), и затем выводил из такой перцепции законным порядком другие перцепции, то все эти содержания мышления были бы истинны и не были бы определены никаким внешним объектом, но зависели бы исключительно от мощи и сущности интеллекта. Поэтому то, что составляет форму истинного содержания сознания, надо искать в самом этом сознании и выводить из сущности понимания (ab intellectus natura). Итак, чтобы исследовать это, обратим наш взор на некоторую истинную идею, относительно объекта, которой мы в высшей степени достоверно знаем, что он зависит от мощи нашего сознания, т. е. что эта идея не имеет никакого объекта в Природе[183]; само собой понятно из только что сказан-
ного, что именно на такой идее мы действительно с большей легкостью будем в состоянии исследовать то, что нам желательно. Например, для создания идеи шара (ad formandum conceptum globi)[184] я создаю фикцию любой причины, а именно полуокружности, вращающейся вокруг центра, причем шар как бы возникает из вращения. Последняя идея несомненно
истинна[185], и, хотя мы знаем, что никакой шар в Природе нигде не возникал таким образом, она остается истинной перцепцией и наилегчайшим способом для образования концепта шара. Здесь надо отметить, что указанная перцепция утверждает вращение полуокружности, каковое утверждение было бы ложным, если бы оно не связывалось с концептом шара, иначе с причиной, определяющей подобное движение[186], или, говоря безусловно, если бы указанное утверждение утверждалось само по себе. Действительно, в таком случае сознание направля-
лось бы к утверждению только самого движения полукруга, которое не заключается в идее полукруга и не вытекает из идеи причины, определяющей движение.
Таким образом, ложность (falsitas) состоит единственно в следующем, а именно в том, что относительно некоторой вещи будет утверждаемо нечто, что не заключается в ее концепте, который мы создаем себе, подобно тому, как движение или покой не заключаются в идее полукруга. Отсюда следует, что простые содержания сознания не могут не быть истинными, как-то: простая идея о полукруге, о движении, о количестве и т. д. То, что эти идеи заключают в себе утверждаемого, отвечает их концепту и не выходит за его пределы[187], поэтому нам позволительно по желанию, без всякой боязни заблуждения создавать простые идеи[188]. Остается,
следовательно, произвести еще только изыскание, путем какой способности (qua potentia) наш дух может создавать их и до каких пределов распространяется эта его способность[189] на самом деле; раз это будет найдено, мы легко откроем наивысшее доступное для нас познание (summa cognitio). Во всяком случае достоверно, что эта его способность не распространяется до бесконечности: действительно, раз мы утверждаем нечто о некоторой вещи, что не заключается в том концепте, который мы создаем о ней, то это уже указывает на недостаточность (defectus) нашего перципирования, иначе на то, что мы имеем как бы искаженные и отрывочные (mutilatas quasi et truncatas) содержания сознания или идеи. Действительно, мы видели, что утверждение движения полукруга являлось ложным, если оно стояло в сознании само по себе, но эта же идея являлась истинной, если связывалась с концептом шара или с концептом некоторой причины, определяющей подоб-
ное движение. Поэтому если к природе сознающего существа относится, как это с первого взгляда ясно, создавать истинные или адекватные содержания сознания, то несомненно, что неадекватные идеи возникают в нас только потому, что мы являемся [не мыслящим существом в его целом, но] частью некоторого мыслящего сущего, содержания сознания которого одни целиком, другие же только частично составляют наше сознание[190].
Соприкосновение истинных и ложных идей как источник заблуждений.
Однако что еще следует рассмотреть — чего не стоило отмечать по поводу фикций, но в чем лежит весьма большой источник заблуждения — это случаи, в которых некоторые вещи, данные в воображении (in imaginatione) [т. е. в неистинном познании], в то же самое время имеются и в интеллекте (in intellectu), т. е. являются ясно и отчетливо конципированными; в этих случаях[191], пока не будет проведено различия между
тем что есть отчетливое и что есть смутное, достоверность, т. е. истинная идея, будет смешиваться с неотчетливой идеей[192]. Например, некоторые из стоиков случайно слышали (audiverunt) название «душа», и также, что душа бессмертна, что и представляли себе только смутным образом (confuse imaginabantur); так же смутно[193] они представляли себе, но в то же время и ясно понимали (intelligebant), что тончайшие тела (corpora subtilissima) проникают все остальные тела, сами не будучи проницаемы ни для каких других
тел[194]. Представляя себе все упомянутые вещи одновременно в смешении с достоверностью указанной аксиомы, они тотчас же приходили к убеждению, что дух (mens)[195] — это и есть упомянутые тончайшие тела, причем эти тончайшие тела неделимы и т. д.[196] Однако, мы освобождаемся и от такого рода заблуждений, если мы даем себе труд исследовать все наши перцепции согласно норме данной истинной идеи, остерегаясь, как мы говорили в начале, тех перцепций, которые мы получаем с чужих слов (ex auditu) или из случайного опыта (ab experientia vaga).
Неосторожное отношение к абстракции как источник заблуждения.
Добавим, что подобного рода заблуждения возникают тогда, когда вещи конципируются слишком абстрактно[197]; на самом деле, само собой достаточно ясно, что то, что я конципирую относительно истинного объекта этой данной концепции, я не могу приписывать объекту никакой другой концепции. Наконец, такие заблуждения являются также следствием непонимания людьми первых элементов Природы в ее целом; отсюда, ведя исследование без порядка (sine ordine) и путая Природу с абстрактными вещами, хотя бы эти последние и были истинными аксиомами[198], они путают самих себя и извращают порядок Природы. Для нас же, если мы будем идти вперед наивозможно менее абстрактно и будем, как только окажется возможным, исходить из первых элементов, т. е. из источника и начала Природы (a fonte et origine Naturae)[199], заблуждения этого рода ни в каком случае не будут являться угрожающими. Что же касается до начала Природы, то по поводу этого последнего мы наименее должны будем опасаться смешения его
с абстракциями[200]; на самом деле, если нечто конципируется абстрактно, как это имеет место по отношению ко всем универсалиям (universalia), то такие абстрактные вещи интеллектом всегда постигаются как захватывающие более широкие пределы, чем те, в которых могут на самом деле существовать в Природе соответствующие им частные вещи (particularia). Кроме того, так как в Природе много вещей, различие между которыми настолько ничтожно, что почти ускользает от ясного понимания, то легко может случиться, что (если такие вещи будут конципироваться абстрактно) они окажутся спутанными. Между тем, так как, как мы позже увидим, начало Природы не может быть ни конципировано абстрактно или универсально (abstracte sive universaliter), ни быть более широко взято в интеллекте, чем оно есть на самом деле, ни иметь какого-либо сходства с изменяющимися вещами[201], то по отношению к его идее, если только (как мы уже указали) мы будем владеть нормой истины, нам нечего будет опасаться никакого смешения: вне сомнения, оно есть единое и бесконечное*
* Единое и бесконечное (unicum et infinitum) не суть атрибуты Бога, выражающие его сущность, как я это покажу в философии. (См. в моей статье с. 339 (25) сл. и 366 (52) сл.).
сущее[202], т. е. оно есть все целиком бытие* и помимо него нет никакого бытия[203].
Idea Dubia. Источники сомнения и устранение сомнения.
До сих пор — относительно ложной идеи. Нам остается еще исследовать Сомнительную Идею (Idea Dubia), т. е. исследовать, каковы именно те вещи, которые могут вводить нас в сомнение, и в то же время каким путем сомнение может быть устраняемо. Я говорю о настоящем сомнении духа (de vera dubitatione in mente), а не о том сомнении, которое мы постоянно встречаем в тех случаях, когда некто утверждает на словах, что он сомневается, хотя в душе и не сомневается. Действительно, исправлять подобное сомнение не есть дело Метода, но скорее относится к области исследования упорства и к его исправлению.
* Это уже было показано выше; на самом деле, если бы такое сущее не существовало, оно никак не могло бы быть произведено (nunquam posset produci), и следовательно, дух [имея его идею] оказался бы в состоянии ясно понимать большее, чем Природа — предлагать ему, что было установлено выше как ложное. [Ср. Декарт, Meditationes].
Итак, настоящего сомнения в душе не может быть никакого через ту самую вещь, относительно которой сомневаются; т. е. если в сознании имеется только одна единственная идея, то все равно, будет ли она истинная или ложная, никакое сомнение не будет иметь места, так же как и уверенность, но только соответственное чувствование (talis sensatio). Действительно, само в себе сомнение есть не что иное, как такое некоторое чувствование: проявляется же сомнение через некоторую другую идею, которая не настолько ясна и отчетлива, чтобы мы могли вывести из нее нечто достоверное по поводу той вещи, относительно которой мы сомневаемся[204]; следовательно, идея, которая повергает нас в сомнение не есть ясная и отчетливая идея. Например, если некто никогда не направлял сознания на ошибочность чувств (sensuum fallacia) в опыте ли или как бы то ни было иначе, то у него никогда не возникнет сомнения по поводу того, не есть ли солнце больше или меньше, чем оно кажется[205]. Отсюда простые люди постоянно приходят в изумление, если слышат, что солнце много больше земного шара[206]. Сомнение между тем возникает при условии направления сознания на
ошибочность чувствований*. Если, однако, после того, что возникло сомнение, некто приобретает истинное познание относительно чувств и относительно того, каким образом, через посредство их органов, вещи представляются на расстоянии, то сомнение опять устраняется[207]. Отсюда следует, что подвергать сомнению истинные идеи на том основании, что, может быть, существует некоторый Бог-обманщик (aliquis Deus deceptor), вводящий нас даже в самых достоверных вещах, в заблуждение, мы можем только в том случае, если мы не имеем никакой ясной и отчетливой идеи[208], т. е. в том случае, если направляя внимание на имеющееся у нас познание относительно начала всех вещей, мы не находили бы в нем ничего, что убеждало бы нас в том, что Бог не есть обманщик, притом тем же самым спо-
* То есть человек знает, что чувства иногда обманывают, но знает это только смутным образом, и именно он не знает, как собственно чувства обманывают его.
собом познания, путем которого, направляя наше внимание на сущность треугольника, мы находим, что его три угла равны двум прямым[209]. Если же мы имеем о Боге познание, подобное тому, какое мы имеем о треугольнике [т. е. познанное путем интеллекта], то всякое сомнение уничтожается[210]. И так же, как мы в состоянии прийти к указанному [ясному и отчетливому, но не образному] познанию треугольника, хотя бы не знали с достоверностью, не
обманывает ли нас некоторый величайший Обманщик, таким же самым образом мы можем прийти к такому же познанию Бога, хотя бы мы и не знали с достоверностью, не существует ли некоторый Величайший Обманщик[211]. А раз только мы овладеем таким познанием, этого достаточно для устранения, как я сказал, всякого сомнения, какое только мы можем иметь относительно ясных и отчетливых идей.[212]
Далее, если кто пойдет правильным путем, исследуя сначала то, что прежде всего другого должно быть исследовано, без нарушения связи вещей, и будет знать, каким образом должны ставиться вопросы, раньше чем приступать к познанию, то
он никогда не будет иметь никаких других идей, кроме как самых достоверных, т. е. он будет иметь исключительно ясные и отчетливые идеи. Действительно, сомнение есть не что иное, как нерешительность духа (suspensio animi) по поводу некоторого утверждения или отрицания, которое было бы им утверждено или отринуто, если не помешало бы нечто, при условии незнания чего, познание данной вещи должно оставаться несовершенным. Отсюда следует, что сомнение возникает всегда на том основании, что вещи исследуются без [должного] порядка.
Добавление к первой части метода: Память и Забвение.
Вот то, что я обещал сообщить в этой первой части метода. Чтобы не пропустить, однако, ничего из тех вещей, которые могут вести к познанию интеллекта и его сил [т. е. его сущности, см. прим. 16], я сообщу также кое-что по поводу Памятки Забывчивости (de Memoria et Oblivione)[213].
Здесь в особенности следует заметить, что память укрепляется как с помощью ясного понимания (ope intellectus), так и без его помощи. На самом деле, что касается до первого случая, то, чем вещь более доступна пониманию (quo magis est intеlligibilis), тем легче она будет удержана в памяти, и обратно, чем она менее понятна, тем легче она забывается. Например, если я сообщу кому-нибудь большое количество бессвязных слов, он запомнит их с го-
раздо большим трудом, чем если те же слова я сообщу ему в форме рассказа. Память укрепляется также [как сказано во-вторых] и помимо интеллекта, и именно в зависимости от интенсивности, с которой имагинативное познание (imaginatio) или чувство (sensus), называемое общим чувством (sensus communis[214]) возбуждается некоторой единичной телесной вещью. Я говорю единичной вещью (singularem), потому что воображение возбуждается исключительно единичными вещами. Действительно, если кто-нибудь прочел, например, только одну романическую историю, то он очень хорошо запомнит ее, пока не прочтет многих других того же рода, потому что до тех пор она будет одна сильна в его воображении[215]; если же в воображении (in imaginatione) имеется много вещей одного и того же рода, то они представляются нами все одновременно и легко смешиваются. Я говорю, кроме того, телесной вещью (corpoream), так как воображение возбуждается только телами[216]. Таким образом,
если память укрепляется как с помощью интеллекта, так и без его помощи, то отсюда следует, что память есть нечто отличное от интеллекта и что в области последнего, рассматриваемого в самом себе не имеется ни памяти, ни забывчивости. Что же такое, следовательно, будет память? Не что иное, как чувствование (sensatio) мозговых впечатлений в связи с сознанием определенной длительности (duratio) чувствования*; на это же указывает и воспоминание (reminiscentia). Действительно, вспоминая, дух сознает упомянутое чувствование [т. е. имеет его идею], но без отношения к непрерывной длительности, и таким образом идея указанного чувствования не есть самая длительность чувствования, т. е. не есть сама память. Могут ли идеи сами в себе быть подвержены некоторому снашиванию (corruptio) [т. е. забве-
* Действительно, если длительность является неопределенной, то и память о данной вещи несовершенна, чему, по-видимому, каждый научается естественным путем[217]. На самом деле, нередко чтобы лучше поверить кому-нибудь в то, что он говорит, мы спрашиваем, когда и где это имело место. Хотя и самые идеи [как бы] имеют свою длительность в духе, однако так как мы привыкли определять длительность с помощью меры некоторого движения, что в свою очередь достигается путем имагинативного представления (ope imaginationis), то отсюда следует, что до сих пор мы не усматриваем никакой памяти, которая относилась бы к области чистого духа.
нию], это мы увидим в Философии[218]. И если эта мысль кому-нибудь покажется слишком абсурдной, то для нашей цели достаточно, чтобы он обратил внимание на то, что чем вещь более единична (singularior), тем легче будет удержать ее в памяти, как это ясно из только что приведенного примера комедии. И далее, чем вещь более доступна для понимания (intelligibilior), тем опять-таки она легче удерживается. Отсюда, в высшей степени единичное, поскольку оно доступно пониманию, не сможет не быть удержано нами[219].
Выводы на основании сказанного: отношение между истинным познанием и неистинным, имагинативным познанием; заблуждения в результате неразличения специфичности их содержаний.
Таким образом, мы установили различие между Истинной Идеей и прочими перцепциями и показали, что фиктивные, ложные и тому подобные идеи берут свое начало из воображения (ab imaginatione), т. е. из некоторых случайных (так сказать) и разрозненных ощущений (a quibusdam sensationibus fortuitis (ut sic loquar) atque solutis), которые не возникают из самой потенции духа, но из внешних причин, соответственно тому, поскольку тело в сонном или бодрствующем состоянии испытывает на себе разнообразные движения[220]. Впрочем, если угодно, вкладывайте здесь в имагинативное познание [или представление] любое содержание, под условием, чтобы оно было отлично от интеллекта и чтобы в нем душа находила основание для своей пассивности. Действительно, безразлично, какое вложить содержание, раз мы уже знаем, что это содержание есть нечто неопределенное (vagum), и такое, через которое душа является пассивной, и если в то же время мы также уже усвоили себе, каким способом мы с помощью интеллекта (ope intellectus) можем освободиться от него[221]. На этом же основании пусть ни-
кто не удивляется, что я здесь, еще не проверяя данность тела и другое [казалось бы] необходимое, тем не менее, говорил об има-гинативном познании, о теле и о его сложении [например, о мозге, с. 143, и т. п.]. Но на самом деле, как я сказал, безразлично, какое содержание я буду вкладывать во все это после того, как я выяснил себе, что это содержание есть нечто неопределенное etc.
С другой стороны, мы показали, что истинная идея является простой или сложной на основе простых идей[222], и что она указывает, каким образом и через посредство чего нечто дано в сущности или и в существовании; мы показали также, что следствия ее объективной сущности в духе следуют соответственно (следствиям) формальной сущности ее объекта[223];
и это есть то самое, что говорили старые писатели, а именно, что истинная наука движется от причины к следствию[224]; за исключением только того, что они, насколько я знаю, никогда не конципировали душу, как мы это здесь делаем, действующей согласно определенным законам, как бы (quasi) подобно некоторому духовному автомату[225]. Отсюда мы, поскольку это было
возможно в начале, ознакомились с нашим интеллектом [т. е. ясным и отчетливым пониманием], и с такой нормой истинной идеи, что нам теперь можно не опасаться смешать истинную идею с ложной или фиктивной идеями; и притом можно не удивляться тому, каким это образом мы понимаем (intelligamus) вещи, которые ни под каким видом не поддаются представлению (quae nullo modo sub imaginationem cadunt), а в последнем между тем имеют место другие, которые решительно противны интеллекту (quae prorsus opugnant intellectum), и наконец, и такие, которые соответствуют ему (cum intellectu conveniant)[226]. Во всяком случае, мы усвоили себе, что
те деятельности (operationes), из которых возникают содержания имагинативного познания (imaginationes), совершаются по другим законам, вполне отличным от законов интеллекта, и что душе в области имагинативного познания свойственно исключительно отношение пассивности[227]. Отсюда понятно также, как легко могут впасть в огромные заблуждения те, кто не провели точно различия между имагинативным познанием и ясным и отчетливым пониманием (inter imaginationem et intellectionem)[228].
a) Смешение содержаний интеллекта с содержаниями имагинативного познания как источник заблуждения.
b) Слова как часть имагинативного познания и специальный источник смешения содержаний истинного познания с содержаниями неистинного познания.
Они впадают например, в заблуждение, что протяжение (extensio) должно быть локализировано (debeat esse in loco), что оно должно быть конечно, что его части должны реально отличаться друг от друга, что оно является первым и единственным основанием всех вещей и занимает в одно время большее пространство, чем в другое время, и многое другое того же рода, что все решительно противно истине, как мы покажем в своем месте[229].
Далее, так как слова (verba) представляют собой часть имагинативных содержаний (pars imaginatio-
nis), т. е. так как мы создаем себе фикции многих идей постольку, поскольку слова слагаются в памяти неопределенным порядком (vage) в результате некоторого предрасположения тела (ex aliqua dispositione corporis), то не подлежит сомнению, что они в той же мере, как и имагинативное познание [в уже рассмотренных его содержаниях], могут являться причиной многих и чрезвычайных заблуждений, если мы не будем относиться к ним с высшей степенью осторожности[230]. Добавим к этому, что слова составляются по произволу и разумению толпы, так что представляют собой не что иное, как только знаки вещей, поскольку вещи даны в имагинативном познании, а не поскольку они даны в интеллекте, что с очевидностью следует [уже] из того, что вообще тем вещам, которые принадлежат исключительно к области интеллекта, а не имагинативного познания, придавали часто отрицательные названия, как-то: бестелесное, бесконечное и т. д.; при этом многое на самом деле положительное выражается через отрицание и противоположение, так: несотворено, независимо, бесконечно, бессмертно и т. д.; и происходит это потому, что, без сомнения, вещи [познаваемые имагинативно и] обратные обозначаемым вещам
[познаваемым путем интеллекта], мы представляем себе с гораздо большей легкостью; потому-то они первым делом бросились в глаза первым людям и присвоили себе положительные названия[231].
Многие вещи мы утверждаем и отрицаем только потому, что природа слов терпит такое утверждение или отрицание, но не природа вещей. Следовательно, пока эта
последняя остается непознанной нами, нам легко принять нечто ложное за истинное[232].
Своеобразная интенсивность имагинативных содержаний как источник смешения их с истинными содержаниями интеллекта.
Будем избегать, кроме того, еще одной серьезной причины смешения, в результате которой интеллект не рефлектирует самого себя (minus ad se reflectat)[233], а именно, когда, не различая представления (imaginatio) от понимания (intellectio), мы считаем, что мы легче представляем себе более для нас ясным и принимаем имагинативное представленное нами за ясно и отчетливо понятое (quod imaginamur, putamus intelligere[234]). Отсюда мы отдаем преимущество (antepo-
nimus) вещам, которые должны следовать за другими (quae sunt postponenda), и таким образом истинный порядок движения вперед является ниспровергнутым, и ни один вывод не делается законным порядком[235].
Вторая часть метода.
Ее первая задача: приобретение истинных идей относительно вещей, понимаемых a) per se, b) per aliis.
Теперь, чтобы перейти, наконец, ко Второй Части исследуемого Метода, я укажу прежде всего [I] нашу цель по отношению к нему, а затем [II] средства к достижению цели*. Итак, [I] цель — это иметь ясные и отчетливые идеи, т. е. такие, которые возникают в области чистого духа (ex pura mente), а не
* Главное правило для этой части метода есть, как это следует из первой его части, — пересмотреть все идеи, которые мы находим в себе как результат чистого понимания (ex puro intellectu), чтобы отличить их от тех, которые мы имеем путем представления (quas imaginamur). [В первой части пересматривались все способы перцепций, чтобы выбрать наилучший. См. с. 71 сл.]. Это различие должно быть извлечено из свойств каждого [способа образования идей] в отдельности, т. е. из свойств воображения и из свойств ясного понимания (imaginationis et intellectionis).
из случайных движений тела[236]. Для того, чтобы далее [II] все идеи могли быть сведены к одной идее, мы должны будем стремиться к тому, чтобы привести их в связь друг с другом и в порядок так, чтобы наш дух, насколько это возможно, передавал объективно то, что в Природе дано формально как в ее целом, так и в ее частях.
Что касается до первого [т. е. до приобретения ясных и отчетливых идей], то, как мы уже говорили, для нашей конечной цели требуется, чтобы вещь была конципируема или исключительно через ее сущность (per solam suam essentiam), или через ее ближайшую причину (per proximam suam causam)[237]. Следовательно, если вещь существует сама в себе (in se), или по обычному выражению (ut vulgo dicitur), если она есть самопричина (causa sui), то она должна быть понимаема исключительно через ее сущность[238]; если же вещь не существует сама в себе, но требует причины для своего существования[239], то ее надо по-
нимать через посредство ее ближайшей причины[240], на самом деле познание следствия есть не что иное, как приобретение более совершенного познания причины*. Поэтому для нас, поскольку мы имеем дело с исследованием вещей, никогда не будет допустимым делать какие-либо заключения на основании абстракций (ex abstractis)[241]; и мы в особенности должны
* Отсюда, надо заметить, явствует, что ничто в Природе не может быть ясно понято нами без того, чтобы вместе с тем мы не пополнили познания первой причины или Бога.
будем остерегаться того, чтобы не смешивать содержаний, которые находятся исключительно в интеллекте, с теми, которые присущи вещи (quae sunt in re)[242].
Наилучшее же заключение должно быть извлекаемо из некоторой единичной положительной сущности (ab essentia aliqua particulari affirmativa), т. e. из истинного и законного определения (a vera et legitima definitione)[243]. Действительно, исходя из одних общих аксиом (ab axiomatis solis universalibus), интел-
лект не сможет перейти к единичному (ad singularia), так как аксиомы распространяются в бесконечность и не определяют интеллекта к созерцанию чего-либо одного больше, чем к созерцанию чего-либо другого. Поэтому истинный путь изыскания заключается в том, чтобы создавать содержания сознания на основании некоторого данного определения[244]; этот путь поведет вперед тем удачнее и тем легче, чем лучшее определение мы дали некоторой вещи. Вследствие чего основной вопрос (cardo) всей этой второй части метода будет сосредоточиваться только около этого одного, именно, — около познания условий хорошего определения и, кроме того, около способа их нахождения. Итак, прежде всего я буду говорить об условиях Определения[245].
Определение (Definitio) как основа наилучшего рассуждения.
Определение, чтобы считаться совершенным, должно выражать самую сущность вещи (intimam essentiam rei)[246], и в нем должно быть предусмотрено, чтобы мы не ставили ошибочно на место сущности вещи некоторые свойства (propria) вещи. Для пояснения этого и избегая тех примеров, в которых могло бы показаться, что я намереваюсь разоблачать ошибки других[247], я приведу пример только некоторой абстрактной вещи, относительно которой безразлично, каким именно способом она будет определяема, именно, пример круга[248]. Если он будет определен как некоторая фигура, в которой линии, проведенные от центра к окружности, равны между собой, то всякий увидит, что такое определение нисколько не выражает сущности круга, но только некоторое его свойство. И хотя, как я сказал, по отношению к фигурам и другим рациональным сущностям (entia rationis) это имеет мало значения, но это имеет очень большое значение по отношению к физическим и реаль-
ным сущностям (entia physica et realia)[249], потому именно, что свойства вещей не могут быть ясно поняты, пока остаются неизвестными их сущности. Поэтому, минуя сущности, мы неизбежно извратим сочетание (concatenatio) содержаний в понимании, которое должно соответствовать сочетанию содержаний Природы, и вполне уклонимся от нашей цели[250]. Итак, чтобы нам избежать этой погрешности, к Определению должны быть предъявлены следующие требования:
а) Требования к определению вещей, понимаемых per proximam causam.
I. Если дело идет о сотворенной вещи [т. е. зависимой, понимаемой не per se], то, как мы сказали, определение должно будет заключать в себе ее ближайшую причину[251]. Например, круг, согласно этому закону, дол-
жен бы был быть определен следующим образом: круг есть такая фигура, которая описывается некоторой любой линией, один конец которой закреплен, другой движется, каковое определение явно заключает в себе ближайшую причину круга[252].
II. Концепт вещи, или ее определение[253], должно быть таким, чтобы все свойства вещи, поскольку вещь рассматривается в отдельности, а не в соединении с другими вещами, могли бы быть выведены из этого определения, как это можно видеть на указанном определении круга. Действительно, из этого определения с ясностью может быть выведено, что все линии, проведенные от центра к окружности будут равны между собой. То обстоятельство, что это второе требование представляет собой необходимое требование для определения, для того, кто внимателен, настолько ясно, само собой, что, по-видимому, не стоит задерживаться на его демонстрации[254], так же как и указывать, что на
основании этого второго требования всякое определение должно быть утвердительным, я говорю об утверждении ясного понимания (de affirmatione intellectiva), мало заботясь об утверждении в словесном выражении; последнее, вследствие недостатка в словах, может быть, и будет иногда выражать нечто отрицательно, несмотря на то, что это нечто будет ясно понимаемо как положительное[255].
b) Требование к определению вещи, понимаемой per se.
Что касается определения несотворенной вещи [т. е. независимой — пони- маемой per se][256], то к нему должны быть предъявлены следующие требования:
I. Чтобы из определения была исключена всякая причина, т. е. чтобы определяемая вещь для своего разъяснения не нуждалась бы ни в чем другом, кроме своей сущности (esse)[257].
II. Чтобы, раз дано определение такой вещи, не оставалось бы никакого места для вопроса: существует ли она? (an sit?)
III. Чтобы определение, поскольку дело идет о его духовном содержании (quoad mentem) [а не словесном выражении], не заключало бы в себе никаких существительных, обратимых в прилагательные
(nulla substantiva quae possint adjectivari), т. e. разъяснение не должно идти через посредство каких-либо абстракций[258].
IV. И, наконец, требуется, (хотя [это так ясно, что] отмечать это не столь необходимо), чтобы из определения вещи могли быть выведены все свойства вещи. Все это опять-таки для того, кто достаточно внимателен, ясно само собой[259].
Я сказал также [с. 158], что наилучшее заключение должно быть извлекаемо из некоторой частной положительной сущности; на самом деле, чем специальнее идея, тем она отчетливее и следовательно, тем яснее[260]. Отсюда познание частных [единичных]
вещей есть то, к чему мы в особенности должны стремиться[261].
Вторая задача второй части Метода. Приведение идей в порядок и единение. Условия для него: осторожное отношение к абстракции. Приоритет исследования сущностей перед исследованием существования. Приоритет исследования единичных вечных вещей перед исследованием единичных переменных вещей.
Что касается до порядка [стр. 156, II] при котором были бы так же упорядочены и объединены все наши перцепции, то необходимым для этого условием является, чтобы мы при первой же возможности и по первому требованию рассуждения[262]исследовали, не имеется ли некоторого Сущего, и притом такого, чтобы оно [в своей формальной сущности] было бы причиной всех вещей, а его объективная сущность [т. е. идея] таким же образом была бы причиной всех наших идей[263]; тогда наш дух (mens), как мы
сказали, будет наивозможно более отвечать Природе; действительно, он будет заключать в себе объективно ее [формальную] сущность, и порядок, и единство[264]. Отсюда мы можем видеть, что для нас прежде всего необходимо выводить всегда все наши идеи из физических вещей, т. е. реальных сущностей (ab entibus realibus)[265], переходя, насколько это возможно, через посредство системы причин (secundum seriem causarum)[266], от одной реальной сущности к другой реальной сущности, и именно так, чтобы не касаться абстракций и универсалий, т. е. чтобы из абстракций и универсалий не выводить чего-либо реального и, обратно, из чего-либо реального не выводить абстракций и универсалий, так как и то, и другое прерывает истинное движение вперед ясного понимания[267]. Необходимо, однако, отметить, что здесь
под системой причин и реальных сущностей я понимаю не систему единичных переменных вещей, но исключительно систему [единичных] неизменных и вечных вещей[268]. Действительно, постичь систему единичных переменных вещей было бы невозможно для человеческой ограниченности[269], как вследствие
их превышающего всякое число множества, так и вследствие бесконечных взаимоотношений одной и той же вещи с окружающими условиями, из которых каждое может быть причиной ее существования или не существования, так как существование единичных переменных вещей не стоит ни в какой связи с их сущностью или (как мы уже сказали) не является вечной истиной[270]. Действительно, нам нет и надоб-
ности в том, чтобы ясно понимать систему единичных переменных вещей, раз их сущности не могут быть извлечены из их системы, т. е. из порядка их существования, так как этот последний не
может предложить нам ничего, кроме внешних определений (nihil praeter denominationes extrinseca)[271], отношений (relationes) или, самое большее, взаимоотношений (circumstantias), что все отстоит весьма далеко от самой глубокой сущности вещей (ab intima essentia rerum). Эту сущность единичных переменных вещей должно искать только в [единичных] неизменных и вечных вещах и также в законах этих вещей, вписанных в них, как в своих истинных кодексах, и на основании которых все единичные вещи осуществляются [в смысле сущности] и упорядочиваются[272]; более того эти переменные единичные вещи настолько тесно (intime) и существенно (essentialiter) (если я могу так выразиться) стоят в зависимости от вещей неизменных, что без них они не могут ни иметь сущности, ни быть конципированы (nec esse, пес concipi possint)[273]. Поэтому эти неизменные и вечные вещи,
хотя они и единичны (quamvis sint singularia), тем не менее, благодаря их присутствию во всем и наивеличайшей мощи должны быть для нас как бы универсалиями или как бы родами для определения единичных переменных вещей, будучи притом ближайшими причинами (causae proximae) всех вещей[274].
Однако раз это так, то, по-видимому, возможность достижения дня нас познания переменных единич-
ных вещей сопряжена с немалой трудностью. На самом деле, конципировать все их разом далеко превосходит силы человеческого познания. Порядок же, согласно которому одна [переменная] вещь может быть понимаема раньше другой, как мы сказали, не может быть определен из их системы существования, так же как [не может быть определен] и из системы вечных вещей, где, действительно, вещи — по самой сущности (natura) [не во времени] — даны все разом[275]. Отсюда следует, что для ясного понимания единичных переменных вещей необходимо искать другие средства, кроме тех, которыми мы пользуемся для ясного понимания вечных вещей и законов вечных вещей; однако здесь не место подвергать эти средства обсуждению, так же как это и не необходимо, до тех пор, пока мы не приобрели достаточного познания вечных вещей и их непреложных законов и пока нам не стала известна сущность наших чувствований[276].
Раньше, чем мы подойдем к познанию единичных [переменных] вещей, еще будет время изложить нужные для этого средства, которые все будут сводиться к тому, чтобы нам уметь пользоваться нашими чувствами и ставить согласно известным законам и известному порядку достаточные для определения (ad determinandam) исследуемой вещи опыты, так чтобы под конец мы могли бы вывести из них, согласно каким именно законам вечных вещей исследуемая переменная вещь является данной, и самая ее сущность известной нам[277], как я это покажу в своем месте[278]. Здесь, чтобы вернуться к намеченному, я попытаюсь только сообщить то, что представляется необходимым для того, чтобы мы были в состоянии достигнуть познания вечных вещей и дать их определения (Definitiones), согласно вышеуказанным условиям[279].
Для этого надо припомнить сказанное нами выше [см. с. 115], а именно: когда дух (mens), обращается на какое-нибудь содержание сознания, чтобы тщательно
взвесить его и должным порядком вывести из него те следствия, которые законным образом должны быть выведены, он, если это содержание будет ложным, вскроет ложность, если же оно истинно — благополучно и без всякого перерыва (sine ulla interruptione) станет выводить из него истинные данные, что, говорю я, и требуется для нашей задачи. На самом деле, не имея никакого основания (фундамента) [в виде истинной идеи], соображения нашего сознания могут быть задержаны[280]. Следовательно, если мы захо-
тим исследовать первую вещь из всех вещей, [то и тут] необходимо, чтобы имелся некоторый фундамент, который давал бы соответственное направление содержаниям нашего сознания; а так как метод есть само рефлексивное познание, то такой [фундамент или] основание, которое должно направлять содержания нашего сознания, не может быть ничем другим, как только познанием того, что составляет форму истины[281], и познанием интеллекта [т. е. ясного и отчетливого понимания] с его свойствами и силами. Действительно, раз такое познание будет достигнуто, мы приобретем фундамент, из которого будем выводить содержания нашего сознания, и путь, которым интеллект насколько позволяет его способность (capacitas) будет в состоянии достигать познания вечных вещей, в соотношении, конечно, с силами интеллекта[282].
Необходимость непосредственного познания и определения сущности интеллекта для того, чтобы иметь первый основной фундамент для истинного исследования.
Если к сущности сознания действительно принадлежит создавать истинные идеи, как я показал в первой части, то здесь теперь надо будет исследовать, что именно мы будем понимать под силами и мощью интеллекта[283].
А поскольку наилучшее понимание сил и сущности интеллекта представляет собой основную часть нашего метода[284], постольку мы должны будем (согласно изложенному мной в этой второй его части) вывести силы и мощь интеллекта из самого определения сознания и интеллекта[285]. Однако, так как до
сих пор мы еще не имели никаких правил для нахождения определений, а, с другой стороны, мы и не могли бы дать их, пока нами не познана сущность интеллекта, т. е. определение и мощь интеллекта, то отсюда следует, что или определение интеллекта должно быть ясно само собой, или же, что мы [вообще] ничего ясно понимать не в состоянии[286]. Между тем определение интеллекта не абсолютно ясно само собой[287]. Однако, так как свойства интеллекта, как и все, что мы имеем путем интеллекта, не могло бы быть перципировано ясно и отчетливо без познания сущности этих свойств [а следовательно, и сущности
интеллекта], то, следовательно, определение интеллекта станет ясным для нас само собой (per se innotescet), если только мы сосредоточим внимание на тех его свойствах, которые для нас ясны и отчетливы[288]. Итак, перечислим здесь свойства интеллекта, тщательно взвесим их и начнем действовать, исходя из прирожденных нам орудий исследования[289].
Свойства интеллекта, которые я главным образом отметил себя[290] и которые я ясно понимаю, суть следующие:
I. Интеллект [т. е. ясное и отчетливое понимание] включает в себе достоверность, т. е. знание, что вещи таким же образом даны формально (formaliter), как они в нем самом даны объективно (objective)[291].
II. Интеллект перципирует некоторые вещи, или создает идеи, некоторые абсолютно (absolute) и некоторые через посредство других идей (ex aliis)[292]. Так, идею количества он создает абсолютно, не принимая во внимание других содержаний сознания[293], идею же движения — [из другой идеи, т. е.] не иначе, как принимая во внимание идею количества[294].
III. Идеи, которые он создает абсолютно, выражают бесконечность, ограниченные же идеи он создает из других идей. На самом деле, что касается до идеи количества, если интеллект перципирует ее через посредство причины, он ограничивает количество[295]; так, он перципирует тело возникающим из движения плоскости, плоскость — из движения линии, наконец, линию — из движения точки. Но такие перцепции не служат для ясного и отчетливого понимания количества, но только для ограничения количества[296]. Это явствует из того, что мы конципируем указанные вещи как бы возникающими из движения, между тем [см. выше] движение не может быть перципировано без перцепции количества; также мы можем при образовании линии продолжить движе-
ние до бесконечности, чего мы никак не могли бы сделать, не имея уже идеи о бесконечном количестве[297].
IV. Интеллект создает положительные идеи прежде, чем отрицательные[298].
V. Он перципирует вещи не столько с точки зрения их продолжительности (sub duratione), сколько с некоторой точки зрения вечности (sub quadam specie aeternitatis)[299] и бесконечно в смысле числа (numero infinito), или, лучше говоря, он, перципируя вещь, не принимает во внимание ни числа, ни продолжительности[300]. Если же вещь перципируется кем-либо путем имагинативного познания, то она конципируется им с точки зрения известного числа, ограниченной продолжительности и ограниченного количества (sub certo numero, determinata duratione et quantitate)[301].
VI. Идеи, которые мы создаем ясными и отчетливыми, являются в такой мере вытекающими из единой необходимости нашей сущности, что они будут казаться зависимыми исключительно только от нашей мощи[302]. Смутные же идеи обратно. На самом деле последние образуются в нас часто помимо желания (invitis).
VII. Идеи вещей, которые интеллект образует из других идей (ex aliis)[303], дух может определять (determinare) многими способами. Например, для определения (ad determinandum)[304] эллипсоидальной поверхности, дух (mens) создает фикцию штифта на шнуре, движущегося вокруг двух центров, [305] или же конципирует бесконечное множество точек, имеющих всегда одно и то же определенное отношение к
некоторой данной прямой линии, или же пользуется конусом, усеченным некоторой наклонной плоскостью, причем угол ее наклона больше угла при вершине конуса, или же определяет ее бесконечными другими способами[306].
VIII. Идеи являются тем более совершенными, чем более совершенства некоторого объекта они выражают. Так, мы не столько будем удивляться мастеру, который создал идею некоторой часовни, сколько мастеру, который создал идею некоторого великолепного храма.
На остальных вещах, относящихся к содержанию сознания (ad cogitationem), как то любовь, радость и т. д., я не останавливаюсь[307], так как в данный момент они ничего не прибавляют к нашей задаче[308] и не могут быть конципированы иначе, как при наличности перцепций интеллекта. Действительно, при полном устранении перцепции и они все отпадают[309].
Ложные и фиктивные идеи (как мы показали в более чем достаточной мере) не заключают в себе ничего положительного, благодаря чему они могли бы называться ложными или фиктивными, но они как таковые должны быть рассматриваемы исключительно как результат недостаточности познания (ex solo defectu cognitionis); поэтому ложные и фиктивные идеи, поскольку (quatenus) они являются ложными и фиктивными, ничему не могут научить нас относительно сущности сознания (de essentia cogitationis), сущность же сознания должна быть вскрыта из только что перечисленных положительных свойств интеллекта[310], т. е. теперь должно быть установлено нечто общее (commune), для которого указанные особенности интеллекта будут необходимыми следствиями[311], иначе говоря, — нечто, при условии данности которого (quo dato) необходимо будут даны и все перечисленные свойства и при условии устранения которого будут устранены и все последние.
На выяснении сущности интеллекта Трактат прерывается. Спиноза не формулирует определения интеллекта, т. е. истинного познания, и не заканчивает вполне намеченного им плана. Но, если даже Спиноза и мог бы добавить к сказанному еще очень многое, во всяком случае то, что дано им, заключает в себе все необходимые основы его учения о методе и важнейшие элементы его теории познания. Вне этих данных невозможно понимание философии Спинозы; и не удивительно, что при недостаточном внимании к Трактату de intellectus emendatione учение Спинозы наполняется как бы неразрешимыми противоречиями. В этом отношении, главным образом, надо помнить основное требование Спинозы, проходящее с начала до конца как этого Трактата, так и всех его остальных произведений: не смешивать содержаний истинного познания, «интеллекта», с содержаниями неистинного «имагинативного» познания. Их сущность и области специфически различны. Спиноза проводит до конца положение, ясно формулированное уже Декартом: vires intelligendi et imaginandi non differe tantum secundum magis et minus, sed ut duos modos planos diversos[312].
С другой стороны, данные Трактата de intellectus emendatione открывают широкие горизонты для дальнейшего философского мышления, намечая выходы из многих тупиков современных традиционных воззрений. Для того, чтобы суметь увидеть эти выходы и использовать их, неизбежно, однако, как указывает Спиноза, сосредоточенное внимание и углубленные размышления, свободные от рабства перед такими вещами, quae plerumque in vita occurunt, et apud homines tanquam summum bonum aestimantur, т. е. вещами, обычно почитаемыми людьми за наивысшее благо.
Хорошо известная и великолепно формулированная Спинозой мысль: omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt, — все прекрасное столь же трудно, сколь редко, — заключает в себе не только некоторое утверждение, но и налагает обязательства на всякого, кто имеет серьезное намерение res quam optime intelligere, т. e. на всякого, кто стремится к истинному познанию сущностей.
Bonn a/Rh. 1913.В. Н. Половцова.
Варвара Половцова
К методологии изучения философии Спинозы[313]
Философия Спинозы с 1661 г. (см. Письма Спинозы) и до настоящего времени является поводом к самым разнообразным ее истолкованиям. При этом исследователи Спинозы приходят как по отношению к содержанию его учения, так и по отношению к историческим сопоставлениям, к прямо противоположным заключениям. В настоящее время трудно найти выдающуюся философию или направление, с которыми философия Спинозы не была бы поставлена, нередко как в положительное, так и в отрицательное отношение. Обильно вытекающие отсюда трудности и недоразумения ставятся при этом, обыкновенно, на счет самого Спинозы, как «недодуманности» и «противоречия» его со своими собственными воззрениями. Facit такого разнообразия мнений находит себе, может быть, особенно наглядное выражение в таких произведениях последнего времени, какими являются, например, книги Эрхардта или фон Дунин-Борковского. Эрхардт в своем произведении: «Die Philosophic des Spinoza im Lichte der Kritik»[314], быстро и незаметно для себя переходя на всевозможные точки зрения, «освещает» учение Спинозы так, что в «свете его критики» оно представляется приблизительно как бессмысленный набор противоположных друг другу заблуждений и иллюзий; его книга кончается весьма понятной при таких условиях надеждой, что скоро всеми будет признано, что подобная философия недостойна занимать то выдающееся положение, которое ей отводилось в
истории философии. Иезуит Дунин-Борковский[315] подобным же образом «освещает» философию Спинозы, главным образом сточки зрения ее исторических зависимостей. Результат его сопоставлений учения Спинозы более или менее со всеми его выдающимися предшественниками и течениями тот, что Спиноза заимствует свои воззрения направо и налево, причем, в конце концов, Спиноза, лишенный всякой самостоятельной мысли, остается в руках Дунин-Борковского как Analogiegeist и Sammelgenie[316].
Несмотря на все это, философия Спинозы, пройдя через века, стоит сейчас на высоте, которую оценивать можно как угодно, но которую обойти не заметив уже нельзя. И, действительно, со времени знаменитой переписки Якоби и Мендельсона по поводу спинозизма Лессинга, мы не видим ни одного из больших философов, который прошел бы ее молчанием.
Как же отнестись к такому положению дел, где при колоссальной массе исследований (см. ниже указатели литературы о Спинозе) мы, с одной стороны, почти не находим ни одного толкования с положительным характером, которое являлось бы общепризнанным, с другой стороны, видим, что «противоречия» у Спинозы не только не устраняются, но все более и более накопляются, к тому же в прямо противоположных направлениях. Понятно, что такое положение дел невольно вызывает сомнение: так ли подходит исследование к философии Спинозы, как это было бы необходимо для ее понимания? И нет ли условий, выполнение которых дало бы возможность более строго и методически подойти к самой ее сущности? Именно здесь лежит, может быть, основной момент, который в настоящее время требует главного внимания и сосредоточенной работы многих исследователей, и не только во имя предотвращения указанного состояния дела в будущем, но и, вообще во имя требований методологии истинного философского исследования.
Я пользуюсь недавно появившейся в «Вопросах философии и психологии» статьей о Спинозе как поводом, чтобы привести некоторые результаты моих специальных исследований в этом направлении. Я имею в виду статью г. Франка об атрибутах у Спинозы и об отношении души и тела в связи с 7 положением II ч. «Этики»[317]. Как справедливо указывает ее автор, учение Спинозы об атрибутах и их отношении к субстанции есть как раз «один из наиболее спорных и трудных вопросов истории философии» (Фр. 523). Вопрос об атрибутах, кроме того, так же как и примыкающий к нему вопрос о так называемом параллелизме и о положении 7 II ч. «Этики», имеет настолько важное самостоятельное значение и так тесно связан со всеми другими воззрениями Спинозы и с вытекающими из них следствиями, что является чрезвычайно существенным и естественным именно по его поводу отметить те стороны, которые должны подчеркнуть необходимость крайней осторожности при попытках разрешения вопросов учения Спинозы, а главное, обязательность выполнения некоторых предварительных условий, без которых немыслимо понимание учения Спинозы ни вообще, ни в частности. Признавая таким образом обсуждение именно этих сторон в данный момент наиболее существенным, я и останавливаю на них главное внимание; только в связи с ними будут указаны некоторые важнейшие моменты, относящиеся к разъяснению сначала вопроса об атрибутах, затем и вопроса о параллелизме или отношении духа (не души) и тела в учении Спинозы. Детальное обоснование и развитие предлагаемых здесь взглядов и данных войдет в содержание другого специального исследования. Ограничиваясь указанными задачами, я по этому самому не имею в виду входить здесь в подробный разбор изложения Франка, а также не буду останавливаться и на мнениях других отдельных исследователей по этому поводу. Затрагиваемая учением Спинозы философская область сама по себе настолько серьезна и богата содержанием, что перед материалом, непосредственно данным в самих сочинениях Спинозы и
моментах, естественно с ними связанных, отходит на задний план интерес к личным согласиям или несогласиям отдельных интерпретаторов. Мне придется, однако, останавливаться на взглядах того или другого современного автора, в тех случаях, где это будет способствовать выяснению или иллюстрировать ближе характер некоторого общего утверждения, делаемого мною в намеченных целях на основании только что указанных непосредственных данных.
Чтобы облегчить, однако, читателю, на случай его желания, возможность сравнений по поводу привлекаемого материала, я прибавляю здесь к некоторым литературным указаниям Франка указание еще некоторых сочинений, специально посвященных вопросам об атрибутах и параллелизме, в тексте же отмечаю в скобках страницы статьи Франка в тех местах моей статьи, содержание которых посредственно или непосредственно затрагивает и его содержания. При этом частные сравнения и выводы, вытекая сами собой из общего, легко могут быть сделаны уже самостоятельно всеми желающими[318].
Итак, основной план дальнейшего изложения заключается прежде всего в том, чтобы выяснить обязательность некоторых условий для понимания учения Спинозы вообще, а следовательно, и затронутых вопросов в частности. Укажу немедленно же, что такими условиями является, во-первых, знакомство по существу с содержанием латинских терминов Спинозы, Декарта и их времени, и, во-вторых, владение теорией познания Спинозы, которая должна служить исходным пунктом для всех соображений о его учении, так как сама положена им в основу всех его воззрений. И затем отметить уже на основе сказанного и как его приложение, по необходимости несколько программно, некоторые важнейшие моменты и идеи, данные самим Спинозой для разъяснения вопроса об атрибутах и вопроса об отношении духа и тела, в связи с положением 7 II части «Этики» Спинозы: «Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum». Первая часть статьи имеет в виду каждого работающего в области философии читателя; вторая предполагает наличность некоторых специальных знаний об основных воззрениях на философию Спинозы[319].
I. Условия, необходимые для понимания
воззрений Спинозы
Значительное количество недоразумений, наполняющих философию Спинозы ему же приписываемыми «противоречиями»,
является прежде всего результатом несоответствующего перевода его латинских терминов терминами новых языков, причем переводные выражения или вовсе не соответствуют по своему содержанию содержаниям терминов Спинозы, или же, модернизируя его содержания, придают им чуждые мышлению Спинозы оттенки. Немецкая философская литература, давшая главное количество исследований, а также и переводов произведений Спинозы, дает в то же время и типические примеры подобных недоразумений. Существенно отметить, что немецкая философская терминология обязана своим происхождением прежде всего Христиану Вольфу (1679–1754). По несколько революционному для тех времен примеру Томазиуса, Вольф заменяет общепринятый тогда латинский язык чтения лекций немецким языком, а главное, наряду со своими латинскими произведениями, дает немецкие обработки всех своих главнейших воззрений; в них-то и находит свой первоисточник терминология немецкой философской литературы. Характерно, что, принимая от Вольфа его терминологию, немецкие ученые, с другой стороны, единогласно признают его за слабого и несамостоятельного мыслителя, сомнительная заслуга которого состояла главным образом в популяризации или, иными словами, в упрощении идей Лейбница. Бедность мысли, однако, неизбежно отражается и на характере ее воплощения, и термины небогатого мыслью Вольфа так же мало в состоянии передать богатство идей Спинозы, как язык умеренно развитого человека был бы в состоянии передать содержания лучших литературных произведений того или другого времени. И потому это происхождение немецких терминов является серьезным источником в создании всевозможных недоразумений по поводу учения Спинозы. Так, например, Вольф заимствовал из популярной речи выражение, можно сказать, трагическое для смешения границ познания вообще и для понимания теории познания Спинозы в частности, а именно, выражение «представление» — Vorstellung. Употребляя его вместо выражения «perceptio» Лейбница, Вольф в то же время упрощает данные Лейбницем содержания, придавая термину «представление» психологическую, то есть релативистическую окраску, и топит затем в созданной им однообразной массе «представления» все возможные содержания сознания. Попытка Канта спасти от этого потопления некоторые
характерные моменты мышления под термином «идея» в значительной мере парализуется в подведении Кантом идеи под вид «понятия». «Понятие» же, Begriff, для него, как для Вольфа, есть опять-таки некоторый вид «представления». Современные логики, в значительной мере под влиянием стремления не разойтись с современными естественнонаучными течениями, являются, почти без исключения, представителями психологически окрашенного релативизма, недавно так метко охарактеризованного Гуссерлем[320], и уже почти без оглядки сводят всю область сознательного (а часто и бессознательного психического) к «представлениям», или, что то же, к тем или другим элементам или производным от «представления».
Таким образом, применение термина «представление» не имеет для них запретных областей, и они вводят его безразлично по отношению ко всем встречающимся им содержаниям сознания; этим, однако, они закрывают доступ к пониманию таких философских учений, каковыми являются, например, учения Декарта и Спинозы, основанные на установлении специфических различий между отдельными областями содержаний сознания, не сводимых по самой своей природе к одному какому-нибудь виду содержаний сознания какой-нибудь одной из этих областей. Для них проходят бесследными постоянные указания Декарта в его «Размышлениях» и «Ответах» своим естественнонаучно, или материалистически, и в связи с этим номиналистически настроенным, но недостаточно глубоко философски мыслящим противникам:
Декарт многократно повторяет, что делаемые ему возражения и приписываемые противоречия являются результатом смешения специфически различных областей познания[321]. Не менее напрасными являются и все предостережения Спинозы, занимающие основное место во всех его произведениях, не смешивать содержаний «адекватного» и «не адекватного» познания, так как между
ними лежит непереходимая пропасть, причем различие между ними не сводится к различию представлений в узком смысле слова от производных от них понятий, то есть представлений же, с более широкой точки зрения. Спиноза разъясняет, что оба эти вида представления, — как представление в узком, так и представление в широком смысле слова, — оба не принадлежат вовсе к области «адекватного» познания, из которой, таким образом, абстракция современной логики исключена так же бесповоротно, как и непосредственное чувственное восприятие. Все это не принимается во внимание последователями релативизма в логике и Вольфовых терминов в своих выражениях; немецкие исследователи и переводчики продолжают переводить термином Vorstellung истинные идеи (ideae verae) Спинозы и обозначать термином Begriff, или (абстрактное) понятие, его метафизические реальности. Между тем, с точки зрения Спинозы, замена, например, выражений «идея» Бога, «идеи» субстанции, атрибутов, бесконечных модусов и так далее, выражениями «представление» или «понятие» Бога, или «представление» или «понятие» субстанции, атрибута и так далее, в смысле современной логики, так же абсурдно, как для современного естественника, имеющего в виду закон Иоганна Мюллера, сведение, например, вкусовых ощущений на ощущения зрительные. Закон специфичности восприятия органов чувств Иоганна Мюллера есть, может быть, наиболее подходящая аналогия для закона специфичности видов познания, устанавливаемого Декартов, и в особенности Спинозой, в их учении о границах и содержаниях адекватного и неадекватного познания.
В связи с указанным общим направлением продолжают также применять без дальнейших объяснений термины «рассудок» и «разум», Verstand и Vernunft, для перевода таких терминов Спинозы, как intellectus и ratio (ratio у Спинозы не имеет ничего общего с ratio у Вольфа). Между тем, эти термины не применимы к содержаниям Спинозы, ни в смысле Вольфа, ни в смысле Канта, ни в смысле Шопенгауэра, и вообще ни в каких смыслах, как бы различны эти последние ни были, если эти различия могут быть сведены к различным ограничениям по отношению все к той же однообразной области представления.
Результатом подобных подстановок, если взять моменты
наиболее значительные по своим последствиям в отношении к интересующим нас вопросам, является, с одной стороны, рационализация в современном смысле слова основ учения Спинозы, причем «рациональные сущности» Спинозы (entia rationis) смешиваются с его «реальными сущностями» (entia realia); изгоняемые им из истинного исследования абстракции ставятся во главе его учения; его математические примеры принимаются в буквальном смысле, и т. п. (ср. Фр. I, II), что все ставит непреодолимые преграды к пониманию его учения вообще, и в частности его учения об атрибутах; и, с другой стороны, реализация того, что для Спинозы является абстракцией, причем «реальные сущности» Спинозы смешиваются с содержаниями неадекватного познания (entia imaginationis); вещи (res) адекватного познания Спинозы, то есть формальные сущности (essentiae formaliter) всех бесконечных модусов бесконечных атрибутов субстанции, понимаются как вещи с натуралистической точки зрения, а случайный порядок и связь между последними, являющиеся результатом недостаточности человеческого познания, подставляются на место необходимых порядка и связи, устанавливаемых между сущностями бесконечным и выходящим за пределы индивидуального человеческого познания интеллектом (intellectus infinitus в терминологии Спинозы) (ср. Фр. II, III, IV); все это совершенно запутывает понимание вопроса о положении Eth. II, 7 и так называемом параллелизме у Спинозы. Сказанное по поводу немецких переводов относится ко всем существующим переводам Спинозы, модернизирующим его терминологию и не дающим в тексте или примечаниях главных терминов оригинала, причем хотя избегается пестрота текста, но неизбежно получается пестрота понимания. Из имеющихся до сих пор французских, русских и итальянских переводов Спинозы, также как и немецких, ни один не может быть употребляем без постоянного внимательного сравнения с оригиналом; единственным исключением являются в настоящее время английские переводы, а именно, переводы Гэля Уайта, под редакцией госпожи Гетчисоп Стерлинг[322].
Современными английскими философами они признаны за безусловно наилучшие и несомненно являются таковыми, именно потому, что не занося национально-литературные стремления в неподходящую для их применения область философии, они не подставляют, как это делают немцы, на место терминов Спинозы собственных терминов, но сохраняют, ограничиваясь большим или меньшим подчинением их требованиям своей грамматики, данные латинские термины Спинозы[323].
Кроме того, в случаях отступления от этого правила, они дают попутно и оригинальные выражения Спинозы. Таким образом, они по существу облегчают возможность перехода к оригиналу, что и является основным достоинством перевода как такового, т. е. они уже заранее знакомят читателя с основными терминами латинских произведений Спинозы и не вносят тех подстановок, которые для читателя, воспитавшего на них свое мышление, являются как бы стеклами, которые направляют его взгляд в одну определенную сторону и уже не позволяют рассмотреть особенностей содержаний Спинозы, даже и после замены переводов оригиналами.
Отметив этот первый источник терминологически обусловленных недоразумений, перехожу ко второму источнику их, каковым является недостаток ориентировки в содержаниях и терминологических различениях философии и логики средневековой эпохи, из которых, однако, самому Спинозе приходилось заимствовать свою терминологию.
Для целей ознакомления с источниками терминологии Спинозы не могут служить достаточным пособием никакие опосредствования. Например, для понимания терминов Спинозы очень мало могут дать отрывочные сопоставления его выражений с выражениями некоторых схоластических писателей, какие мы находим, например, в известной статье Фреуденталя: «Спиноза и схоластика». (Фреуденталь, кстати сказать, и видел свою цель главным образом только в формальном удостоверении того, что Спиноза «знал» схоластиков.) Это произведение, так же как и другие сочинения подобного характера, могут служить только для некоторой ориентировки в том отношении,
какие схоластические оригиналы требуют ближайшего исследования, чтобы выяснить себе, насколько они могут явиться полезными или бесполезными для понимания терминов Спинозы[324]. В результате ближайшего исследования привлекаемых Фреуденталем авторов выясняется, например, что не только слабые произведения Бургерсдийка или Геереборда, но и трактаты Дунс Скотуса или Суареца, упоминаемые Фреуденталем, по существу своих взглядов имеют со взглядами Спинозы настолько мало общего, что данные терминологические сопоставления отрывков из Спинозы с отрывками из их произведений могут скорей запутать понимание Спинозы, чем облегчить его. Только самостоятельное исследование и изучение наиболее выдающихся оригиналов так называемой схоластической литературы может дать достаточные сведения как по отношению к источникам терминологии Спинозы, так и по отношению к характерным особенностям ее применения им в своих произведениях.
К каким серьезным недоразумениям может вести недостаток такого изучения покажу на следующем примере. Более или менее общеизвестно, какое огромное значение придается исследователями Спинозы вопросу о его так называемом «геометрическом методе». Если мы обратимся к произведениям Спинозы, то мы увидим, однако, что он никогда не говорит о геометрическом «методе»: methodo geometrico demonstrare есть выражение, нигде не встречающееся у Спинозы; он говорит о демонстрации и изложении геометрическим порядком (или способом): ordine geometrico (или more geometrico) demonstrare.
С другой стороны, самые серьезные и основные рассуждения Спинозы в его письмах и, в особенности, в Tr. de int. em. посвящены методу; при этом его соображения о методе не стоят ни в каком отношении к вопросам об указанном геометрическом порядке демонстрации. Чтобы предупредить возможное, хотя и основанное на недоразумении (по поводу хронологии трактатов Спинозы и так называемого генезиса его воззрений) возражение, что взгляды Спинозы на метод в Tr. de int. em. могли быть отличны от его взглядов на метод в другое время, обращаю, например, внимание на письмо 37 к J.B., написанное
в 1666 г.[325], где Спиноза высказывает те же воззрения на метод, что и в Tr. de int. em.[326] На самом деле, взгляд Спинозы на метод всюду сохраняется один и тот же, и у него мы нигде не найдем смешения терминов ordo — порядок и methodus — метод.
Если мы обратимся, кроме того, например, к классическому произведению Цабарелла (1532–1589), о котором Штокль в своей «Истории средневековой философии» говорит как о самом выдающемся логике средних веков, и не ограничимся парой тут или там вырванных фраз, но прочтем целиком, по крайней мере, его рассуждения о методе, то мы увидим, что вопрос о применении и о содержании терминов ordo и methodus был вопросом обсуждения выдающихся умов того времени[327]. Если бы на это было обращено внимание исследователей Спинозы, то вряд ли бы они стали переводить, как это делается сплошь да рядом, различаемые Спинозой термины ordo и methodus одним и тем же термином метод, Methode; и в результате им не пришлось бы писать большей части того, что ими написано о «геометрическом методе» Спинозы, причем отпали бы и наиболее тяжелые из приписываемых Спинозе «противоречий» и «трудностей».
Характерно, что не говоря уже о малоизвестных и более или менее трудно доступных логиках схоластики, исследователи и переводчики Спинозы не принимают во внимание даже и соображений Декарта по этому поводу, который не только высказывает определенные и чрезвычайно ценные мысли по вопросам о методе, с одной стороны, и о геометрическом порядке изложения, с другой, но даже сам дает для последнего соответствующий перевод в редактированном им французском издании его произведений, говоря о disposition d’une fagon gеomdtrique[328].
B результате понимания отличий геометрического порядка от метода истинного исследования разъясняется, между прочим, и то обстоятельство, что геометрический порядок изложения был применен Спинозой не только к изложению своих собственных истинных воззрений, но и к изложению неудовлетворительных, с его точки зрения, воззрений Декарта (см. Рr. Ph. С.).
Я не могу здесь останавливаться на том, какие серьезные последствия вытекают из этого случая терминологических смешений по отношению к вопросам об атрибутах и параллелизме, так как это завело бы слишком далеко в глубь основных воззрений Спинозы. По поводу изучения схоластической литературы добавлю еще, что ее изучение сразу же устранит привычку говорить о ней как о чем-то едином (Фр. 543, 556) и в связи с этим внесет большую ясность мысли и различений по отношению к ставимым с нею в связь вопросам и учениям.
По поводу дальнейших источников терминологически обусловленных недоразумений здесь необходимо указать еще на одну группу их, которая имеет особенно непосредственное значение для дальнейшего изложения. Я имею в виду недоразумения, вытекающие из недостаточного внимания к указаниям самого Спинозы по поводу его терминологии и способа его с ней обращения. Результатом этого невнимания являются как сомнения по поводу собственных взглядов Спинозы, так и смешение его взглядов с чуждыми ему воззрениями, главное, с воззрениями Декарта[329], a отсюда в обоих случаях ошибочная точка зрения на так называемый «генезис» воззрений Спинозы и на его исторические отношения.
Спиноза ведет принципиальную борьбу с недостатком необходимых слов в философской терминологии, с одной стороны, и с ошибками, вытекающими из неразличения слов
от их содержаний, с другой. Слова создаются по произволу и смыслу толпы: verba sunt constituta ad libitum et captum vulgi. Философ вынужден заимствовать от толпы свои термины; при этом, например, ему часто приходится поневоле довольствоваться для наиболее содержательных своих данных производными, снабженными отрицанием терминами, так как толпа узурпировала положительные обозначения для примитивных, но бросающихся ей в глаза предметов и содержаний. (Ср. Tr. de int. em., р. 27 etc.) В связи с недостаточностью терминов и примитивностью источника их образования Спиноза посвящает многие страницы предостережению от ошибок, связанных со смешением слов с их содержаниями, высказывая тот взгляд, что философ должен уметь понимать помимо недостатков словесного обозначения. В результате подстановки слов на место содержаний возникают самые роковые ошибки мышления. На то, как необходимо различать между идеями, с одной стороны, образами и словами, которыми мы обозначаем вещи, — с другой, Спиноза указывает, например, по поводу основных, с его точки зрения, заблуждений в вопросе о так называемой «свободе воли»: именно потому, что образы, слова и идеи большинством людей или вполне смешиваются, или недостаточно аккуратно различаются, или недостаточно осторожно употребляются, и получается, как говорит Спиноза, полное невежество по отношению к доктрине о воле (Eth. II, 49. Sch.).
Отдавая себе ясный отчет в недостатке и недостаточности слов для философских содержаний, Спиноза, кроме принципиальных рассуждений и предупреждений о примитивном происхождении слов, их недостаточности и связанных с ними ошибках, принимает и более практические меры, чтобы справляться с встающими перед ним на этих основаниях затруднениями. Так, а) заимствуя термины популярного словоупотребления для обозначения своих особых содержаний, он или отмечает взятые выражения как выражения «ut vulgo dicitur», или делает к ним добавления: «ut verba usitata retineamus» и т. п.; или же повторно и специально обращает внимание на то, что для него, как для философа, суть не в терминах, но в содержаниях, и потому все внимание должно быть обращено на содержания. Например, он говорит по поводу
терминологии аффектов (Eth. Ill, Def. 20. Expl.): «Haec nomina ex communi usu aliud significare scio. Sed meum institum non est, verborum significationem, sed reram naturam explicare».
Таким образом, хотя и будучи вынужден заимствовать свои выражения из обычных выражений своего времени, Спиноза и принципиально, и в частности оговаривает свои уклонения от обычного смысла данных терминов. Эти его оговорки, однако, чрезвычайно часто проходят без внимания. Насколько серьезны обусловленные этим недоразумения можно видеть, например, на искажении учения Спинозы «о сохранении собственной сущности», в учении «эгоистического утилитаризма», искажение исключительно основанное на смешении содержаний Спинозы с содержаниями, вкладываемыми обычно в те же выражения[330]. Другой пример (касающийся вопроса о параллелизме) дает подстановка, при обсуждении глубоко философски обоснованного Спинозой вопроса о «вечности духа», aeternitas mentis, популярных и теологически окрашенных соображений о «бессмертии души», и т. д.
На этом же невнимании к оговоркам Спинозы по поводу употребления им общепринятых терминов в особом смысле основаны и постоянные случаи установления «заимствований» Спинозы от тех или других из его предшественников, которые при ближайшем рассмотрении оказываются исключительно словесными совпадениями[331].
Кроме непосредственных оговорок, вторым путем борьбы Спинозы с недостаточностью терминов является б) разделение им областей, в которых одно и то же слово в зависимости от той области, к которой оно относится, должно пониматься в том или другом смысле, хотя самый термин и не изменяется. Такими различными областями являются для Спинозы, например, области теологии и философии; так термин «Бог»
в философии и тот же термин в теологии употребляются Спинозой, с соответствующим указанием на различие этих двух областей, в двух различных смыслах; для Спинозы, «inter Fidem sive Theologiam et Philosophiam nullum esse commercium, nullamve affinitatem» (Tr. th. p., p. 112). О различии этих двух областей в особенности ценны указания Tr. th. р., причем Спиноза сам обращает главное внимание читателя на главы 13 и 14. В противоположность двум обычно сталкивающимся мнениям он обосновывает отличную от них обоих мысль, которую и выражает словами: ни теология не является служанкой философии, ни философия теологии, но каждая имеет свою область (Tr. th. р., р. 117). Так же в различных смыслах он употребляет некоторые термины в области естественного права, с одной стороны, и гражданского права, с другой.
Но наиболее основным из таких делений является уже упомянутое выше разделение специфически различных областей познания. И здесь опять-таки один и тот же термин может иметь специфически разный смысл, смотря по тому, к содержанию какой области познания он отнесен. Так, выражение «существование», existentia, по отношению к области адекватного познания, по терминологии Спинозы области интеллекта (intellectus), имеет другое содержание, чем «существование» по отношению к области неадекватного, по терминологии Спинозы имагинативного, познания (imaginatio). (Ср. ниже р. 35 ел.) Неразличение этих содержаний в особенности тяжело отзывается на вопросе о так называемом параллелизме; в связи с этим неразличением стоит недоразумение по поводу «единичных вещей» нашего представления и «единичных вещей» истинного познания. Так, четвертая часть «Этики» затрагивает главным образом «единичные вещи» имагинативного познания, для которых характерно «существование» во времени. В пятой же части «Этики» Спиноза говорит о «единичных вещах», познаваемых интеллектом по отношению к вечности, т. е. к «существованию» вне локализованного пространства и времени. (О «существовании» ср. также сказанное ниже р. 54 сл.)
Другой пример дает термин notio — в буквальной передаче «познанное» (или отмеченное), в особенности, в его сочетаниях: notiones communes и notiones universales. Этот термин,
будучи отнесен к области интеллекта, то есть адекватного познания, обладает содержанием, специфически отличным от содержания того же термина в области неадекватного познания. (Ср. ниже рр. 61–62: notiones communes, и 42 сл.: об определении). Это различие стоит в связи с учением об абстракции у Спинозы. Теория абстракции у Спинозы далеко уходит от воззрений современной логики. — Исследования Гуссерля (1.с.) как в его критике релативистической логики, так и в его идеях о «чистой логике» могут служить некоторой подготовкой для понимания воззрений Спинозы. — В Eth. 1, 40 Спиноза объясняет различие между notiones communes, как содержаниями истинного познания, и notiones universales, которые входят в область имагинативного познания. Нередко и те, и другие переводятся одним словом: «общие понятия», в результате чего указанное положение, которое принадлежит к важнейшим содержаниям «Этики», превращается в бессмысленный набор противоречий. Notio по отношению к адекватному познанию не может быть передано словом «понятие», но должно быть рассматриваемо как производное от nosco или notum esse[332]; т. e. notiones можно переводить как содержания познания; notiones communes как содержания познания относительно общего, но никак не как общие понятия. Также и «общее» (communia) для интеллекта не равнозначно с общим (иногда communia, чаще universalia) для неадекватного познания. (См. ниже р. 46.) Чтобы предупредить смешение различных содержаний одинаковых терминов, относящихся к специфически различным областям познания, Спиноза, кроме общей характеристики этих областей, даваемой им, главным образом, в Tr. de int. em. и «Этике», но также и во всех других его сочинениях, не исключая и Теолого-Политического трактата, добавляет обыкновенно еще и в каждом частном случае пояснительные предложения; эти предложения устанавливают границы, определяющие, по отношению к какой области познания берется то или другое
содержание, они начинаются обыкновенно словом «поскольку», quatenus. Так как, как уже было сказано выше, теория познания Спинозы лежит в основе всех воззрений Спинозы, то и пояснительные предложения, начинающиеся словом quatenus, как можно было ожидать, встречаются почти на каждом шагу в его произведениях, например, в «Этике». При этих обстоятельствах слово quatenus не могло не броситься в глаза его исследователям. Однако в результате невнимания к указаниям Спинозы относительно специфических различий его областей познания критическая роль этого слова не только не была оценена в той мере, в какой это является необходимым, но мы встречаемся в философской литературе о Спинозе даже с некоторым издевательством по поводу этого выражения издевательством, характерным для всех случаев непонимания и неумения использовать предлагаемое; так, Гербарт, совершенно смешивая в философии Спинозы области адекватного и неадекватного познания, логики и психологии, философии и теологии, обращает внимание на это слово как на нечто вроде волшебного ключа к его системе, который для Спинозы является способом скрывать его «противоречия», которыми, в результате указанных смешений, Гербарт переполняет философию Спинозы. Как полагается, он относит все эти «противоречия» на счет Спинозы, затем уже с полной последовательностью упрекая создавшего их в легкомысленном отношении к делу[333].
Таким образом, слову quatenus приписывается роль как раз противоположная той, которая предназначена ему Спинозой; между тем, если бы эта последняя была правильно понята, то это спасло бы обвинителей Спинозы от большинства приписываемых ему ими противоречий.
В немногих словах нельзя передать всего того критического значения, которое имеют поясняющие предложения Спинозы, начинающиеся указанным словом[334]; без внимательного отношения к указываемым этим словом разграничениям специфически различных областей познания, во всяком случае,
невозможно выяснить себе точку зрения Спинозы на сущность человеческого познания[335].
Наконец, с) внимание к собственным указаниям Спинозы, когда и из каких соображений он считает употребление чужих ему терминов непосредственно необходимым для лучшего выяснения своих собственных воззрений в связи с более точным расчленением его терминологии от терминологии Декарта, могло бы предупредить ряд недоразумений по поводу общего характера философии Спинозы и «генезиса» его основных воззрений (Фр. 555 сл.). Спиноза не раз высказывает ту мысль, что с людьми следует говорить, по возможности приспособляясь к их языку и пониманию. В Тr. th. р. и в Тr. de int. em. Спиноза поясняет эту необходимость по отношению ко всем людям, которых надо привести к познанию истины. Он указывает, что этим путем людей вообще легче расположить к слушанию того, что им предлагается: «Nam non parum emolumenti ab eo possumus acquirere, modo ipsius captui, quantum fieri potest, concedamus; adde, quod tali modo amicas praebebunt aures ad veritatem audiendam» (Tr. de int. em. p. 6); т. e. цель Спинозы при этом привести людей наиболее доступным им путем к истинному познанию: употребляя обычные им термины, он постепенно показывает, что их обычное содержание является неудовлетворительным, и на этой основе заполняет их новым содержанием. Так, в Cog. met. (см. например, с. 10 и 11) одной из основных задач является выяснить, что большинство из употребляемых там и в Рr. Ph. С. терминов vulgari sensu in philosophia non esse admittendum. Эта же самая цепь сохраняется и во всех других произведениях Спинозы, где ему приходится считаться с отрицаемыми им воззрениями. Так как Спинозе приходится часто пользоваться теологическими выражениями того времени в связи с господством схоластики, то в этих случаях особенно важно помнить, что он делает это только для того, чтобы яснее передать на привычном для людей языке, какие истинные воззрения могут быть поставлены на место их ошибочных
воззрений, а не потому, что он разделяет их мнения. Например, с одной стороны, он употребляет такие выражения, как creari, creata, Dei decreta etc. (См., например, его критическую схолию Eth. I, 33. Sch. или Tr. de int. em., р. 29 etc. (об определении), Cog. met. и т. д.) С другой же стороны, он разъясняет, какие содержания он сам вкладывает в эти выражения; так, термины «сотворенное» и «несотворенное», creata и increata Спиноза заполняет тем содержанием, которое указано им в Tr. de int. em. и «Этике» для зависимых и независимых сущностей, т. e. creata для Спинозы есть: «quod in alio est, per quod etiam concipitur»; increata: — «quod in se est et per se concipitur». (См. также, с осторожным вниманием к содержаниям, разъяснения для этих «loquendi modi» в Cog. met., II, Cap. 10). Любопытно в этом же отношении разъяснение того, как собственно надо понимать вульгарные термины: «творить» и «создавать», sheppen en genereren (Tr. de Deo I. Cap. 2. p. 9, Nota.)[336].
Мысль Спинозы о необходимости приспособления к языку лиц, с которыми он имеет дело, проводится им особенно последовательно по отношению ко взглядам Декарта. Всюду, где Спиноза затрагивает картезианские воззрения, он пользуется языком Декарта и, исходя из него, стремится показать неудовлетворительность тех содержаний, которые им выражены. Само собой разумеется, что примеры употребления картезианских терминов, главным образом, встречаются в первых произведениях Спинозы, где он почти что вынужден пользоваться терминологией Декарта, чтобы этим путем от известного подойти к неизвестному: к своим собственным содержаниям и терминам. Однако совершенно так же Спиноза употребляет язык Декарта и в позднейших своих произведениях: в письмах и в «Этике», когда обсуждает воззрения Декарта и его последователей. При этом он не «случайно» или «из невнимания», но сознательно идет таким путем, надеясь легче сговориться с окружающими его философами и подвести их постепенно к пониманию своих воззрений.
Сложность его воззрений, однако, даже и этим путем не оказалась доступной для его современников: как в 1661 г. Ольденбург, так и в 1676 году Чирнгауз (не Чирнгаузен)
одинаково не могут отвлечься от более доступных им содержаний Декарта и выставляют против Спинозы недоразумения, вытекающие из смешения точек зрения Спинозы п Декарта. Совершенно то же самое имеет место и в настоящее время, причем смешение содержаний Спинозы и содержаний Декарта, вкладываемых в одни и те же термины, вследствие, может быть, меньшего знакомства с Декартом по сравнению с современниками Спинозы, распространяются еще дальше. Многие из исследователей, повторяя недоразумения Ольденбурга и Чирнгауза, открывают на том же основании новые «противоречия».
В значительной мере результатом именно этого рода терминологически обусловленных смешений являются установления так называемого «генезиса» в учении Спинозы и соответствующих отдельных «фаз», которые предполагают различия в различное время в самых основных воззрениях Спинозы. Как уже было указано, в первых трактатах Спинозе поневоле приходилось наиболее часто считаться с картезианцами и пользоваться языком Декарта; отсюда, как можно было ожидать, на основании выше сказанного, первые трактаты Спинозы и оказались очень быстро выделенными от «Этики» как развивающие будто бы совершенно отличные от нее воззрения. Такого происхождения являются, например, известные «фазы» Авенариуса (1868). Воззрения Авенариуса в настоящее время должны быть признаны во всех отношениях устаревшими; не только самые идеи в произведениях Спинозы, казавшиеся Авенариусу характерными для установленных им фаз, имеют у Спинозы совершенно другое содержание, чем он им приписывал, но и самая хронология отдельных произведений, долженствовавших быть представителями этих фаз, в настоящее время окончательно признана основанной на недоразумениях[337]. На месте фаз Авенариуса строятся, однако, новые (Фр. 555–557), и неизбежно будут строиться, во всяком случае до тех пор, пока не будет обращено должное внимание на собственные указания
Спинозы для различения тех случаев, в которых он говорит своим языком, от случаев, когда он употребляет термины обычного языка или языка Декарта. Тот факт, например, что Спиноза в Tr. de Deo и в «Этике» говорит по поводу субстанции разное, несомненен, так же как несомненен и тот факт, что он и в «Этике» говорит о субстанциях наряду с доказательством того, что субстанция может быть только одна. Но этот факт решительно не может указывать на «фазы» в «генезисе» Спинозы, так как, говоря о субстанциях, Спиноза имеет в виду терминологию Декарта, т. е. со своей точки зрения не субстанцию, но или атрибуты, или модусы, причем и в «Этике» он употребляет выражение: субстанции там, где он имеет в виду картезианское словоупотребление. Тот, кто на место субстанций Спинозы подставит соответствующие им для Спинозы выражения, не найдет никаких принципиальных противоречий ни в первых, ни в последних произведениях Спинозы. Так же несомненен факт, что, например, в Cog. met. Спиноза высказывает об атрибутах другие воззрения, чем в «Этике», но опять-таки для всякого, кто обратит внимание на соответствующие указания Спинозы, будет ясно, что при этом в Cog. met. идет речь не об атрибутах Спинозы, но об атрибутах Декарта или атрибутах ut vulgo dicitur, т. е. о модусах (или affectiones, или entia rationis) с точки зрения Спинозы. Например, на странице 214, содержание которой привлекается нередко к вопросу об атрибутах у Спинозы (Фр. 539), идет речь о модусах (quaedam attributa), как это ясно из смысла предыдущего, из ссылки на Декарта в начале главы и особенно наглядно из примера на странице 213 по поводу distinctio rationis. Между тем, указаний Спинозы на его словоупотребление вполне достаточно, чтобы избежать недоразумений в указанных отношениях: во всех трактатах и многих письмах Спиноза оговаривается, что, пользуясь терминологией Декарта, он пользуется чужими для себя терминами; постоянно разъясняя, почему и насколько их содержания, с его точки зрения, являются неудовлетворительными, он предлагает в то же время и свои термины для разобранных содержаний, а также более уместное содержание для взятых терминов. Остановимся несколько подробнее на соответствующих моментах
его терминологии, так как ими определяется возможность широкого пользования всеми произведениями Спинозы для выяснения основных вопросов его философии, и в частности вопроса об атрибутах, без риска запутаться в «противоречиях»; отмеченные моменты дадут также более наглядное подтверждение вышесказанному.
α) Те сложные содержания, которые Спиноза рассматривает под названием «субстанций», по терминологии Декарта, он, как уже сказано, разъясняет отчасти как содержание атрибутов, и отчасти как содержание модусов (аффекций) его собственной терминологии; последнее, например, поскольку содержание «субстанции» протяжения по терминологии Декарта не совпадает с содержанием «атрибута» протяжения Спинозы, но смешивается у Декарта с содержанием материи или тел, неизбежно относящихся к модусам у Спинозы. Это отличие своего «атрибута» extensio от «субстанции» extensio Декарта Спиноза одинаково отмечает как в Рr. Ph. С., Cog. met. и Tr. de Deo, так и в письмах вплоть до 1676 г., где он указывает, например, в письмах 81, 83 к Чирнгаузу со ссылкой на Pr. Ph. С. что недоразумения Чирнгауза по поводу отношения атрибута протяжения к телам вытекают из его картезианской точки зрения, между тем как с точки зрения Спинозы эти недоразумения устраняются в связи с разъяснением: «materiam a Cartesio male definiri per extensionem». Характерные примеры для взглядов Спинозы на его атрибуты, под названием «субстанций» в его первых трактатах, дает Tr. de Deo. Говоря в нем об атрибутах со своей точки зрения, он называет их eigenschappen «of zo andere die no e men, zelfstandi ghee den», т. e. или, как другие называют их, субстанции (р. 33)», их он отличает от eigenschappen of eigenen, которые являются для него не атрибутами, но модусами (wijzen). Eigenschappen of zelfstandigheeden, т. е. субстанции-атрибуты, получают затем содержание, вполне сходное с содержанием выражения «атрибуты» в «Этике»: каждый из них бесконечен in suo genere; для человеческого познания доступны только два атрибута, в терминологии Tr. de Deo только две бесконечные субстанции cogitatio и extensio или «zelfstandige denking» и «zelfstandige uytgebreidheid». «Aangaande de eigenschappen van dewelke God bestaat, die zijn niet ais oneyndige zelfstandigheeden, van dewelke een ieder des zelfs (in suo genere) oneindig volmaakt moet zijn… Doch datter
van alie deze oneindige tot nog toe maar twee door haar zelf wezen ons bekend zijn, is waar; en deze zijn de denking en uytgebreidheid» (De Deo I, Cap. 7, p. 31). Указания на то, что для человеческого познания атрибутов (или субстанций, в смысле атрибутов Спинозы) только два, он нередко сопровождает специальными указаниями (ср. например, Tr. de Deo. I, Cap. 2., p. 15) на то, что здесь идет речь об особых содержаниях, которые, между прочим, не следует смешивать (ср. Фр. 543 544) и с атрибутами с обычных точек зрения.
Находя, таким образом, содержания, вкладываемые самим Спинозой в термин «атрибуты» (хотя под другими названиями, но с соответствующими оговорками), уже в первых трактатах, мы, с другой стороны, и в «Этике» встречаемся с выражением «субстанции» для атрибутов там, где Спиноза говорит о воззрениях картезианцев и, следовательно, считает нужным употреблять их выражения (ср. например, Eth. 1, 15 Sch.).
β) Выражение «атрибуты» по терминологии Декарта и обычного словоупотребления в противоположность выражению «субстанции» уже сплошь заполняются Спинозой содержаниями его «модусов» (или affectiones, или entia rationis). Приведу опять некоторые указания Спинозы, выясняющие его отношение к этому выражению, в его первых трактатах. В Cog. met. мы находим следующее замечание: «per affectiones hic intelligimus id quod alias per attributa denotavit Cartesius…» (Cog. met. I, Cap. 3). Те, кто в них видят истинные атрибуты, не имеют понятия о последних, но только vulgares opiniones. Для толпы и ученых, смешивающих философию и теологию, атрибуты суть свойства «quae Deo competunt, quatenus cum relatione ad res creatas consideratur vel per ipsas manifestatur». Для человека, стоящего на такой точке зрения, истинные атрибуты остаются недоступными «nullum Dei attributum novisse, quod ejus absolutam essentiam explicat» (Tr. th. p., p. 103).
Особенно существенно не смешивать атрибуты как «entia rationis» с бесконечными атрибутами субстанции у Спинозы (Фр. I, II). Entia rationis для Спинозы всегда суть модусы; наряду с указаниями Tr. de int. em. и «Этики» см. также Cog. met., Cap. I, p. 194 для разъяснения того, что entia rationis являются модусами нашего мышления. И, следовательно, ens rationis «vel modus cogitandi» (Ер. 21, 1665 г.) никак не может быть в
то же время атрибутом (Фр.) как выражением сущности субстанции. Указанная глава Cog. met. и сл. выясняют также требование Спинозы: «ne entia realia cum entibus rationis confundamus», так как «facile decipimur quando… entia rationis et abstracta cum realibus confundimus» (Eth. II, 49 Sch., p. 116), и указывают, кроме того, что и вообще обычное деление всех вещей на сущности реальные и «entia rationis» неудачно и не исчерпывает данных содержаний познания[338].
γ) Не имея, наконец, в первых трактатах для обозначения своей «субстанции» собственного термина, так как термин «субстанция» в смысле Декарта заполняется содержаниями атрибутов и модусов, Спиноза вводит для нее термин Deus — Бог, который и понимает в смысле своей «субстанции». Важно отметить, что таким образом содержание термина Deus Спинозы отлично от содержания того же выражения Декарта, а также теологического и обычного употребления. Ср. Tr. th. p., Eth. (например, II, 47 Sch.) и другие произведения Спинозы там, где он говорит об отличии философии от теологии и о вытекающих отсюда следствиях. То, что в Рr. Ph. С. Спиноза разъясняет по поводу содержания термина Deus, вполне соответствует воззрениям «Этики» на субстанцию[339]. Например, по поводу единства субстанции в письме к Гюйгенсу в 1666 г., Спиноза ссылается на разъяснения в Рr. Ph. С., указывая в то же время, что он берет для обозначения этой единой субстанции термин Deus, «quod Ens (absolute indeterminatum ac perfectum) Deum nuncupabo» или «nominabo». Мысль же о многих субстанциях, в смысле Спинозы, так же нелепа для него в 1663 году, как и в 1666, как и в 1676 г.[340] Отметим, между прочим, что помимо затронутых здесь вопросов об атрибутах и субстанции первые произведения
Спинозы дают ценные данные и для других проблем его философии в согласии с его воззрениями в «Этике» и в письмах 70-х годов. При выполнении указанных условий: различения содержаний Спинозы от чуждых ему содержаний тех терминов, которыми он пользовался, имея в виду язык своего времени, мы найдем уже в I ч. Рr. Ph. С. ценные указания по поводу вопросов об «определении», о методе, о существовании и др. II часть Рr. Ph. С. дает для взглядов Спинозы несколько менее, чем I-ая, так как именно эта II-ая часть была написана им для ученика[341] с целью преимущественно сообщения взглядов Декарта, но и здесь мы находим указания, касающиеся воззрений самого Спинозы. Так о времени, об отношении философии и теологии и т. д.
Tr. de Deo представляет для изучения особые трудности, так как мы имеем его только в голландском переводе, причем возможно, что в нем могут быть вставки, сделанные рукою картезианцев-переписчиков, и, тем не менее, в нем мы находим, кроме уже указанных собственных воззрений Спинозы на субстанцию и атрибуты, также и другие его собственные воззрения, выраженные как в терминах Декарта, так и в его собственных терминах. Некоторые моменты теории познания даны в диалогах[342].
Здесь я не могу так подробно, как мне представлялось бы желательным, обосновать мое утверждение, что воззрения Спинозы во всех основных пунктах его философии не отличны в его первых трактатах от его воззрений в «Этике», но, чтобы дать еще подтверждение сказанному, укажу, что уже в своих первых письмах Спиноза одновременно с употреблением в предназначенных для публики трактатах терминологии Декарта, определенно дает наряду с ней и свою
собственную терминологию в связи с теми самыми содержаниями, которые позже мы находим в «Этике». В этом отношении чрезвычайно характерны письма к Ольденбургу в 1661 году; из них видно, что как в этом году, так уже и раньше для Спинозы совершенно ясны его собственные воззрения ясны и определенны, а не находятся в зачаточном состоянии, его знание философии Декарта и критическое отношение к ней, и установлена его собственная терминология. В письме 2 к Ольденбургу Спиноза, например, ясно указывает, что он сам понимает под термином атрибут: «notandum, me per attributum intelligere omne id, quod concipitur per se et in se, adeo ut ipsius conceptus non involvat conceptum alterius rei», и, как пример, он тотчас же приводит extensio как атрибут, и motus как модус этого атрибута. Но дальше, отвечая Ольденбургу на его вопросы, выраженные в терминологии Декарта, Спиноза опять, следуя своему правилу, говорит об атрибутах, называя их субстанциями. Субстанцию с своей точки зрения он и здесь называет Deus; то же самое и в письме 4.
Письма же дают также подтверждение того, что мы встречаемся с употреблением Спинозой языка Декарта в самые разнообразные периоды его жизни, всюду, где он обращается к последователям Декарта или критикует близкие им воззрения. В одном из писем к купцу Блюенбергу, лишенному всякой способности к философскому мышлению, в 1665 году (письмо 21), Спиноза высказывает сожаление, что он, не зная его ранее, говорил с ним на своем языке, а не на более обычном и в данном случае не идущем в глубь вещей языке Декарта, который таким образом более бы соответствовал философской неподготовленности Блюенберга: «Video ше melius multo facturum fuisse, si in prima mea epistola Cartesii verbis respondissem». Спиноза как бы извиняется в этой ошибке, замечая, что он надеялся, что Блюенберг относится к вопросу по существу и принял во внимание его соответствующие предварительные указания. Письмо 21 типично как попытка разъяснения человеку, запутавшемуся в содержаниях теологии и философии, необходимости границ между этими областями. И здесь Спиноза указывает, что атрибуты с теологической точки зрения не имеют ничего общего с атрибутами как содержаниями философского познания. «Me quod spectat, nulla Dei aeterna
attributa ex sacra scriptura didici, nec discere potui»(p. 281). В 23 письме к Блюенбергу Спиноза, теряющий надежду на какое бы то ни было понимание по существу со стороны Блюенберга, пытается разъяснить ему свою точку зрения уже наглядными иллюстрациями, замечая, между прочим, что с философской точки зрения приписывать Богу те атрибуты, которые для человека кажутся совершенством, все равно, что приписывать человеку ослиные или слоновьи совершенства (р. 289). Также другие письма Спинозы, например, все письма к Чирнгаузу дают многие характерные подтверждения тому, что имеющиеся взгляды на «фазы» воззрений Спинозы стоят в связи со смешением различных содержаний употребляемых Спинозой терминов, на основании невнимания к указаниям Спинозы по поводу этого употребления.
Вообще говоря, если будут приняты во внимание указанные выше источники терминологически обусловленных недоразумений, то вопросы о разногласии Спинозы с самим собой и его так называемых противоречиях примут, во всяком случае, другой характер. А если, кроме того, согласно требованиям Спинозы в основу изучения его воззрений будет положена его теория познания (условие, к которому мы теперь переходим), с ее различением истинного познания от неистинного и пониманием с помощью слов, но не на основании слов, то отпадут еще очень многие недоразумения, считающиеся в настоящее время неразрешимыми.
Спиноза кратко и ясно выражает свое мнение по этому поводу: «Большинство недоразумений, — говорит он, — заключается в том, что мы неправильно применяем слова к вещам (nomina rebus non recte applicamus); если бы этого не было, то мы так же мало считали бы других заблуждающимися, — продолжает он, — как мало счел я заблуждающимся некоторого человека, которого недавно слышал кричавшим: его двор улетел на курицу соседа; и именно потому, что для меня было достаточно ясно содержание его сознания» (Eth. II, 47 Sch).
Итак, перехожу ко второму условию, необходимому для понимания учения Спинозы, именно к обязательности
предварительного изучения его взглядов на метод и теорию по-знания. Для этого изучения основной материал дает Tr. de int. em., который, по намерению Спинозы, должен был быть положен в основу его «Этики» (См. Примечание к нему Спинозы)[343]; его содержания требуют самого серьезного и внимательного изучения. Спиноза сам указывает в начале трактата на необходимость не только особенного внимания, но даже и соответствующего изменения всего строя жизни, как подготовки к действительно серьезному отношению к затронутым в нем идеям. Без данных этого трактата невозможно сознательное отношение к основным определениям и аксиомам первой части Этики; между тем, все дальнейшие положения и схолии являются только развитием и расчленением содержаний, данных в этих определениях и аксиомах.
Под методом исследования истины — Methodus veri investigandi, как уже было сказано, Спиноза не имеет в виду геометрического способа или порядка демонстрации познаваемого. Метод Спинозы, коротко говоря, есть путь к тому, чтобы уметь выяснить себе, что есть истинная идея, по его выражению, объективная сущность — essentia objectiva, уметь отличить истинную идею от неистинных идей, и оградить себя от связанных с последними заблуждений: «Vera methodus est via, ut ipsa veritas, aut essentiae objectivae rerum, aut ideae (omnia illa idem significant) debeto ordine quaerantur», говорит Спиноза о методе в Tr. de int. em. (р. 12). (См. также р. 10 etc.). В том же смысле он пишет об истинном методе в письме 37 к J.B., в 1666 году, р. 324, подчеркивая необходимость различения специфических областей познания. Истинный метод — vera methodus состоит «in sola puri intellectus cognitione, ejusque naturae et legum, quae ut acquiratur necesse est ante omnia distinguere inter intellectum et imaginationem, sive inter veras ideas et reliquas, nempe fictas, falsas, dubias et absolute omnes, quae a sola memoria dependent». (Память, memoria, для Спинозы относится к области неадекватного познания).
Как сказано, для Спинозы условием такого исследования истины является серьезнейшая подготовка со стороны
желающего по существу познать истину — подготовка, которая распространяется даже на изменение условий обычного существования. В письме к J.B. он указывает это следующими словами: «ad haec omma assiduam meditationem, et animum propositumque constantissimum requiri, quae ut habeantur, apprime necesse est, certum vivendi modum et rationum statuere, et certum aliquem finem praescribere» (p. 324)[344].
Первым шагом по пути истинного исследования является выяснение того, что есть истинная идея или адекватная идея (ср. Eth. II, Def. 4) и как понимать критерий истины; отмечу здесь только самое главное по этому поводу. Истинная или адекватная идея носит в себе самой критерий своей истинности и не зависит ни от какого внешнего критерия, вроде, например, сравнения с объектом, или, как говорит Спиноза, с идеатом. «Veritas se ipsam patefacit» (Tr. de int. em., 13). «Veritas sui sit norma» (Eth. II, 43 Sch.); она не нуждается ни в каком внешнем признаке. Истинная идея должна согласоваться со своим идеатом, но не потому истинна, что она согласуется с ним.
Важно отметить, что хотя под «идеатом» Спиноза понимает «объект» идеи и сам употребляет иногда термин objectum, но, во-первых, его «объект» или «идеат» не совпадает с обычным пониманием объекта; ему, например, не противопоставляется «субъект». При этом слова «объект» и «субъект» в том смысле, в каком они употребляются современными исследователями (ср., например, Остлер об объекте и субъекте у различных исследователей[345], см. также Фр. 591 сл., 525, 531 и др.) имеют для Спинозы содержание, относящееся исключительно к области неадекватного познания. Поэтому желательно сохранить для объекта Спинозы выражение «идеат», так
как оно лучше подчеркивает то, что дело идет об «объекте» в особом смысле слова, и, во всяком случае, об объекте идеи, а не об объекте по отношению к субъекту. Во-вторых, Спиноза пользуется термином того же корня, а, именно, выражением «объективно», objective, в смысле, как раз противоположном современному, и потому опять-таки желательно употреблять по отношению к объектам его идей выражение идеат, чтобы избежать смешения содержания objectum с содержанием objective у Спинозы. Выражение objective (essentia objective) употребляется Спинозой для обозначения некоторой данной в идее сущности; сущность же, как идеат истинной идеи, поскольку она дана не в идее, по выражению Спинозы, есть формальная сущность, или сущность, данная формально: essentia formaliter[346]. Истинная идея есть соответствующая (никогда не тожественная) этой сущности объективная сущность или сущность, данная объективно: essentia objective.
Необходимость согласования истинной идеи с ее идеатом, как следствие ее истинности, подробно разъясненная в Tr. de int. em., выражена в Eth. I, Ах. 6. Истинная идея должна согласоваться со своим идеатом: «Idea vera debet cum suo ideato convenire». Спиноза подчеркивает, что согласование не значит тожество. Истинная идея всегда отлична от идеата истинной идеи: «idea vera est diversum quid a suo ideato» (Tr. de int. em., p. 11).
Истинная идея сопровождается несомненной уверенностью в ее истинности для того, кто имеет истинную идею: «Qui veram habet ideam simul scit se veram habere ideam, nec de rei veritate potest dubitare» (Eth. II, 43).
Эту достоверность (certitudo) истинной идеи, как разъясняет Спиноза, следует отличать от отсутствия сомнения, которое часто принимается за достоверность в неадекватном познании. Последняя однако есть только отсутствие причины, которая вызывала бы сомнения (Tr. de int. em.; Eth. II, 49 Sch.). Истинная достоверность есть не отсутствие сомнения, но нечто положительное: «per certidudinem quid positivum intelligimus (vide Prop. 43 hujus cum ejusdem Schol.), non vero dubitationis privationem» (Eth. II, 49 Sch.). Достоверность, в свою очередь, не нуждается ни в каком внешнем подтверждении для того, кто
способен иметь истинную идею, т. е. для Спинозы такие критерии достоверности, как, например, общепризнанность (Allgemein-giiltigkeit), не могут быть критериями достоверности. Истинная идея не есть нечто общепризнанное, но она одна для всех, кто ее имеет, «ad certitudinem veritatis nullo alio signo sit opus, quam veram habere ideam» (Tr. de int. em., p. 11).
В Tr. th. p., где Спинозе приходится встречаться с не имеющею ничего общего с философской достоверностью верой толпы, он особенно часто возвращается к различию между философской достоверностью из самой сущности идей[347] и кажущейся достоверностью в результате неадекватного познания (Tr. th. р., cap. 2 р. 371). Как первая не требует внешних критериев, знаков и проч. для ее утверждения, так уверенность неадекватного познания, имагинационная уверенность (Tr. th. р., cap. 2), всегда ищет себе поддержки или из опыта, или, в случае если затронута область религии, удостоверения в виде чудес. Такую кажущуюся достоверность, требующую внешних критериев и отличную от истинной достоверности, Спиноза обозначает также как моральную достоверность, certitudo moralis (cap. 2, р. 372). (Отметим, что мораль для Спинозы отлична от этики. Мораль есть результат догматических неадекватных воззрений, основанных на смешении теологии и философии. Этика есть результат истинного познания (Tr. th. р., cap. 5, р. 13). Поэтому форм и выражений морали может быть неопределенно много, этика же только одна. Мораль доступна всякому, этика же только очень немногим, создавшим себе условия, необходимые для истинного познания).
Истина, являясь критерием самой себя, есть в то же время и критерий для удаления ложного. Яркую формулировку этого воззрения мы находим в известном изречении Спинозы: «Sane sicut lux seipsam et tenebram manifestat, sic veritas norma sui et falsi est» (Eth. II, 43, Sch.).
(Об отношении ложности к достоверности и истинности см. Tr. de int. em.; Eth. II, 49, Sch. и др.).
Для теории познания Спинозы Tr. de int. em. дает все основные содержания; в ее основу взят Спинозой выбор наилучших способов перцепции (Tr. de int. em., р. 9 etc.)[348].
На основании соображений об истине устанавливаются основные отличия адекватного от неадекватного, т. е. истинного от неистинного познания (неистинное не должно быть смешиваемо с ложным).
Помимо собственных постоянных указаний Спинозы в этом направлении, уже из сказанного по поводу терминологии Спинозы вытекает то огромное значение, которое должно иметь для обсуждения любых вопросов его философии умение отличать эти специфические области познания, и в виду этого необходимость предварительного изучения его теории познания.
К области неадекватного познания для Спинозы относится все то, что обыкновенно рассматривается как представление в результате восприятия в современном смысле слова, и все производные от этих представлений понятия, а также (в известном смысле) память. Характерной чертой этой области является то, что она имеет дело со смутными идеями, в которых познание одной вещи затемняется одновременным познанием другой, что дает основу и для так называемых ложных идей. Неадекватное познание само по себе не есть ложное, оно есть результат незнания той или другой сущности. На его же основании возникают фикции, в которых содержания неадекватного познания смешиваются с сущностями или вещами истинно данными (см. Tr. de int. em. рр. 15–21, 22–28). Спиноза называет область неадекватного познания областью имагинативной. Imaginatio Спинозы не равнозначно с «фантазией» или «воображением» в современном смысле слова; содержание этого последнего есть для Спинозы только один из видов фикции, в свою очередь, только части из области имагинативного познания[349]. Характерны для имагинативного познания множественность вещей в смысле числа, локализация их в
пространстве и продолжительность во времени. Как сказано, к нему относятся все чувственные восприятия, образы и все абстракции; слова также принадлежат к области имагинативного познания: они, как говорит Спиноза, суть pars imaginationis; и потому-то, так как ими нам приходится пользоваться для общения, даже и тогда, когда речь идет о содержаниях истинного познания, они в особенности являются источником всевозможных заблуждений. Как Tr. de int. em., так и другие трактаты Спинозы дают многочисленные примеры заблуждений и предрассудков, вытекающих из смешения образов, слов и абстракций имагинативного познания. В 4 письме к Ольденбургу, указывая на спутанность в рассуждениях Бэкона, Спиноза подчеркивает как основной источник недоразумений его неумение отличить истинное познание интеллекта от имагинативных содержаний и от построенных на них абстракций[350]. В Tr. th. р. Спиноза особенно часто предостерегает от смешения истинных идей с представлениями, символами и словами; для искоренения предрассудков он требует ясного понимания того, что истинная идея не есть ни представление, ни слово. (См. выше р. 16.)
В «Этике» Спипэза обращается к читателям: «Lectoresque moneo, ut accurate distinguant inter Ideam sive Mentis conceptum, et inter Imagines rerum, quas imaginamur. Deinde necesse est, ut distinguant inter Ideas et Verba, quibus res significamus… haec tria, imagines scilicet, verba, et ideae, a multis vel plane confunduntur, vel non satis accurate, vel denique non satis caute distinguuntur» (Eth. II, 49, Sch.).
Область истинного или адекватного познания, идеи которого ясны и отчетливы (clarae et distinctae), Спиноза обозначает как область интеллекта; интеллективное познание делится им затем на познание ratio и intuitio. Интеллект, intellectus, как уже было указано, нежелательно переводить ни словом «разум», ни словом «рассудок», так как эти термины легко вызывают недоразумения и их области в любом современном ограничении неизбежно захватывают не относящиеся к области интеллекта абстракции. Излюбленные переводы
терминов познания как «способность» познания, «способность» представления (Erkenntnis-«vermogen», Vorstellungs-«vermogen») т. п., вообще недопустимы по отношению к терминам Спинозы, так как всякая «способность» этого рода отбрасывается им принципиально, как фикция или абстракция неадекватного познания (ср. Eth. II, 48, Sch.). Желательно сохранить для перевода intellectus выражение интеллект, которое наполняется по мере изучения вопроса об интеллекте у Спинозы соответствующим ему специфическим содержанием. Наиболее подходящим переводом этого термина может служить выражение: истинное или ясное и отчетливое понимание. Спиноза сам говорит об интеллекте как о comprehensio (например, Eth. I, 30); как прилагательное от него предпочтительнее употреблять не многозначное выражение «интеллектуальный», но интеллективный.
Для передачи ratio и intuitio выражения «рассудок» и «разум» также не подходят по уже указанным соображениям. Выражение «рациональное познание» для ratio в особенности опасно по его современному характеру преимущественно абстрактного познания. Передача intuitio, например, как «интуитивное воззрение» в соответствии с немецкими выражениями intellektuelle или intuitive Anschauung, приводит невольно к недопустимым ассоциациям с соответствующими терминами позднейших философов, например, интеллектуальным воззрением Канта или Шопенгауэра, вполне отличным от интуиции Спинозы. Русский язык допускает выражение просто «интуиция», и пока оно еще достаточно неопределенно, чтобы не вызывать чуждых Спинозе ассоциаций; также и для ratio желательно установить выражение рацио (оно, кстати сказать, хотя и в другом смысле, уже имеет место в одном из славянских языков, и именно в польском, как racja).
Для разъяснения сущности интеллекта и его отличий от имагинативного познания служит, главным образом, как сказано, Tr. de int. em.; однако важные данные имеются и в других трактатах Спинозы, как-то: в Tr. th. р. и «Этике». Известная схолия 2-я Eth. II, 40, которую кладут обыкновенно в основу обсуждений теории познания Спинозы, представляет как бы краткое формулирование уже данного по этому поводу в остальных трактатах и уже заключенного в значительной мере в определениях и аксиомах первой и второй части
«Этики». В этой схолии, на основании предыдущего, выясняется, между прочим, значение истинного познания об общем (notiones communes) для рацио, и отделение его от интуиции; причем более подробное обсуждение интуитивных содержаний откладывается до пятой части «Этики». (Замечу, между прочим, что математические примеры, которые приводятся как в «Этике», так и в Tr. de int. em., имеют главным образом значение иллюстрирующих примеров. Недопустимость иного к ним отношения (Фр. 54) будет подробно затронута мной в специальном исследовании).
Все первые четыре книги «Этики» дают богатый материал для выяснения содержаний имагинативного познания и интеллекта как рацио; относительно рацио см. в особенности, Eth. II, 44 и след., эти 4 первые части «Этики» в связи с Tr. de int. em. кладут необходимую основу для понимания интеллекта как интуиции. Понимание интеллекта как интуиции в особенности тесно связано с пониманием вопроса об идеях идей, имеющего у Спинозы не только не противоречивое или двусмысленное (Фр. 53 сл.), но глубоко положительное значение. Вся пятая часть «Этики» построена на учении Спинозы об идеях идей, и таким образом idea mentis менее всего может быть признана «совершенно не нужным и бессмысленным удвоением понятия» (Фр. 53). Для интеллективного, адекватного познания характерным является то, что оно, как таковое, не ограничено человеческим познанием, и тем более неадекватным человеческим познанием; все учение Спинозы об истинном познании есть протест против приписываемых ему психологизма или рационализма, в смысле субъективизма, или «тожества у Спинозы гносеологического отношения с психологическим», притом еще как убеждения самого Спинозы (Фр. 530, 533, 540). К адекватному познанию Спинозы необходимо подходить, оставив в стороне все точки зрения современного релативизма, и помнить, что в нем идет речь о бесконечном интеллекте как таковом и о познании человеческого духа, mentis humanae, только постольку, поскольку (quatenus) это последнее является частью бесконечного интеллекта, т. е. поскольку человек познает адекватно. Сущность человеческого духа — essentia mentis, которую, кроме того, не следует смешивать с сущностью человека — essentia hominis, состоит, как
указывает Спиноза, из адекватного и неадекватного, а не только из неадекватного (Фр. 533) познания.
И именно, поскольку человеческий дух состоит и из адекватного познания, он является частью истинного познания как такового, т. е. бесконечного интеллекта — pars intellectus infiniti. Только имея в виду то, что Спиноза понимает под бесконечным интеллектом и отношением к нему человеческого познания, возможно серьезно подойти к вопросу об атрибутах и о так называемом параллелизме, так же как и ко всем другим основным вопросам философии Спинозы. Эти же вопросы, с другой стороны, неизбежно должны остаться глубоко непонятными и противоречивыми при точках зрения вроде той, что «теория знания Спинозы колеблется между гносеологическим монизмом…. и сенсуалистическим скептицизмом, усматривающим в знании лишь субъективную реакцию индивидуальной души на телесные процессы в организме» (Фр. 533–534).
Бесконечный интеллект, со своей стороны, не следует смешивать с атрибутом cogitatio у Спинозы. Бесконечный интеллект, так же как и человеческий дух, является только модусом атрибута cogitatio, но только бесконечный интеллект есть, как указывает Спиноза, бесконечный модус этого атрибута, а человеческий интеллект есть его конечный модус. По отношению к атрибуту cogitatio, модусом которого является интеллект, необходимо здесь же отметить, что термин cogitatio желательно, как в произведениях Спинозы, так и в произведениях Декарта, не переводить словом «мышление» (Denken), несмотря на то, что, например, Декарт сам за неимением другого слова употребляет для перевода выражения cogitatio выражение penser. Но мы видим, что даже у ближайших последователей Декарта выражение penser опять употребляется только в обычном смысле, т. е. другом смысле, чем оно дано у Декарта, как перевод для cogitatio[351]. Действительно, при переводе cogitatio словом «мышление» слишком близкой оказывается возможность скольжения в сторону обычного и, можно сказать, ежедневного употребления этого слова. Потому желательно сохранять, где возможно, выражение cogitatio;
наиболее близким переводом его могло бы быть выражение сознавание (в некоторых отношениях лучше, чем сознание). Выражение cogitationes у Спинозы к Декарта, по отношению к человеческому познанию, вполне передается выражением содержания сознания. Для такого перевода есть основание у Спинозы и у Декарта, как это видно, например, из следующего определения Декарта, приводимого Спинозой в Pr. Ph. С. (р. 121), подчеркивающего также и невозможность передать содержание термина cogitatio термином «мышление» с его определенным, более узким содержанием: «Cogitationis nomine complector omne id, quod in nobis est, ut ejus immediate conscii sumus. Ita omnes voluntatis, intellectus, imaginationis et sensuum operartiones sunt cogitationes». Другие многочисленные соответствующие этому указания даны как в произведениях Декарта, так и в произведениях Спинозы.
Атрибут cogitatio в смысле Спинозы необходимо строго отличать от его бесконечного модуса, бесконечного интеллекта, также и для того, чтобы не путать бесконечного интеллекта в смысле Спинозы, изредка называемого им infinitus intellectus Dei (Eth. II, 11, Cor.), с интеллектом Бога, приписываемого субстанции как атрибут, с антропоморфической точки зрения как обычным мнением, так и философами, не отличающими философии от теологии. Как сказано, человеческий интеллект (т. е. человеческий дух, поскольку (quatenus) он познает адекватно) является для Спинозы частью бесконечного интеллекта; между тем, по указанию Спинозы, с интеллектом Бога как атрибутом Бога, он бы уже во всяком случае не имел ничего общего, кроме имени, т. е. человеческий интеллект и интеллект Бога как атрибут Бога, были бы сходны не более и не менее «quam inter se conveniunt canis, signum coeleste, et canis, animal latrans» (Eth. 1, 17. Sch.). Выражение «интеллект Бога» в этом случае мы не могли бы понимать иначе как сущность Бога, essentia Dei; сущность Бога можно называть «интеллект Бога» или «воля Бога», но этим мы ничего не прибавим и не изменим в ней, можем, однако, легко запутать себя этими антропоморфическими выражениями (ср. Eth. 1, 33, Sch. 2).
Характерным для интеллективного, истинного познания является полная независимость его содержаний от числа,
локализации, в смысле определенного места (хотя бы дело шло и о модусах атрибута протяжения), и от времени (которое для Спинозы есть мера ограниченного существования, иначе продолжительности, характерной для области имагинативного познания). Субстанция, атрибуты, отношение субстанции к атрибутам, отношение атрибутов друг к другу и к модусам познается только путем интеллекта; притом только интеллекту доступно познание истинной необходимости и реальности. Он же выясняет и необходимость случайности и неадекватности для содержаний имагинативного познания. Отсюда ясно, что вопрос об атрибутах, так же как и вопрос о параллелизме, неизбежно связан с учением Спинозы о бесконечном интеллекте, об отношении к нему человеческого познания, а также с различением истинной реальности и необходимости интеллекта от кажущейся реальности и случайности имагинации. Не имея в виду всех этих различений, нельзя разъяснить, например, вопроса о реальности атрибутов, не стоящей ни в какой связи с существованием в обычном смысле слова, или вопроса о бесконечности атрибутов, означающей не множественность, но внечисленность (см. ниже р. 57 и сл.); при этом также не может быть разрешен вопрос об идеях идей, в связи с которым стоит вопрос о знаменитом II, 7 «Этики»; не может быть выяснено отношение духа и тела, помимо неадекватного познания тела, в связи с особенностями человеческого познания, соединяемыми нередко под ничего не говорящим о Спинозе выражением мистицизма и т. п. Знание этих же различений необходимо и для того, чтобы предупредить по отношению к содержаниям истинного познания, а также по отношению к необходимому порядку и связи этих содержаний истинного познания, постановку вопросов, недоразумений и упреков в «противоречиях», с точки зрения содержаний и случайного порядка и связи имагинативного познания. Само собой разумеется, что сделанных здесь кратких замечаний об интеллекте, имагинации и некоторых других моментах метода и теории познания у Спинозы не достаточно, да они и не предназначены для того, чтобы предложить готовый материал для перехода к разъяснению по существу затронутых вопросов; как раз наоборот, эти краткие сведения должны более наглядно показать, что такое разъяснение здесь
без предварительного серьезного изучения метода и теории познания Спинозы невозможно. Дальнейшее исследование поэтому, там, где оно касается по существу указанных вопросов, уже не претендует более на общепонятность, но предполагает в читателе специальное знакомство с основными воззрениями как самого Спинозы, так и мнениями его главнейших исследователей. В общем же, оно сохраняет своей основной задачей необходимость предупредить некоторые обычные недоразумения указанием на условия, выполнение которых может способствовать их устранению, и подчеркнуть в этих вопросах те стороны, которые требуют особенного внимания и осторожности при их обсуждении. Именно с этой точки зрения является желательным до окончательного перехода к вопросам об атрибутах и параллелизме остановиться еще на двух моментах, из которых первый стоит в связи с вопросом об атрибутах, второй — с вопросом о положении 7 II части «Этики» и отношением духа и тела. Я имею в виду 1) вопрос об определении—Definitio у Спинозы, который необходимо должен быть отмечен для понимания определения атрибутов, и 2) вопрос об истинных идеях и вещах, в связи с аксиомой шестой первой части «Этики», лежащей в основе как содержания Eth. II, 7, так и вытекающих из него следствий. Оба эти момента имеют чрезвычайно серьезное общее значение для всей философии Спинозы, но и их я имею в виду только отметить в наших целях, не имея возможности здесь даже отдаленным образом передать всю сложность их содержания.
Спиноза отличает различные виды определения, в связи с различными видами познания и соответствующей этим видам реальности. Так, необходимо отличать, по указаниям Спинозы, определение как definitio от определения как determinatio[352]; затем определение в имагинативном познании, которое, в свою очередь, имеет другое значение, чем определение в истинном познании, Важные данные в этом отношении
предлагает Tr. de int. em., Tr. de Deo, также Письма и «Этика». Истинное определение, как definitio, выражает объективную сущность некоторой в смысле Спинозы реальной вещи, т. е. некоторой формальной сущности; оно есть тоже, что истинная идея этой вещи; отсюда, истинное определение, как definitio для Спинозы, и заключает в себе и выражает только утверждение сущности определяемой вещи и ничего другого: «veram uniuscujusque rei definitionem nihil involvere neque exprimere praeter rei definitae naturam» (natura = essentia) (Eth. I, 8, Sch. 2). «Definitio cujuscunque rei ipsius rei essentiam affirmat» (Eth. Ш, 4, Dem.).
В 1666 году в письмах 34, 35 к Хр. Гюйгенсу Спиноза указывает на зависимость понимания единства Бога в смысле Спинозы, т. е. субстанции, от правильного понимания того, что есть истинное определение — definitio, причем необходимо помнить, что veram uniuscujusque rei definitionem nihil aliud, quam rei definitae simplicem naturam includere. Из того, что определение выражает только сущность определяемого, необходимо следует, что никакое истинное определение — definitio — не может заключать в себе числа предметов и не может указывать на их ту или другую численность; продолжение письма формулирует это в следующих словах: «Nullam definitionem aliquam multitudinem, vel certum aliquem individuorum numerum involvere vel exprimere; quandoquidem nihil aliud, quam rei naturam, prout ea in se est, involvit et exprimit» (Ep. 34, p. 316); то же и в «Этике»: «nullam definitionem certum aliquem numeram individuorum involvere neque exprimere, quandoquidem nihil aliud exprimit, quam naturam rei definitae» (Eth. 1, 8, Sch. 2).
Совершенно то же воззрение на истинное определение как definitio essentiae rei находим мы и в 1663 году; например, в Cog. met., отказываясь критиковать неправильные воззрения на определение, Спиноза указывает, что, во всяком случае, нельзя дать определения — definitio — некоторым вещам, иначе как разъяснив их сущность: «nullam definitionem alicujus rei dare possumus, quin simul ejus essentiam explicemus» (p. 197). Возможные недоразумения по поводу истинного определения Спиноза пытается устранить также, например, в письме 4 Ольденбургу и 9 де Фризу. Ольденбургу он выражает надежду, что для философа, который умеет различить фикцию от истинной идеи, т. е. истинное познание от имагинативного познания,
известно, что всякое определение — definitio — интеллекта несомненно истинно и, таким образом, есть аксиома: omnis definitio sive clara et distincta idea sit vera не может вызывать сомнения у того, кто знает, что есть ясная и отчетливая идея. Де Фризу Спиноза разъясняет, что самое содержание определения надо отличать от термина, который выбирается для ее обозначения; выбор обозначения не может быть верен или неверен. Действительно, термин субстанция, например, не есть нечто данное с некоторой сущностью (мы знаем взгляды Спинозы на слова как часть области имагинации), потому это слово и может употребляться Декартом для обозначения другого содержания, чем Спинозой, при этом определение, с которым оно соединено, указывает на то содержание, которому оно служит обозначением, но не обратно. Определение, как definitio, не является разъяснением содержания некоторого термина, но всегда некоторой сущности, т. е. термин играет в нем второстепенную роль, указывая в то же время, как автор обозначает определяемую им сущность.
Поскольку истинное определение есть выражение самой сущности такой вещи, которая in se est et per se concipitur, т. e. вещи, сущность которой включает в себя необходимое существование (см. ниже р. 54 сл.), как например, субстанции или атрибута, оно не требует для себя никакой другой вещи, т. е. определение — definitio никогда не есть в этом случае детерминирующее определение; определяемая им сущность «non determinatum posse concipi» (Ер. 36, р. 320). Различие дефинитивного определения (definitio) от детерминирующего (determinatio) совершенно необходимо для понимания не только учения об определении у Спинозы, но и основ его философии. Материал для этого разъяснения дает Tr. de int. em. наряду с Письмами Спинозы. Например, в письме к Гюйгенсу Спиноза выясняет, что его определение абсолютной сущности, которую он обозначает термином Бог, есть истинное определение — definitio, но не детерминирующее — determinatio. Являясь истинным реальным определением, т. е. идеей абсолютной реальной сущности, определение субстанции не может включать в себя ничего другого, кроме нее, т. е. не может быть детерминирующим. См. также письмо 50. Отсюда перевод одним словом этих двух терминов Спинозы: definitio и determinatio, без указания на различие в их
содержаниях вводит (Фр. 549) и вводил в заблуждение самых выдающихся исследователей, как пример приведу Гегеля.
На основании неразличения определения, как definitio, Спинозы от детерминирующего определения Гегель, имея в виду определение, ках definitio, Спинозы, исходит в то же время из выражения Спинозы: Determinatio est negatio[353], и на этом основании строит выводы о субстанции и атрибутах Спинозы, совершенно недопустимые именно потому, что их определения не детерминирующие определения, и если детерминирующее определение есть отрицание, то определение, как definitio, есть для Спинозы абсолютное утверждение, и только такое определение он допускает как основу для всех своих философских дедукций. Таким образом, «известное убеждение Спинозы в отрицательном характере всякого определения» (Фр. 549) не только не есть «убеждение Спинозы», но является полным недоразумением по отношению к основным определениям философии Спинозы.
Отмечу кстати, что с неразличением определения-definitio и детерминирующего определения тесно связано неразличение математических примеров от иллюстрируемых ими философских реальностей; и действительно, у того же Гегеля мы находим и недоразумения о значении математического «метода» для Спинозы (см. выше р. 13 сл.), и недопустимое сопоставление Спинозы в этом отношении с Вольфом, а в результате упрек в противоречии, не имеющем места у Спинозы[354].
Отделяя определение, как definitio, от детерминирующих определений, на которых мы здесь не будем останавливаться, Спиноза, кроме того, отделяет истинные определения как от номинальных, так и от реальных определений традиционной логики, с их родами и видовыми различиями, которые для Спинозы являются по отношению к обеим этим группам определений абстракциями в результате неадекватного человеческого познания. По поводу воззрений Спинозы на неуместность в истинном определении вопроса о роде и видовом различии см. Tr. de int. em., р. 21 etc.; чрезвычайно любопытна также его критика воззрений на определение у
традиционных логиков в Tr. de Deo I, гл. 3, рр. 32, 33. Указывая на то, что философы уверены в необходимости для правильного определения указать род и видовое различие — een geslagt en onderscheid (genus et differentia specifica), он продолжает: «Однако, хотя с этим согласны все логики, я, тем не менее, не знаю, откуда они берут это. И во всяком случае, если бы это было так, то было бы невозможно никакое знание». Он разъясняет, что при таких условиях, первое определение невозможно, а, следовательно, и все остальные также. Однако заканчивает Спиноза свои рассуждения по этому поводу, «так как мы считаем себя свободными, и ни в каком случае не связанными их постановлениями, то мы должны дать другие правила определения, согласные с истинной логикой, в соответствии с различением вещей по их сущности».
Поскольку определение для Спинозы передает самую сущность вещи, являясь содержанием истинного познания, т. е. истинной идеей этой сущности, постольку само собой понятно, что определение того, что Спиноза называет субстанцией, т. е. независимой сущностью, включающей необходимое существование, а, следовательно, и определение атрибутов, поскольку они выражают сущность субстанции, во всяком случае, не требует для своего понимания ничего, кроме этой самой сущности. Т. е. здесь, во всяком случае, не может быть и речи ни о роде, ни о видовом различии. Однако и истинное определение зависимых сущностей не может заключать в себе ни рода, ни видовых различий или свойств вещей. Определения модусов, т. е. сущностей, которые не заключают в себе необходимого существования и зависят от субстанции (ср. Ер. 4, р. 201), должны заключать в себе указание на атрибут, модусами которого они являются; но модус не есть вид атрибута, потому и атрибут является здесь не как род, но употребляется, если иметь в виду аналогию с определением традиционной логики, — как бы род, quasi genus: als haar geslagt sijnde (Tr. de Deo, p. 34); иначе: атрибуты употребляются в истинном определении как notiones communes (см. ниже р. 61 сл.), но никогда не как notiones universales обычных, все равно реальных или номинальных определений, с их родами и видами и общими понятиями, или словами, как представителями общих понятий. Эти вопросы в произведениях Спинозы рассматриваются в связи
с его учением об абстракции, а также в связи с различиями между реальными сущностями — entia realia, сущностями — свойственными только рацио — entia rationis и имагинативными сущностями — entia imaginationis.
Истинное определение, как definitio, некоторой данной сущности может быть только одно, как это ясно из указанных особенностей определения (и, следовательно, атрибуты никогда не могут быть рассматриваемы как определения субстанции (Фр. 527). Не останавливаясь здесь на особенностях детерминирующего определения, укажу только, что детерминирующих определений для каждой вещи из той области, где они могут быть применяемы, может быть дано неопределенное множество; примером могут служить детерминирующие определения математических содержаний, и потому хотя они могут служить и употребляться Спинозой для иллюстрации и аналогии, но никогда не должны быть смешиваемы с единым реальным определением некоторой метафизической сущности. Взгляд на определение остается одинаковым во все периоды жизни Спинозы (см. заключительные слова последнего письма Спинозы к Чирнгаузу, в 1676 г., где он снова, и по-прежнему, как и в 1661 году в письме к Ольденбургу, с напрасным усилием указывает на различие в определениях entium rationis от определений реальных в его смысле слова вещей—entium realium).
Итак, подходя к определению атрибутов, мы должны помнить, что здесь идет дело о definitio, т. е. об истинной идее некоторой реальной сущности. И как истинная идея имеет в себе критерий своей истины и должна соответствовать своему идеату, так и истинное определение должно соответствовать определяемой им вещи, на основании той же аксиомы «Этики» 1, 6: Idea vera debet cum suo ideato convenire.
С этим мы переходим ко второму намеченному моменту: к вопросу о том, что есть идея и что есть вещь для Спинозы в истинном познании, о котором говорит аксиома 6 первой части «Этики». Вещь или res есть для Спинозы некоторая сущность данная формально — essentia formaliter; идея в ее истинном
познании есть essentia objective — сущность данная объективно, которая и должна соответствовать сущности данной формально. Таким образом, Eth. I, Ах.6: «истинная идея должна согласоваться со своим идеатом» может быть выражена словами: всякая объективно данная сущность должна соответствовать формально данной сущности, при этом последняя и есть вещь — res, познаваемая адекватным познанием. Вещи — essentiae formaliter для адекватного познания — не ограничены при этом областью того или другого одного атрибута, например, атрибута extensio. Как формальные сущности для бесконечного интеллекта могут быть даны модусы любых атрибутов, например, и модусы атрибута cogitatio; отсюда и объективные сущности, т. е. истинные идеи этих идеа-тов могут быть не только идеями модусов других атрибутов, но и идеями модусов атрибута cogitatio, т. е. идеями идей. Однако идеи, т. е. объективно данные сущности, будут ли они идеями любых модусов любых атрибутов, или, в частности, идеями идей, всегда остаются отличными от формально данных сущностей, т. е. своих идеатов, и соответствие с ними — convenientia — не должно быть принимаемо за тожество, как уже было указано выше (р. 33). Идея, или объективная сущность, всегда есть зависимая сущность, т. е. некоторый модус атрибута cogitatio, и именно часть бесконечного модуса этого атрибута — бесконечного интеллекта. Между тем, формальная сущность, т. е. идеат идеи, может быть, как независимой сущностью субстанции, так и зависимой сущностью бесконечных модусов (как конечных, так и бесконечных (см. ниже р. 61), всех ее бесконечных атрибутов)[355].
Данные формально сущности — essentiae formaliter — связаны между собой причинной связью, как causae. Но не в смысле «действующих причин» в обычном смысле слова, но причин по сущности, по выражению Спинозы; только в переносном смысле причины, познаваемые интеллектом, могут быть называемы causae efficientes, действующими причинами; по
указанию Декарта их следовало бы называть quasi efficientes[356]. Объективно данные сущности, т. е. идеи, связаны между собой связью оснований познания, как rationes, отсюда мы подходим к тому важному моменту, что ratio (здесь не в смысле рацио как вида познания, но) в смысле «основание познания», или «causa по отношению к идеям», должно совпадать, но никогда не может быть тожественным с causa в собственном смысле слова по отношению к вещам; таким образом, встречающееся нередко у Спинозы выражение ratio sive causa ошибочно толковать как тожество, все равно, делая ли ударение на ratio и кладя в основу всей системы Спинозы «рационализм» в современном смысле слова или же делая ударение на causa и этим путем предпринимая материализацию или энергизацию его учения. Оба эти воззрения для Спинозы являются абсурдными. Выражение: causa sive ratio не выражает тожества: causa не = ratio; и тем не менее, это выражение употребляется Спинозой с полным правом, и именно в результате теории познания Спинозы, по которой истинная идея должна согласоваться со своим идеатом, и, следовательно, устанавливая некоторую истинную идею как ratio другой истинной идеи, мы в то же время устанавливаем некоторую объективную сущность для формальной сущности, являющейся причиной — causa — для формальной сущности идеата предыдущей идеи; отсюда мы имеем право вместо causa сказать ratio или употребить выражение causa sive ratio — не потому, что causa здесь равна ratio или Спиноза склонен рассматривать все реальные связи и отношения по образцу логических (Фр. 52), но потому, что «истинная идея должна согласоваться с ее идеатом», и, следовательно, преследуя в истинном познании порядок и связь системы (не рада, см. Tr. de int. em.) оснований или идей — rationum, мы тем самым преследуем и порядок и связь соответствующих им причин или идеатов — causarum.
Итак, содержания истинных идей должны согласоваться (convenire) с содержанием их идеатов, вещей, а необходимый порядок и связь истинных идей должны быть одинаковы с порядком и связью их идеатов, т е. вещей; т. е. система истинных идей (essentiae objective), как система rationum,
располагается так же, как и система реальных вещей (essentiae formaliter), т. е. система causarum; при этом в первую систему входят все бесконечные истинные содержания одного бесконечного модуса одного из атрибутов субстанции, и именно атрибута cogitatio, во вторую — бесконечные (конечные и бесконечные) модусы бесконечных атрибутов субстанции. Для человеческого познания, поскольку (quatenus) оно познает адекватно, т. е. является частью бесконечного интеллекта, его истинным идеям будут соответствовать как идеаты, essentiae formaliter модусов атрибута extensio и атрибута cogitatio.
На основании сказанного, должен быть понимаем и двойственный характер определений Спинозы — например, определения субстанции. Eth. I, Def. 3: «Per substantiam intelligo id, quod in se est, et per se concipitur»; в выражении in se est et per se concipitur первая часть указывает на сущность, данную формально, вторая часть — на сущность, данную объективно; то есть, формально данная сущность есть то, что in se est; объективно данная — то, что per se concipitur. Отсюда же ясно, что Eth. I Ах. 1: «Omnia quae sunt vel in se vel in alio sunt», — касается формальных сущностей или вещей; Ах. 2: «Id quod per aliud non potest concipi, per se concipi debet», — является ее непосредственным дополнением по отношению к объективным сущностям или идеям, и т. д. Помимо того, что causa и ratio для Спинозы служат терминами для выражения различного, а не тожественного содержания, оба выражения употребляются им, как уже отчасти было указано, по отношению к содержаниям истинного познания в смысле, отличном от обычного смысла; так, что касается выражения causa, то как Декарт, так и Спиноза поясняют, что для интеллекта выражение causa efficiens не имеет того смысла, как для нашего имагинатив-ного антропоморфически окрашенного познания.
Поскольку сущность субстанции является причиной существования (но не существования во времени) всех вещей, т. е. всех остальных сущностей, Спиноза сам считает более подходящим выражением вместо causa efficiens также схоластическое выражение causa essendi (Eth. 1, 24, Cor.); по отношению к сущностям, причиной которых является для всех вещей сущность Бога, он обозначает ее как causa essentialiter (Eth. I, 25). Декарт смотрит как на «illiterati» на тех, кто
«tantum ad causas secundum fieri, non autem secundum esse attendunt»[357]. Таким образом, абсолютная сущность есть по отношению к существованию causa essendi, по отношению к сущности как основе всего, causa essentialiter; в обоих случаях причина есть действующая причина, но не в антропоморфическом смысле, или в смысле современного естествознания, или современной философии, но в смысле активности с точки зрения Спинозы, именно: независимости от чего бы то ни было для нее внешнего. Абсолютная сущность является причиной всех вещей, causa rerum, в том же смысле, как и причиной самой себя — causa sui, т. е. не путем «действия», но по этой самой своей сущности. В этой сущности дано ее необходимое существование и в ней же даны сущности всех вещей, а вещи не «произведены» путем чего-то фиктивного, называемого с нашей обычной точки зрения «силами»: «ех data natura divina, tam rerum essentia quam existentia debeat necessario concludi, et… eo sensu quo Deus dicitur causa sui etiam omnium rerum causa dicendus est» (Eth. I, 25 Sch.), т. e. опять-таки, сущность и существование вещей даны в Боге или субстанции, in Deo, а не propter Deum, не путем сил, но путем его сущности, его природы, которую в этом смысле саму же, по отношению к следствиям, можно рассматривать и как мощь — потенцию. Действительно, для Спинозы, потенция есть сама сущность вещей: «Dei potentia est ipsa ipsius essentia» (Eth. 1, 34 Dem.) и в другом месте: «Potentia Naturae (см. ниже р. 66 сл.) sit ipsa divina potentia… divina autem potentia sit ipsissima Dei essentia» (Tr. th. p., Cap. 6. p. 24). Сама сущность есть причина, и она же есть активность. В полном соответствии с этим пониманием причины и потенции стоит и понимание Спинозой силы с точки зрения истинного познания; сила для Спинозы есть та же сущность вещи. (Ср. Pr. Ph. С. 1, 7. Sch., p. 132.)[358]
В начале статьи было указано, что нельзя подходить к философии Спинозы, рассматривая все содержание нашего сознания как представление или объект для субъекта; в этом смысле шопенгауэровский путь для исследования причин может быть приведен как пример того, как не
следует подходить к пониманию причин у Спинозы[359]. Заподозре-ние Спинозы в смешении содержаний, вкладываемых им в термины causa и ratio, а в результате действительное смешение их у него Шопенгауэром, выходки Шопенгауэра против causa sui у Спинозы, недоразумения по поводу так называемого онтологического доказательства Бога у Декарта и Спинозы (которые, кстати сказать, никак не могут быть сопоставлены без внимания к разным употреблениям термина Deus у Декарта и Спинозы), так же как и многие другие заблуждения Шопенгауэра по поводу философии Спинозы являются естественным результатом неразличения Шопенгауэром указываемых Декартом и Спинозой специфических различий способов познания. Grund des Seins («causa essendi») Шопенгауэра, уже не говоря о том, что он есть основание познания, т. е. не причина у Шопенгауэра, не должен поэтому быть смешиваем с causa essendi Спинозы, но может служить аналогией и иллюстрацией для понимания одной стороны вопроса о причине у Спинозы, а именно, ее независимости от «сил» механического миропонимания. (Вопрос о видах причины у Спинозы и о причинах Шопенгауэра будет мною подробно рассмотрен в специальном исследовании).
Для того, кто знаком с произведениями Спинозы и следил за ходом последних рассуждений, вероятно, уже ясно, каким путем пойдет далее обсуждение вопроса о «бесконечных» атрибутах субстанции, а также и разъяснение II, 7 «Этики». Для тех же, для кого выводы из сказанного остаются пока скрытыми, напоминаю, что намерение этой статьи указать, какие условия особенно необходимы для понимания учения Спинозы и какие моменты и содержания при этом требуют особого внимания и изучения, а не предложить эти самые условия или содержания уже данными.
После этих замечаний обратимся к вопросу об атрибутах.
II. К вопросу об атрибутах у Спинозы
Для вопроса об атрибутах имеют большое значение мысли Спинозы в письмах к Чирнгаузу, как непосредственно
адресованных ему, так и в письмах через Шуллера. (См. Ер. 64, 65, 66, 70, 72, 80, 81, 82. См. также вышесказанное об атрибутах по поводу терминологии Спинозы и Декарта, рр. 24–27).
Зная, что означает интеллект для Спинозы и что он понимает под определением, ясно, что определение атрибутов должно быть для Спинозы истинным реальным определением, но не реальным определением в смысле традиционной логики. Приведу еще одно из указаний Спинозы для напоминания о том, что такое определение не содержит никакой абстракции и не требует никакого родового понятия; непосредственно по отношению к вопросу об атрибутах Спиноза говорит: «Ik heb duydelijk gezegd, dat alie eigenschappen, die van geen ander oorzaak afhangen, en om welke te beschryven geen geslagt von nooden is, aan het wesen Gods toebehooren»[360], т. e.: я ясно указал, что те атрибуты (об употреблении выражения eigenschappen см. выше р. 25), которые не зависят ни от какой другой причины и для определения которых не требуется никакого родового понятия, принадлежат к сущности Бога. Другими словами, они являются «атрибутами» в смысле Спинозы.
При тех же условиях знания теории познания Спинозы и его учения об определении в определении атрибутов «Per attributum intelligo id, quod intellectus de substantia percipit, tanquam ejusdem essentiam constituens» (Eth. I, Def. 4), — мы не увидим в выражении quod intellectus percipit, так же как и в выражении «essentiam exprimit» (Eth. I Def. 6), указания на «субъективизм» в учении об атрибутах, с точки зрения, например, приводимой Франком (Фр. 526), (уже нами было обращено внимание на недопустимость приложения субъективизма вообще по отношению к содержаниям истинного познания с точки зрения Спинозы), но мы увидим в этих выражениях указание на реальность познаваемого содержания. Слово exprimit в Eth. I, Def. 6 по отношению к атрибутам действительно касается познания интеллектом в атрибутах сущности субстанции: сущность субстанции для интеллекта «выражена» в атрибутах; но, по аксиоме Eth. I, Ах. 6, истинная идея соответствует идеату, и то, что для интеллекта «выражено» в объективной сущности, то, дано
вне интеллекта как формальная сущность; действительно, мы читаем в Eth. 1, 19 Dem.: «per Dei attributa intelligendum est id, quod (per
Defin. 4) divinae substantiae essentiam exprimit, hoc est id, quod ad substantiam pertinet». Здесь выражение exprimit говорит об атрибутах по отношению к интеллекту, т. е. к объективной сущности; pertinet — по отношению к формальной сущности[361]. Как еще одно подтверждение сказанному, укажу также, что Спиноза применяет в этом смысле термин exprimere не к одним атрибутам, но и к модусам. Модусы, или единичные зависимые вещи истинного познания, тоже в этом же смысле, т. е. в их essentiae objective, «выражают» сущность субстанции: «Res particulares nihil sunt, nisi Dei atributorum affectiones, sive modi, quibus Dei attributa certo et determinato modo exprimuntur» — «выражают» (Eth. 1, 25. Cor.). И в то же время их «реальность» от этого ничуть не нарушается.
Но что есть «реальность» для Спинозы? Реальность атрибутов есть сама реальность субстанции, познаваемая путем интеллекта, т. е. реальность сущности, отличная от «реальности» с точки зрения имагинативного познания. К ней, однако, подходят обыкновенно именно с точки зрения имагинативного познания, смешивая реальность Спинозы с «действительностью» или «объективной реальностью» в обычном смысле слова, и сущность с существованием, а необходимое существование с продолжительностью во времени. Чтобы выйти из круга этих недоразумений, необходимо обратить внимание на различие, которое Спиноза делает между содержаниями esse и existere и между видами existentiae; это различие уже отчасти было указано выше (р. 18), по поводу различия в содержании термина «существование», смотря по области познания, о которой идет речь.
Выражение esse Спиноза употребляет главным образом в смысле данности в самой сущности. Сущность вещи есть ее совершенство и, следовательно, есть ее реальность, так как реальность и совершенство есть одно и то же: «per realitatem et perfectionem idem intelligo» (Eth. II Def. 6). Познание сущности есть в то же время познание реального. Но далее, реальность субстанции, т. е. абсолютно сущего, необходимо заключает в себе существование. Положение: ad naturam substantiae pertinet existere (Eth 1, 7)
есть непосредственное следствие из определения субстанции. Мы знаем, что Бог, или субстанция, Спинозы есть в этом смысле самопричина. Это необходимое существование, existentia necessaria, абсолютно реальной субстанции Спиноза отличает от существования модусов, т. е. зависимых сущностей или реальностей; их существование не связано необходимо с их сущностью, но дано в сущности субстанции, которая в этом смысле есть их causa essendi. Существование модусов в сущности субстанции Спиноза, имея притом в виду их essentiae formaliter, обозначает выражением actu existere (Ср., например, Eth. 1, 8, Sch. 2; II, 45, Dem. и Sch. и др.).
Но и это «активное существование», поскольку оно касается только вещей, познаваемых интеллектом, отлично от действительного или актуального существования с имагинативной точки зрения обычного представления, т. е. от «существования во времени»; последнее Спиноза обозначает выражениями «временное существование», «существование в настоящем», чаще всего «продолжительность» — duratio. Активное существование модусов, или вещей истинного познания, не будучи, следовательно, с одной стороны, необходимым существованием по своей сущности, с другой стороны, не является и существованием в смысле продолжительности, — оно не есть продолжительность вещей имагинативного познания: «hic per existentiam non intelligo durationem» (Eth. II, 45, Sch.). Таким образом, ни сущность, т. е. реальность познаваемых интеллектом вещей, ни их существование — хотя бы дело шло и о зависимых сущностях, или модусах, — не имеют ничего общего с продолжительностью или существованием во времени: совершенство, или реальность, или сущность некоторой вещи, «quatenus certo modo existit et operatur, nulla ipsius durationis habita ratione» (Eth. IV, Praef., p. 181). Продолжительность относится всегда к содержаниям неадекватного познания: «Nos de duratione rerum (per Prop. 31, p. 2) non nisi admodum inadaequatam cognitionem habere possumus, et rerum existendi tempora (per Schol. Prop. 44, p. 2) soli imaginatione determinamus» (Eth. IV, 62, Sch.). Как все содержания неадекватного познания, продолжительность характерна своей неопределенностью: «Duratio est indefinita existendi continuatio» (Eth. II. Def. 5).
Для выяснения отношения продолжительности или временного
существования к необходимому существованию данные имеются, например, в Eth. Ill, 9, Sch.; вообще же говоря, для выяснения различного употребления термина «существование» дают материал все сочинения Спинозы в связи с вопросом о сущностях, с одной стороны, и об особенностях имагинативного познания и времени как характерного момента имагинативного познания — с другой[362].
В противоположность обозначения имагинативного существования как «продолжительности», Спиноза обозначает необходимое существование как «вечность» — aeternitas. В Eth. I, Def. 8 он дает определение вечности: «Per aeternitatem intelligo ipsam existentiam, quatenus (поскольку!) ex sola rei detinitione (essentia) necessario sequi concipitur», т. e. вечность есть само существование, познаваемое путем интеллекта как данное в самой сущности вещи; здесь идет речь о существовании субстанции, которое необходимо следует из сущности субстанции, и это-то существование и есть вечность. Отсюда понятно, что вечность, или необходимое существование, не может рассматриваться как некоторая бесконечно большая продолжительность, но не имеет ничего общего с продолжительностью, так же как и с мерой продолжительности — временем: «in aeterno non detur quando, ante, nec post» (Eth. I, 33, Sch. 2). (Cp. также уже сказанное по вопросу о существовании.)
Возвращаясь опять к вопросу об атрибутах и имея в виду только что указанные различения, нетрудно понять, что, во-первых, реальность атрибутов, как вопрос о сущности,
а не о существовании, только через вопрос о сущности становится в отношение к вопросу о существовании, и во-вторых, что существование атрибутов так же мало, как и их реальность, может быть затронуто рассуждениями о временном существовании, т. е. так называемой «действительности» с обычной точки зрения.
Существование атрибутов есть необходимое существование, и дано в реальности, иначе в сущности, которую они выражают для адекватного познания; раз их существование есть необходимое существование, то оно, по терминологии Спинозы, может быть обозначено выражением «вечность», т. е. атрибуты вечны. Отсюда выражение Eth. I, 19: «Deus, sive omnia Dei attributa sunt aeterna», — есть только напоминание уже данного в их определении, а именно того, что их существование дано в их сущности, следовательно, есть необходимое существование и не имеет нечего общего с временной продолжительностью; оно не кончается, не начинается и не изменяется, как необходимое существование субстанции (Eth. 1, 20, Cor.).
Отмеченные моменты учения Спинозы имеют одинаково большое значение как по отношению к вопросу об атрибутах, так и по отношению ко всем вопросам, связанным с положением II, 7 «Этики».
От вопроса о реальности атрибутов и их вечности обратимся к вопросу о бесконечности атрибутов, — не «множественности» (Фр. 523 и др.). Спиноза с особым ударением указывает: «infinitatem ex… multitudine non concludant» (Ер. 81, 1676, р. 426). В Eth. I, Def. 6 Спиноза говорит о бесконечных атрибутах субстанции, хотя, как известно, он указывает только два, модусы которых даны для человеческого познания. Все то же понимание того, что есть для Спинозы истинное интеллективное познание, а следовательно, что означает выражение intelligo; и того, в чем заключается сущность определения (definitio), достаточно, чтобы отдать себе отчет в том, что вопрос о субстанции и атрибутах есть вопрос человеческого познания не как такового, но как части бесконечного интеллекта; для бесконечного же интеллекта, по самой его сущности, атрибуты субстанции, в которых он познает сущность субстанции, не могут выражаться в каком-либо определенном или неопределенном числе их.
Субстанция для бесконечного интеллекта должна быть выражена в бесконечных атрибутах; другими словами, бесконечность атрибутов вытекает не из соображений о «числе» атрибутов, но из внечисленности для бесконечного интеллекта сущности бесконечной субстанции. В абсолютной субстанции и реальность ее абсолютна, и потому дана в бесконечном интеллекте в бесконечных атрибутах, так как и не может быть дана в том или другом числе их. Таким образом, в вопросе о бесконечных атрибутах необходимо иметь в виду, что их нельзя выразить численно. Число является необходимым только для человеческого конечного познания: к бесконечности же атрибутов необходимо подходить с точки зрения воззрений Спинозы на сущность бесконечного интеллекта и, в связи с ними, с точки зрения его учения об определении, которое, как definitio, не заключает в себе никаких числовых детерминаций.
Любопытно разъяснение Спинозы по поводу того, что должно означать для истинного познания выражение «бесконечное». Он высказывает свои взгляды по этому поводу в 12 письме к Мейеру в 1663 году; в 1676 году он подтверждает их в письме 81 к Чирнгаузу со ссылкой на письмо 12. Спиноза указывает, что «бесконечное» не может быть ни выражено, ни разъяснено никаким числом: «nullo tamen numero adaequare et explicare possumus… nec Numerum, nec Mensuram, nec Tempus, quandoquidem non nisi auxilia imaginationis sunt posse esse infinitos: nam alias Numerus non esset numerus, nec Mensura mensura, nec Tempus — tempus» (p. 232).
Во избежание некоторых обычных недоразумений при толковании письма 12 существенно отметить, что пример Спинозы в этом письме из области геометрии есть только пример и наглядная аналогия, в которой существенно не все ее содержание, а только один момент, и именно тот, что бесконечность не стоит в связи с числом; этот пример должен иллюстрировать основную идею Спинозы о бесконечном, именно, что бесконечность не может быть измерена, а следовательно, и не может быть выражена ни в каком отношении к числу.
Существенно отметить, что Спиноза считает понимание бесконечного особенно трудным для тех, кто смешивает границы истинного и имагинативного познания и не различает
«inter id quod solummodo intelligere, non vero imaginari, et inter id, quod etiam imaginari possumus» (Ep. 12, p. 230). На этом основании и на основании смешения взглядов Декарта и Спинозы возникает непонимание Чирнгаузом разъяснений Спинозы относительно бесконечного, а в результате недоразумение о как бы неравномерности атрибута cogitatio по отношению к остальным атрибутам, а также вопрос о «множестве» миров, соответственно воображаемому Чирнгаузом «множеству» атрибутов. В обоих этих вопросах он, кроме того, что не разделяет области адекватного познания от неадекватного, смешивает содержания атрибута и модуса, как это делается сплошь да рядом и в настоящее время (ср. р. 73). Спиноза указывает, что ответ на вопрос о «множестве» миров ясен из Eth. II, 7 Sch, и действительно, здесь, в связи с воззрениями Спинозы на идеи идей и сущность интеллекта, даны достаточные основания для понимания того, что вопрос Чирнгауза заключает в себе недоразумение и миров для интеллекта так же не может быть множество, как не может быть множества субстанций в смысле Спинозы.
В упоминании при этом Спинозой, наряду с ссылкой на Eth. II, 7, возможности доказательства ad absurdum, интересно отношение Спинозы к этому способу доказательства. Легко было бы выяснить недоразумение Чирнгауза доказательством от противного «quod quidem demonstrandi genus, quando Propositio negativa est, prae altero eligere soleo» (Ep. 64. p. 392). Это замечание Спинозы и частое употребление им доказательства от абсурда (со своей стороны нередко подающее повод к недоразумениям по отношению к вопросам о методе) свидетельствует об аксиоматическом характере его положений (ср. ниже р. 74 сл.).
Об отношении между реальностью субстанции и бесконечностью атрибутов Спиноза говорит (Eth. 1, 10, Sch.): чем больше реальности, тем больше атрибутов; это отношение — численная аналогия для нашего ограниченного человеческого познания; в тот момент, когда мы, если можно так выразиться, доходим до абсолютной реальности, которая, как абсолютная бесконечность, не просто в своем количестве больше всякого данного количества, но стоит вне всякого числового количества, мы вместе с тем должны признать в ней и бесконечность атрибутов, но также не в смысле
некоторого числа их, большего, чем всякое данное число, но в смысле бесконечности, вне всякого вопроса об измеряемом числом количестве; в этом отношении характерны слова Спинозы к Шуллеру в письме 64, где он говорит, что заключение о бесконечности атрибутов, из которых каждый выражает для интеллекта всю сущность субстанции, есть аксиома «qua formamus ex idea, quam habemus Entis absolute infiniti, et non ex eo quod dentur aut possint dari entia, quae tria quatuor etc. attributa habeant» (p. 392).
Таким образом, учение о бесконечности атрибутов, которое, по мнению Франка, «производит непосредственно впечатление чего-то ребяческого» (Фр. 547), есть необходимое следствие из основных воззрений Спинозы, связанное с пониманием сущности бесконечного интеллекта и отличия бесконечного интеллекта от конечного интеллекта и от неадекватного познания; оно вытекает из ясного и отчетливого понимания сущности субстанции, а не из имагинативных представлений о большем или меньшем числе атрибутов. Таким образом, впечатление ребяческого, и не только с первого взгляда, непосредственно, могут производить скорее попытки подходить к этому вопросу с точки зрения ограниченного человеческого познания, т. е. с той самой точки зрения, которая для Спинозы, как он сам указывает, не имеет места при обсуждении затронутого вопроса. Такие попытки доходят до апогея в стремлении доказать, что, что бы ни говорил Спиноза, атрибутов у субстанции может быть только два и что для субстанции Спинозы вовсе и не существенно и не необходимо иметь бесконечные атрибуты. Такие взгляды проводит, например, с особенной настоятельностью Фридрихе и за ним [363]. При этом оба, что всего удивительнее, искренне убеждены в том, что этим дружеским камнем медведя пустыннику они восстанавливают честь Спинозы и спасают его от некоторого неумышленного с его стороны заблуждения.
Между тем, для Спинозы бесконечный интеллект, по самой сущности своей, не может постигать субстанцию иначе, как в
бесконечных атрибутах, или во внечисленных атрибутах; что же касается ограниченного человеческого интеллекта, то опять-таки, по самой его сущности как ограниченного познания, он необходимо должен постигать атрибуты в некотором определенном числе их, и, именно, он постигает два атрибута — extensio и cogitatio и их модусы. Почему он постигает два атрибута, это выясняется Спинозой из сущности человека, с одной стороны, и из сущности человеческого духа с его отношениями к бесконечному интеллекту, с другой стороны.
Человеческий дух познает атрибуты, поскольку он является частью бесконечного модуса атрибута cogitatio — интеллекта. Он познает не бесконечные атрибуты, поскольку он сам является конечным модусом того же атрибута.
По поводу познания человеком атрибутов выясняется и отношение познания атрибутов к адекватному познанию модусов.
Атрибуты познаются через адекватное познание модусов, но не путем абстракции, которая должна быть исключена из всякого истинного исследования (см. Tr. de int. em. и др.). Модусы как таковые не дают материала для познания атрибутов, атрибуты познаются как notiones communes нашим интеллектом, но не как notiones universales (см. выше р. 46). Понимание того, чем для Спинозы являются notiones communes, стоит в тесной связи с теорией абстракции Спинозы, которая, как сказано не укладывается в рамки учения об абстракции современной логики. Чтобы до некоторой степени подойти к тому пути, которым получается, с точки зрения Спинозы, познание об атрибутах как об общем, укажу путь, которым Кант в «Трансцендентальной Эстетике» приходит к установлению априорных форм чувственности. Самым усиленным образом предупреждаю, что notiones communes по содержанию не имеют ничего общего с тем, что Кант называет априорными формами чувственности; в этой аналогии я имею в виду исключительно только аналогию пути исследования Спинозы с путем исследования Канта. Как главные моменты аналогии, отмечу здесь следующие черты: как Кант находит априорные формы в результате не отвлечения некоторого общего свойства от единичных вещей, но в результате своего отвлечения от всех свойств единичных вещей, так и notiones
communes познаются в результате углубления интеллекта за пределы всякой ограниченности зависимых сущностей. Notiones communes Спинозы, как и априорные формы Канта, являются не абстрактными общими понятиями, но едиными и единственными в своем роде данностями, —данностями, для которых нет ни соответствующего рода, ни вида. Но, как мы видели в вопросе об определении, атрибуты могут уподобляться «как бы родам» — quasi genera, однако каждый из них остается при этом единственным, и как сам не является видом некоторого рода, так не может быть родом ни для чего другого; модусы не суть виды атрибутов.
Как notiones communes могут быть рассматриваемы [в качестве] «как бы» родов для интеллекта, так абстракции являются «как бы» notiones communes имагинативного познания (Eth. II, 40, Sch. 1).
Итак, notiones communes истинного познания не зависят от традиционного учения об абстракции; их содержание притом обще для всех тех, кто сумеет познать их, но эта общность их содержания для познающих ни в каком случае не подлежит обычным объяснениям возникновения общности, путем, например, умозаключений по аналогии или других гипотез релативистической логики. Общность атрибутов для всех познающих их есть результат сущности истинного познания и «единости» познаваемых им содержаний.
Положения 37, 38, 39, 40, II части «Этики» в значительной мере разъясняют смысл communia для Спинозы, Eth. II, 40, Sch., как бы резюмирует их данные, производя на основе учения о notionibus communibus различение рацио от интуиции.
Из сказанного об атрибутах ясно, что, не будучи абстракциями, они в то же время не могут, с другой стороны, быть рассматриваемы и как силы субстанции, в смысле, например, Куно Фишера. Не говоря уже о явном смешении в этом предположении границ адекватного и неадекватного познания, его недопустимость для содержания субстанции выясняется уже и из непосредственных указаний Спинозы на значение выражения «сила». Сила — vis — для истинного познания есть сама сущность, (ср. выше р. 51): «Vis, qua substantia se conservat, nihil est praeter ejus essentiam» (Pr. Ph. С. I, p. 132), причем как по отношению к субстанции, так и по отношению к модусам Спиноза одинаково понимает силу именно в этом смысле и одинаково
пользуется выражением «vis sive essentia». Недопустимость объяснения Куно Фишера вытекает также принципиально из отношения Спинозы к вопросу о причинности (ср. выше рр. 50–52).
Скажу еще несколько слов о каждом из атрибутов, доступных для человеческого познания, что в то же время послужит и переходом ко второму намеченному вопросу — об отношении духа и тела и о положении 7, II части «Этики».
Содержание атрибута cogitatio, как мы уже указали, не может быть ограничено мышлением, притом ни мышлением в смысле современников Спинозы, ни мышлением в смысле «сравнения и различения» современной логики. Атрибут cogitatio как для Декарта, так и для Спинозы лежит в основе всех содержаний сознания, как мышления, так и других модусов: тя Декарта — вопи и аффектов, для Спинозы — того, что Декарт называет волей, и аффектов. Спиноза различает конечные и бесконечные модусы атрибутов, атрибут cogitatio имеет своим бесконечным модусом бесконечный интеллект — intellectus infinitus, который и лежит в основе всего истинного познания. В область познаваемых им вещей входят, как мы видели, все модусы всех бесконечных атрибутов субстанции. Когда идет дело о формальных сущностях, бесконечный интеллект познает их причины в выражении соответствующего атрибута: так, например, формально данная сущность идей (для идей идей) имеет своей первой и основной причиной Бога или субстанцию как res cogitans; формально данная сущность тел как модусов атрибутов протяжения имеет в основе субстанцию как res extensa; формально данная сущность модусов некоторого недоступного человеческому познанию атрибута N имеет причиной субстанцию как res N и т. д. Сами же истинные идеи (об идеях или вещах как формальных сущностях), т. е. объективные сущности, данные как содержания бесконечного модуса атрибута cogitatio — бесконечного интеллекта, имеют свою основу в объективно данной сущности субстанции или в «идее Бога», а не в Боге как res cogitans. (См. выше отличие бесконечного модуса — интеллекта от атрибута cogitatio: р. 39 сл.) Вопрос об идее Бога и связанных с ним проблемах интуитивного познания не может быть затронут вне детального обсуждения вопросов теории познания. Бесконечный интеллект есть бесконечный модус атрибута
cogitatio, человеческое познание есть конечный его модус. (Для отношения между конечными и бесконечными модусами атрибутов существенные указания дают Eth. 1, 21, Dem. и следующие за этим положения «Этики», также письмо 64 к Шуллеру, 1675 г., р. 392). Человеческое познание истинно, поскольку (quatenus) его сущность есть часть бесконечного модуса атрибута cogitatio, т. е. бесконечного интеллекта (ср. выше). Здесь заложена основа понимания «вечности человеческого духа». Поскольку человеческий дух имеет не адекватное познание, он не есть часть бесконечного интеллекта, оставаясь модусом атрибута cogitatio и объектом истинного познания.
Несколько слов об атрибуте extensio (протяжения) переведут нас уже непосредственно к вопросу о положении II, 7 «Этики». Уже было указано, что атрибут протяжения у Спинозы не должен быть смешиваем (Фр. 528) с пространством в смысле локализированного пространства. Атрибут протяжения выражает сущность субстанции, и, будучи познаваем только адекватным познанием, неделим и не поддается никакому численному измерению, как и сущность субстанции, и потому отношение атрибута протяжения у Спинозы к модусу этого атрибута — телу — отлично от отношения «субстанции протяжения» у Декарта к телу. Иными словами: Спиноза не просто заменяет название Декарта «субстанция» по отношению к протяжению выражением «атрибут», но вкладывает в содержание термина не то, что вкладывает Декарт. Спиноза указывает, например, в Eth 1, 15, на заблуждения, вытекающие из понимания атрибута протяжения как чего-то телесного. Критикуя ошибочные воззрения Декарта на протяжение, он разъясняет, что оно не состоит из частей, так как оно вообще не «измеримо». Телесная «субстанция», говорит он, приспособляясь к языку Декарта, неделима, приписывать ей части было бы абсурдом; мы не должны вводить имагинационных соображений в область истинного познания, иначе мы получаем не истинные идеи, но фикции. (Современные исследователи нередко толкуют пример воды в рассуждении Спинозы (Eth I, 15), впадая в ту самую ошибку, для устранения которой он должен служить пособием. Спиноза указывает, что вода для нашего имагинативного восприятия, путем органов чувств, как вода, quatenus aqua est, есть тело и нечто делимое, но для
интеллекта она есть только модус протяжения, и поскольку в ней мы, путем интеллекта, познаем notio communis — атрибут extensio, мы познаем уже не нечто делимое, но нечто, что nec generatur, пес corrumpitur, так же как и выражаемая им сущность субстанции).
В различии воззрений Спинозы на отношение протяжения и тел от воззрений Декарта на это же отношение лежит в значительной степени и разрешение недоразумения, поставленного Чирнгаузом и повторяемого дальнейшими исследователями по поводу выведения тел из атрибута extensio. Спиноза в своих письмах к Чирнгаузу, 81 и 83, 1676 года, не «уклоняется» от ответа в этом направлении, как это принято думать, но повторно указывает Чирнгаузу, кстати сказать, со ссылкой на свои Рr. Ph. С., что ответ невозможен, если продолжать понимать extensio в смысле Декарта, как это делает Чирнгауз; он указывает, что недоумение Чирнгауза по поводу отношения extensio к телам совершенно справедливо, но только потому, что Декарт вкладывает в термин extensio не соответствующее содержание. Чирнгауз же придерживается именно этого содержания, а потому и не сможет выйти из этого недоразумения, пока он будет продолжать понимать extensio с точки зрения Декарта; при этом понимании вывести из extensio тела не мыслимо; именно поэтому, как указывает Спиноза, он уже в Pr. Ph. С. отмечал недопустимость воззрений Декарта на extensio. С точки же зрения Спинозы, выяснение отношения атрибута протяжения к телам требует предварительного усвоения того, что протяжение как атрибут есть notio communis, и может быть познаваем только путем интеллекта, т. е. истинного и адекватного познания; тело же для бесконечного интеллекта и для человеческого истинного познания есть модус этого атрибута; что же касается до человеческого неадекватного познания, то в его области тела могут познаваться только имагинативным путем, а, следовательно, между ними и атрибутом extensio и не может быть установлено никакой необходимой связи; другими словами, отношение атрибута протяжения к телу есть вопрос интеллективного познания по отношению к содержаниям этого же познания, а не к содержаниям, вкладываемым в те же термины человеческим имагинативным познанием.
Вопрос о теле как модусе атрибута протяжения переводит нас от атрибутов к вопросу о так называемом параллелизме, или об отношении духа и тела, в связи с вопросами, вытекающими из положения 7, II части «Этики». Раньше, однако, чем перейти к нему, необходимо отметить предварительно еще один из камней преткновения, возникающий в результате смешения сущности субстанции вообще и, в частности, атрибута протяжения с совокупностью модусов этого именно атрибута протяжения. Я имею в виду смешение выражения «природа» (natura) в смысле Спинозы с «природой» с натуралистической или, вернее, натуралистических точек зрения, вплоть до механического и «сенсуалистического» натурализма включительно (Фр. 555).
Выражение natura для Спинозы всюду равнозначно выражению «сущность»; говоря о сущности модусов, он употребляет одинаково выражение или natura, или essentia, или же говорит «natura sive essentia».
По отношению к сущности субстанции, в которой даны все остальные сущности, он употребляет то же выражение Natura; говоря в то же время «Natura sive Deus», он имеет в виду абсолютную сущность субстанции, выраженную для бесконечного интеллекта в бесконечных атрибутах (ср. Eth. I, Def. 6); другими словами: «Природа» Спинозы есть сущность субстанции, познаваемая путем интеллекта, т. е. абсолютная формальная сущность — essentia formaliter, в которой даны все зависимые формально данные сущности. Природа в этом смысле слова не есть то, что познает имагинативное познание, но есть то, что познает интеллект; то есть выражение «Природа или Бог», таким образом, не значит ничего другого, как «абсолютная сущность или Бог», и именно в этом смысле это выражение употребляется как в первых сочинениях Спинозы, так и в «Этике».
Если интеллект рассматривает эту абсолютную сущность как независимую сущность, включающую необходимое существование и являющуюся основой для всех зависимых сущностей, то она может быть обозначена схоластическим выражением Natura naturans, т. е. осуществляющая сущность. Если эта же абсолютная сущность рассматривается интеллектом
с точки зрения ее бесконечных модусов, т. е. зависимых сущностей, то эта точка зрения может быть отмечена прибавлением к выражению «природа или сущность» слова naturata: natura naturata или осуществленная сущность. Это и есть то содержание, которое вкладывает Спиноза в эти два схоластических термина (ср. Eth. 1, 29, Sch.)[364]. Утверждения, что лишь natura naturata правомерно может быть названа природой, тогда как natura naturans — чистая идея протяженности и чистая идея мышления (?) и т. д. (Фр. 558), являются результатом вполне чуждых Спинозе точек зрения; так же и утверждение, будто бы «Бог» Спинозы хотя и имманентен, но не тожествен «Природе» (Фр. 566), расходится с воззрениями Спинозы, как в общем, так и во всех частностях своего содержания. «Природа» в натуралистическом смысле есть для Спинозы имагинативно ограниченная совокупность имагинативных неадекватных содержаний человеческого сознания, о которых сказать «Природа или Бог» — Natura sive Deus— было бы равнозначно сказать «modus sive Deus», т. е. с точки зрения Спинозы полнейший абсурд.
В частности, по воззрениям Спинозы, сущность субстанции может быть выражена вся в каждом атрибуте, например, она вся может быть рассматриваема как протяженная сущность, как res extensa, но и в этом случае сущность субстанции не совпадает с «природой» натуралистических воззрений, потому что опять-таки содержание атрибута никогда не может совпадать с содержанием его модуса.
Притом Спиноза определенно настаивает на понимании термина «Природа» именно в указанном смысле: «natura sive Deus», т. е. не в смысле сущности субстанции, выражаемой в каком-нибудь одном атрибуте и его модусах для ограниченного истинного познания, но сущности для бесконечного интеллекта, выражаемой в бесконечных атрибутах и их бесконечных (конечных и бесконечных) модусах. Так, в Tr. th. р. Спиноза оговаривает: «me hic per Naturam non intelligere
solam materiam ejusque affectiones, sed praeter materiam alia infinita» (Cap. 6, p. 24).NB.
Спиноза отмечает как недоразумения ходячего мнения, как vulgi opiniones, как praejudicia и даже vulgi stultitia все попытки на место Природы как абсолютной сущности, выражаемой в бесконечных атрибутах и их модусах, подставить «природу» с точки зрения человеческого представления. И до самых последних лет своей жизни Спиноза продолжает предупреждать о недопустимости подобных смешений; в 1675 г. он пишет Ольденбургу (Ер. 73), что тот, кто думает, что в его отожествлении Природы и Бога, под «Природой» он понимает «massam quandam sive materiam corpoream», глубоко заблуждаются: «tota errant via». В Tr. th. p. Спиноза говорит по поводу смутного человеческого воззрения на природу: «Naturae autem (potentia) tanquam vim [ut vulgo dicitur] et impetum imaginentur»; «nec de Deo, nec de Natura ullum sanum habet conceptum»; «Naturam adeo limitatem fingit, ut hominem ejus praecipuam partem esse credat» etc. (Tr. th. p., Cap. 6, p. 23).
Все создаваемые по этому поводу людьми имагинативные образы и абстракции сами по себе не дают о природе как сущности субстанции никакого адекватного познания, и, с точки зрения интеллекта, сами являются некоторыми модусами или атрибута протяжения, или атрибута cogitatio, входящими в природу, с точки зрения истинного понимания, как некоторые зависимые сущности независимой субстанции; таким образом, для истинного познания человеческие неадекватные представления о природе касаются только части того, что Спиноза рассматривает как Natura.
В связи с истинным пониманием выражения «Природа — Natura» у Спинозы, согласно с его собственными указаниями, сама собой отпадает так называемая «натуралистическая фаза генезиса» воззрений Спинозы, установленная Авенариусом (см. также Фр. 555 сл.), как недопустимая фикция уравнения модуса субстанции и самой субстанции, предполагающая у Спинозы возможность абсурдного выражения «модус или субстанция» или «модус или атрибут» (Фр. 545), да еще модус не с точки зрения адекватного познания, но как имагинативная фикция неадекватного познания.
Само собой понятно также, что при указанном Спинозой понимании содержания термина Природа выражение «Природа или
Бог» — Natura sive Deus — в «Этике» является не «мало подходящим» остатком прежних воззрений (Фр. 554, 558), но содержанием, вполне соответствующим неизменным воззрениям Спинозы на сущность субстанции, познаваемой путем интеллекта.
Для выяснения себе вопросов, связанных с положением Eth. II, 7 особенно важно помнить, что ни Природа Спинозы, которая есть абсолютная сущность субстанции для бесконечного интеллекта, выражаемая в бесконечных атрибутах и их модусах, ни абсолютная сущность субстанции, выраженная для ограниченного, но тем не менее адекватного познания в одном некотором атрибуте и его модусах, не может быть ни в каком случае обсуждаема с точки зрения отношений, имеющих дело с теми или другими модусами того или другого атрибута, не говоря уже об отношениях, свойственных только содержаниям имагинативного познания. Так, субстанция и как протяженная вещь остается единой (т. е. вне числа), вечной, т. е. необходимо существующей, неизменной (ср. Eth. II, 10, Sch.) и т. д., т. е. не имеющей ни одного из свойств модусов протяжения — тел. Субстанция не телесна—est incorporea, хотя бы и рассматривалась под атрибутом протяжения. Положения I части «Этики», заключающие эти разъяснения, для всякого, кто имеет в виду различие содержаний интеллекта от имагинативного познания, а также учение об определении (definitio) по отношению к субстанции и атрибутам, являются сами собой очевидными аксиомами. (Ср. ниже р. 74 сл.)
Отметив это, переедем к Eth. II, 7 и посмотрим, что можно сказать по поводу этого положения на основании всего указанного.
III. Положение: Eth. II, 7, и вопросы с ним связанные
Прежде всего выясним, какое содержание дано в этом положении: «ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum», — порядок и связь идей тот же, что порядок и связь вещей; — затем, в каком отношении оно стоит к вопросу о духе и теле у Спинозы и насколько то, что он говорит о теле и о духе, относится к душе и телу психофизического параллелизма или субъективно-объективного гносеологического монизма или других теорий об отношении психического и физического с точки зрения современной психологии и логики.
Eth. II, 7 не говорит о «тожестве» идей и вещей, которое, как уже указано, для Спинозы и не может иметь места, поскольку речь идет о вещах как идеатах идей, но говорит об одинаковости порядка и связи идей с порядком и связью вещей.
Из демонстрации к этому положению, из всех предыдущих и последующих положений, так же как из того, что для Спинозы Eth. II, 7 имеет аксиоматический характер (см. ниже), ясно, что здесь дело идет об истинном познании и о необходимом порядке и связи, о котором говорит, например, Eth. I, 29, 33, притом о необходимом порядке и связи, с одной стороны, истинных идей (Eth. I, Ах. 2, 4), с другой — о необходимом порядке и связи вещей как идеатов истинных идей (Eth. I, Ах. 1, 3), к тому же не для ограниченного человеческого адекватного и неадекватного познания, но для бесконечного интеллекта и, следовательно, только отчасти для человеческого, и только для человеческого адекватного, познания. Идеи, о которых идет речь, суть, следовательно, объективно данные сущности и содержания бесконечного модуса атрибута cogitatio — бесконечного интеллекта, а вещи суть формально данные сущности всех бесконечных (конечных и бесконечных модусов) бесконечных атрибутов (и между прочим, всех модусов атрибута cogitatio и всех модусов атрибута extensio), познаваемых путем интеллекта; то есть здесь идет дело об идеях и вещах, которые, согласно выше разобранной аксиоме 6, 1 части «Этики», должны согласоваться (convenire) друг с другом. (Ср. выше об идеях и вещах у Спинозы, р. 47 сл.)
Тесная связь положения Eth. II, 7 с указанной аксиомой, которой оно является непосредственным развитием, отмечена Спинозой во многих частях «Этики» (ср., например, ссылку на Eth. II, 7 и на Eth. I. Ах. 6, в Eth. II, 32, Dem.).
В связи со сказанным об истинных идеях и аксиоме Eth. I, Ах. 6 мы можем, следовательно, выразить Eth. II, 7 и такими словами: ordo et connexio rationum idem est ac ordo et connexio causarum. Замена выражения «вещей» (rerum) выражением «причин» (causarum) особенно часто употребляется Спинозой во многих последующих положениях и давала повод ко многим недоразумениям, которые, однако, отпадают, если обратить внимание на то, что было выше указано по поводу
понимания Спинозой выражений: «идея», «вещь», «основание» (ratio) и «причина». Из сказанного ясно, что Eth. II, 7 применимо к человеческому познанию только постольку, поскольку последнее является адекватным познанием, т. е. частью бесконечного интеллекта. Для неадекватного человеческого познания, поскольку ему не доступны сущности вещей, не уловимы и необходимые их связи.
Познаваемые имагинативно порядки и связи случайны по самой сущности имагинативного познания и должны быть таковыми сточки зрения истинного познания. Однако именно поэтому случайность и не является свойством вещей, но исключительно результатом недостаточности человеческого познания. «At res aliqua nulla alia de causa contingens dicitur, nisi respectu defectus nostrae cognitionis» (Eth. 1, 33, Sch. 1. Cp. также Eth. IV, Def. 3 и 4 и Tr. de int. em.). Для адекватного же познания все познаваемое им необходимо, а следовательно, и само неадекватное познание. Так, порядок и связь, познаваемые неадекватно, для интеллекта необходимо являются случайными порядками и связями. Для него самого и неадекватные идеи связаны необходимым порядком: «ideae inadaequatae et confusae eadem necessitate consequuntur, ac adaequate» (Eth. II, 36. Dem.). Другими словами, для интеллекта нет неадекватных идей. Для человеческого познания есть неадекватные идеи, поскольку он познает не только путем интеллекта, но, кроме того, имагинативно; для бесконечного же интеллекта вовсе нет неадекватных идей; идеи «nullae inadaequatae nec confusae sunt, nisi quatenus ad singularem alicujus Mentem referuntur» (Eth. П, 36, Dem.).
Уже здесь отмечу, что как для понимания Eth. II, 7 Cor. и Sch., так и всех дальнейших положений, выясняющих особенности и отношения тела и духа для Спинозы, и на которых я не могу здесь останавливаться в отдельности, особенно существенно, поскольку дело идет о человеческом духе как таковом, отличать те случаи, когда Спиноза говорит о содержании неадекватного познания, от тех случаев, когда идет дело о человеческом же познании как части бесконечного интеллекта; только в последнем случае может идти дело об истинных и необходимых содержаниях; другими словами, необходимо помнить, что Спиноза не только не «берется показать возможность адекватного и универсального знания как результата элементарной и фактически совершенно иррациональной
психофизической связи в ограниченном индивиде» (Фр. 533), но это и есть то самое, невозможность чего он показывает.
Итак, Eth. II, 7 говорит о том, что необходимые порядок и связь объективно данных сущностей бесконечного модуса атрибута cogitatio — бесконечного интеллекта, а следовательно, и человеческого познания, поскольку оно является адекватным познанием и частью бесконечного интеллекта, — одинаковы с необходимым порядком и связью вещей, то есть формально данных сущностей всех без исключения модусов бесконечных атрибутов субстанции. Отсюда само собой ясно, что на место идей бесконечного интеллекта мы не можем подставить в этом положении ни атрибута cogitatio, ни всех его модусов, так же как на место вещей в этом же положении мы не можем подставить ни только одного атрибута extensio или его модусов, ни всех бесконечных атрибутов и бесконечных модусов, исключив атрибут и модусы атрибута cogitatio. Если нужны для этого еще разъяснения, то из огромного количества возможных упомяну здесь, из предшествующих положению Eth. II, 7 содержаний, о содержаниях положений Eth. 1, 30 и 31. За положением Eth. I, 30, в котором Спиноза разъясняет, что объективные сущности всех формальных сущностей атрибутов и их модусов даны в интеллекте, непосредственно следует положение I, 31 указывающее, что бесконечный интеллект относится к модусам, к зависимым сущностям, к осуществленной природе (natura naturata) (см. выше), и что само собой очевидно, что под интеллектом мы не можем понимать атрибута cogitatio: «per intellectum enim (ut per se notum) non intelligimus absolutam cogitationem, sed certum tantum modum cogitandi».
Итак, по поводу Eth. II, 7 можно говорить, если угодно, о параллелизме, но только о параллелизме объективно данных и формально данных сущностей.
Таким образом, сделавшийся столь популярным упрек Чирнгауза (Ер. 70) в том, что Спиноза ставит атрибут cogitatio в параллель ко всем остальным атрибутам и создает между ними неравноправие в их распространении («Attributum cogitationis se multo latius quam attributa caetera extendere statuatur»), заменяется как бы еще большим несоответствием: все бесконечные и конечные модусы всех бесконечных
атрибутов, не исключая и атрибута cogitatio, оказываются как бы в параллельном отношении к истинным идеям интеллекта, т. е. к одному бесконечному модусу атрибута cogitatio. Один из серьезных новейших исследователей Спинозы Иоахим пытался устранить возражение Чирнгауза о несоответствии, подставляя, однако, как и Чирнгауз, в положение II, 7 на место модуса — бесконечного интеллекта — атрибут cogitatio. Он указывал, что по отношению к cogitatio не может быть вопроса о большей или меньшей распространенности, так как это выражение может быть только образным по отношению к этому атрибуту[365]. Однако это само собой разумеется, что о распространенности в буквальном смысле слова здесь не может быть речи; затруднение же исчезает при условии понимания «бесконечного» у Спинозы как исключающего всякий вопрос о числах, в связи с пониманием особенностей содержаний интеллекта как стоящих вне имагинативных ограничений. Имея в виду указания Спинозы в этом направлении, ясно, что отношение идей в указанном смысле к вещам в указанном смысле не может рассматриваться ни с точки зрения пространственных или образных, ни с точки зрения числовых соотношений; другими словами, идеи интеллекта, т. е. идеи одного бесконечного модуса, именно потому, что мы имеем дело с познанием вне числа и с «бесконечным» в смысле Спинозы, не могут оказаться ни более распространенными, ни менее распространенными, ни более многочисленными, ни менее численными от того, будут ли они соответствовать (convenire) всем бесконечным (конечным и бесконечным) модусам одного атрибута или всем бесконечным модусам двух атрибутов или бесконечным модусам бесконечных атрибутов субстанции. Бесконечное в смысле Спинозы может соответствовать любому бесконечному, не становясь от этого больше или меньше в каком бы то ни было смысле слова. Для математика это положение понятно само собой, по аналогии с соответствующими математическими содержаниями, а тем более оно понятно для
философа в том смысле этого слова, как его понимали Декарт и Спиноза.
Поэтому так называемые «нарушения параллелизма» у Спинозы как в отношении атрибута cogitatio к другим атрибутам, так и в отношении вопроса об идеях идей, являются нарушением того параллелизма, который вкладывают на разные лады в Eth. II, 7 и в учение Спинозы исследователи Спинозы, начиная с Чирнгауза, и ни в коем случае не нарушением тех соотношений, которые даны Спинозой в аксиомах 4 и 6, 1 части «Этики» и положении 7, II части ее, говорящих о соответствии истинных идей с их идеа-томи, т. е. объективно данных сущностей с формально данными сущностями, и одинаковости связи и порядка как тех, так и других для истинного познания. Таким образом, в учении Спинозы устанавливается соответствие всех истинных идей их идеатам (уже в аксиомах первой части «Этики», основанных на теории познания Спинозы) и одинаковость порядка и связи истинных идей друг с другом со связью идеатов друг с другом (более определенно формулированная в положении Eth. II, 7), без всякого нарушения того, что не может быть нарушено по отношению к бесконечным или внечисленным содержаниям адекватного познания, специфически отличным от имагинативных содержаний, в их случайности и зависимости от числа, пространства и времени.
Из сказанного ясно, что для Спинозы положение Eth. II, 7 в этом смысле, в сущности, является самоочевидным, при предпосылке ему теории познания Спинозы и аксиом первой части «Этики». Вообще многие положения Спинозы являются аксиомами для того, кто вник в содержание его теории познания и в смысл его определений. Тот факт, что Спиноза в разное время приводит некоторые положения то в виде аксиом, то в виде теорем, не является, как это полагают некоторые его исследователи, указанием опять-таки на «генезис» воззрений Спинозы, но оказывается естественным следствием неизменного воззрения Спинозы на отношение аксиом к теоремам или, лучше, к положениям его философии. «Аксиомы» философии Спинозы не отличны от «положений» его философии для всех тех, кто адекватно воспринимает их содержание, но аксиомы должны быть даны как положения и требуют демонстрации для лиц,
неподготовленных к пониманию их аксиоматических содержаний.
В связи с этой точкой зрения стоят и частые доказательства Спинозы от противного, которые равносильны тому, что данное в том или другом положении для того, кто, по выражению Спинозы, внимателен, attendet, является самоочевидным (см., например, доказательства положений 12, 13, 1 части «Этики»); эти положения — аксиомы для всякого, усвоившего себе определение субстанции и смысл адекватного познания. См. также Eth. 18, Sch. 2, где по поводу Eth. I, 7 Спиноза говорит: «Si autem homines ad naturam substantiae attenderent, minime de veritate 7. Prop, dubitarent; imo haec Prop, omnibus axioma esset». В письме 9 к Де Фризу, говоря об истинном определении, Спиноза указывает, что истинное определение есть та же аксиома или положение (Ер., р. 223) и т. д.
Возвращаясь к содержанию II, 7, отметим еще, что как понимание его собственного содержания, точно так же и понимание более специальных содержаний его короллария и схолии, а также и следующих за ними положений, уже заложено и дано в понимании предшествующих определений и аксиом I и II частей «Этики». Не имея возможности останавливаться на этих специальных содержаниях, отмечу только по поводу II, 7 Sch., что поскольку в самом положении И, 7 вдет речь об идеях и вещах, т. е. объективно данных сущностях и формально данных сущностях, и ни о чем более, то и res — «вещь» его примеров, не есть нечто третье, в роде Кантовой «вещи в себе», но есть все та же сущность вещи, а в конечном счете сущность субстанции, поскольку (quatenus) она рассматривается под тем или другим атрибутом в выражении того или другого модуса: per diversa attributa explicitur, или: duobus modis expressa (p. 77). (См. также положение Eth. II, 21, которое, кстати сказать, имеет большое значение для более подробного выяснения содержания II, 7; здесь, в свою очередь, под «Индивидом» имеется в виду не что иное, как вся Природа, т. е. опять-таки формальная сущность субстанции (см. Eth. II, Lemma 7. Sch.).
Наметив таким образом содержание Eth. II, 7, обратимся к вопросу о человеческом духе и человеческом теле — mens и corpus в учении Спинозы, в связи с чем должно выясниться и то, насколько к утверждениям Спинозы о духе и теле
могут относиться рассуждения о душе и теле, о психическом и физическом, тех или других современных теорий.
IV. Дух и тело в учении Спинозы и несоответствие современных психофизических теорий с содержанием положения Eth. II, 7
Здесь едва может быть затронут тот богатый материал, который дают в этом направлении, кроме Eth. II, 7 с его схолией и всех остальных положений второй части «Этики», все сочинения Спинозы; дальнейшее изложение может только отчасти отметить те точки зрения, которые соответствуют или не соответствуют рассмотрению вопросов о «порядке и связи» в связи с вопросом «о духе и теле» в учении Спинозы; при этом особенное внимание должно быть обращено на терминологические трудности, уже указанные отчасти выше, а именно, на то, что один и тот же термин имеет различные содержания, смотря по тому, о какой области познания идет речь.
Прежде всего, что имеет в виду Спиноза, говоря о человеческом духе. Напомним, что Спиноза, как и Декарт, указывает на нежелательность заменять выражение mens выражением anima, предупреждая, что последнее выражение — anima, душа, — как связанное со многими различными представлениями имагинативного познания, не отвечает тому значению, которое они вкладывают в выражение mens — дух, и может ввести во многие заблуждения[366]. Говоря, следовательно, о «душе» по отношению к mens (человеческому духу) в философии Спинозы, этим самым уже обнаруживают недостаточное внимание к его предупреждениям, которое, как и следует ожидать, ведет к предвиденным Спинозой недоразумениям.
Сущность человеческого духа (essentia mentis), как уже сказано, надо отличать от сущности человека (essentia hominis): сущность человека состоит из модусов атрибутов extensio и cogitatio; сущность человеческого духа — только из модусов атрибута cogitatio; притом она состоит не только из идей смутного неадекватного познания (Фр. 533), но и из идей
адекватного или истинного познания (Eth. II. Def. 4). «Mentis essentia ex ideis adaequatis et inadaequatis constituitur» (Eth. Ш, 9 Dem.).
Существенно отметить, что, только познавая адекватно, человеческий дух, по выражению Спинозы, является активным, познавая же неадекватно, он пассивен (Eth. Ill, 3). Здесь мы не можем останавливаться подробно на вопросе об активности и пассивности человеческого духа, хотя с этим и связаны основные вопросы этики Спинозы, но здесь необходимо отметить, что, и будучи «пассивным», дух, как модус атрибута cogitatio, никогда не является пассивным через модусы атрибута extensio: модусы одного атрибута никогда не могут быть «ограничены» или детерминированы модусами другого атрибута; «активность» же или «способность» для Спинозы, все равно духа или тела, не равнозначна с деятельностью в обычном смысле слова.
Поскольку дух познает адекватно, его идеи имеют все свойства истинных идей, и, следовательно, их содержание, как уже ясно вытекает, кроме того, из сказанного выше об истинном познании, вполне не совпадает с содержанием души, или «психического», или части психического — «субъекта», с точки зрения современной психологии или логики. Имея при том в виду, что и тело для Спинозы есть тело в обычном понимании только для неадекватного познания, для адекватного же познания оно есть модус атрибута extensio; мы можем постепенно подойти к пониманию особого характера содержания духа, с точки зрения Спинозы.
Как модус атрибута extensio для интеллекта, человеческое тело не есть это тело как таковое, локализованное в пространстве и существующее во времени; хотя тело в последнем смысле слова и является для человека объектом его познания, и притом первым его объектом, но оно, как таковое, не исчерпывает познаваемого духом содержания, и для адекватного человеческого познания уже не является этим человеческим телом как таковым, но модусом вечного атрибута extensio, выражающим на свой лад сущность субстанции.
Только исходя из этих воззрений Спинозы, могут быть поняты следствия из положения Eth. II, 7 по отношению к вопросам о духе и теле; может быть понято, почему в некоторых случаях Спиноза устанавливает между ними
тесные соотношения, в других, говоря о духе, вовсе не упоминает о теле и т. д.
Оставляя пока вопрос о содержаниях, вкладываемых Спинозой в выражения «дух» и «тело» и останавливаясь на вопросе о предполагаемых отношениях между ними, мы, опять-таки, прежде всего должны будем иметь в виду двойственность человеческого духа, а, следовательно, двойственность человеческого познания. Мы должны будем, опять-таки, помнить, что самый объект нашего познания носит другой характер, смотря по тому, идет ли дело о нашем адекватном или неадекватном познании. Все идеи человеческого духа как такового (не как части бесконечного интеллекта), о человеческом теле как таковом (все равно с субъективной или объективной точки зрения, в современном смысле слова), суть идеи неадекватного познания, т. е. не ясные и не отчетливые, но смутные идеи: «Ideae affectionum Corporis humani, quatenus ad humanam Mentem tantum referuntur, non sunt clarae et distinctae, sed confusae» (Eth. II, 28 Sch.), и таковыми же являются и идеи о связи и порядке этих содержаний, поскольку они устанавливаются неадекватным познанием (Eth. И, 29, Сог.; 31, Сог.). И наоборот: все идеи духа о теле, поскольку они относятся к субстанции, т. е. познаются адекватно, как модусы, а не как содержания этого данного тела как такового, являются истинными идеями: «omnes ideae, quatenus ad Deum referuntur, verae sunt» (Eth. II, 32), так же как и идеи о связи и порядке этих содержаний, с точки зрения адекватного познания. (См. ссылки на Eth. II, 7 в Eth. II, 32 и след, положениях.) Мы уже видели, что для истинного познания нет неадекватных идей, т. е. для него, но и только для него одного, также и «ideae inadaequatae et confusae eadem necessitate consequuntur ac adaequatae sive clarae et distinctae ideae» (Eth. II, 36 Dem.).
Другими словами, говоря о порядках и связях, мы должны отличать адекватный необходимый порядок между адекватными содержаниями от неадекватных содержаний и неадекватных порядков между этими содержаниями.
Я приведу здесь еще некоторые места из произведений Спинозы, особенно наглядно напоминающие об указанном уже неоднократно, специфическом различии содержаний сознания как результате неоднородности нашего познания; они позволят с
большей уверенностью перейти к специально интересующему нас сейчас вопросу об отличии порядков и связей, устанавливаемых имагинативным путем, от необходимого порядка и связи, устанавливаемых интеллектом, о которых идет речь в Eth. II, 7.
Характеризуя аксиому, лежащую в основе IV части «Этики», посвященной вопросу о человеческих аффектах, Спиноза замечает: «Partis quartae Axioma res singulares respicit, quatenus cum relatione ad certum tempus et locum considerantur», — мы уже знаем, на какую область познания указывает это ограничение. Кстати сказать, Спиноза настолько предполагает усвоенными указанные в этих направлениях различения, что он немедленно добавляет к этому своему замечанию: «de quo neminem dubitare credo» (Eth. V, 37). Cp. также то, что говорит Спиноза в Eth. II, 8, Сог. Следующее место из «Этики» особенно ясно формулирует двойственность человеческого познания: «Res duobus modis a nobis ut actuales concipiuntur, vel quatenus easdem cum relatione ad certum tempus et locum existere, vel quatenus ipsas in Deo contineri et ex naturae divinae necessitate consequi concipimus» (Eth. V, 29, Sch.).
Слова «ex naturae divinae necessitate» непосредственно приводят нас к тому, что только истинное познание познает вещи в необходимом порядке, имагинативное же познание, не улавливая истинных сущностей, не может видеть и их истинного порядка и связи.
Таким образом, отметив, с одной стороны, что «дух» и «тело» в учении Спинозы не равнозначны душе и телу психофизических теорий, мы должны, с другой стороны, прийти к неизбежному заключению, что и связи между последними, являясь содержаниями и абстракциями неадекватного познания, не могут быть поставлены на место порядка и связи истинных идей, познаваемых путем интеллекта помимо абстракций и отношений к месту и времени.
И, действительно, сам Спиноза во многих местах дает принципиальную критику имагинативных порядков вообще, не имеющих ничего общего с необходимым ordo et connexio, о которых идет речь в Eth. II, 7. По поводу вопроса «о целях», которые Спиноза приводит как пример порядков, устанавливаемых неадекватным познанием, не касающихся
содержаний адекватного познания, т. е. недопустимых в вопросах о порядке и связи для интеллекта (хотя и необходимых с точки зрения интеллекта среди случайных порядков и связей имагинативного познания), в добавлении (Appendix) к I части «Этики» Спиноза указывает, что люди, т. е. существа, обладающие не только адекватным, но и неадекватным познанием, считают «хорошим порядком» то, что способствует, если можно так выразиться, удобству и экономии их неадекватного мышления: не зная сущности вещей, они, тем не менее, хотят внести в них порядок, чтобы облегчить себе представление, т. е. имагинативное познание, и тесно связанное с ним запоминание. Порядок, способствующий этим целям, они считают хорошим порядком, хотя это есть порядок, создаваемый из субъективных, неадекватных точек зрения: «ii qui rerum naturam [= essentiam] non intelligunt, nihil de rebus affirmant, sed res tantummodo imaginantur, et imaginationem pro intellectu capiunt, ideo ordinem in rebus esse firmiter credunt, rerum suaequae naturae ignari. Nam cum ita sint dispositae, ut, cum nobis per sensus repraesentantur, eas facile imaginari, et consequenter earum facile recordari possimus, easdem bene ordinatas… esse dicimus» (Eth. I, App., p. 70). Этот свой имагинативный порядок они затем готовы считать необходимым порядком, притом порядком (на самом деле вовсе неизвестных им) сущностей вещей.
Критика Спинозы относится здесь ко всем теориям психофизических отношений, т. е. как к психофизическому параллелизму, так и к теориям взаимодействия между душой и телом, и ко всем другим теориям, устанавливающим порядок и связи на основании познания человеческого духа о его теле как таковом, т. е. на смутном и неадекватном познании. Такие теории всегда выражаются в многочисленных и противоречащих друг другу формах[367], и поскольку они,
тем не менее, претендуют на истинное объяснение действительного, они являются примерами смешения неизбежно случайных содержаний имагинативного познания с неизбежно необходимыми содержаниями истинного познания.
Объяснения этого рода, которыми, как говорит Спиноза, обычное мнение склонно объяснять природу, касаются вовсе не вещей истинного познания, но содержаний, которые Спиноза называет имагинативными сущностями — entia imaginationis, т. е. здесь имагинативные сущности подставляются на место реальных сущностей (entia realia), и «якобы природа» или «действительность» принимается на место природы в смысле Спинозы, т. е. неизменной вечной сущности, выражаемой для бесконечного интеллекта в бесконечных атрибутах и их бесконечных модусах. «Вещи» такой «фиктивной природы», соединенные «имагинативными, случайными порядками и связями», необходимо, так же как и их порядки отличать от истинных вещей, т. е. формально данных сущностей истинного познания, связанных необходимым порядком, недоступным для имагинативного познания. «Omnes rationes, quibus vulgus[368] solet Naturam explicare, modos esse tantummodo imaginandi, nec ullius rei naturam, sed tantum imaginationis constitutionem indicare; et quia nomina habent, quasi essent entium extra imaginationem existentium, eadem entia, non rationis, sed imaginationis voco» (Eth. I App., p. 71). Таким образом, для Спинозы и «мир как представление», и мир наивного реализма есть только мир для имагинативного познания; причем наполняющие его вещи не являются реальными сущностями, но имагинативными, а многоразличные порядки, которые приводят эти содержания в «якобы необходимые», но противоречивые и случайные связи, в целях удобства имагинативного мышления и памяти, и построенные на представлениях и абстракциях, не имеют ничего общего с истинным и вечным порядком и связью реальных сущностей; последние и их порядок не доступны для познания тех, кто «imaginationem pro intellectu capiunt», но только для тех, кто умеет в человеческом познании отличать истинное и адекватное познание интеллекта от специфически отличного от него неадекватного имагинативного познания. Ср. также Eth. II, 18. Sch.,
где Спиноза указывает на различие порядка и связи — ordo et concatenatio «secundum affectionum corporis humani» от ordo et concatenatio «secundum ordinem intellectus», а также Tr. th. p. (Cap. 6, p. 22 etc.) и др.
Помимо того, что содержания современных психофизических теорий не совпадают с приравниваемыми к ним содержаниями учения Спинозы и что приписывать их ему недопустимо уже на основании самых принципов его теории познания и его философии, некоторые места его произведений даже и специально затрагивают невозможность воздействия духа на тело так, как его рисуют себе различные теории современной психологии и логики.
Многочисленные рассуждения Спинозы по поводу невозможности воздействия духа на тело и обратно встречаются часто в связи с его критическими обсуждениями взглядов Декарта и представлений популярного мировоззрения на так называемую «свободу воли» у человека. Многие из его указаний при этом, и главным образом, указания, основанные на реальном различии модусов реально различных атрибутов, более детально раскрывают уже выясненную принципиально с разных сторон невозможность применения к его содержаниям и гносеологического монизма (Фр.) для разъяснения отношений духа и тела. Особенно серьезной критике подвергается теория взаимодействия во Введении к V части «Этики».
Следующий вопрос Спинозы одинаково применим как к представителям теории взаимодействия, так и к представителям параллелизма: «quem, inquam, clarum et distinctum conceptum habet cogitationis arctissime unitae cuidam quantitatis portiunculae?» и далее: «nulla etiam datur comparatio inter Mentis et Corporis potentiam seu vires» (Eth. V, Praef., p. 241).
См. также дальнейшие рассуждения этого Введения, или Eth. Ill, 21. Sch., и т. д., которые дают ценные указания для выяснения того, как одинаково далеки для Спинозы и с его точки зрения неадекватны как воззрения Декарта, так и позднейшие воззрения на душу и тело, начиная с окказионализма и кончая утверждениями взаимодействия, параллелизма и других психофизических отношений различных современных воззрений.
Многочисленные места произведений Спинозы указывают, наконец, на отдельные модусы атрибута cogitatio, данные в
человеческом сознании, но не стоящие ни в каком отношении к телу; они могли бы также быть приведены как указание на недопустимость применения к воззрениям Спинозы параллелистической и связанных с нею точек зрения, если бы только психофизический параллелизм, как мы видели, не отпадал для Спинозы по общему несоответствию всех своих содержаний с основными данными философии Спинозы, обсуждаемыми под теми же или приблизительно теми же названиями, т. е. если бы примером «нарушений параллелизма», в которых упрекают Спинозу, не являлось все учение Спинозы об истинном познании, в особенности об идеях идей и интуиции, по отношению к которым, как уже было указано, положение Eth. II, 7 не только не стоит в противоречии, но находится необходимо в теснейшей связи со всеми воззрениями Спинозы в этих направлениях.
Таким образом, «Этика» Спинозы и в частности положение Eth. II, 7, во всяком случае, не могут дать оснований для серьезного обвинения в непоследовательности и противоречии с точки зрения современных психофизических теорий, так как к ним принципиально неприменимы эти самые точки зрения. Из сказанного ясно, что как по отношению к атрибутам и вопросам теории познания Спинозы не уместна логизация его содержаний с современной точки зрения, так по отношению к положению Eth. II, 7 и вопросам о духе и теле неуместна, кроме того, и всякая психологизация их.
Негодование психологизирующего учение Спинозы Гербарта по поводу им же созданных этим путем у Спинозы «противоречий» было бы, во всяком случае, более обосновано, если бы оно было направлено не на воззрения Спинозы, но на их неуместную психологизацию. Гербарт, не стесняясь, изливает свои аффекты по отношению к Спинозе, который, по мнению Гербарта: «mit seiner Leichtfertigkeit nicht bloss die schwierigsten Probleme (der Psychologie) niedertritt, sondem auch der Erfahrung Dinge andichtet, die sie nicht lehrt»[369]. Эта фраза могла бы, однако, иметь смысл только в том случае, если бы ее обратить на самих психологизирующих интерпретаторов, которые на самом деле: die schwierigsten Probleme der Philosophic Spinozas niedertreten, und ihm Dinge andichten, die er nicht lehrt.
В заключение к затронутым вопросам философии Спинозы существенно отметить, что положение Eth. II, 7 с его схолией вместе с ним и до него аксиомы «Этики», и вместе с ними и до них теория познания Спинозы не только составляют основные моменты его принципиальных философских воззрений, но заключают в себе в то же время основы для учения Спинозы об этике в собственном смысле этого слова. С ними связаны и на них покоятся воззрения Спинозы на вечность духа и на определяющую всю жизнь человека возможность для него единой, необходимой и философски обоснованной этики в противоположность выливающейся в самые разнообразные формы имагинативных случайностей, телеологически направленной и теологически окрашенной морали.
Заканчивая статью, повторяю, что основная задача ее заключалась не в критике воззрений тех или других отдельных исследователей, и не в том, чтобы предложить готовые решения затронутых в ней вопросов философии Спинозы, но в том, чтобы на основании моих специальных исследований в области философии Спинозы, принимая во внимание воззрения Декарта и так называемой схоластики, указать на сложность и своеобразность затрагиваемых этими вопросами содержаний, не поддающихся прокрустовым усилиям современных логизирующих и психологизирующих интерпретаций, а главное, обратить внимание на те условия и требования, намеченные, в значительной мере, самим Спинозой, выполнение которых является необходимым для всякого исследователя, желающего с достаточной серьезностью и осторожностью подойти к пониманию как этих, так и других вопросов философии Спинозы.
А. Д. Майданский
У истоков русского спинозизма:
творчество и судьба
Варвары Половцовой
Сведения о жизни В. Н. Половцовой получены частью из архивов Рейнского и Тюбингенского университетов, частью от моего друга Георгия Оксенойта, проделавшего долгую и необычайно кропотливую работу по розыску ее следов в архивах нескольких стран. Ему удалось найти ее фотографию, экземпляр книги Половцовой с ее дарственной надписью, ее статьи в журнале «Трудовая помощь» и несколько писем к зарубежным корреспондентам. Наконец, после долгих поисков им были документально установлены место и дата ее смерти.
Георгию Оксенойту за неоценимую помощь в подготовке этой книги, а также д-ру Весе Ойттинену (Хельсинки), Александру Сенину (Москва), д-ру Евгению Гутырчику (Мюнхен), д-ру Паулю Шмидту (Бонн) и д-ру Михаэлю Вишнату (Тюбинген), автор хотел бы выразить самую искреннюю благодарность.
Краткая предыстория
Как все на свете, философия рождается не в вакууме. Для своего возникновения она нуждается в особых общественно-исторических условиях. Почвой, на которой произрастает древо философии, всегда и повсюду были отношения частной собственности. Точно кислота, частная собственность разъедает архаические формы коллективного мышления, мифы, заменяя их формами сугубо личностными, к числу которых относится и философия.
Пример России вполне подтверждает это общее правило: начало интенсивного саморазвития философской мысли приходится здесь на XIX век, время становления буржуазной экономики и соответствующих отношений частной собственности. Однако в России эти отношения никогда не выступали в своей чистой и адекватной форме: поначалу они наслаивались поверх отношений общинных, а в советскую эпоху и вовсе подверглись формальному упразднению. Неудивительно, что и в русской философии всегда преобладал дух архаического коллективизма. Последний исторически принимал две основные формы — православной религиозности (ее философской идеализацией становится у славянофилов идея соборности) и общинного, уравнительного коммунизма.
Русская философия с самого дня своего рождения была с головой погружена в общественную жизнь, и потому ей непосредственно передавались все несовершенства общественного устройства. Это обстоятельство предопределило ее характерные черты: преобладание этической проблематики над логической, высокую эмоциональность и прагматический склад. Только это был не рассудительный и терпеливый прагматизм немцев или голландцев, а нервная озабоченность бытием здесь-и-сейчас, с бесконечными раздумьями на темы «что делать?» и «кто виноват?». Времени на то, чтобы помыслить вещи sub specie aeternitatis, вечно недоставало.
Западная философия своими лучшими достижениями обязана тому, что соблюдала завет Спинозы: non ridere, поп lugere, neque detestari, sed intelligere — «не плакать, не смеяться и не проклинать, но понимать». Отечественная философия пренебрегла этим императивом, культивируя эмоциональное восприятие мира в ущерб логическому мышлению. Не случайно на поверхности истории удержались те, кто энергичнее всех «проклинал» действительность, мало что понимая, — вульгарные марксисты, большевики.
Аффектация вообще свойственна природе религии и искусства, наука же всегда стремилась, насколько возможно, освободиться от власти аффектов. В русской философии всегда было очень мало от науки и много от религии и искусства. Вместе с тем лучшим образцам русской философии присуще редкостное обаяние, превосходный стиль, искренняя вера в человека и уважение к нему. Это, возможно, самая человечная философия во всей истории философской мысли.
И недостатки, и достоинства эти суть свидетельства незрелости как самой русской философии, так и тех материальных общественных отношений, которые питали ее своими соками и идеальной квинтэссенцией которых, вообще говоря, является всякая философия.
Семена философии занесло в Россию ветрами Просвещения в XVIII веке. Не секрет, что пионеры русской философии с прилежанием брали уроки у западноевропейских корифеев. Ломоносов и Радищев — выпускники немецких университетов. С немецким идеализмом не без успеха конкурировала «вольтерьянская» мода.
Учение Спинозы в ту эпоху оказывается в эпицентре внимания европейских философов — на переднем краю полемики. Симпатии к нему год от года растут, увеличивается и число приверженцев. Прежде, в течение почти столетия Спиноза был отверженным в республике ученых, в нем видели парию от философии. Генрих Гейне ничуть не преувеличивал, когда писал:
«Замечательно, как самые различные партии нападали на Спинозу. Они образуют армию, пестрый состав которой представляет забавнейшее зрелище. Рядом с толпой черных и белых клобуков, с крестами и дымящимися кадильницами марширует фаланга энциклопедистов, также возмущенных этим penseur tеmеraire [дерзким мыслителем]. Рядом с раввином амстердамской синагоги, трубящим к атаке в козлиный рог веры, выступает Аруэ де Вольтер, который на флейте насмешки наигрывает в пользу деизма, и время от времени слышится вой старой бабы Якоби, маркитантки этой религиозной армии»[370].
К концу XVIII столетия усилиями Лессинга и Дидро, Гете и немецких романтиков удалось восстановить доброе имя Спинозы, а вскоре Шеллинг и Гегель сумели заглянуть в настоящую глубину спинозовской философии. Не остались в стороне от увлечения спинозизмом и наши, отечественные ценители «любомудрия». Александр Кошелев, участник тайного «Общества любомудров», много лет спустя вспоминал:
«Тут господствовала немецкая философия… Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, философов. Мы особенно ценили Спинозу и считали его творения много выше Евангелия и других священных писаний»[371].
«Обществом любомудров», к слову, руководил близкий друг Пушкина князь В. Ф. Одоевский. В альманахе «Мнемозина» мы встречаем любопытные рассуждения его о «великом духом Спинозе».
В книге профессора Петербургского университета А. И. Галича «Картина человека» (1834) излагалось учение о «страстях», разработанное по образцу спинозовской «Этики»[372]. Впрочем, Галич лично был далек от симпатий к Спинозе и судил о нем больше «по иностранным указаниям»[373]. В своем изложении истории философской мысли он, не стесняясь в выражениях, пишет об «уклонении сей системы от здравого рассудка, несовместимости с нравственными чувствами» и даже о вызываемом ею в людях благонамеренных «чувстве какого-то омерзения».
Подобного сорта инвективы в адрес голландского вольнодумца были в порядке вещей в академических кругах, в которых вращался профессор Галич. Удивляет формулировка, с которой он был впоследствии уволен из университета: «ограничивался изложением философских систем без опровержения их». В отношении спинозовской системы, во всяком случае, Галич простым изложением не ограничился. Опровергал он Спинозу в типично кантианской манере, осуждая за «догматизм» — стремление постигнуть мир посредством чистого умозрения — «голого понятия», без должного содействия чувств. Очень скоро наряду с кантианскими нареканиями широкое хождение получат критические ремарки в адрес спинозовской философии, заимствованные из сочинений Гегеля и Шопенгауэра.
Собственные тексты Спинозы, как правило, читались в иностранных (немецких или, реже, французских) переводах, многие же и вовсе довольствовались переложениями — русским изданием лекций Куно Фишера (1862), например. Первый русский перевод Спинозы был напечатан только в 1886 году, под редакцией и с предисловием профессора В. И. Модестова[374]. Второй — перевод Н. Иванцова, под редакцией В. П. Преображенского, вышел в Москве уже в 1892 году[375]. Его же в уточненной редакции регулярно перепечатывают по сей день.
Для своего времени перевод Иванцова был неплох, не уступая по качеству большинству западных переводов. Однако он, безусловно, не идет ни в какое сравнение с лучшими современными переводами Спинозы. То же самое можно сказать о всех прочих русских изданиях Спинозы, за исключением одного — перевода TIE, выполненного в начале прошлого века В. Н. Половцовой. История жизни этой замечательной женщины и ее философские труды станут предметом нашего исследования. Но прежде еще немного об интеллектуальном климате, в котором формировались ее воззрения на учение Спинозы. Без этого их не понять.
То, пушкинских времен увлечение Спинозой в среде русских «любомудров» вскоре сменилось неприятием. С середины XIX века неокантианство и позитивизм, замысловато переплетаясь, взяли верх в европейской, а вскоре и в русской философии. Философия Спинозы делается излюбленной мишенью критики. Особенно частым был упрек в смешении реальных отношений с логическими, восходящий к диссертации Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного основания». Спинозе ставится тут в вину «смешение находящегося внутри данного понятия основания с действующей извне причиной и отождествление с ней»[376].
Шопенгауэр пояснял, что отношение основания к следствию — чисто логическое: следствия имплицитно содержатся в понятии, которое является их основанием, и могут быть аналитически выведены из данного понятия. Напротив, в отношении причины к действию стороны различаются реально — «существенно и действительно». Каузальное отношение синтетично, для его понимания, помимо логического анализа, необходим еще внешний опыт.
В основе учения Спинозы, по мнению Шопенгауэра, лежит смешение оснований познания (rationes) с причинами (causae) бытия вещей: все каузальные отношения сводятся к отношениям логическим. Об этом свидетельствуют постоянно встречающиеся у Спинозы выражения causa sive ratio и ratio seu causa. Пантеистическое отношение Бога к миру — это не настоящее каузальное отношение, как мнилось Спинозе, а отношение, так сказать, «рациональное» (от лат. ratio — основание).
У дореволюционных русских философов это толкование превратилось в едва ли не общепринятый стандарт. Только почему-то без упоминания о первоисточнике. То ли позабыли старика Шопенгауэра, то ли стеснялись водить компанию с немецким пессимистом — трудно судить. Скорее верно первое. В немецкой неокантианской литературе обвинение в «догматическом» смешении логического с реальным в адрес Декарта и Спинозы было общим местом. Можно предположить, что наши философы почерпнули эту мысль из работ Вильгельма Виндельбанда.
«Поскольку он [Спиноза] — чистейший догматик в кантовском смысле — исходил из мнения, что порядок и связь идей тождественны с порядком и связью вещей, то… связь математических положений он eo ipso [тем самым] переносит и на реальные отношения между вещами», —
утверждал Виндельбанд[377]. На русский язык перевод его двухтомной «Истории философии» вышел под редакцией университетского профессора А. И. Введенского (Санкт-Петербург, 1902–1908). Несколько ранее в собственной статье Введенского, уличавшей Спинозу в атеизме, говорилось также, что
«Спиноза стремится мыслить все реальные связи и взаимоотношения как логические… У Спинозы это стремление действует гораздо сильней и с большей отчетливостью, сознательностью, чем у Декарта. Поэтому оба они отожествляют связь причинную со связью логической, со связью между основанием и следствием»[378].
В течение следующих двадцати лет это замечание повторялось на разные лады, свободно мигрируя из одной историко-философской работы в другую. Вообще, критиковали Спинозу в те времена все кому не лень и, как правило, в одном и том же кантианском ключе.
Вступиться за Спинозу решился только Владимир Соловьев, пожелавший, «не откладывая дольше, уплатить хотя бы часть старого долга» тому, кто был его «первой любовью в области философии». В своей полемической статье в «Вопросах философии и психологии»[379] Соловьев в весьма резком тоне, местами с откровенной насмешкой комментировал взгляды Введенского на учение Спинозы и, в особенности, «рассудочно-схоластическое» понимание Бога, которое «почтенный профессор» противопоставил спинозовскому «атеизму».
Суть соловьевской апологии Спинозы сводится к утверждению, что из общего для всех зрелых вероучений понятия абсолютного, всеединого божества «Спиноза сделал целую философскую систему». Конкретное же развитие этой истины у Спинозы Соловьев полагает «совершенно неверным». Спиноза, по его представлению, стремился вывести все многообразие явлений нашего мира напрямую «из понятия о бытии и мышлении бесконечной субстанции». Иными словами, стремился чисто логически (a priori, more geometrico) вывести все реальное.
«Философски такой взгляд мог быть действительно устранен только критическим идеализмом, который показал, что между абсолютною сущностью (предполагая таковую) и миром явлений непременно стоит субъект познания…» [380]
В этой части Соловьев с Введенским всецело солидарен. Лишнее свидетельство тому мы находим в апелляции к «субъекту познания», понятому вполне по-кантиански — как посредник между ноуменальным и феноменальным мирами.
Тут же Соловьев адресует Спинозе и старый гегелевский упрек в статичности его понятия субстанции, вплоть до сравнения последней со всегда покоящимся, «бездвижным» бытием элеатов:
«Бог не может быть только богом геометрии и физики. Ему необходимо быть также богом истории. Но в системе Спинозы для бога истории так же мало места, как в системе элеатов»[381].
В сравнении с мощной, диалектически-отточенной аргументацией Соловьева рассуждения Введенского выглядят жалким резонерством. Меж тем в своем истолковании учения Спинозы Соловьев, в общем-то, столь же мало оригинален, как и Введенский. И тот и другой считают излишним углубляться в тексты Спинозы, довольствуясь полудюжиной цитат в сносках (Введенский) или парой расхожих терминов, вроде causa sui и more geometrico (Соловьев).
Доказательство безбожия спинозовской философии сводится у Введенского к соображению, которое некогда высказал тот же Шопенгауэр: словом «Бог» обозначают существо, обладающее волей, и в этом смысле у всякого божества непременно имеется личность.
«Причина мира с добавлением [качества] личности и есть то, что, будучи добросовестно употреблено, означает слово «Бог». Напротив, безличный Бог — это contradictio in adjecto [противоречие в определении]»[382].
Спиноза, лишив своего «Бога» личности, тем самым впал в противоречие, заключает Шопенгауэр. Осталось лишь название, пустое имя, за которым более не стоит понятие Бога.
К концу века этот аргумент сделался хрестоматийным. В самом начале своей статьи Введенский приводит ссылку на чрезвычайно популярный в то время историко-философский труд Фридриха Ибервега-Гейнце, где автор упрекает Спинозу в замаскированном атеизме и пренебрежении «долгом чести» по отношению к понятию Бога. Словом «Бог» правомерно называть только «личное существо», и ничто иное, настаивал Ибервег.
У Введенского это избитое и не бог весть какое глубокомысленное суждение разрослось в длинную статью размером листа в полтора. Он снисходительно соглашается считать Спинозу человеком нелицемерным, искренне верующим в Бога — но и столь же искренне заблуждающимся относительно содержания этого понятия. В общем для всех религий понятии Бога с необходимостью присутствует признак «действующей по целям личности», говорится в статье Введенского. А так как Спиноза устраняет этот признак, его следует считать никаким не пантеистом, но натуральным атеистом. Сколько бы он ни твердил о своем великом amor Dei.
Владимир Соловьев на это возразил, что для Спинозы, равно как во всех развитых вероучениях, Бог есть абсолютное сверх-личное начало бытия. Только в «низших формах религий языческих» Бог понимается антропопатически (этот необычный термин Соловьева удачно передает смысл латинского выражения Спинозы: humano more), как действующая по целям личность». Соловьев, по примеру Спинозы, решительно противился распространению категории целевой причины на бытие Бога. В этом месте перо его буквально сочится сарказмом:
«Мы не думаем, что все боги действовали по целям, но зато сей признак, характерный для божества, по мнению проф. Введенского, слишком выдается в собственном способе мышления почтенного ученого»[383].
Полемика Соловьева с Введенским — высшее достижение отечественного спинозоведения в XIX столетии. Никакая истина в этом споре не родилась, однако хорошо было то, что спинозов-ская философия привлекла внимание самых известных и влиятельных русских философов своего времени. Интерес к личности и учению Спинозы быстро растет. Переводы его сочинений издаются в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Казани, Одессе. Из типографий один за другим выходят объемистые тома книг, посвященных спинозовской философии, в том числе в переводах с европейских языков. На гребне этой интеллектуальной волны у нас просто не могли не появиться исследования мирового уровня. Пройдет не так много лет и в 1913 году почти одновременно увидят свет «К методологии исследования философии Спинозы» В. Н. Половцовой и «Метафизика Спинозы» Л. Робинсона.
Жизнеописание
Варвара Николаевна Половцова, в девичестве Симановская, родилась в Москве в 1877 году. В юности она получила лучшее по тем временам для девиц столичное образование: Петербургская женская гимназия, затем женские курсы Лесгафта (6 семестров).
В те же годы в Питере начинал свою карьеру выдающийся русский врач Николай Петрович Симановский (1854–1922), ученик С. П. Боткина, академик Императорской военно-медицинской академии и основоположник отечественной отоларингологии. Велика вероятность, что Варвара Николаевна — его дочь, однако проверить это предположение мне пока что не удалось. В пользу него говорят некоторые косвенные соображения плюс медико-биологическая тематика ее ранних работ.
Самая первая — перевод с французского книги Ж. Б. Ламарка «Анализ сознательной деятельности человека», выполненный ею совместно с Валерианом Викторовичем Половцовым. Книга вышла под редакцией П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге в 1899 году. Хотя на титульном листе книги указана ее девичья фамилия — Симановская, к тому времени Варвара Николаевна была уже замужем за Половцовым. Они познакомились на курсах Лесгафта и поженились в марте 1898 года. Эти данные приведены в биографии В. В. Половцова, написанной к сорокалетию со дня его смерти его преданным учеником академиком Б. Е. Райковым[384].
Род Половцовых — из числа старейших на Руси. В самом полном (25 томов) Русском биографическом словаре, изданном, по любопытному совпадению, «под наблюдением» А. А. Половцова, председателя Русского Исторического общества, читаем:
«ПОЛОВЦОВЫ. От князя Половцева, потомка половецкого хана Тугорхана, перешедшего на русскую службу при великом князе Святополке II Изяславиче, женатом на дочери Тугорхана»[385].
Валериан Викторович был пятнадцатью годами старше своей жены. Известный биолог, друг и сотрудник Лесгафта, он много публиковался и преподавал в нескольких столичных учебных заведениях, в том числе и в Петербургском университете. В совместной редакции Половцовых выйдут русские переводы книг Отто Шмейля «Человек. Основы учения о человеке и его здоровье» и «Животные. Основы учения о жизни и строении животных» (Санкт-Петербург: Тенишевское училище, 1900 и 1904). В те же годы появится на свет их собственное сочиненьице — «Ботанические весенние прогулки в окрестностях Петербурга» (Санкт-Петербург: Общественная польза, 1900). По свидетельству Райкова, многое из него впоследствии вошло в советские учебники по ботанике.
«Эта небольшая книга была первой печатной работой Половцова, вышедшей в виде отдельного издания раньше всех других его методических работ. Он только что женился тогда на В. Н. Симановской, которая и приняла деятельное участие в составлении книжки. Прелесть этой совместной работы над таким чудесным сюжетом, как весенняя флора, отразилась на содержании книжки, которая написана с энтузиазмом, очень живо и интересно»[386].
Первой самостоятельной публикацией В. Н. Половцовой стала статья «Половой вопрос в жизни ребенка» (Вестник воспитания, 9, 1903), напечатанная вскоре и отдельной брошюрой (Москва: Товарищество Кушнерев и К°, 1903, 16 стр.). Половцова предлагала ввести объяснение полового вопроса в школьную программу по естествознанию, что по тем временам выглядело более чем смелой инициативой. Совместно с мужем они написали главу «Половой вопрос в школе» для печатного издания курса лекций В. В. Половцова «Основы общей методики естествознания» (Москва: Товарищество И. Д. Сытина, 1907). Сказанное там остается вполне справедливым и сегодня, а кроме того, дает яркое представление о человеческих качествах авторов — причем в большей степени о бескомпромиссном характере Варвары Николаевны, поскольку из следующего издания (1914) глава эта была исключена ее мужем-соавтором, как «преждевременная при наших школьных и общественных нравах». Позволю себе привести один отрывок:
«Половое влечение всячески трактуется в произведениях искусства, а воспитатели набрасывают на эту область полупрозрачный флер, направляющий пытливость детей в ту сторону, которая вносит развращение и извращение в процессы величайшей важности. В нашем, так называемом, образованном обществе почти невозможен серьезный разговор о половом вопросе, — настолько с самых ранних лет он ассоциируется неразрывной связью с чем-то неприличным и постыдным, с одной стороны, с другой же, с представлениями о запретном, но привлекательном ряде эмоций.
Такое отношение к вопросу указывает лишь на известную развращенность нашего интеллигентного общества, которое в величайшем процессе природы сумело подметить лишь элементы разврата и таким образом набросило покров пошлости на собственное свое происхождение. С этим направлением должно всячески бороться, как с воззрениями, унижающими человеческую личность и извращающими сущность естественного явления».
Раскрытие полового вопроса, по убеждению Половцовых, должно ориентироваться на эволюцию самой природы, начиная с процессов размножения растений, затем животных, и уже в более старших классах переходя к проблеме половых отношений в человеческом обществе — непременно разъясняя, наряду с биологической и медицинской сторонами дела, особенности общественного отношения полов.
Имея уже немалый опыт научной работы, в возрасте примерно 25 лет Половцова отправляется в Германию, где в течение трех семестров изучает естественные науки в университете Гейдельберга, а в мае 1905 года подает прошение о стажировке в университете Тюбингена. Здесь десятью годами ранее в лаборатории профессора Фехтинга (Hermann Vochting) стажировался и надворный советник В. В. Половцов. Наша слушательница записывается на лекции Фехтинга «Систематика фанерогамов»[387] и «Экспериментальная физиология», и кроме того на лекции «Смысл жизни растений» (Rudolph Fitting) и «Современные химические и физико-химические проблемы» (Edgar Wedekind). Параллельно она желала работать в Ботаническом институте под руководством профессора Фехтинга.
Толи вся эта обширная программа уместилась в один семестр, то ли что-то там не сложилось, но вскоре Половцова переехала в Бонн. Здесь она проучилась 5 семестров на философском факультете местного университета и 20 января 1909 получила ученую степень доктора, защитив диссертацию на тему: «Исследования в области явлений раздражимости у растений» (Untersuchungen auf dem Gebiete der Reizerscheinungen bei den Pflanzen). Защита ее получила наивысшую оценку — «eximium» (лат.: исключительный, превосходный), и спустя несколько месяцев диссертация была напечатана в Иене под заглавием: «Экспериментальные исследования процесса раздражимости у растений под воздействием раздражения газами»[388]. Почти одновременно в издательстве Фишера выходит и более объемная книга Половцовой: «Исследования явлений раздражимости у растений»[389].
Как видим, Половцова занималась в то время по преимуществу проблемами биохимии. Философия, правда, значится, наряду с ботаникой и зоологией, в качестве предмета для финального устного экзамена (нечто вроде нынешнего кандидатского минимума), сданного ею за месяц до защиты с оценкой «summa cum laude» (лат.: наивысший балл с похвалой). И первая собственно философская публикация Половцовой появится все в том же плодоносном 1909 году. Это будет весьма пространная рецензия «По поводу автобиографии Фр. Ницше» в журнале «Вопросы философии и психологии» (1909, кн. 98, с. 501–520). По содержанию она представляла собой написанный с сочувствием и большой симпатией комментарий к ницшевскому «Ессе homo». Эта последняя рукопись немецкого Антихриста — прощальный крик его угасающего разума — была впервые опубликована годом ранее, в 1908.
Половцова явно следила за философской модой своего времени. Скандальная история с рукописным наследием Ницше не оставила ее равнодушной. Ее заметка в русский философский журнал — это репортаж с места событий.
Казалось бы, нет двух более полярных по своим взглядам и самой человеческой натуре философов, чем Спиноза и Ницше. Но противоположности, как известно, притягиваются: Ницше, ознакомившись с философией Спинозы, в фишеровском изложении, восклицал: «Я изумлен, потрясен. У меня есть предшественник и какой!»[390] Впрочем, как явствует из последующих его работ, Спинозу Ницше понял весьма своеобразно. Ему импонировала «простота и возвышенность» Спинозы, но были чужды буквально все содержания спинозовской мысли: «в них нет и капли крови»[391]. А геометрический порядок «Этики» представляется Ницше всего лишь «маскарадом больного отшельника»[392]. В спинозовских теоремах ему мерещится «что-то глубоко загадочное и зловещее». В глазах Ницше Спиноза приобретает облик то некоего «философского вампира», обескровившего живую реальность, то проповедника «храброго безропотного фатализма, каковым, например, еще и сегодня русские превосходят нас, западных людей, в жизненном поведении»[393].
Половцова не проводит никаких параллелей между учениями Спинозы и Ницше. И если мотивы, подвигнувшие ее написать о Ницше, более-менее ясны из самого текста рецензии, то об истоках ее увлечения Спинозой этого сказать мы не можем. Правда, тут могут быть высказаны кое-какие правдоподобные предположения. Начать придется издалека.
В 1910 году, одновременно с появлением первых половцовских публикаций о Спинозе, выходит русское издание лекций Бенно Эрдманна «Научные гипотезы о душе и теле». На титульном листе указано, что это «перевод с разрешения автора под редакцией и с предисловием Dr. Phil. В. Н. Половцовой, ассистента философского семинара Боннского университета»[394].
Профессору Эрдманну в то время было без малого шестьдесят. Годом ранее он занял кафедру философии в Берлинском университете, а год спустя состоится его избрание в члены Прусской Академии наук. В годы учебы Половцовой в Бонне Эрдманн в течение десяти лет вел тот самый семинар, на котором она работала в должности ассистента. В течение двух лет (до своего отбытия в Берлин) занимал он и пост ректора Боннского университета.
В редакторском Предисловии к книге Эрдманна она именует его «моим глубокоуважаемым учителем». В свою очередь, тот в Предисловии к русскому изданию выражает благодарность «доктору философии Варваре Николаевне Половцовой, моей ученице и другу», ниже прибавляя:
«Не только самый перевод носит следы ее духовного сотрудничества; уже во время обработки мною этих лекций некоторые отдельные пункты из них подвергались нашему совместному обсуждению».
В особенности отмечается ценность, какую имели для него исследования Половцовой в области физиологии растений и соображения, высказанные в методологической части ее книги на эту тему.
Быть может, из-за Эрдманна она оставила прежде времени прославленный Тюбинген — alma mater Шеллинга и Гегеля, и перебралась в скромный Бонн? По свидетельству Половцовой, «в России имя Б. Эрдманна хорошо известно всем специально работающим в области философии»[395] — как издателя сочинений Канта и благодаря нашумевшей полемике с Гуссерлем. Любопытно, что в этом споре Половцова — что вполне естественно для спинозиста, но более чем странно для ассистента эрдманновского семинара, — примет сторону Гуссерля:
«Современные логики, в значительной мере под влиянием стремления не разойтись с современными естественнонаучными течениями, являются, почти без исключения, представителями психологически окрашенного релативизма, недавно так метко охарактеризованного Гуссерлем». Этим смешением логики с психологией они, по словам Половцовой, «закрывают доступ к пониманию… учений Декарта и Спинозы»[396].
К числу упомянутых тут «современных логиков» относился, безусловно, и Бенно Эрдманн, отстаивавший в своей «Логике» (1892) относительность логических законов — зависимость их от субъективных «условий нашего мышления». За это, собственно, на него и обрушился Гуссерль.
В своих работах о Спинозе Половцова ни разу не ссылается на Эрдманна[397] и даже не упоминает имени своего «глубокоуважаемого учителя». Игнорирует и недавно напечатанную его работу о Спинозе[398]. В тех лекциях, что вышли русским изданием под редакцией Половцовой, Эрдманн пытался на кантианский лад развить приписываемую им Спинозе мысль о «параллелизме» душевных и телесных явлений. На этом строится весь замысел его книги. Какого же мнения на сей счет держалась его русская «ученица и друг»? Интерпретациям учения Спинозы в духе «психофизического параллелизма» Половцова посвятила последний раздел своей книги. Она категорически, начисто отвергает их правомерность. Но и тут про работы Эрдманна мы не находим ни слова.
Тем не менее, поскольку первые публикации Половцовой о Спинозе написаны во время ее работы в боннском семинаре, резонно предположить, что именно Эрдманн побудил ее к углубленным занятиям спинозовской философией. Из его книги видно, что собственную «гипотезу о душе и теле» он считал дальнейшим развитием учения Спинозы. У Эрдманна нет и в помине типичного для кантианцев взгляда свысока на Спинозу, как замшелого догматика. Сколь бы ошибочной ни была его интерпретация психофизической теории Спинозы, отношение к последнему у Эрдманна заинтересованное и в высшей мере уважительное. Эпиграфом к своей книге он выбрал изречение Гете:
Willst du ins Unendliche schreiten,
Geh’ nur im Endlichen nach alien Seiten.
«Если хочешь проникнуть в бесконечное, исследуй все стороны конечного». Гете, как известно, был завзятым спинозистом, и позади этих строк без особого труда угадывается теорема 24 части V «Этики»:
«Чем больше понимаем мы единичные вещи, тем больше мы понимаем Бога».
Наверняка и в боннском семинаре имела место быть та атмосфера почтения к Спинозе, которую читатель находит в книге Эрдманна и которая, по всей вероятности, заразила в итоге его «ученицу и друга» — в гораздо большей мере, чем того желал ее именитый наставник.
В самом конце Предисловия к «Научным гипотезам о душе и теле» Половцова высказывает свое кредо переводчика, которому вскоре суждено было осуществиться в переводе спинозовского TIЕ:
«Мне не представляется желательным во что бы то ни стало избегать иностранных терминов… Изобретение русских слов может быть задачей перевода литературного произведения; научный же перевод требует прежде всего возможной точности… Всякий перевод должен служить только подготовкой к чтению оригиналов. Важно, чтобы термины, встречаясь снова в оригинале, могли быть легко узнаваемы»[399].
Решить эту задачу ей превосходно удалось. Остальные же русские переводчики Спинозы меньше всего заботились о том, чтобы подготовить читателя к изучению оригиналов. В трудных случаях точность перевода почти всякий раз приносится ими в жертву литературной стороне дела. Кроме того, по части познаний в области философии и вообще научным дарованиям Половцова далеко превосходит всех прочих переводчиков и редакторов русских переводов Спинозы.
Первыми печатными работами, посвященными спинозовской тематике, для Половцовой станут заметки на книгу католического священника Станислауса фон Дунин-Борковского «Молодой де Спиноза. Жизнь и развитие в свете мировой философии»[400]. Одна заметка вышла в «Вопросах философии и психологии»[401], другая годом позже в «Historische Zeitschrift»[402].
В изображении Дунин-Борковского интеллектуальное развитие Спинозы предстает как сплошная череда влияний и заимствований, а сам он характеризуется как Analogiegeist (ум аналогического склада) и Sammelgenie (гений собирательства). Решительно возражая против подобного «освещения» спинозовской философии, Половцова выносит следующий вердикт:
«Лицам, мало знакомым с другими данными о Спинозе, книга Дунин-Борковского даст искаженный образ Спинозы как человека и как философа. С этой стороны, появление этой книги не может быть встречено с сочувствием»[403].
Откровенно, что и говорить. С не меньшей прямотой Половцова впоследствии отзывалась и о сочинениях многих других авторитетных историков философии. Дерзость, чтобы не сказать нахальство, никому не известного «доктора философии» не осталась без отповеди.
«В специальной литературе, посвященной Спинозе, ни одно произведение не выдерживает даже отдаленного сравнения с книгой «иезуитского патера», как его презрительно называет В. Н. Половцова в своей рецензии, напечатанной в 105 книжке «Вопросов философии и психологии», — с раздражением писал профессор В. С. Шилкарский. — Резко отрицательный отзыв г. Половцовой представляет, насколько мы знаем, единственное исключение среди весьма многочисленных рецензий, заметок и статей, вызванных книгою Дунин-Борковского. Против себя г. Половцова имеет чуть ли не всех выдающихся знатоков Спинозы на Западе…»[404]
А также, конечно, и почти всех наших доморощенных знатоков, ибо последователей и защитников Спинозы, кроме Половцовой и Л. Робинсона, среди них больше не нашлось.
К счастью, ее труды сумел до достоинству оценить редактор старейшего русского философского журнала «Вопросы философии и психологии» Лев Михайлович Лопатин. Он не только охотно печатал работы Половцовой, но также рекомендовал ее к избранию в действительные члены Московского Психологического общества[405]. Это случилось сразу после появления в 1913 году длинной (более 180 тысяч знаков) статьи Половцовой «К методологии изучения философии Спинозы»[406]. В том же году работа вышла отдельной книжкой, где, по словам автора, были исправлены опечатки и добавлены кое-какие ссылки.
Наконец год спустя, в 1914, в том же московском книгоиздательстве в серии «Труды Московского психологического общества» (выпуск VIII) выходит в свет комментированный перевод ТIЕ[407]. Как явствует из подписи в конце книги, Половцова проживала в Бонне и завершила работу еще в 1913 году. В Предисловии она не раз упоминает о задуманном ею «специальном исследовании», где она даст детальное изложение своих взглядов на учение Спинозы. Есть основания предполагать, что книга о Спинозе была уже готова или почти готова к печати: по собственным словам Половцовой, она должна была вскоре «появиться особым изданием»[408]. Этого, однако, не случилось — помешала начавшаяся мировая война. Дальнейшая судьба рукописи мне не известна.
Все годы, пока Половцова училась и работала в Германии, ее муж занимался научной и преподавательской работой в Петербурге. В 1910 он уехал в Одессу, где занял кафедру ботаники в университете. Однако распри в профессорской среде и волнения среди студентов мешали ему нормально работать, вдобавок он серьезно заболел, и вот летом 1915 В. В. Половцов возвращается в Петроград и поселяется в пригороде, Петергофе. Там, по свидетельству его биографа Райкова,
«он жил в полном одиночестве, так как его жена — женщина-философ — не имела никакой склонности к семейной жизни и все время проводила за границей, преимущественно в Германии, где занималась научной работой». Райков описывает Варвару Николаевну как «женщину с большими умственными запросами, притом очень энергичного характера и красивой наружности»[409].
Меж тем, с сентября 1915 года Половцова активно печатается в журнале «Трудовая помощь». Значит, она вернулась в Петроград примерно в одно время с мужем. То ли Райков располагал неточными данными, то ли Половцовы просто решили не жить вместе, а биограф об этом не знал либо умолчал. Однако в справочнике «Весь Петроград на 1917 год» в качестве места жительства Половцовой указан тот же петергофский адрес, по которому проживал и В. В. Половцов…
На протяжении двух десятилетий «Трудовая помощь» издавалась в петроградской государственной типографии Комитетом попечительства, который курировала императрица Александра Федоровна. Идея трудовой помощи заключалась в том, чтобы предоставить работу и кров инвалидам, нищим, беспризорным подросткам. В годы войны, когда в журнал пришла Половцова, проблема эта обострилась до крайности. Ясное дело, пишет она теперь не о Спинозе. Изучая современную западную литературу по проблемам «призрения», Половцова сочиняет рецензии для раздела «Литературное обозрение», а затем и довольно большие статьи о практике трудовой помощи в европейских странах. Год спустя она становится секретарем журнала.
После февральской революции журнал лихорадит. В мае 1917, сославшись на недостаток времени, в отставку подал его бессменный главный редактор профессор Петроградского университета В. Ф. Дерюжинский. Перед уходом он внес в Комитет предложение
«образовать в составе редакции должность помощника редактора и ныне же назначить на эту должность секретаря редакции доктора философии Боннского университета В. Н. Половцеву… По объяснению В. Ф. Дерюжинского, В. Н. Половцева, приглашенная на должность секретаря в сентябре 1916 года, оказывала ему деятельную помощь по редактированию журнала, главным образом привлечением новых полезных сотрудников»[410].
В этой стенограмме впервые загадочным образом меняется буква (и соответственно, ударение смещается на первый слог) в фамилии Варвары Николаевны — теперь она «Половцева». Можно было бы счесть это за простую ошибку, если бы последняя статья ее в июньском номере «Трудовой помощи» не была подписана «Половцева» (ранее она подписывалась «Половцова» или же просто инициалами). Так же, на новый лад, станет она позднее расписываться и в своих письмах. Это, вероятно, свидетельствует о том, что она рассталась с мужем, ибо тот написание своей фамилии не менял.
В новой должности помощника редактора Половцевой если и довелось работать, то совсем недолго. В последних четырех номерах «Трудовой помощи», выходивших с сентября 1917 без всякой регулярности, ее публикаций нет. В августе Половцева еще выступила с докладом «Об обязательной социальной помощи» на Всероссийском совещании по призрению детей, проведенном Министерством государственного призрения[411]. В докладе предлагалось создать «социальную инспекцию» для контроля за исполнением законов о детях.
В ноябре 1918 скончался Валериан Викторович Половцов. В это время Половцевой уже не было в стране. Как явствует из ее письма профессору Хобхаузу[412] от 25 сентября 1918, она занималась делами русских кооперативных организаций и проживала в отеле «Капитолий» в районе Ланкастер Гейт в Лондоне. В письме упоминаются имена Набокова[413] и Литвинова[414]. В следующем году она работает в Русском обществе социально-экономической реконструкции и в течение нескольких месяцев хлопочет о въездной визе для некой «мисс В. Н. Огранович», которую называет своим личным секретарем и самым ценным помощником. Ее не пускают в Англию, — жалуется Половцева редактору «Манчестер Гардиан» Чарльзу Скотту, —
«из-за того, что меня здесь подозревают в симпатиях к большевизму. Вы знаете, что это не так, но еще менее [чем большевики] мне симпатичны наши реакционеры, с их военной интервенцией и блокадой; [британское] военное ведомство не простит мне этого криминала»[415].
Осенью 1919 Половцева уже секретарь Объединенного комитета русских кооперативных организаций в Лондоне. Его учредители — Московский народный банк и несколько несоветских торговых компаний. В интервью газете «Обсервер» от 1 февраля 1920 Половцева рассказывает о том, как широко развито кооперативное движение в России, и отмечает, что советскому правительству, несмотря на все старания, не удалось взять под свой контроль крупнейшие кооперативные организации.
Очевидно, Половцова сумела поладить с советской властью, и уже в августе 1921 она участвует в 10-м конгрессе Международного Кооперативного Альянса, проводимом в швейцарском Базеле. При открытии конгресса поступило предложение не допускать на конгресс российских делегатов, на том основании, что кооперативное движение в России контролируется властями страны, и делегаты представляют интересы правительства, а не свободных кооперативов. После двухчасовых дебатов двое делегатов от Центросоюза были все же допущены на конгресс — нарком внешней торговли Леонид Красин[416] и д-р Варвара Половцева. Эти двое в заключительный день были избраны в состав Центрального комитета Альянса[417].
К декабрю 1923 года Половцева занимает должность представителя Российского Красного Креста в Великобритании; в 1925 она член исполнительного комитета британской секции Международной рабочей помощи; а в январе 1926—представитель только что учрежденного Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Ее имя впечатано в шапки официальных бланков РКК и ВОКС.
В последнем по времени уцелевшем письме от 31 августа 1931 года Ч. Скотт благодарит за присланную статью и желает мадам Половцевой скорейшего выздоровления. Смерть настигла ее пять лет спустя — 29 декабря 1936. В это время она проживала в городке Брентфорд, что расположен на северном берегу Темзы в графстве Миддлсекс.
В заключении о смерти сказано, что ей исполнился 61 год (на самом деле 59 лет — в этом вопросе немецкие архивы, опиравшиеся на собственное свидетельство Половцовой, заслуживают большего доверия). В графе о роде занятий покойной указано: «вдова Валериана Половцева (Polovtsev), профессора естествознания». Это обстоятельство, а также ее отъезд из Лондона в предместья, возможно, указывают, что Половцова к моменту смерти не служила более в советских госучреждениях. Причина смерти — кровоизлияние в мозг.
Где покоится прах Варвары Половцовой, выяснить пока что не удалось. Вероятнее всего она была похоронена в Англии, неподалеку от последнего места жительства.
«К методологии исследования философии Спинозы»
Изложение философских взглядов Половцовой я хотел бы, с позволения читателя, предварить недлинным вступлением личного характера. В начале девяностых я провел немало времени в Ленинке и в уютных кабинетах ИНИОН, штудируя литературу о Спинозе. Отечественные знатоки на фоне лучших западных своих коллег — таких как H. F. Hallett, A. Gilead, Е. Curley, — смотрелись скромно, чтобы не сказать жалко. Спасала положение разве что «Метафизика Спинозы» Л. Робинсона, однако я не был до конца уверен, что книжка эта не перевод. Но вот в один прекрасный день в руках я держал порядком истрепанный номер «Вопросов философии и психологии», книга 118 за 1913 год. Начал читать — до чего же здорово! С первых строк чувствовалось, что писал человек до мозга костей влюбленный в тексты Спинозы, и притом первоклассный философ. С тех пор я неоднократно перечитывал ту статью и всякий раз открывал для себя нечто новое и важное. Рискну утверждать, что в ней дано вообще самое аутентичное понимание спинозовской философии — по меньшей мере среди всех тех работ, с которыми мне довелось ознакомиться.
Спустя пару лет я написал статью о русских спинозистах, которая начиналась рассказом о В. Н. Половцовой. Статья эта в разных вариациях выдержала уже несколько публикаций на трех языках в весьма авторитетных печатных изданиях[418]. В статье, однако, не скажешь всего, что хотелось бы. А тут, пару лет назад, стараниями Георгия Оксенойта в мои руки попала копия отдельного — в виде тонкой книжицы — издания работы Половцовой с дарственной надписью старорежимными буквами: «Дорогой Тете Соне с искренним приветом. От автора. Bonn a/Rh.». Вскоре в книжке Райкова я увидал и фотографический портрет очень красивой женщины, в учениках которой давно уже себя числил. Находясь под впечатлением от столь редкого сочетания, я окончательно решился написать в память о Варваре Николаевне сей опус минор. Видит Субстанция, ее труды заслуживают внимания и сегодня, вернее, в особенности сегодня — когда Спиноза скорее мертв, чем жив в нашей философии.
Во времена Половцовой, впрочем, дело обстояло не лучше. Работа ее начинается с констатации того факта, что при колоссальной массе исследований о спинозовской философии, у нее почти нет сторонников. Хорошим тоном считаются поиски противоречий между различными ее положениями.
«Учение Спинозы полно скрытых противоречий, — заявляет А. Риво. — Оно не отвечает нашей естественной склонности к единству»[419]. Или, к примеру, автор книги «Философия Спинозы в свете критики»[420] Ф. Эрхардт «быстро и незаметно для себя переходя на всевозможные точки зрения, «освещает» учение Спинозы так, что в «свете его критики» оно представляется приблизительно как бессмысленный набор противоположных друг другу заблуждений и иллюзий»[421].
Но может быть, Спиноза не виноват? Не есть ли те противоречия, что ставятся ему в вину, следствие невнимания к неким условиям, обязательным для понимания его учения? Половцова убеждена, что так оно и есть. Отсюда замысел ее работы: выяснить условия, позволяющие понять философию Спинозы «изнутри». Половцова особо выделяет два таких условия:
«во-первых, знакомство по существу с содержанием латинских терминов Спинозы, Декарта и их времени, и, во-вторых, владение теорией познания Спинозы, которая должна служить исходным пунктом для всех соображений о его учении, так как сама положена им в основу всех его воззрений»[422].
В качестве примера ошибочного толкования Спинозы, проистекающего из непонимания этих двух условий, Половцова избирает недавно появившуюся в «Вопросах философии и психологии» статью Семена Франка[423]. В то время Франк был еще мало известен. Впоследствии же Ленин удостоит его высылки из страны на «философском пароходе» в числе других корифеев русской религиозной философии, и свои главные труды Франк напишет уже в эмиграции.
Половцова заявила, что не собирается «входить в подробный разбор» статьи Франка и что пользуется ею просто как поводом для изложения собственных взглядов. Это не помешало ей учинить форменную расправу, после которой из суждений Франка об учении Спинозы мало что уцелело.
Трудности перевода работ Спинозы. Ошибочность его лингвистической стратегии. О нарушении Половцовой первого «правила жизни» Спинозы. Принцип максимальной точности перевода у Половцовой. Пример с переводом терминов notio и conceptus. Сравнение английских и русских переводов Спинозы. К истории выражения causa sui. Различие терминов ordo и methodus. Многослойная латынь Спинозы. Неудачные переводы терминов ratio и cogitatio.
Переходя к обсуждению языка Спинозы, Половцова констатирует исторический факт: в XVIII столетии в «республике ученых» латынь мало-помалу вытесняется национальными языками. За перевод латинских терминов берутся чаще всего посредственные умы, вроде Томазия и Христиана Вольфа, заложивших основы немецкой философской лексики. Слова они подбирали в повседневной речи своего родного языка, при этом в переводы научных работ привносились и стоящие за этими словами обыденные представления. Как следствие, метафизика Лейбница в руках Вольфа превратилась в школярскую «онтологию», осколки которой и поныне во множестве рассыпаны в учебной литературе, в том числе и в нашей, русской.
Если для перевода философов-эмпириков, к примеру Бэкона или Гассенди, общеупотребительный лексикон более или менее достаточен — поскольку те апеллировали к чувственному опыту и здравому смыслу, которые и сформировали некогда этот лексикон, — то для адекватного перевода философов-рационалистов зачастую требуются специальные языковые средства, искусственная лексика. Ибо категории мышления, которые кладут в основу своих теорий Декарт или Спиноза, известны «естественному» уму так же мало, как категории интегрального исчисления или квантовой физики.
Дело осложняется тем, что все открытые ими истины Декарт и Спиноза записывали на средневековой латыни, которую схоластики разрабатывали для нужд богословия. Ни тот, ни другой не изобрели ни одного нового философского термина. Кроме того, Декарт и Спиноза постоянно пользовались общепринятыми словами в несвойственном им значении.
«Я знаю, что эти слова в общем употреблении означают иное, — заявлял Спиноза. — Но мое намерение — объяснять не значение слов, а природу вещей, и называть их именами, принятое значение которых не расходилось бы полностью с тем, которое я хочу придать им; о чем достаточно [сказано] раз и навсегда» [Eth3 afdf20 exp][424].
Разумеется, оба философа специально оговаривали эти новые значения слов, разъясняя читателю, что они имели в виду. Но это мало помогло: идолы форума[425] как всегда взяли свое.
Спиноза был чересчур оптимистичен, полагая, что если «говорить сообразно с разумением простого люда» (ad captum vulgi loqui), последний «охотно прислушается к голосу истины» [TIЕ, 6]. Эта лингвистическая стратегия оказалась негодной: высказанные им истины не поняли толком ни простые люди, ни большинство ученых коллег. Немецкие философы-классики пошли по иному пути, придумав язык, понятный лишь посвященным, с легкостью сочиняя нужные им новые слова и обороты речи. При этом им удалось добиться гораздо лучшего понимания, если не у простых людей, то уж в ученом мире наверное.
А вообще говоря, с какой стати философу рассчитывать на понимание со стороны неучей? Чем философия в этом смысле лучше алгебры или оптики, к которым — кому как не Спинозе это знать — и подступиться-то нельзя без знакомства со специальной терминологией?
Взять, например, слово «Бог», досуха выжать из него религиозное содержимое и наполнить особым научно-философским смыслом, а после надеяться, что простые люди «охотно прислушаются» к твоим речам, кажется поистине верхом наивности. Ничего кроме вопиющих противоречий (в прямом смысле слова: идущее «против речи») люди религиозные в таком понятии Бога не разглядят, конечно же. И будут правы, ибо мысли Спинозы реально противоречат и всем их житейским представлениям, и догмам вероучения.
Половцова не замечает кардинального лингвистического просчета Спинозы. Вину за противоречия, которые ему приписываются, она целиком и полностью возлагает на комментаторов, оставляющих без внимания оговорки Спинозы касательно нестандартных значений, вкладываемых им в общеупотребительные термины. Спору нет, обвинение справедливо. Но ведь и сам Спиноза сделал многое, чтобы затруднить понимание своих текстов. Представьте, если бы какой-нибудь физик решил изъясняться «вульгарным» (от vulgus — простой люд) языком, при этом постоянно меняя общепринятые значения слов. Сделалась бы его теория от этого понятней обывателям? Нет, разумеется. А вот других физиков он наверняка бы запутал.
Не обратила внимания Половцова и на то обстоятельство, что ее собственный, кишащий латинизмами перевод TIE менее всего сообразуется с «разумением простого люда», и в этом смысле открыто попирает первое «правило жизни» (vivendi regula), декларируемое Спинозой в качестве условия совершенствования интеллекта в TIE. Стратегия половцовского перевода, как мы помним, иная: подготовить читателя к изучению сочинений Спинозы в оригинале. Разговор с читателем на литературном русском языке не являлся для Половцовой приоритетной задачей. В первую очередь она стремилась к максимальной точности при передаче мысли автора, и там, где ради этого приходилось прибегнуть к заимствованию латинских терминов, делала это без колебаний. Оттого перевод и удался. Другие комментарии и переводы Спинозы оказались далеко не столь точны, и как раз потому, что предпочтение отдавалось литературной стороне дела.
Спинозовский текст на каждом шагу создает проблемы, неразрешимые средствами русского языка. За недостатком слов два-три латинских термина приходится переводить одним словом. К примеру, «notio» и «conceptus» обычно переводятся как «понятие». У Спинозы, однако, эти два термина имеют существенно разное значение. Conceptus означает понимание сути предмета — в одном месте Спиноза приравнивает conceptus к идее: «conceptus, id est, idea» [TIE, 19]; тогда как «notio» имеет гораздо более общее значение, охватывая, помимо «концептов», также чисто словесные абстракции, именуемые «понятиями» в учебниках формальной логики. В арсенале русского языка нет слов, позволяющих передать отличие «notio» от «conceptus». В подобном случае необходимо либо указывать в скобках вслед за словом «понятие» термин оригинала, либо воспользоваться латинизмом «концепт», как поступает Половцова. Прочие русские переводчики попросту проигнорировали и данную проблему, и почти все ей подобные. Мне лично кажется предпочтительным первый вариант ее решения, позволяющий избежать насилия над родным языком, однако в плане «подготовки читателя к знакомству с оригиналом» выбор Половцовой имеет свое преимущество.
А вот предложенный ею перевод «notio» никак нельзя счесть удачным, несмотря на то, что в основе его лежит совершенно верное понимание смысла данного термина:
«Notio по отношению к адекватному познанию не может быть передано словом «понятие», но должно быть рассматриваемо как производное от nosco [познаю] или notum esse [познанное]; т. е. notiones можно переводить как содержания познания; notiones communes как содержания познания относительно общего, но никак не как общие понятия»[426].
Термин «notio», считает Половцова, надо переводить по-разному — в зависимости от того, идет у Спинозы речь об адекватном или неадекватном познании вещей. В том месте «Этики», где проводится дистинкция «notiones communes» и «notiones universales» [Eth2 pr40 sch1], по-русски предлагается писать об отличии «содержаний познания относительно общего» от «универсальных понятий». Такой перевод разрушает и структуру спинозовского текста, и самый замысел автора: в конце концов, если Спиноза пожелал воспользоваться одним и тем же термином «notio», а не двумя разными, несмотря на то, что речь велась о двух разных формах познания, значит у него имелись к тому основания. Можно по-своему трактовать и оценивать эти резоны, но пренебрегать ими при переводе текста мы не вправе.
Вообще говоря, каждый специальный термин в научных трудах желательно переводить, если только это возможно, каким-то одним словом иного языка. В случае вынужденного отступления от данного правила следует делать оговорки или, по меньшей мере, приводить в скобках и сносках соответствующие фрагменты оригинала. Плачевное состояние дел с переводами Спинозы во многом обусловлено тем, что переводчики не считали нужным держаться этого правила. Его нарушали даже лучшие из них — в частности, Половцова. Но она, по крайней мере, четко оговаривала все случаи «нетождественного» перевода терминов.
Половцова безусловно права, утверждая, что значение термина «notio» радикально меняется в зависимости от контекста. Но нельзя же умножать варианты перевода данного термина всякий раз, как он меняет свое значение, это просто лингвистический нонсенс. Тем более, что, как доказала Половцова, значение практически всех терминов в трудах Декарта и Спинозы двоится в зависимости от области познания, о которой идет речь. Что же теперь, для каждого латинского термина подыскивать два разных русских слова?
В этом смысле гораздо более простая задача у переводчиков на романские языки и английский: они могли воспользоваться словами латинского корня. Но отчего-то делали это редко. По свидетельству Половцовой, единственным переводчиком Спинозы, кто последовательно проводил такой план, был Уильям Хэйл Уайт (W. Hale White). О его переводах «Этики» и TIE[427] она отзывается в самом уважительном тоне.
«Современными английскими философами они признаны за безусловно наилучшие и несомненно являются таковыми, именно потому, что, не занося национально-литературные стремления в неподходящую для их применения область философии, они не подставляют, как это делают немцы, на место терминов Спинозы собственных терминов, но сохраняют, ограничиваясь большим или меньшим подчинением их требованиям своей грамматики, данные латинские термины Спинозы».
В один год с переводом «Этики» Хэйл Уайта (1883) в Лондоне вышел перевод Роберта Элвза (R. H. M. Elwes)[428] — в части «литературных стремлений» полный аналог столь нелюбимых Половцовой немецких переводов Спинозы. Элвз дал далекий от всякой дословности перевод, откровенно пренебрегая этимологическим родством английских слов с латинскими терминами Спинозы. Похоже, Элвз старался превзойти в «литературности» самый оригинал. Половцова не сочла его перевод достойным упоминания, между тем именно он, а не уайтовский или иные переводы[429], сделался стандартом для большинства англоязычных специалистов.
К счастью, в последнее время ситуация меняется к лучшему. Не так давно вышло прекрасное, современное издание собрания сочинений Спинозы в переводе Эдвина Керли (Е. Curley)[430], лучшего из известных мне американских знатоков Спинозы. Пока что на свет появился только первый том, в который не вошла большая часть Переписки, ТР и ТТР. Однако второй том, как сообщает профессор Керли, уже почти готов.
На русском же языке новые переводы Спинозы не выходили уже почти полвека, и не ожидаются. С «Этикой» русский читатель знакомится в переводе позапрошлого столетия, лишь немного отредактированном в советские времена и снабженном жалкими Примечаниями размером в две страницы.
Наверное, и хорошо, что редактор двухтомника Спинозы Василий Соколов удержался от искушения снабдить великую книгу обширными примечаниями. Ибо то, что написал он в Предисловии и, позднее, в двух своих монографиях, не столько помогло, сколько помешало читателям понять учение Спинозы. В вопросах же латинской терминологии профессор Соколов обнаруживал порой неосведомленность, поистине удивительную для человека, который отважился редактировать переводы Спинозы. Заявить, что понятие causa sui «было совершенно чуждо схоластической философской мысли»[431] мог лишь тот, кто плохо знаком с трудами схоластиков, а то и совершенно чужд их философской мысли.
Не только понятие причины себя было отлично известно в Средние века, но и самый термин этот тогда уже встречался — в трудах «превосходного доктора» Суареса. Уже «ангелический доктор» Фома оспаривал высказанное кем-то ранее (имя оппонента умалчивается) понимание Бога как причины себя. Да что там схоластики — еще отцы церкви (в частности, Иероним) позаимствовали это понятие у неоплатоников. Спиноза же наверняка встречал его в Декартовых Ответах на Возражения Первые против «Размышлений», где термин causa sui фигурирует многократно, как особое определение Бога, в ходе полемики с одним ученым томистом.
В пояснении к понятию причины себя Соколов приписывает субстанции «вечность во времени и бесконечность в пространстве»[432], не обращая ни малейшего внимания на массу спинозовских указаний о том, что атрибут протяжения не имеет ничего общего с физическим пространством, а вечность не есть определение времени. Это место в предисловии Соколова заставило Джорджа Клайна недоумевать по поводу
«приравнивания «вечности» к «бесконечной длительности во времени», равенства, которое Спиноза всеми силами отвергал. Та же ошибка явно видна у Соколова в характеристике длительности как «составной части вечности» (с. 51)»[433].
В отличие от корифеев советского спинозоведения, Половцова свободно ориентировалась в схоластической терминологии. Она настаивала на необходимости «самостоятельного исследования и изучения наиболее выдающихся оригиналов так называемой схоластической литературы» во избежание «серьезных недоразумений» при чтении работ Спинозы.
Примером другого такого массового недоразумения является словосочетание «геометрический метод» — которого нет в текстах Спинозы, но которое со времен еще Гегеля так полюбилось комментаторам «Этики» (в их славную компанию угодил, само собой, и профессор Соколов). У Спинозы есть целый трактат о методе — TIЕ: термин methodus (метод) встречается там более тридцати раз, и ни разу ни словом не упоминается ordo geometricus (геометрический порядок). Несмотря на это, гегелевский миф о «геометрическом методе» Спинозы и ныне продолжает разгуливать по страницам историко-философских сочинений.
Между тем дистинкция methodus и ordo — одно из общих мест в литературе по логике той эпохи. Половцовой удалось обнаружить ее первоисточник — трактат Джакомо Цабареллы[434] «De methodis», одна из глав которого прямо озаглавлена: «De differentia ordinis et methodi» (О различии порядка и метода). Коллекция логических трактатов Jacobi Zabarellae Opera Logica выдержала пятнадцать изданий в течение полувека, с 1572 по 1623. Логическому методу Цабареллы многим обязан Галилео Галилей[435], и вообще, если верить Аарону Гарретту (A. Garrett),
«Цабарелла был самым влиятельным логиком второй половины XVI столетия в Италии, Германии и Нидерландах»[436].
Порядок (ordo) представления знаний отличен от метода (methodus) в собственном смысле слова, поучал Цабарелла.
Методы суть интеллектуальные орудия[437], с помощью которых разум открывает новые истины, продвигаясь от уже известного к неизвестному. Ordo же применяется лишь к тому, что уже известно, и служит целям наиболее легкого и прочного усвоения уже имеющихся знаний. Methodus обладает особой «умозаключающей силой» (vis illatrix), каковой нет у ordo.
В позднейших учебниках и трактатах термины «methodus» и «ordo» не всегда разводились столь строго. Однажды [Ер 13] и Спиноза, упомянув о «доказательстве геометрическим способом» (more geometrico demonstratio), прибавил, что друзья просили его тем же методом изложить (concinnare, дословно: «привести в порядок»)[438] часть первую Декартовых «Начал». Несомненно, он рассматривал геометрический порядок как способ, или метод, упорядочения наличных знаний, а вовсе не как метод открытия новых идей. Как ниже сообщает Спиноза, сия метода[439] понадобилась ему для обучения некоего юноши, интересовавшегося философским учением Декарта. И она не имеет решительно ничего общего с «истинным методом» (vera methodus), обсуждаемым в TIE. Хотя бы потому, что Спиноза излагает «геометрическим способом» ошибочные с его точки зрения взгляды Декарта. Что не преминула отметить Половцова.
Можно смело утверждать, стало быть, что существенное различие между понятиями способа доказательства и метода познания у Спинозы налицо, хотя слова «mos» и «methodus» в его текстах один-два раза пересекаются. По всей вероятности, Спиноза узнал об этой дистинкции, изучая еще только азы логики. Автор главы о методе в двухтомной «Кембриджской истории философии XVII столетия» Питер Диэр (Р. Dear) отмечал, что
«после дебатов и многообразия мнений предыдущего [XVI] века, метод стал темой, которая рассматривалась в заключительной — зачастую четвертой — части любого учебника логики. Его характеристики мало разнились и обычно следовали дистинкции Цабареллы между методом как всеобъемлющим упорядочением содержания (ordo) и методом как логической техникой исследования (methodus, в настоящем смысле слова)… На протяжении всего [XVII] столетия это основополагающее подразделение метода, хотя и не обязательно с терминологической дистинкцией Цабареллы, задавало и основную структуру обсуждения метода в учебниках»[440].
Спиноза не счел нужным повторять общие места о различии ordo и methodus, в то время известные любому школяру; но для историка философии было бы непростительной ошибкой не принимать во внимание такого рода терминологические контексты. Тем более подменять их тщательное изучение вербальными спекуляциями, как поступает Иосиф Коников[441]. Выискивая в текстах Спинозы (причем в русских переводах, без единой ссылки на оригиналы!) точки пересечения слов «метод», «способ», «порядок» и «путь», Коников таким манером «доказывает», что все эти термины у Спинозы — просто синонимы. Не видит он ни малейшей разницы и между выражениями «математический метод» и «геометрический порядок доказательства». Пространно критикуя суждения Половцовой на эту тему, достойный ученик Соколова пренебрег и ее апелляцией к Декарту, и дистинкцией Цабареллы, и, вестимо, не потрудился заглянуть в учебники и лексиконы ХУП века. Примерно в том же ключе — по линии наименьшей затраты умственных усилий — написаны и остальные две главы книги Коникова. Печально, но и символично, что она оказалась последней монографией о Спинозе в недолгой истории советской философии.
Понять как следует философию Спинозы, не учитывая постоянных вариаций значений терминов, — дело невозможное. Встречая, например, слово «methodus», перво-наперво следует разобраться, о какой области знаний ведется речь и, кроме того, какому кругу читателей адресован данный текст. Половцова насчитывает по меньшей мере три разных семантических слоя в его текстах: это язык теологов, язык Декарта и картезианцев и, наконец, собственный язык Спинозы.
В собственном языке Спинозы у слова «субстанция» нет множественного числа, а такие слова, как «несотворенное» или «чудесное», вообще в нем отсутствуют, и однако, они там и сям встречаются в его сочинениях и письмах. Очевидно, в этих местах он стремится говорить с читателем на привычном тому языке: разговор о Писании в ТТР ведется на языке богословов, а изложение философии Декарта в РРС, и даже имплицитная критика ее в СМ, — на принятом в кругу картезианцев ученом «койне».
Одни и те же латинские слова могут иметь у него совершенно разные значения — если между обсуждаемыми областями знаний нет ничего общего. Так, поскольку «между верой, или Теологией, и Философией нет никакого общения или какого бы то ни было родства»[442], постольку значения абсолютно всех специальных терминов в этих двух областях совершенно различны. Стало быть, «боги» священных писаний с философским «Богом» Спинозы не имеют ровным счетом ничего общего, на что справедливо указала Половцова.
Это соображение не мешало бы иметь в виду тем, кто простодушно считает Спинозу религиозным, а то и «богопьяным» (der Gottbetrunkener Mensch, — оборот Новалиса), мыслителем лишь потому, что он воспевал «amor Dei intellectualis». В последнем выражении слово «интеллектуальное» прямо указывает на нерелигиозный — «философский», в терминах Спинозы, — характер его «любви к Богу». Ведь религиозную веру Спиноза относил всецело к области воображения, а не интеллекта. Он не рискнул напрямик назвать религию «воображаемой любовью к Богу» (amor Dei imaginationis), однако кардинальное отличие философии от религии прочертил недвусмысленно и более чем смело.
«Ибо цель Философии есть не что иное, как истина; [цель] Веры же, как мы достаточно показали, только послушание и благочестие. Далее, основания Философии суть всеобщие понятия, и саму ее надлежит черпать единственно из природы; [основания] же Веры суть предания и язык, а черпать ее должно единственно из Писания и откровения»[443].
Между философией и верой, интеллектом и воображением — пропасть. Они действуют по разным законам, преследуют разные цели, имеют дело с совершенно разными «слоями» реальности. Стоит ли удивляться тому, что и значения слов в них тоже весьма разнятся?
Спиноза ставит значения слов в прямую зависимость от характера знаний, выражаемых при помощи этих слов. И тут он не одинок. Похожим образом обстоит дело в гегелевской «Феноменологии духа».
«Один и тот же термин может использоваться Гегелем в различных смыслах, в соответствии со стадией, на которой выступает познающее сознание», —
констатировала Абигайль Розенталь[444].
Не думаю, что в данном случае Гегель осознанно шел по стопам Спинозы. Скорее, такое семантическое расслоение языка — это фамильная черта диалектических учений.
Область интеллекта, или адекватных идей о природе вещей, разделяется Спинозой на «ratio» и «intuitio», указывала Половцова. Она предлагала сохранить при переводе латинские корни этих двух терминов: рацио и интуиция. Откровенно говоря, не вижу смысла отказываться от хорошего русского слова «рассудок» ради латинизма «рацио». Да, за словом «рассудок» волочится длинный шлейф значений, чуждых Спинозе, однако то же самое можно сказать почти что о любом философском термине. Стоит ли изобретать особую лексику персонально для перевода Спинозы? К тому же, с лингвистической точки зрения, грамотнее было бы говорить не «рацио», а «рация»[445]. Ratio у Спинозы может переводится и как «довод, основание, резон» (последнее слово ведет родословную как раз от «ratio»). Что же касается «intuitio», то такого имени существительного у Спинозы нет. Есть прилагательное «интуитивная» (scientia intuitiva, intuiti va cognitio).
Но в особенности неудачен выбор Половцовой термина «сознание» (вместо «мышление») для перевода «cogitatio». Во-первых, «сознание» не что иное, как калька с латинского «conscientia», а это последнее слово само постоянно фигурирует в текстах Спинозы (изредка в значении «совесть»). Во-вторых, в русскоязычной литературе слово «сознание» всегда — совершенно правомерно — использовалось для перевода романских дериватов «conscientia» и немецкого «BewuBtsein». В-третьих, нельзя не принять в расчет выбор Декарта, на чьих трудах воспитывался Спиноза. У Половцовой в этой связи отмечается вот что:
«Декарт сам, за неимением другого слова, употребляет для перевода выражения cogitatio выражение penser [мышление]. Но мы видим, что даже у ближайших последователей Декарта выражение penser опять употребляется только в обычном смысле, т. е. другом смысле, чем оно дано у Декарта, как перевод для cogitatio»[446].
Отчего же это — «за неимением другого слова»? Другое слово, а именно «conscience» (сознание), во французском языке имеется. Декарт предпочел ему «penser». А его ближайшие последователи, картезианцы, преспокойно «употребляли в обычном смысле» не только французское слово «penser», но и латинское «cogitatio».
И потом, предлагаемый Половцовой перевод способен совершенно запутать рядового читателя, привыкшего именовать «сознанием» все, что он замечает в своей душе. Этот «поток сознания», надо признать, примерно соответствует значению слова «cogitatio» у Декарта, но никак не спинозовскому атрибуту cogitatio.
Половцова ссылается на дефиницию первую из Декартовых «Аргументов» (в его Ответах на вторые Возражения):
«Словом мышление я объемлю все то, что существует в нас таким образом, что мы непосредственно это осознаем. Так, все действия воли, интеллекта, воображения и чувств суть мысли» [С 2, 127].
Спиноза поставил эту дефиницию на первое место в РРС. Однако это ни в коем случае не его собственное понимание мышления. Сам Спиноза действия внешних чувств полагал телесными, и все чувственные образы считал «состояниями тела»[447], а не духа, и значит, не мыслями (cogitationes); кроме того, волю и интеллект рассматривал как «одно и то же». Стало быть, он в отличие от Декарта, причисляет к мышлению далеко не все, что мы «непосредственно сознаем», но одни лишь идеи воображения и интеллекта, плюс сопутствующие им идеальные аффекты — радость, гнев, стыд и пр. Для Спинозы «мыслить» (cogitare) значит не просто «сознавать» — воспринимать что угодно и каким угодно способом, — но приобретать идеи; Декарт же называл «мышлением» любые действия духа и «мыслями» — любое содержимое сознания: как идеи, так и чувственные образы вещей, а также аффекты, эти «страсти души» (les passions de Tame).
Итак, если для перевода Декартова термина «cogitatio» словом «сознание» имеются некоторые (впрочем, недостаточные) основания, то в случае Спинозы такой перевод решительно никуда не годен ни с филологической, ни с философской точки зрения. Уж лучше бы Половцова сочинила очередной латинизм: слово «когитация» режет слух не больше, чем «рацио» или «имагинация»…
Как филолог Половцова не сильна. В этом ремесле она, несмотря на свободное владение несколькими языками и солидный опыт переводов, уступает вполне рядовым авторам, переводившим труды Спинозы и не очень-то смыслившим в его философии. Зато ее переводу нет равных по части понимания спинозовского текста. Языковые погрешности проистекают у нее от плещущего через край стремления как можно точнее донести смысл каждой строки, каждого термина. Вот уж в этом плане переводы Половцовой — вне конкуренции.
Отличие идей интеллекта от имагинативных идей. Как неадекватная идея воображения превращается в ложную. Что же есть истина. Отличие истины от заблуждения. Понятие достоверности (certitudo) у Спинозы. Проблема истинности исходных дефиниций. Их отличие от реальных дефиниций.
Половцова была абсолютно права, когда писала, что, не проводя с должной строгостью границу между двумя формами познания — интеллектом и воображением (имагинацией), — мало что можно понять в философии Спинозы (то же верно и в отношении Декарта). В этом смысле его теория познания — Логика, понятая как «медицина духа» и «истинный метод» усовершенствования интеллекта, — действительно составляет краеугольный камень всего учения Спинозы. Увы, этот камень «презрели строители»: не только участники печальной памяти баталий двадцатых-тридцатых годов или Соколов с Кониковым, но и гениальный психолог-спинозист Выготский, и даже влюбленный в Спинозу Мастер диалектической логики Ильенков, не сумели в должной мере его оценить. О русских комментаторах дополовцовской эры, включая Введенского с Соловьевым, нечего и говорить.
«Интеллект» для Спинозы равнозначен «истине», это область «адекватных» идей; напротив, «воображение» — область идей «смутных и неадекватных». Интеллект движется по цепочке причин и следствий, тем самым проникая в сущность вещей; воображение схватывает лишь внешние связи вещей, увязывая их чувственные образы в ассоциативные ряды.
Половцова уточняет, что, как таковые, идеи воображения не истинны и не ложны, просто они поверхностны—не идут вглубь явлений. Ложными они становятся в том случае, если мы утверждаем нечто такое, чего нет в идее воображаемой вещи как таковой. К примеру, идея кентавра (ассоциация образов человека и лошади) сама по себе не является ложной, до тех пор пока не утверждается существование кентавров в природе или же кентавр не принимается за причину каких-либо реальных событий. Одно дело, когда воображение ассоциирует, увязывая вместе, чувственные образы вещей, и совсем иное, когда воображение берется связывать и упорядочивать идеи. В первом случае формируются просто неадекватные идеи, во втором — идеи ложные.
Люди воображают, что земля под ногами покоится, — в этой идее нет ничего ложного, если только из нее не пытаются вывести идею движения небесных тел, создать на ее основе астрономическую теорию. Так неадекватная идея превращается в идею ложную, в заблуждение. Но и после того как интеллект устранил заблуждение, выяснив причину, вследствие которой «земная твердь» воспринимается нами неадекватно, как покоящаяся, мы не перестаем воображать ее таковой. Воображение по самой природе своей неспособно создавать адекватные идеи.
В посвященном Спинозе очерке втором «Диалектической логики» Ильенков превосходно описал механику формирования чувственных образов — движением живого тела по контуру внешних тел. Незадача в том, что Ильенков принял эти образы за идеи, которые вдобавок счел «адекватными», тем самым полностью смешав содержания воображения и интеллекта. Интеллект (адекватное познание) вообще не имеет дела с внешними контурами тел, это целиком и полностью прерогатива воображения. Адекватным может быть лишь знание причин вещей, но никак не «контуров», не внешних форм их бытия в пространстве-времени. По той причине, что контуры тел обусловлены не только их собственной природой, но и природой внешних тел, действующих на данное тело. Поэтому любое, даже самое точное знание контуров тела оказывается, по Спинозе, неадекватным природе данного тела — смешанной, смутной идеей (idea confusa). В нем смешаны (confundere означает «перемешивать, запутывать») до полнейшей неразличимости действия бесчисленного множества разных по своей природе вещей.
Сами формы пространства и времени не позволяют получить адекватное знание, полагает Спиноза. Интеллект вообще не имеет дела с продолжительностью (duratio) вещей, то есть с их пространственно-временными определениями. Он мыслит вещи всецело «под формой вечности» (sub specie aeternitatis). Спиноза не менее строго, чем Кант, различал чистые формы чувственности и собственно логические формы мышления.
И еще Спинозу не устраивает классическая, восходящая к Аристотелю дефиниция истины как «соответствия мышления и вещи» — совпадения (лат. adaequatio) форм знания и предмета. Как очень верно заметила Половцова,
«истинная или адекватная идея носит в себе самой критерий своей истинности и не зависит ни от какого внешнего критерия, вроде, например, сравнения с объектом, или, как говорит Спиноза, с идеатом… Она не нуждается ни в каком внешнем признаке. Истинная идея должна согласоваться со своим идеатом, но не потому истинна, что она согласуется с ним»[448].
Спиноза называл согласие знания с предметом «внешним признаком» (denominatio extrinseca) истины [Eth2 df4]. Этот признак действительно присутствует в составе всякой истинной идеи, однако вовсе не он делает идею истинной. Кроме того, ложные идеи тоже всегда соответствуют чему-либо реальному. Идей, начисто лишенных реального содержания, не бывает. Любое заблуждение покоится на поставляемых воображением фактах. Просто факты эти недостаточны для понимания самой сути дела или предмета.
«Всякое заблуждение… бывает лишь частичным и в каждом ошибочном суждении всегда должно быть и нечто истинное»,
— напишет в своей «Логике» старый Иммануил Кант[449].
Проблема в том, как отделить зерна истины от плевел заблуждения? Сравнить идею вещи с «вещью в себе» — невозможно. Это Спиноза понимал не хуже, чем Кант, и потому он всецело полагался на внутреннюю достоверность истинных идей.
«Несомненно, что истинная мысль отличается от ложной не только внешним признаком, но в особенности внутренним»[450].
Настоящая истина не нуждается в сравнении с реальной вещью, она сама себя удостоверяет, или, как говорит Спиноза, «veritas sui sit norma» — истина есть критерий себя [Eth2 pr43 sch]. Никакого внешнего критерия, который позволял бы различить истинное от ложного, не существует вовсе!
Это его положение, вне всякого сомнения, направлено своим острием против аристотелевского понимания истины. «Истинная идея должна совпадать с ее предметом (идеатом)»[451], однако критерием истины это внешнее совпадение ни в коей мере не является. К примеру, если некий мастер создал идею здания, эта последняя может быть истинной, хотя бы ее предмет никогда не существовал, то есть независимо от того, было ли это здание построено. И напротив, если кто-нибудь утверждает, что Петр существует, не зная этого достоверно, его мысль не является истинной, хотя бы Петр и существовал. Следовательно, в самих по себе идеях имеется нечто реальное, что и отличает истинные идеи от ложных [TIE, 21–22]. Это «нечто» Спиноза именует достоверностью (certitudo).
Достоверность не простое отсутствие сомнения или соответствие фактам, принимаемое за «достоверность» в области имагинативного знания, подчеркивала Половцова. Достоверность идеи делает ненужными, попросту излишними какие бы то ни было подтверждения ее извне — как «верификации» фактами чувственного опыта, так и признание со стороны других людей. Если же принятие некой идеи зависит от внешних критериев, обусловлено ими, а не внутренними достоинствами идеи, значит данная идея не истинна. («Неистинная» идея не выражает сущность предмета и является «смутной», но при этом она вовсе не обязательно ложна, уточняет Половцова).
Спинозовская «достоверность», certitudo, — нечто много большее, чем чувство уверенности в своей правоте, чем убеждение в истинности своего знания. Эта достоверность есть предметное содержание идеи, или ее «объективная сущность», говоря языком Спинозы.
«Достоверность есть не что иное, как сама объективная сущность»[452].
Это его суждение об истине, кажется, насквозь пропитано флюидами догматизма. Однако по существу единственной альтернативой ему в истории философии оказался Кантов агностицизм, утверждавший, что у истины нет совсем никаких критериев — ни внешних, ни внутренних. Поиски же внешних критериев истины, многие столетия ведшиеся в русле эмпирической философии, в XX столетии окончательно зашли в тупик. Доказывать правоту своих идей ссылками на факты опыта, все равно, что стучать кулаком по столу, — такой неутешительный итог подвел исканиям эмпириков один логик-острослов, воспитанник Венской школы и пылкий критик всякого догматизма.
Проблему соотнесения знания с предметом решить нельзя, невозможно — но не потому, что предмет как таковой «не может быть дан» познающему субъекту, как полагал Кант, а потому, что то «знание», которое требует особой проверочной операции соотнесения себя с предметом, не является адекватным. Это мнимое знание, или псевдознание предмета. Знание данного предмета лишь на словах, а не на деле.
Человек, действительно знающий предмет, не нуждается ни в каких иных «критериях» истинности своего знания. Он почерпнул свои знания не с чужих слов (ex auditu, для Спинозы это самая неадекватная форма восприятия предмета) — но непосредственно в самом предмете. И потому сам предмет тут является источником «достоверности» знания, гарантом истинности своей идеи. Знание слилось с своим предметом, сделалось идеальной формой его, предмета, бытия. Истинное «понимание есть простое страдание», ибо не мы тут судим о вещи, а «сама вещь утверждает или отрицает в нас нечто о себе» [KV 2 ср16].
Эту спинозовскую тему имманентной достоверности знания, снимающей неразрешимую, более того, нелепую, задачу соотнесения знания с предметом, великолепно развил Эвальд Ильенков:
««Знание», которое еще приходится специально соотносить с предметом, вовсе и не есть знание как таковое, а есть только иллюзия, есть только суррогат знания…
При этом происходит вовсе не усвоение предмета (а знание ни в чем другом, кроме этого, и не может заключаться), а лишь усвоение фраз об этом предмете, лишь усвоение вербальной оболочки знания вместо знания.
Здесь-то и таится корень той иллюзии, на почве которой потом и вырастает своеобразная и по сути своей нелепая, иррациональная проблема «соотнесения» знания с предметом. Это проблема, которая рационального решения не имеет и иметь не может по самой ее природе» [453].
«Если исходной точкой является реальное действие с предметом, сопровождаемое наблюдением над способом действия («рефлексией»), то… знание при этом и выступает для человека именно как знание вещи, а не как особая, вне вещи находящаяся структура, которую еще нужно как-то к этой вещи «прикладывать», «применять», совершая для этого какие-то особые действия…
Вот в чем роковая разница. Человек гораздо реже видит и знает предмет, чем думает. Чаще всего в предмете он видит только то, что знает со слов других людей, поскольку с самим предметом он, по сути дела, и не сталкивается»[454].
Особенно остро проблема достоверности встает при определений исходных понятий и аксиом всякой теории. Ведь от них зависит весь ход исследования, и их истинность или ложность передается всем последующим, выводимым из них положениям. Половцова особо подчеркивает важность отдела о формировании определений в TIE, выставляя следующее сильное утверждение:
«Без данных этого трактата невозможно сознательное отношение к основным определениям и аксиомам первой части Этики; между тем все дальнейшие положения и схолии являются только развитием и расчленением содержаний, данных в этих определениях и аксиомах»[455].
Из переписки разных лет мы видим, как старательно Спиноза отбирал и шлифовал дефиниции для «Этики». Конечно, если эта предварительная работа оставляется без внимания, понять характер его исходных определений — дело совершенно невозможное. Это не удалось даже Гегелю, в чьих трудах мы не находим ни единого свидетельства знакомства с TIE. Не упоминается и само название трактата.
Как ни странно, и в наши дни историки философии, в абсолютном своем большинстве, критериями оценки спинозовских дефиниций делают схоластическую дистинкцию реальных и номинальных определений да стандарты, восходящие к «Началам» Евклида. Неудивительно, что их хронический спор на эту тему зашел в тупик.
Поскольку сам Спиноза не раз подчеркивал, что его дефиниции выражают сущность, природу, ближайшую причину существования определяемой вещи, постольку номинальными их никак не назовешь. Нельзя считать их и реальными, так как в них говорится не о том, что есть, существует, а о том, что мыслится в определяемой вещи. На это недвусмысленно указывают словечки «intelligo» (понимаю), «dico» (говорю), «voco» (зову), «appello» (именую), фигурирующие во всех без исключения исходных дефинициях «Этики». Однако имеются там и иные, итоговые дефиниции — в которых говорится, что есть (est) та или иная вещь, а не только как она должна мыслиться. Таковы определения аффектов в конце части III.
Стало быть, схоластическая дихотомия «номинальное — реальное» ровным счетом ничего не дает для понимания исходных дефиниций «Этики». Трудно понять, отчего на ней так зациклились комментаторы, учитывая, что всем отлично известна классификация дефиниций, данная самим Спинозой в письме 9 (к де Фрису). Известны и его слова о негодности теории определения Аристотеля и схоластиков [KV 1 ср7]. Ну не глупо ли помещать дефиниции Спинозы в эту, явно неприемлемую для него систему координат?..
Половцова верно разобралась в этом вопросе, указав, что истинные определения Спинозы отличны «как от поминальных, так и от реальных определений традиционной логики, с их родами и видовыми отличиями»[456]. Не менее правомерен упрек в адрес Гегеля и его эпигонов (в частности, Франка), у которых определение-definitio смешивается с определением-determinatio. Однако и сама Половцова допустила просчет, не придав значения слову «intelligo» в исходных дефинициях «Этики». Это «я разумею» как раз и позволяет автору «Этики» оставить исходные дефиниции без всякого доказательства. Нельзя же требовать доказательства того, что я мыслю нечто, или мыслю какую-либо вещь так, а не иначе. Однако стоит заменить «intelligo» на «est» (есть — существует), и дефиниция немедля превратилась бы в требующую доказательства теорему.
Для исходной дефиниции необходимо и достаточно, чтобы в ней мыслилась сущность (природа) вещи[457]; о характере существования вещей она не вправе судить. Не только излишне, но и ошибочно было бы утверждать в исходной — не доказываемой—дефиниции, что та или иная вещь существует, а тем более определять конкретные формы ее бытия. «Intelligo» ограничивает область определения сферой сущности, полностью отсекая все многообразие определений существования вещи.
Без сомнения, «intelligo» в устах Спинозы означает, что определяемая сущность мыслится адекватно, ибо интеллект есть область адекватных идей. Половцова права, утверждая, что, как все идеи интеллекта, исходные дефиниции должны быть истинными, а не просто словесными, номинальными. Но — истинными в самих себе, независимо от их отношения к реальным вещам, как они существуют «extra intellectum». Спиноза уточняет, что «мы можем иметь истинные идеи несуществующих модификаций»[458], а значит, смело можем давать определения даже несуществующим вещам. Для дефиниции некой мыслимой сущности не имеет значения ни то, существует ли вещь с такой сущностью, ни то, как она существует или почему не существует.
Стало быть, неверно, что исходная дефиниция «выражает объективную сущность некоторой в смысле Спинозы реальной вещи»[459]. В ней дается определение не реальной, а поначалу только мыслимой сущности. Реальность последней автору «Этики» предстояло еще доказать. Иначе чем бы исходные дефиниции отличались от теорем?
Обращаясь к данной в [Ер 9] классификации определений, Половцова ошибочно зачислила исходные дефиниции «Этики» в первый род (определения реальных вещей), по-прежнему игнорируя слово intelligo, которое, как прямо указывает там Спиноза, фигурирует только в определениях второго рода (мыслимых сущностей). Это их опознавательный знак.
Воспользуемся наглядным примером.
«Под Богом я разумею абсолютно бесконечное сущее…»[460], —
гласит исходная дефиниция, определяющая сущность Бога. В последующих теоремах к этому понятию о сущности Бога прибавляются два конкретных определения его бытия:
«Бог есть вещь протяженная» и «Бог есть вещь мыслящая»[461].
Тем самым определение мыслимой сущности вещи превратилось в определение формы ее бытия. Вследствие чего «intelligo» поменялось на «est». Это не просто номинальная замена. Между начальным и финальными определениями Бога лежит массив доказанных теорем, благодаря которым и делается возможным конкретное знание форм существования (атрибутов) Бога.
Понятие вещи как действующей причины. Спинозизм как философия дела. Формула: сущность = причина — активность. Двоякая сущность идей. Характер соответствия реальных причин и логических оснований. Возражения Шопенгауэру. Категория exprimere у Спинозы: диалектика выражения единого во многообразии. Спиноза как логик и метафизик (Половцова против Робинсона). Доказательства реальности атрибутов субстанции. Половцова о конкретности всеобщих понятий протяжения и мышления.
Раздел «Idea и res у Спинозы» в книге Половцовой принадлежит к числу лучших, самых глубоких мест в мировом спинозоведении. Тут впрямую затрагивается логический нерв спинозовской философии — положение о тождестве порядка и связи идей и вещей. Мало кому из позднейших исследователей удалось так здорово его схватить и осмыслить, как это сделала Половцова.
Уже при переводе термина «res» возникают трудности. Русское слово «вещь» означает нечто бездеятельное, пассивное, тогда как в перечне значений латинского res встречаем: «действие, деяние, дело»[462]. Res gestae в переводе — «деяния великих, подвиги».
В свое время Гегель блестяще обыграл этимологию слов Sache и Sage — «вещь» и «вещание, быль». Еще он как-то заметил, что духу радостно встречать слова, соединившие в себе контрарные значения. Таково и латинское res — и «вещь», и «деяние, дело». Для Спинозы всякая вещь есть в сущности своей то, что она делает, есть сумма всех своих действий. Эта деятельная сущность вещи проявляется бесчисленными способами, и модус (modus) есть не что иное, как особый способ ее проявления в том или ином атрибуте субстанции.
Нашему уху непривычно слышать, как «вещами» именуются и человек (в особенности человеческий разум или дух), и государство, и мир, и Бог. А в латинской речи это звучит вполне натурально, благодаря как раз «деятельностной» семантике слова res. Половцова была, насколько мне известно, первой, кто понял спинозовское учение как философию дела.
«Сама сущность есть причина, и она же есть активность»[463], —
эта короткая формула Половцовой дает нам ключ к любым, самым трудным проблемам спинозовской философии.
Вскоре к тому же самому выводу придет ее британский брат по разуму Хэролд Фостер Хэллетт в своей книге «Вечность. Спинозистское исследование»[464]. Он еще старательнее и много резче станет подчеркивать деятельностный смысл всех и каждой категории спинозовской философии, уже на склоне лет написав:
«Все интерпретации учения Спинозы, которые не отдают должного его активизму…, тем самым изначально являются увечными [~ хромыми]»[465].
Вероятнее всего, Хэллетт ничего не знал о работах Половцовой, хотя утверждать это наверное нельзя: они почти ровесники, жили в одном городе и не исключено, что были лично знакомы, ибо профессор лондонского Королевского колледжа Хэллетт в то время возглавлял британское Общество Спинозы (1929–1935).
Половцова разъясняла, что активность, деятельность, в спинозовском ее понимании, «не равнозначна с деятельностью в обычном смысле слова»[466]. Далеко не любые наши действия на самом деле являются «активными», но лишь те, которые обусловлены нашей собственной природой, говоря шире, те, что вытекают из сущности вещи. Действия, причиной которых является сама действующая вещь, а не навязанные ей извне силой обстоятельств, противные сущности этой вещи и ее разрушающие.
Характерный спинозовский оборот речи «actu existere» Половцова переводит как «существовать активно» (обычно «actu» переводится как «актуально, действительно») и предостерегает от смешения этой, постигаемой интеллектом, формы существования с имагинативной продолжительностью — duratio, или «существованием во времени». Увы, наш главный эксперт по Спинозе последних лет, В. В. Соколов, не внял этому memento и, не мудрствуя лукаво, толковал высшую форму «активного существования» — спинозовскую вечность, Aeternitas, — как бесконечно длящееся время.
Существовать actu означает быть действующей причиной чего-либо, то есть формировать своими действиями нечто реальное, детерминировать (определять к бытию) тую вещь. «Причина» — еще одно, в глазах Спинозы важнейшее, значение слова «res»[467]. Иной раз он заменяет слово «res» словом «causa» (причина), как если бы они были синонимами. Так, в [Eth2 pr9 dem] он пишет:
«Порядок и связь идей (по теор. 7 этой части) те же, что порядок и связь причин»[468].
Меж тем в указанной теореме, стоящей чуть выше, значилось-то не «причин», а «вещей»! Быть вещью и быть причиной каких-либо действий тут явно значит одно и то же. Для интеллекта «вещь» = действующая причина (causa efficiens). Между реальными вещами нет и не может быть никакой иной связи, кроме причинно-следственной. Даже имагинативная (ассоциативная, в формах пространства и времени) связь чувственных образов вещей является не чем иным, как неадекватной, «превращенной» формой выражения истинной, каузальной связи вещей — конкретнее, формой действия внешних тел на тело человека. Такое действие в теле человеческом вызывает страдательное состояние, аффект, а в духе — некую смутную и неадекватную идею этого состояния тела, «страсть» (passio).
Идея вообще есть, по Спинозе, объективная сущность (essentia objectiva) всякой вещи. Саму эту вещь он именует формальной сущностью. «Объективное» означает на языке того времени выраженное идеально, представленное в качестве объекта идеи; ему противополагается «формальное» — как реальное, действительное, актуальное. Тонкость тут в том, что идеи, как модусы мышления, по Спинозе, тоже обладают реальностью, то есть особой формальной сущностью. Всякая идея, таким образом, имеет двоякую сущность — объективную и формальную. Половцова по обыкновению безупречно сориентировалась в этих хитросплетениях терминов.
В каких целях Спинозе понадобилась вся эта схоластическая терминология? С ее помощью он хотел выразить специфику идеи, как модуса мышления, в сравнении с модусом протяжения, каковым является тело. Модусы протяжения имеют лишь одну сущность (выражаемую особой пропорцией движения и покоя их частей). Сущность модусов мышления, идей, двояка, или, лучше сказать, двумерна. Любая идея существует и может мыслиться в двух разных измерениях: formaliter — как идея вещи, и objective — как идея вещи.
Дело осложняется тем, что сущность вещи, являющейся объектом (идеатом) идеи, в свою очередь многомерна. Точнее говоря, бесконечномерна: она действует «параллельно» во всех бесчисленных атрибутах субстанции, образуя в каждом из них особый модус, а тот, в свою очередь, является объектом особой идеи в атрибуте мышления, и в этом смысле имеет свой персональный «дух». Этим объясняются странные, на первый взгляд, слова Спинозы в письме Чирнгаусу: у всякой вещи имеется бесчисленное множество душ, которые ничего не знают одна о другой [Ер 66].
Идей без идеата, то есть мыслей ни о чем, не бывает. Всякая идея выражает нечто реальное, и в этом смысле идея должна соответствовать (convenire) своему идеату. Это положение Спиноза поместил среди аксиом. Идея и идеат, или сущность объективная и формальная, — это две стороны одной медали, два способа бытия одной и той же вещи. Но это два разных способа ее бытия (= действия).
Такова суть яростных — иначе и не скажешь — протестов Половцовой против обвинения Спинозы в смешении реального с логическим, в формальном отождествлении causae и rationes — причин вещей с основаниями (резонами) идей. Ей отлично известен первоисточник этого, по ее словам, «абсурдного воззрения»: Шопенгауэр дал пример того, как не следует понимать философию Спинозы, — храбро заявляет Половцова, обещая «подробно рассмотреть в специальном исследовании» учения Спинозы и Шопенгауэра о видах причин.
Соответствие, согласие (convenientia) идеи с идеатом нельзя понимать как тождество, подчеркивает Половцова[469], ссылаясь на слова Спинозы:
«Истинная идея есть нечто отличное от своего идеата» [TIE, 11].
Равным образом выражение «causa sive ratio» не означает тождества реальных причин и логических оснований. Логическое отношение основания к следствию есть лишь одна из форм выражения реального отношения причины к действию. Это та особая форма, которую каузальное отношение получает в атрибуте мышления. Ratio, пишет Половцова, есть «causa по отношению к идеям»[470], то есть это особая форма проявления каузального отношения в мире идей. Если это и тождество, то никак не формальное, но — тождество различенных. Одинаковы, тождественны (idem est, дословно: «есть одно и то же») лишь порядок и связь идей и вещей; идеи же как таковые вполне отличны от вещей, а логические основания — от реальных причин.
Другой пример тождества различенных дает нам отношение атрибутов и субстанции. У Половцовой, как и у самого Спинозы, не встретишь диалектической фразеологии, однако понимание Бога как единой субстанции, выражающей себя целиком и полностью в неисчислимом многообразии своих атрибутов, — есть диалектика чистейшей воды. Ибо что вообще такое диалектика, как не учение о единстве многообразного и не умение мыслить «все в одном» и «одно во всем»?
Ключом к пониманию отношения единого и многого, единой субстанции и множества ее атрибутов и модусов, является категория выражения. В атрибутах и модусах выражает (exprimit) себя субстанция. Уточняя термин exprimere, Половцова показывает, что речь идет не о субъективном выражении, не о мысленной абстракции, расщепляющей реальность вопреки ее единству, а о выражении истинном, абсолютно адекватно передающем единство субстанции[471]. Не интеллект раздваивает субстанцию на вещь мыслящую и вещь протяженную, как неверно полагал Гегель, а сама субстанция выражает себя двояким образом. Интеллект не причина, а следствие (и вместе с тем особая, идеальная форма) этого ее двоякого полагания[472] и бытия. Неверно и то, что спинозовская субстанция при этом делится, «раздваивается»; скорее уж она умножается, ибо в каждом своем атрибуте субстанция выражается вся целиком. Таким образом акт самовыражения субстанции нисколько не разрушает ее единства, не расщепляет на части. Субстанция не перестает быть единой, тождественной себе в каждом из своих бесконечных выражений. Конкретнее ее единство предстает как всеобщий, абсолютно идентичный в протяжении и мышлении порядок и связь вещей (ordo et connexio rerum). Этот миропорядок, эти вечные и неизменные законы природы и есть не что иное, как сама субстанция — Deus in rebus, «Бог в вещах».
Половцова оспаривает предложенное Куно Фишером толкование атрибутов как «сил» субстанции, отличных от субстанции как таковой. Атрибуты в сумме своей = субстанция (или, лучше сказать, не «в сумме», а взятые в интеграле — от латинского integer, «цельный»). Никакой иной реальности, помимо атрибутов, у спинозовской субстанции просто нет:
«Реальность атрибутов есть сама реальность субстанции, познаваемая путем интеллекта»[473].
Та же самая мысль, с аналогичной критикой Фишера, но снабженная более обстоятельной аргументацией, проведена в книге Льва Робинсона «Метафизика Спинозы»[474]. И вышла она в 1913 году, как и работа Половцовой. Эти две книги поразительным образом совпадают еще во многих других моментах, и даже в исходном замысле. В Предисловии Робинсон заявляет о необходимости «уразуметь ее [систему Спинозы], обнять как внутренне непротиворечивое, в себе законченное целое». Не менее резко, чем Половцова, осуждая любителей «прибегать… к допущению безнадежных противоречий, отягощавших якобы концепции философа» [475].
Однако по духу своему работы Робинсона и Половцовой заметно разные. Для Робинсона Спиноза по преимуществу метафизик, занятый раздумьями о Боге и душе, о бессмертии и свободе человека; для Половцовой он прежде всего логик, разработавший мощный метод «усовершенствования интеллекта».
Половцовская интерпретация намного оригинальнее и, на мой взгляд, глубже. В основе спинозовской философии действительно лежит логический метод, разработанный главным образом в TIE. Не владея этим методом, с его ключевой дистинкцией форм познания — интеллекта и воображения, не руководствуясь этим методом сознательно на каждом шагу, «уразуметь и обнять» учение Спинозы «как внутренне непротиворечивое, в себе законченное целое» — затея решительно невозможная.
И потом, сам Спиноза не раз повторял, что в усовершенствовании интеллекта видит конечную цель (finis), к которой «должны быть направлены все наши действия и мысли» [TIE, 6]; что интеллект — наша «лучшая часть» (melior pars), и потому в его усовершенствовании должно состоять высшее благо [ТТР, 43]; что в жизни самое полезное — совершенствовать свой интеллект, в этом одном заключается для человека наивысшее счастье или блаженство [Eth4 ар сар4]. А ведь Логика и есть не что иное, как теория и метод усовершенствования интеллекта! Именно так определяет ее предмет Спиноза в [Eth5 prf].
Amor Dei intellectualis — это любовь к мышлению и к знаниям, а вовсе не любовь к некоей высшей, божественной субстанции, как представляется многим «метафизикам». Бог вовсе не существует отдельно от единичных вещей. Чем больше знаем мы (intelligimus) единичные вещи, тем больше знаем Бога, пишет Спиноза [Eth5 pr24]. Поэтому понятливый школьник, штудирующий учебник истории или природоведения, на деле любит Бога сильнее, чем папа римский. Наука об интеллекте — Логика, и только она, владеет методом, позволяющим отличить истинную, интеллектуальную любовь к Богу от любви воображаемой, религиозной, питаемой не светом разума, а слепой верой.
Половцова эту логическую аорту спинозовской философии сумела увидать, а Робинсон — нет. Он нечасто обращался к текстам TIE и, в целом, понял этот трактат не слишком глубоко. Но вот понимание спинозовской субстанции как «единства многородного» у Робинсона заслуживает высокой оценки. В этой части он Половцову превзошел: ушел в том же самом направлении дальше нее.
И Половцова, и Робинсон категорически возражают против (идущего еще от Якоби и подкрепленного авторитетом Гегеля) понимания спинозовской субстанции как инертной, недеятельной, и вдобавок абсолютно индифферентной, первоосновы мира, а ее атрибутов и модусов — как «различений, делаемых внешним рассудком»[476]. Робинсон доказывает реальность атрибутов простейшим способом — апеллируя к собственным словам Спинозы: атрибуты субстанции реально различны (realiter distincta) и все вместе составляют (constituunt) одну субстанцию.
«Бог состоит из атрибутов, а не только для нашего интеллекта… выражается в них»[477].
Половцова же и тут, как обычно, предпочла аргумент логического порядка: так как все идеи интеллекта истинны, то атрибуты, посредством которых интеллект воспринимает (percipit) или выражает (exprimit) субстанцию, должны существовать и вне интеллекта, как реальные различия внутри самбй единой субстанции.
«Единое» для Спинозы вовсе не означает «лишенное различий», что бы там ни говорил Гегель или повторяющий его недоразумения Франк. Неправильно говорится у Франка и о «множественности» атрибутов, замечает Половцова. Они, по Спинозе, не множественны, а бесконечны. Истинная бесконечность не может быть выражена никаким числом, определенным или неопределенным. Бесконечность внечисленна. Слово «бесчисленное», означающее нечто невыразимое посредством чисел, Половцову не устроило. Приставка «вне-» призвана показать, что по отношению к атрибутам субстанции сам вопрос о количестве их неправомерен, неадекватен. Бесконечное понимается Спинозой «как исключающее всякий вопрос о числах», следовательно, и бесконечность атрибутов субстанции стоит «вне всякого вопроса об измеряемом числом количестве»[478].
Тут Половцова не права. Спиноза не только не считал вопрос о количестве атрибутов неадекватным, но он сам ставил его и давал обстоятельный ответ, доказывая, что кроме тех двух атрибутов, что известны конечному человеческому интеллекту, должны существовать еще и другие, не имеющие числа — бесчисленные.
В положении «атрибуты субстанции бесчисленны» не содержится никакой идеи, никакого конкретного знания об атрибутах; слово «бесчисленное» дает всего лишь отрицательное выражение понятию актуальной бесконечности субстанции. Такое негативное выражение природы вещей характерно для рассудка: к числу его категорий (entia rationis) принадлежат вообще «все модусы, какими дух пользуется для отрицания (omnes modos, quibus mens utitur ad negandum)» [CM 1 cpl]. Эти пустые, негативные абстракции обязаны своим существованием ограниченности, конечности нашего интеллекта, и, однако, они вполне адекватны, при условии, что мы не примем их по ошибке за нечто положительное— за идею вещи. И не спутаем бесчисленность с наивысшим положительным свойством субстанции — с бесконечностью[479].
Чрезвычайно интересны и глубоки замечания Половцовой о конкретности всеобщих понятий (notiones communes) протяжения и мышления. Понятия атрибутов, пишет она, образуются не индуктивной абстракцией — «не отвлечением некоторого общего свойства от единичных вещей», или иными методами «релативистической логики». Спинозовские атрибуты могут быть поняты лишь при условии полнейшего «отвлечения от всех свойств единичных вещей»[480]. Ни одно свойство тел либо идей не должно приписывать in suo genere бесконечным атрибутам субстанции. Атрибуты протяжения и мышления не имеют ничего общего с единичными вещами, но сами суть нечто конкретно-общее для всех этих вещей.
«Notiones communes Спинозы, как и априорные формы Канта, являются не абстрактными общими понятиями, но едиными и единственными в своем роде данностями, — данностями, для которых нет ни соответствующего рода, ни вида»[481].
Я нахожу эти выкладки Половцовой логически безупречными. Далее оставалось сделать всего-то один, финальный шаг — понять атрибуты субстанции как конкретные формы действия законов природы, диктующих единичным вещам «порядок и связь». Одни и те же законы природы совершенно по-разному выражаются в материальном и идеальном своем «инобытии». Этот момент разности — бесконечное разнообразие действий субстанции на себя самое, как Природы порождающей (naturans) и, вместе с тем, порожденной (naturata), — и схватывается понятием атрибута.
Что до уничтожительной критики, которой Половцова подвергла вульгарное понятие «природы» у Франка (тот вслед за Авенариусом приписывал это понятие «раннему» Спинозе), то к ней мне нечего добавить. Эта «натуралистическая» интерпретация Спинозы, и впрямь, «полнейший абсурд»[482]. Непредвзятый читатель Спинозы без труда увидит, что его «Natura» есть нечто совершенно отличное от «Природы» в обычном смысле слова. Эту нашу Природу (= Вселенную) Спиноза счел бы, в лучшем случае, одним из бесчисленных модусов своей Натуры, этой равной Богу субстанции.
Параллелизм модусов и атрибутов субстанции. Возражения Чирнгауса. Несоизмеримость бесконечного с конечным. «Объективный» параллелизм субстанции и интеллекта в свете дефиниции бесконечного множества у Кантора. Субстанция как континуум атрибутов и счетное множество модусов. Несоизмеримость этих двух форм актуально бесконечного.
Одна из самых коварных, чреватых ошибками тем в спинозоведении — так называемый «параллелизм», то есть одинаковость порядка и связи модусов в бесчисленных бесконечных атрибутах субстанции. Сам этот геометрический термин нельзя назвать вполне удачным. Да, у Спинозы речь идет о равнозначности выражений одной и той же сущности, но все выражения эти лежат, так сказать, в разных «плоскостях». Всякий атрибут субстанции «в своем роде бесконечен» и постигается интеллектом «через себя». Отношение между модусами, выражающими одну и ту же вещь (причину) в двух разных атрибутах субстанции, — например, между человеческим телом и духом как идеей этого тела — аналогично отношению между геометрической кривой и описывающим ее алгебраическим уравнением. Разве математики говорят в этом случае о «параллельности» уравнения и кривой? Во всяком случае такая «параллельность» абсолютно разных выражений одной и той же математической «вещи» (величины) не имеет ничего общего с тривиальной параллельностью двух лежащих в одной плоскости прямых. Тут уместнее другой математический термин — «эквивалентность», или «равномощность».
Половцова неодобрительно относится к разговорам о «параллельности» атрибутов и модусов субстанции — состояний (affectiones) нашего духа и тела, в частности, — ибо за ними, как правило, прячется дуалистическое толкование отношений между мышлением и протяжением. Нечасто кто-то решается, как Эрнст Кассирер (Е. Cassirer), напрямую упрекать Спинозу в скрытом дуализме. Большинство ограничивается «параллелистскими» экивоками. Тем не менее, Половцова признает, что есть смысл «говорить, если угодно, о параллелизме» идей и вещей, или объективно (objective) и формально (formaliter) данных сущностей[483].
Тут, однако, имеется трудность, отмеченная еще в письме Чирнгауса [Ер 65]. Почему, спрашивается, дух не воспринимает соответствующих ему и его телу модусов в иных атрибутах субстанции? Спиноза на это отвечал, что всякая вещь выражается в бесконечном интеллекте Бога бесчисленными идеями, или, что то же самое, вещь имеет не один только дух, но бесчисленное множество душ [Ер 66]. Объектом всякой идеи, или духа, является только один какой-либо модус субстанции, и ничего более. Дух может воспринимать лишь те вещи, которые действуют на него (прочие идеи) или на его объект (в частности, тело), или же те, на которые действуют сам дух и его объект. Но между модусами разных атрибутов не бывает подобной деятельной, каузальной связи, значит и их «объективные сущности» — души — тоже никоим образом не могут быть связаны, не воспринимают одна другую.
Если бы дело обстояло так, возразил Чирнгаус, атрибут мышления пришлось бы признать «простирающимся много шире (latius), чем прочие атрибуты» [Ер 70]. Ведь если каждому модусу всякого атрибута субстанции соответствует особая идея интеллекта в атрибуте мышления, то число модусов мышления, идей, оказывается бесконечно бдлыиим, нежели число модусов любого иного атрибута субстанции. И даже ровно вдвое большим, нежели сумма всех модусов всех прочих атрибутов, учитывая, что каждой идее в атрибуте мышления соответствует особая «идея идеи» (idea ideae), или «рефлективная идея» (idea reflexiva).
Половцова еще более усугубляет данное «нарушение параллелизма», указывая, что интеллект ставится Спинозой «как бы в параллельное отношение» к самой субстанции со всеми ее бесконечными атрибутами. Интеллект «объективно» выражает сущность субстанции, всех ее атрибутов и каждого ее модуса в отдельности. При этом «формально» интеллект — всего-навсего модус одного из атрибутов субстанции!
Этот гордиев узел противоречий Половцова разрубила, заявив, что для Спинозы вопрос о числе применительно к бесконечным реальностям, таким как интеллект Бога или его атрибуты, лишен всякого смысла. Вещи бесконечные нельзя мерить не только числами, но и иными количественными категориями, выражающими конечные величины: шире — уже, больше — меньше[484].
Чирнгаус и прочие не сумели уяснить себе природу бесконечного, его несоизмеримость с конечным.
«Бесконечное, в смысле Спинозы, может соответствовать любому бесконечному, не становясь от этого больше или меньше, в каком бы то ни было смысле слова. Для математика это положение понятно само собой»[485].
Последнее заявление, прямо скажем, опрометчиво. Чирнгаус был первоклассным математиком[486], в этой области Спиноза ему не ровня. И вопрос о бесконечном для математиков уже в те времена был яблоком раздора, свидетельство чему — ожесточенные споры вокруг исчисления бесконечно малых[487]. В годы же, когда Половцова писала эти строки, полемика о бесконечных множествах как раз достигла своей кульминации. При желании можно усмотреть важные логические параллели между учением о бесконечном Спинозы и теорией бесконечных множеств Георга Кантора.
Бесконечное определяется Кантором как множество, которое можно поставить во взаимно-однозначное соответствие со своим собственным подмножеством. Именно такое «как бы параллельное отношение» между абсолютно бесконечной субстанцией и одним из ее модусов — бесконечным интеллектом, констатировала Половцова! А вот что говорится в этой связи у Робинсона:
«В божественном интеллекте objective содержится вся природа, сам Бог, содержится вся область абсолютно бесконечного, помноженная на коэффициент идеальности. И в этом-то смысле Спиноза божественный интеллект обозначает однажды (Epist. 64), как intellectus absolute infinitus»[488].
Такое вот выражение в философии Спинозы находит постулат, который Кантор называл «великим камнем преткновения» для математиков (Чирнгаус не стал исключением): у бесконечных множеств часть равна целому. Спиноза предпочел бы, наверное, сказать иначе: абсолютно бесконечное не имеет частей (то есть представляет собой континуум), зато имеет несчетное множество[489] атрибутов — особых, in suo genere бесконечных форм «отображения» абсолютно бесконечной субстанции в самое себя.
А вот модусы субстанции, в том числе intellectus infinitus, имеют части — бесчисленное, но счетное множество элементов. Как известно, Спиноза отрицал бесконечную (indefinita) делимость модусов протяжения и мышления — тел и идей. В TIE доказывается существование «простых идей» (каждая из них, взятая сама по себе, абсолютно ясна и отчетлива), а в [Ер 6] и [Eth2], в порядке возражения Декарту, постулируется существование «простейших тел» (corpora simplicissima) или неделимых «долей материи» (materiae portiones). Так как для модусов субстанции существует некий предел деления на части, их множество является счетным, то есть равномощным множеству целых чисел.
Хотя субстанция целиком и полностью «отображается» (выражается objective) в бесконечном интеллекте, все-таки formaliter субстанция «больше» своего модуса intellectus infinitus ровно настолько, насколько континуум больше любого счетного множества. Слово «больше» в данном случае не более чем количественная аллегория сугубо качественного превосходства одного вида актуально бесконечного (absolute infinitum) над другим (in suo genere infinitum). В подобном аллегорическом смысле мы говорим о «величайших гениях», «высоких чувствах», «низких поступках» и пр.
Печально знаменитые противоречия теории множеств свидетельствуют о невозможности выразить различие форм бесконечного при помощи чисел и вообще категорий количества. Кантор много толковал про несоизмеримость конечного и бесконечного, однако это лишь половина дела. Несоизмеримы между собой также и две формы бесконечного — счетное множество и континуум. Поэтому антиномии теории множеств никогда не могут быть разрешены средствами математики, в категориях количества. Они сигнализируют о выходе разума за пределы компетенции математики. Это по природе своей логические, а не математические противоречия.
Логически противоречиво уже само понятие «несчетного множества». Мы находим в нем прямой математический аналог кантовской «вещи в себе». Несчетное — то, что нельзя посчитать, — вообще не может сделаться предметом математики, этой науки счета, измерения величин. «Несчетное множество» — это уже не множество, а напротив—единство. Это субстанция всякого многообразия, реальная основа какого угодно «счетного множества» конечных величин (натуральных чисел, точек и т. д.). Впрочем, словосочетание «счетное множество» не более чем тавтология, как «круглая окружность».
Лежащее в основании теории множеств деление бесконечных множеств на несчетные и счетные, со спинозистской точки зрения, является неадекватным выражением деления актуально бесконечного на единое (субстанция, как континуум бесконечных атрибутов) и множественное (бесчисленные конечные и бесконечные модусы субстанции). При этом многие теоретические суждения Кантора о бесконечном, я полагаю, Спиноза охотно одобрил бы: само определение бесконечного множества, положения о несоизмеримости бесконечного с конечным и о первичности понятия актуально бесконечного по отношению к потенциальной бесконечности.
Или вот еще пример. Согласно Спинозе, бесконечный интеллект непосредственно (immediate) следует «из абсолютной природы» субстанции, как вещи мыслящей. Между субстанцией и бесконечным интеллектом нет никакой «промежуточной» инстанции, следовательно, их отношение вполне удовлетворяет знаменитой канторовской гипотезе континуума[490].
Спиноза как критик психофизики. О рефлективных идеях и специфике мышления. Взаимно-многозначное соответствие модусов протяжения и мышления. Закон всемирного отражения. Почему Спиноза не материалист. Словосочетание «мыслящее тело» бессмысленно. Двухмерный взгляд на человека. Ахиллесова пята философии Спинозы — проблема возникновения мышления. Смешение чувственных образов и идей у Ильенкова. Геометрическое и динамическое понимание материи.
Последний раздел книги Половцовой посвящен рассмотрению «современных психофизических теорий» с высоты спинозовской теории познания. Половцова настаивает, что уже сам предмет современной психологии — душа, область «психического» — кардинально отличен от предмета, рассматриваемого во второй части «Этики» («О природе и происхождении духа»). С точки зрения Спинозы, наша «психика» есть всего-навсего имагинативная, целиком из неадекватных идей состоящая часть человеческого духа. И тело человеческое, как воспринимает его душа — как она его чувствует в формах пространства и времени, не есть реальное наше тело. Это некая имагинативная проекция взаимодействия человеческого тела с некоторыми (чувственно воспринимаемыми) телами внешнего мира. Стало быть, заключает Половцова,
««дух» и «тело» в учении Спинозы не равнозначны душе и телу психофизических теорий»[491], —
и реальная связь духа и тела как модусов субстанции не имеет ничего общего с психофизической связью субъекта с объектом, как она понимается в этих теориях, с их «релативистической логикой».
А в книге Эрдманна открытым текстом предлагалось использовать вместо спинозовского, «метафизического» понятия субстанции «эмпирически-психологическое» обоснование параллелизма души и тела.
«Согласно ему, параллелизм состоит прежде всего только в том утверждении, что явления сознания представляют собой с точки зрения самовосприятия то же самое, что представляют собой некоторые определенные движения в нашем организме с точки зрения чувственного восприятия… Мы ограничиваем, кроме того, параллелистическую гипотезу исключительно той областью, которая доступна прямому наблюдению и достоверным умозаключениям по аналогии»[492].
Все содержимое этой области целиком и полностью у Спинозы числится по ведомству воображения с его чувственными образами и «смутными» идеями, всегда неадекватными реальным вещам с их строго каузальным порядком и связью.
Если понимать параллелизм души и тела в соответствии с новейшими психофизическими теориями, Спиноза оказывается их антагонистом, а не запутавшимся в противоречиях предшественником и соратником, как полагали сами «психофизики», считает Половцова. В истории философии нет другого образца столь непримиримой критики их представлений о связи души и тела, как тот, что дан в философии Спинозы. Все его учение об истинном познании являет собой пример абсолютно сознательного «нарушения параллелизма». С особенной наглядностью это демонстрируют «модусы атрибута cogitatio, данные в человеческом сознании, но не стоящие ни в каком отношении к телу»[493].
Половцова имела в виду спинозовские «идеи идей», которые в TIE именуются еще «рефлективными идеями». Робинсон справедливо называл это «любопытнейшее» понятие «камнем преткновения для ходячих интерпретаций спинозизма». Дело в том, что для этих чистых идей духа нет аналога среди модусов протяженной субстанции.
«Каким образом выходит так, что модификация мышления — идея — не только по-своему выражает то же сущее, что и протяженная вещь, но живет вполне самостоятельной жизнью, отображая нечто отличное от своего объекта, себя самое?»[494]
Далее Робинсон приводит отрывок из книги Дунин-Борков-ского, в котором тот выдает собственное неумение ответить на этот вопрос за очередное противоречие философской системы Спинозы. Со своей стороны, Робинсон показал, что проблема легко решается, при условии, что мы понимаем дух и тело как реально различные выражения субстанции, каждое со своими особыми (идеальными либо материальными) свойствами: тело движется, дух рефлектирует.
Если же, вслед за Борковским и прочими психофизиками, видеть в протяжении и мышлении лишь субъективные формы «раздвоения» субстанции в призме человеческого интеллекта, тогда «параллельность» протяжения и мышления объясняется исключительно нашим углом зрения на субстанцию. Пионером этой субъективистской трактовки отношений души и тела стал немецкий ученый и литератор Густав Теодор Фехнер, написавший в середине XIX столетия книгу «Элементы психофизики». К этой книге апеллировал и Эрдманн. Он привел пространную, более страницы, цитату, начинавшуюся следующим пассажем:
«То, что изнутри представляется тебе духом, — духом, в котором ты находишь самого себя, то самое извне кажется, наоборот, телесной подкладкой этого духа. Не одно и то же — думать мозгом или видеть перед собою мозг думающего. В каждом случае взору представляется вполне различное».
А завершавшуюся программными словами Фехнера:
«Учение об отношениях между духом и телом должно будет проследить отношения проявлений единого с обеих точек зрения»[495].
Никакого реального различия души и тела нет, есть лишь различие между двумя несовместимыми и в равной мере односторонними «точками зрения» на человека. Вот как. Теперь припишем эту «теорию» Спинозе, а после все не согласующиеся с ней положения объявим логическими противоречиями его системы. Такова, как показала Половцова, нехитрая стратегия, избранная многими и многими «осветителями» философии Спинозы. Нет в телесном мире походящей «параллели» для рефлективной идеи? Что же, вздыхает Дунин-Борковски, значит,
«здесь мы стоим перед затруднением, которое Спинозе не удалось никогда ни решить, ни преодолеть»[496].
Неразрешимое затруднение, действительно, имеется, однако не в системе Спинозы, а в голове «иезуитского патера». В его воображении, населенном параллелистскими химерами и генерирующем логические противоречия.
Да, всякая вещь выражается в протяжении одним и только одним телом; в мышлении же — одной идеей этого тела (mens, дух) плюс бесчисленными рефлективными идеями (идея духа, идея идеи духа и т. д.). Порядок вещей от этого никоим образом не нарушается по той простой причине, что рефлективная идея не есть вещь, отличная от духа как такового. Она лишь иной модус выражения в атрибуте мышления той же самой вещи, что и дух.
«Идея духа и сам дух есть одна и та же вещь, которая понимается под одним и тем же атрибутом, а именно мышления… Идея духа, т. е. идея идеи, есть не что иное, как форма идеи, поскольку она рассматривается как модус мышления без отношения к объекту»[497].
Такова рефлективная природа мышления, такова специфика этого атрибута в сравнении с атрибутом протяжения: вещь, выражаемую одним модусом протяжения, мышление выражает бесчисленными модусами. Между бесконечными множествами тел и идей тем самым устанавливается, так сказать, «взаимно-много-значное» (1/∞) соответствие: любому телу «параллельны» бесчисленные идеи.
Обладая свойством рефлективности, интеллект возводит всякую вещь в степень модальной бесконечности. Вот что говорится на сей счет у Робинсона:
«Как тело, потому что оно модус протяжения, обладает свойствами не принадлежащими духу, так духу, идее тела, потому именно, что он модус самостоятельного атрибута мышления, присущи свойства, которым нет подобных в ее, идеи, протяженном объекте. Как круг имеет периферию и центр, которых лишена идея круга, так идее круга присуще свойство быть объектом идеи идеи круга, каковым свойством обладает, подобно всякой, и эта последняя идея, и так без конца — аналогичного чему в самом круге нет ничего. Как тело, например, делимо, потому что оно тело, так дух способен к саморефлексии, потому что он дух»[498].
При этом нельзя ни на миг забывать, что различны только свойства модусов протяжения и мышления, но не их каузальный порядок и связь. Тела бесконечно движутся, идеи бесконечно рефлектируют, отражаясь одна в другой. Там действует закон всемирного тяготения, тут — закон всемирного отражения. Мышление и протяжение суть тотально разные атрибуты, их роднит лишь порядок и связь причин — только эта конкретно-всеобщая их субстанция, и ничего больше.
Объяснить свойства идей из движения тел поэтому невозможно. Всякая «материализация» учения Спинозы, по мнению Половцовой, «абсурдна». Спиноза не материалист: у протяженной природы нет никакого приоритета в отношении природы мыслящей. Абсурдна сама постановка вопроса: который из вечных и бесконечных атрибутов субстанции первичен? Проблема первичности имеет смысл там, и только там, где есть причинно-следственные отношения. Причина первична в отношении своих действий, но, как без конца твердит Спиноза, между мышлением и протяжением, между духом и телом, нет никакой каузальной связи! Следовательно, нет и вопроса о первенстве.
Увы, в советские времена из Спинозы старательно лепили материалиста (то механического, a lа Гоббс, то диалектического — «Маркса без бороды»), игнорируя или ретушируя все, что не вписывается в желаемый образ. Догмат о партийности научных теорий обязывал первым делом определиться с пропиской мыслителя в одном из двух веками враждующих философских «лагерей». Ну не отдавать же Спинозу идеалистам! — Сей бредовый лозунг выдвинул еще «первый русский крестоносец марксизма»[499] Георгий Плеханов, негодовавший по поводу того, что Спинозу «давно уже причислили к идеалистам». Нет, доказывал он, Спиноза был «несомненным материалистом, хотя его и отказываются признать таковым историки философии»[500]. Ссылаясь на свои беседы с Энгельсом, он доказывал, что марксизм является «родом спинозизма», и весь «современный материализм… представляет собой только более или менее осознавший себя спинозизм»[501].
Оставалось решить, как быть с отдельными достойными сожаления фразами, вроде этой вот:
«Я разумею тут под природой не одну материю и ее состояния, но кроме материи и иное бесконечное»[502].
Выход легко нашелся. Термином «материя» Спиноза, дескать, обозначает картезианскую протяженную субстанцию. Поэтому не надо понимать его слова как отказ от материализма вообще. Отвергнуто лишь Декартово механическое понимание материи. Спинозовское же понятие природы как субстанции вплотную приближается (а то и равнозначно) к материи в марксистском ее понимании, как объективной реальности вообще. Примерно в таком ключе рассуждали и Абрам Деборин сотоварищи, и Эвальд Ильенков, усмотревший в философии Спинозы «последовательный материализм»[503]. Имя собственное спинозовской субстанции — «Бог» — всуе они старались не поминать. А Соколов осмелился (чуть было не сказал: набрался наглости) изъять из русского перевода ТТР эпиграф, гласивший, что «мы пребываем в Боге, и Бог пребывает в нас» — in Deo manemus et Deus manet in nobis[504]. Допускаю, впрочем, что редактор Соколов мог попросту не знать о существовании эпиграфа. С него сталось бы.
На самом деле, Спиноза «материей» именовал не только Декартову, но и свою протяженную субстанцию[505]. И эта материя у него ничуть не «первичнее» мышления.
Рассуждая абстрактно, можно, конечно, приравнять спинозовскую Природу-субстанцию к марксистскому понятию материи либо к «Абсолютному духу», как то не раз проделывали гегельянцы. Конкретная разница обнаружится, как только мы приступим к исследованию человека, взаимоотношений его мыслящего духа и тела. Идеалисты считают дух сущностью тела; материалисты видят в духе особую телесную субстанцию или же форму движения тела (у марксистов это — общественное, «неорганическое» тело); Декарт полагал дух и тело двумя автономными субстанциями. Для Спинозы все три эти воззрения одинаково ложны. Тело и дух, учил он, — два абсолютно разных модуса бытия одной и той же вещи. Человеческое тело есть ближайший объект восприятия духа, но никакой не субъект, не субстанция и не причина его бытия. Мыслит вовсе не тело, но идея этого тела, дух.
Не знаю, где это Ильенков вычитал у Спинозы, что «мыслит не особая душа…, а самое тело человека»[506]. Мышление есть способ действия модуса протяжения, — трудно представить себе более вопиющее поругание взглядов Спинозы. Сделав дух предикатом тела, Ильенков далее вторит Фехнеру:
«Есть… всего-навсего один-единственный предмет—мыслящее тело живого, реального человека, лишь рассматриваемое под двумя разными и даже противоположными аспектами или углами зрения»[507].
Справедливости ради стоит отметить, что спинозовская «мыслящая вещь» мутировала в «мыслящее тело» задолго до Ильенкова. Кажется, первым был Лессинг — как известно, завзятый спинозист. Тот резюмировал свое (не)понимание спинозовской «Этики» словами:
«Душа не что иное, как мыслящее себя тело, а тело не что иное, как протяженная душа»[508].
Не в пример грамотнее прочел «Этику» другой немецкий поэт-спинозист, Гете, воскликнув устами Фауста: «В начале было Дело!» Вот вам Спиноза чистой воды. Не тело, а Дело есть субстанция и субъект мышления, мать-кормилица всех наших идей. Дух и тело — два реальных и совершенно разных измерения человеческих действий.
Словосочетание «мыслящее тело» для Спинозы ровно такая же бессмыслица, как и «телесная мысль». Понятие вещи (res) как «действующей причины» (causa efficiens) сводится тут к одной из ее модальностей — к ее телесному выражению. Меж тем, согласно Спинозе, вещь «человек» есть тело плюс дух. Человек — и модус протяжения, и модус мышления в абсолютно равной мере.
Вообще говоря, отношение вещи к ее модусам (в частности, к духу и телу) идентично отношению субстанции к ее атрибутам. Вещь — это сумма своих модусов, она целиком и полностью состоит из модусов и, вместе с тем, выражает всю свою сущность в каждом из них. Выражает реально, исчерпывающим образом — никакой абстрактной односторонности тут нет и в помине. Другими словами, идея всякого конкретного модуса субстанции дает полное знание вещи. Повторяю: любая идея интеллекта дает не односторонний «угол зрения», который нужно дополнить другим, столь же односторонним, но дает полное знание вещи, как действующей причины каких-либо других вещей.
Так, идея человеческого тела в бесконечном интеллекте, mens (дух), полностью выражает сущность не только своего объекта— тела, но и в целом человека, как вещи, состоящей из двух модусов субстанции — духа и тела. Objective она есть идея тела, a formaliter она идея тела, поэтому дух выражает вместе и природу своего тела, модуса протяжения, и свою собственную идеальную природу, как модуса мышления. У Спинозы нет двух раздельных, одномерных и взаимно дополнительных «точек зрения» — одна на дух, другая на тело, — но есть один двумерный взгляд на человека.
Спиноза ничего не ведал о том, как возникает в человеке мыслящий дух. Здесь — ахиллесова пята его философии. В [TIE, 10] он писал, что разум достался человеку от природы. Этот врожденный интеллект создает «природной силой» своей простейшие идеи, которыми затем пользуется как «интеллектуальными орудиями» для других «работ», то есть для изготовления более сложных и развитых идей, — «и так постепенно подвигается, пока не достигнет вершины мудрости». Откуда взялась у человеческого разума эта «природная сила» (vis nativa) и что это за «интеллектуальные работы» (opera intellectualia), Спиноза обещал разъяснить в другой книге, посвященной «моей Философии». Однако слова не сдержал.
Во всяком случае, отсюда явствует, что идеи возникают исключительно из работы ума, а отнюдь не из движений человеческого тела по контурам внешних тел, как представлялось Ильенкову. Опять Ильенков ошибся. Вернее сказать, тут имело место недоразумение. Все, написанное в «Диалектической логике» о возникновении «адекватных идей», у Спинозы на самом деле есть, только относится это не к идеям, а к чувственным образам. В этих контурных образах внешних тел нет ни грана идеального, они всецело материальны. В ходе движения по чужим пространственным контурам в теле рождается чувствующая душа, что способна лишь «оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим, и языком ощущать» (Парменид). Но никак не мыслящий дух. Сколько ни утюжь контуры внешних тел органами чувств и разными конечностями, ни одна, самая простенькая идея мозг твой не посетит, а лишь полчища чувственных образов вторгнутся…
Не по внешним контурам тел у Спинозы разумный человек действует, а по внутренней логике вещей, согласно потаенным законам их природы. Неужто нет разницы? «Законы движения небесных тел не начертаны на небе». Это Гегель. Или вспомните праотца диалектики Гераклита: «Природа любит прятаться», а значит, «тайная гармония лучше явной». Это только для какого-нибудь замшелого эмпирика наличные, чувственно воспринимаемые контуры суть альфа и омега мыслительного процесса.
Пространственные контуры тела формируются во взаимодействии его с внешними телами, в результате давления внешних тел. Сущность данного тела поэтому проступает в его контурах лишь отчасти, весьма неадекватно[509]. Спиноза отвергнул Декартово геометрическое определение материи. Сущность тел заключается в движении, а не в их пространственной размерности, величине и контурах.
«Всякая отдельная телесная вещь есть только определенная пропорция движения и покоя…» [KV vmz].
Этого новаторского — динамического — понятия протяжения и материи у Спинозы вовсе не заметили наши материалисты. Ильенков приписывает ему чисто картезианское понимание протяжения как «пространственной конфигурации и положения [тела] среди других тел»[510]. Меж тем, еще Половцова настоятельно предостерегала, что
«содержание «субстанции» протяжения по терминологии Декарта не совпадает с содержанием «атрибута» протяжения Спинозы, но смешивается у Декарта с содержанием материи или тел, неизбежно относящихся к модусам у Спинозы… Он указывает, например в письмах 81, 83 к Чирнгаузу, со ссылкой на Рr. Ph. С., что недоразумения Чирнгауза по поводу отношения атрибута протяжения к телам вытекают из его картезианской точки зрения, между тем как с точки зрения Спинозы эти недоразумения устраняются в связи с разъяснением: «materiam a Cartesio male definiri per extensionem» [материя плохо определена Декартом через протяжение]»[511].
Насколько все же лучше, адекватнее Половцова понимала Спинозу, чем самые светлые умы из числа советских марксистов! Несравненно лучше, чем другой пылкий почитатель Спинозы — Ильенков, не говоря уже о «красной профессуре», судившей его учение по канонам вульгарного «диамата». Никто из них и не подумал воспользоваться мощной половцовской «методологией исследования философии Спинозы». Чувственные образы без конца смешивались с идеями, идеи воображения — с идеями интеллекта, термины Спинозы наполнялись чуждыми ему смыслами— схоластическими, картезианскими, материалистическими и бог весть еще какими…
Прошло без малого сто лет со времени выхода в свет книги Половцовой и ее перевода TIE. Сто лет упадка отечественного спинозоведения. Хотелось бы надеяться, что с возвращением из долгого забвения имени Половцовой Weltgeschichte примется наконец вершить свой Weltgericht. Если только страшный суд мировой истории не выдумка хитроумного шваба.
Перевод трактата
De intellectus emendatione
Учитывая, что теория познания Спинозы, согласно Половцовой, образует основу всех его философских воззрений, вполне логично, что ближайшим ее шагом стал перевод спинозовского TIE. Она всячески подчеркивает важность этого неоконченного трактата, который
«не только помогает уяснению всего учения Спинозы, но и разрешает вполне естественным образом часто наиболее спорные из так называемых «противоречий» этого учения»[512].
TIE представляет собой подлинные врата в философию Спинозы, равно как и введение к жизни, необходимой для философии.
О времени написания трактата нет сколько-нибудь достоверных сведений. Еще в XIX веке высказывалась мысль, что TIE написан раньше всех остальных сохранившихся сочинений Спинозы. Половцова упоминает в этой связи имена Авенариуса и Бемера. Сама она уклонилась от обсуждения даты написания TIE, ограничившись ссылкой на «последние исследования», согласно которым трактат написан не ранее 1661 года.
В наши дни, однако, дебаты возобновились. Сначала Филиппо Миньини в своем капитальном издании KV[513] принялся доказывать, что TIE был написан раньше, чем KV; затем голландский переводчик TIE Вим Клевер (Wim Klever) сделал — крайне неубедительную, на мой взгляд, — попытку отодвинуть написание трактата еще ко временам херема и изгнания Спинозы из еврейской общины[514]. Так или иначе, из писем Спинозы с несомненностью явствует, что автор до последних лет жизни не оставлял намерений завершить TIE[515].
На русский язык TIE первым перевел одессит Г. Полинковский, и перевод этот был, по оценке Половцовой, «сделан весьма тщательно», хотя его автор и «не ставил себе целью более глубокое проникновение в содержание текста»[516]. Вместо справочного аппарата в книге была помещена соответствующая глава из фишеровской «Истории новой философии», которую Половцова квалифицировала как «не способствующую пониманию». К тому же издание Брудера, с которого Полинковский делал свой перевод, несколько устарело. Как призналась в Предисловии Половцова, о существовании одесского издания TIE 1893 года она узнала уже после окончания собственного перевода. Впрочем, вряд ли это издание могло ей пригодиться.
В советские времена появился еще один перевод TIE[517], выполненный М. Я. Боровским, под редакцией Г. С. Тымянского, с его же примечаниями и вступительной статьей. Уроженец Варшавы и юрист по образованию, Григорий Самуилович Тымянский был одним из первых питомцев Института Красной профессуры. Любопытно, что он пошел много дальше Половцовой, усмотрев в логике не только основу философии Спинозы, но и первую из всех наук вообще — так как всякое научное познание имеет логический характер[518]. Эта мысль о приоритете науки логики выдает принадлежность Тымянского к гегельянскому крылу марксистской философии, главой которого был академик Деборин (Абрам Моисеевич Иоффе). Подобно многим его соратникам, «материализовавшим» философского Бога Спинозы, Тымянский кончит жизнь несколько лет спустя в сталинском лагере.
Все русские знатоки Спинозы, кроме Половцовой, переводили заглавие TIE как «Трактат об усовершенствовании разума». Половцова оригинальна и тут. Название «Трактат об очищении интеллекта» В. В. Соколов находит «безусловно неточным, вольным и даже искажающим»[519] — не утруждая себя какой-либо аргументацией. Со своей стороны, Половцова доскональнейшим образом обосновала избранный ею перевод заглавия. Профессор Соколов никак не мог, разумеется, снизойти до разбора ее аргументов, поскольку сильно рисковал выглядеть невеждой. Сам ведь он Спинозу не переводил — довольствовался редактированием чужих переводов.
Половцовой было небезызвестно, что «emendatio» означает «усовершенствование, исправление»[520]. Однако интеллект для Спинозы равнозначен ясному и отчетливому знанию природы вещей, самой истине, — а как же возможно усовершенствовать или исправить абсолютную истину? Это вот соображение и заставило Половцову искать иное слово для перевода латинского emendatio. Причем заставило не ее одну: к схожему решению пришли по меньшей мере двое других исследователей, в том числе такой авторитет, как Якоб Фрейденталь (это имя всегда упоминалось Половцовой с подчеркнутым уважением).
«Замечу, что такой перевод выражения de intellectus emendatione, хотя и не часто, но все же встречается в литературе о Спинозе; так, например, Couturat дает выражение «la purification de l’entendement», Freudenthal говорит о «Lauterung des Verstandes»[521].
Половцова ссылается и на то место TIE, где Спиноза разъясняет, что усовершенствование разума заключается в его «врачевании и очищении».
Это «очищение» (expurgatio) Спиноза понимает как ограждение человеческого духа от неадекватных чувственных восприятий и смутных идей воображения. Сам термин «expurgatio» он, возможно, заимствовал у Бэкона. В Предисловии к «Новому Органону» говорится «об очищении интеллекта с тем, чтобы он был способен к истине» (de expurgatione intellectus ut ipse ad veritatem habilis sit). Было бы, однако, ошибочным толковать очищение интеллекта у Спинозы в духе бэконовской войны против «идолов» мышления. Уместнее тут вспомнить платоновский «катарсис», как он описан в «Федоне»[522]. Его задача —
«как можно тщательнее отрешать душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по себе и жить, насколько возможно, — и сейчас и в будущем — наедине с собою, освободившись от тела, как от оков» [Phaed. 67 cd].
Правда, Спиноза, в отличие от Платона, считал тело не «оковами» человеческого духа, а ближайшим его объектом и орудием всякого познания. Но и для Спинозы состояния тела (смутные чувственные восприятия и страсти) — единственный источник неадекватного знания.
Следует согласиться с Половцовой: спинозовская «эмендация» не усовершенствует и не исправляет интеллект, но лишь очищает его. Комментатор TIE обязан это иметь в виду и уведомить об этом читателя. Однако дает ли это переводчику право отступать от прямого значения слов Спинозы? Я полагаю, нет. Переводчик обязан воспроизвести не только смысл, но, насколько это возможно, еще и букву текста. Главный недостаток половцовского перевода в том, что он оказывается, так сказать, в плену у ее комментария. Перевод этот смысловой, не буквальный. Тем самым читатель лишается всякой возможности оценить правильность ее понимания текста. Ему остается одно: всецело довериться чужому пониманию. Либо самому сделаться переводчиком, принявшись сличать перевод Половцовой с оригиналом. Этот второй путь хорош для эксперта, для подавляющего большинства читателей он неприемлем.
Половцова фактически уличает Спинозу в неточности: если интеллект невозможно «усовершенствовать», значит слово «emendatio» не по праву фигурирует в заглавии TIE. Но так ли это на самом деле?
Нельзя усовершенствовать лишь бесконечный интеллект, ибо бесконечность есть «высшее совершенство» (summa perfectio) вещи [СМ 2 сар3]. Человеческий же, конечный интеллект может и должен быть совершенствуем. Верно, что интеллект равнозначен для Спинозы истине, однако конечный интеллект есть далеко не вся истина. Кроме того, как показано в TIE, истинные идеи бывают более и менее совершенными.
«Идеи тем совершеннее, чем более совершенства какого-либо объекта они выражают. Ведь мы не так удивляемся мастеру, который создал идею какой-нибудь часовни, как тому, кто создал идею некоего замечательного храма» [TIE, 33].
Следовательно, усовершенствование интеллекта заключается не только в его очищении от неадекватных идей, но и в приобретении новых и более совершенных идей, или, что то же самое, идей о наиболее совершенных вещах.
Спиноза говорит об усовершенствовании интеллекта с полным правом и абсолютно осознанно. Эту свою мысль он повторяет и в ТТР, и в «Этике», в обоих случаях заменяя слово «emendatio» на «perficere» (совершенствовать):
«Так как лучшая часть в нас есть интеллект, то несомненно, что если мы действительно желаем искать пользы для себя, мы должны больше всего заботиться о совершенствовании его, насколько возможно, ибо в его усовершенствовании должно состоять высшее наше благо»[523].
«В жизни, стало быть, самое полезное — совершенствовать свой интеллект или рассудок, насколько мы можем»[524].
Все это мало похоже на случайную неточность, не правда ли?
Приходится сделать вывод, что Половцова неверно перевела название трактата. Его следует переводить: «Трактат об усовершенствовании интеллекта».
Полинковский и Боровский, глубоко не вникавшие в смысл слова «emendatio», дали ему прямой и самый верный перевод. Ту же ошибку, что и Половцова, допустил ранее Луи Кутюра, переведя «emendatio» как «purification» (фр. очищение); а вот Фрей-денталь выбрал более удачное слово — «Lauterung». Буквально «lautern» означает по-немецки «очищать», но имеет еще и переносное значение: «улучшать, облагораживать» (ср. с лат. laute— хорошо, lautus — прекрасный), что очень близко по смыслу к слову «усовершенствовать».
Эта ошибка Половцовой не единична, случались и другие. Что ж, таковы издержки смыслового перевода. Соколов был не так уж неправ, когда писал, что
«перевод Половцевой носит печать субъективизма, отражая философские воззрения самого переводчика»[525].
Собственная редакция Соколова никаких — во всяком случае, никаких стоящих — «философских воззрений» не отражает, и «носит печать» самого заурядного и поверхностного прочтения Спинозы. Зато его комментарий к тексту, в духе того времени, полон марксистских идеологем и расхожих погрешностей (вроде смешения вечности с бесконечной длительностью, или атрибута протяжения — с пространством), против которых так настоятельно предостерегала Половцова.
Половцова, как отмечалось выше, следовала традициям английских переводов У. Хэйл Уайта. Ею учтены некоторые конъектуры и разночтения в ряде других изданий трактата. Перевод снабжен подробным комментарием, заметно превосходящим в размерах собственный текст трактата. Не будет преувеличением сказать, что перевод Половцовой являлся одним из самых аргументированных для своего времени и на порядок превосходит все имеющиеся на сегодняшний день русские переводы Спинозы размерами и качеством справочного аппарата.
Но вот с чисто литературной точки зрения худшего перевода, без сомнения, нет. Удручающее впечатление производит и язык собственных писаний Половцовой. Изобилие кошмарных латинизмов, вроде «интеллективное — имагинативное» или «конципировать — фингировать»; масса тавтологий — «познание… познает», «даны все данные», «объяснения, которыми… объяснять», «убеждаемся… стой же убедительностью»; там и сям неуклюжие обороты речи («именно в этом смысле это», и т. п.) и несогласие падежей…
Впрочем, Половцова, по большому счету, права, утверждая, что «литературность» в деле перевода научных произведений должна играть второстепенную роль:
«На первом плане должна стоять единственная задача, а именно — облегчение истинного понимания»[526].
Для того, чтобы перевод облегчал понимание первоисточника, переводчик сам должен безупречно понимать его. Мало того, читатель должен знать, как переводчик понимает текст. Поэтому Половцова решилась взяться за перевод TIE не раньше, чем опубликовала солидное исследование, в котором оговаривались предварительные условия, на ее взгляд, обязательные для «истинного понимания» Спинозы. Это свое кредо она провозгласила на первой же странице Предисловия к TIE:
«Предварительное специальное исследование учения данного автора дает в особенности право на перевод его произведений, с надеждой на действительно точную передачу его мыслей… Всякому научному переводу должно предшествовать специальное изучение автора, так как только оно дает возможность видеть в данных словесных выражениях именно то, что видел в них этот последний»[527].
Такой подход к делу мне тоже представляется образцовым. Но из всех русских переводчиков Спинозы, кроме Половцовой, только Владимир Брушлинский удосужился написать одну небольшую статью, посвященную философии Спинозы[528].
В пространном половцовском Введении к TIE в концентрированном виде повторяется многое из того, что уже говорилось в ее книжке о геометрическом способе изложения, о различии интеллекта и воображения, о понятиях идеи, причины и др. Здесь Половцова обосновывает характер своего перевода всех ключевых терминов Спинозы, постоянно апеллируя при этом к Декарту, у которого многие из этих терминов употребляются в схожих значениях. Неоднократно Половцова прерывает свой анализ обещанием рассмотреть тот или иной вопрос в «специальном исследовании», которое она рассчитывала вскоре издать.
Я не стану вдаваться тут в детальный разбор множества удачных и отдельных неудачных мест ее перевода TIE, ибо это потребовало бы подробного изложения моих собственных взглядов на философию Спинозы — что выглядело бы не слишком уместным в книге, посвященной Варваре Половцовой. По ее примеру, оставляю эту задачу на долю «специального исследования» — готовая его часть публикуется уже в настоящем томе. Теперь же нам осталось лишь посмотреть, какое применение нашли труды Половцовой и как их оценивали другие русские философы.
Упоминания и влияние
В советские времена о Половцовой редко вспоминали, даже в 20-е годы, когда наша страна по числу — увы, не по качеству — работ, посвященных философии Спинозы, шла впереди остальной планеты. Как справедливо заметил сэр Исайя Берлин, те работы представляют больший интерес для исследователей советской идеологии, нежели для исследователей Спинозы[529]. Быть может, потому-то Половцова и не стала возобновлять свои философские штудии после Октябрьской революции? Советский идеологический истеблишмент продвигал Спинозу на пост философского предтечи Маркса, а в трудах Половцовой Спиноза изображался философом «беспартийным», не примкнувшим ни к одному «лагерю» в исторической баталии материалистов с идеалистами.
Некоторые результаты ее изысканий, впрочем, фигурировали в полемике между двумя кланами марксистов. «Деборинцы» сочувственно отнеслись к ее аргументам против «геометрического метода»:
«Лично я примыкаю к точке зрения Половцевой», — писал Н. Кибовский, имея в виду ее мнение о формальном характере «геометрического порядка»[530].
А я лично нет, не примыкаю, — столь же основательно возражала на это интеллектуальный лидер партии «механистов» Любовь Аксельрод:
«Вся груда доказательств, которая так старательно и так педантично приводится Половцовой в пользу того, что mos geometricus является лишь формой изложения, не выдерживает, на наш взгляд, ни малейшей критики. Внутренняя сущность всей системы свидетельствует о противоположном. Все терминологические и филологические исследования, которые даются Половцовой, имеют свое значение, но то именно, что она стремится доказать, не доказано по той простой и естественной причине, что этого доказать невозможно»[531].
Да уж, «причина» — проще некуда. Суждение Половцовой не доказано, потому что его нельзя доказать никогда. Один-единственный довод, который нашелся у Аксельрод для опровержения «груды доказательств», приводимых Половцовой, — это молчаливое свидетельство «внутренней сущности всей системы» Спинозы. Весьма характерный эпизод той, длившейся более десяти лет полемики между вождями пролетарской философии.
Изредка вспоминали о трудах Половцовой и светлые умы из среды русской эмиграции. Борис Яковенко — «интуитивный трансценденталист», как он отрекомендовался, — называл статью Половцовой первой среди «выдающихся работ по истории философии», которые «невозможно обойти молчанием»[532]. В устах Яковенко эта похвала звучит вдвойне весомо, ибо практически всех — настоящих и прошлых — светил отечественной философии он винил в подражании западным модам да «эклектическом стремлении слепить воедино несколько чужих мыслей».
Столь же кратко, сколь и непредвзято изложил воззрения Половцовой американский «профессор эмеритус» Джордж Клайн в предисловии к своей книге «Спиноза в советской философии»[533]. От собственных оценок правоты ее суждений он предпочел воздержаться.
В самой большой и содержательной книге о Спинозе из тех, что вышли в советские времена, — «Философия Спинозы и современность» (1964) Василий Соколов два или три раза упомянул труды Половцовой в сносках, не вдаваясь в разбор их. По сути единственным, кто всерьез пытался с ней полемизировать, был упомянутый выше Иосиф Коников, автор «Материализма Спинозы» (1971).
Высоко ценил половцовский перевод ТIЕ Эвальд Ильенков— он предпочитал цитировать именно это старое, дореволюционное издание, а не свежайший на тот момент перевод Боровского в редакции Соколова. (В посмертном издании «Диалектической логики» Ильенкова половцовский перевод названия трактата был, по недомыслию редактора, заменен на стандартный: «Трактат об усовершенствовании разума».)
В работе о категориях абстрактного и конкретного Ильенков совершенно справедливо рассматривал учение Спинозы об абстракциях в контексте диалектической, а не формальной традиции в логике. Приводя обширные цитаты из перевода Половцовой и открыто опираясь на данный ею комментарий к понятию абстракции в TIE, повторяя ее толкование notiones communes[534] — конкретных всеобщих понятий, Ильенков, однако, ни разу не упомянул ее имени.
Ильенков — единственный советский философ, сумевший открыть у Спинозы нечто новое, притом действительно много нового. Он блестяще разъяснил логический смысл спинозовских понятий субстанции и всеобщего, его теорию истины и заблуждения, отчасти принцип деятельности. И с поразительной глубиной понял учение Спинозы о свободе воли[535], решив с его помощью проблему формирования психики у слепоглухих детей. Примерно за десять лет до смерти Ильенков начал писать о Спинозе книгу[536], как когда-то Половцова, а потом и Выготский, — да, видно, советское время не благоприятствовало спинозистам: ни одной из начатых ими книг так и не довелось увидеть свет.
Ильенков видел в Спинозе материалиста — в этой части он был солидарен с Соколовым (во всем остальном их философские взгляды различны, как земля и небо). С Половцовой же их роднит искренняя приверженность философии Спинозы, уверенность в том, что она — не вчерашний, но скорее завтрашний день истории познания мира, и что «оценить полной мерой действительное величие и значение философии Бенедикта Спинозы человечеству, пожалуй, еще только предстоит»[537].
А. Д. Майданский
Логический метод Спинозы
Предисловие
В истории всякой науки рано или поздно настает своя эпоха реформации, которая приводит к радикальному пересмотру считавшихся прежде неоспоримыми основоположений и открывает в предмете этой науки совершенно новое измерение. Логике суждено было одной из первых пережить такую реформацию, длившуюся более двух столетий. Ее зачинателями стали Рене Декарт и Бенедикт Спиноза. Они создали предметную логику, то есть логику, учитывающую природу и порядок существования вещей, с которыми имеет дело человеческий разум.
Общепринятая, аристотелевско-схоластическая логика (в дальнейшем я, по примеру Канта, стану называть ее «общей логикой») пренебрегала различием предметов мышления. Она хорошо следила лишь за тем, чтобы словесное — или всякое иное знаковое — выражение мышления соответствовало самому себе, поэтому законы тождества и запрещения противоречия становятся ее верховными основоположениями. Задачу исследования общего порядка природы эта логика возлагала на метафизику. А та, в свою очередь, активно пользовалась формальными методами и рекомендациями общей логики, вследствие чего порядок природы представлялся метафизикам в образе пирамиды родовых и видовых абстракций, вроде известного категориального древа Порфирия (Arbor Porphyriana).
Уже некоторые средневековые ученые понимали, что общая логика не в состоянии служить действенным методом теоретического мышления, поскольку она прилагает одинаковую логическую мерку к вещам, которые совершенно различны по своей природе. Отлично сознавал это и Спиноза. Он принялся исследовать теоретическое мышление в действии, стремясь прочно связать «дело Логики» — с «логикой Дела». Вот почему взоры его обратились прежде всего к дисциплине, в которой теоретическое мышление работало в то время с наивысшей эффективностью, — к математике. В математике он, вслед за Декартом, усматривал эталон логического мышления, «образец истины» (veritatis norma), как однажды выразился Спиноза.
Нередко считается, что в качестве метода Спиноза пользовался геометрическим порядком (ordo geometricus) доказательства. Это предубеждение укоренилось столь прочно, что вот уже два столетия, со времен Гегеля, комментаторы «Этики» продолжают рассуждать о некоем «геометрическом методе», не считаясь с тем, что данное выражение ни разу не встречается в текстах Спинозы, и не замечая, что ordo и methodus, порядок доказательства и метод мышления, — это две весьма и весьма разные вещи.
И все же, с течением времени, настоящий логический метод Спинозы, основы которого излагаются в «Трактате об усовершенствовании интеллекта», привлек к себе внимание историков философии и стал предметом оживленной полемики. Так, Г. Вульфсон (Н. А. Wolfson) полагал, что этот метод ничем не отличается от методов средневековой схоластики; Дж. Беннетт (J. Bennett) склонен видеть в нем прообраз современной гипотетико-дедуктивной методологии; П.-Ф. Морб (P.-F. Moreau) утверждает, что метафизика Спинозы сама по себе и есть метод; а В. Клевер (W. Klever) доказывает, что Спиноза вообще отказался от мысли о создании метода, отличного от тех, что уже реально действуют в науке о природе. А. Вульф (A. Wolf), X. Хэллетт (H. F. Hallett), Э. Харрис (Е. Е. Harris) и некоторые другие авторы (в России это Э. В. Ильенков и Б. Г. Кузнецов) отмечали диалектический характер спинозовской методологии[538] и ее поразительное соответствие современным формам теоретического мышления, прежде всего в области физики и психологии.
Многие историки философии — С. фон Дунин-Борковски (S. fon Dunin-Borkowski), Д. Руне (D. Runes) и другие — утверждали, что рациональная методология образует всего лишь поверхностный слой спинозовской философии; в основе же ее лежит мистическая интуиция, по своему духу родственная каббалистике. Эта интерпретация плохо вяжется с уничижительными репликами
Спинозы в адрес «пустословов-каббалистов» и подчеркнутым уважением к логическим доказательствам, которые он именовал «очами Духа» (oculi Mentis).
Мне представляется верным толкование методологии Спинозы как последовательно рациональной, если не сказать ультра-рациональной, и сугубо диалектической (несмотря на отсутствие «контрадикторной» фразеологии, характерной для философов-диалектиков).
Разговор о логическом методе Спинозы целесообразно начать с краткого ознакомления с вехами великой Реформации, которую учинил в логике Рене Декарт. Ибо все, что сделал для этой науки Спиноза, было прямым продолжением дела, начатого Декартом, и не может быть верно понято вне этого контекста.
I. Реформа логики в работах Декарта
Поводом к реформе логики, начатой Декартом, послужили прежде всего успехи математики. Еще со времен Пифагора и Платона философы старались проникнуть в секрет необыкновенной ясности и достоверности математических истин. Немалая часть правил аристотелевской логики, несомненно, имеет своим прообразом распространенные в то время приемы математических построений. К примеру, метод доказательства от противного применялся пифагорейцами для доказательства иррациональности √2 задолго до того, как его описал в своих «Аналитиках» Стагирит. Математические примеры и аналогии во множестве рассеяны по всему тексту «Органона».
Декарт всецело разделяет представление о логическом совершенстве математических построений. Он восхищается их строгостью, ясностью, достоверностью и рекомендует учиться у математиков искусству рассуждения:
«Математика приучает нас к познанию истины, поскольку в ней содержатся точные рассуждения, кои не встречаются нигде за ее пределами. А посему тот, кто однажды приучит свой ум к математическим рассуждениям, сделает его также способным к исследованию других истин: ведь способ рассуждения всюду один и тот же» [С 2, 485].
Отыскание и анализ универсальных приемов и форм мышления, которые позволяют извлечь истину из всякого предмета и всюду остаются одними и теми же, есть дело логики. Вместе с тем Декарт был убежден, что правила, схемы и законы общей логики нисколько не помогают понять действительный ход мышления математика и теоретического мышления вообще. Руководствуясь только этой логикой, теоретик был бы просто не в состоянии открыть хотя бы одну новую истину.
«В отношении логики я заметил, что формы силлогизмов и почти все другие ее правила не столько содействуют исследованию того, что нам не известно, сколько изложению для других того, что мы уже знаем... Отвлекая нас и погружая наш ум в общие места и посторонние для сути вещей вопросы, она отвлекает наше внимание от самой природы вещей» [С 2, 483-4].
Эту мысль Декарт обстоятельно развил в «Правилах для руководства ума». Прежняя, силлогистическая логика всюду здесь именуется не иначе как «диалектикой». Она, по мнению Декарта, недостойна носить имя «логика»:
«Такую науку скорее можно назвать диалектикой, поскольку она учит нас рассуждать обо всем, нежели логикой…» [С 2, 483].
Он даже предлагал философам передать диалектику в ведение риторики[539]. Настоящая логика не имеет права равнодушно оставлять в стороне «природу вещей», занимаясь только общими для всех без разбору предметов мыслительными формами. Ведь ученому требуется не столько диалектическое искусство «рассуждать обо всем», сколько умение постигать природу отдельных конкретных вещей. В этом ему призвана содействовать логика.
Свои предписания и правила логика должна черпать в наличном опыте наук. А кто лучше других преуспел в искусстве правильного рассуждения? Математики! Их наука являет собой совершенный логический метод в действии. Освободив математическое мышление от чисел и фигур и изучив механику его действия в чистом виде, мы могли бы, полагает Декарт, получить универсальный метод, позволяющий открывать истину в каком угодно предмете. Знание о методе Декарт называет «Mathesis universalis» (универсальная Математика) — именем, история которого уходит во времена Прокла Диадоха или даже в еще более древние.
«Эта наука должна содержать в себе первые начала человеческого рассудка (Ratio) и достигать того, чтобы извлекать истины из какого угодно предмета…»[С 1, 88].
По сути дела, Mathesis universalis представляет собой не что иное, как высшую логику — науку столь отличную от общепринятой, что Декарт избегает пользоваться именем «логика», чтобы тем самым не приглушить ее своеобразие. Выражение «Mathesis universalis» позднее тоже исчезнет из его лексикона; свою логику Декарт будет называть просто — «Метод» (Methodus).
Своеобразие Декартова логического метода заключается в том, что он равняется на общий порядок природы. В природе, учит Декарт, существует единый порядок, охватывающий столь разнородные вещи, как числа и фигуры, звезды и звуки, — все, что только доступно человеческому уму. Mathesis universalis исследует этот порядок в чистом виде и заботится о том, чтобы порядок мышления во всякой области знания соответствовал общему порядку природы.
Приступая к созданию своей логики, Декарт оговаривается, что настоящий порядок природы не имеет ничего общего с тем, который излагается в принятых руководствах по метафизике. Порядок вещей в природе он предлагает мыслить в категориях причины и действия, основания и следствия, а не согласно формальной родо-видовой схеме (genus proximum et differentia specifica). Существо предлагаемого им метода мышления Декарт усматривает в том, что
«все вещи могут быть выстроены в некие ряды, хотя и не постольку, поскольку они относятся к какому-либо роду сущего, подобно тому как философы распределили их по своим категориям, но поскольку одни из них могут быть познаны на основании других…» [С 1, 92].
Во всяком ряде связанных между собой вещей, гласит ключевой постулат «универсальной Математики», всегда имеется одна, образующая основание или причину бытия всех прочих вещей данного ряда. Эти вещи-основания Декарт называет «абсолютным». Все прочее, «относительное» (respectivum), постигается только посредством соотнесения с абсолютным и выведения из него. Усмотрение исходного основания представляет, как правило, главную трудность и от его достоверности зависит достоверность понимания всего ряда относительных вещей. Поэтому абсолютную вещь непременно следует рассмотреть саму в себе, как таковую, прежде всех остальных.
Абсолютное, пишет Декарт, заключает в себе «простую и чистую природу» (natura pura et simplex), которой в определенном отношении причастны все прочие вещи данного ряда. Их объединяет не формальное сходство каких-либо признаков, а общее происхождение, генезис, начало которому дает абсолютная вещь. Из абсолютной вещи в строго определенной последовательности вырастают все более сложные и конкретные образования, причем всякая следующая вещь привносит с собой некое свойственное лишь для нее одной «отношение» (respectus) к абсолютному[540]. Метод учит
«различать все эти отношения и следить за их взаимной связью и их естественным порядком, так чтобы, начав с последнего из них, мы смогли, пройдя через все другие, достичь того, что является наиболее абсолютным» [С 1, 93].
Этот дедуктивный метод Декарта не равнозначен дедукции, как ее рисует общая логика. Движение теоретического мышления совершается здесь не от формально-общего к частному, а вдоль конкретной каузальной цепочки: от понятия одной единичной вещи, в которой природа данного ряда вещей проявляется в наиболее чистом и простом виде, absolute, — к понятиям других единичных же, относительных вещей[541].
В Правиле XII Декарт предупреждает, что логический (равняющийся на понятие абсолютной вещи — субстанции) порядок познания единичных вещей не совпадает с порядком их существования во времени. Свое существование всякая единичная вещь получает от какой-либо другой единичной вещи и, в свою очередь, дает существование неопределенному ряду вещей. Разум интересует не столько описание этого скрывающегося в бесконечности порядка или бесчисленных обстоятельств существования вещи, сколько то, почему вещь существует так, а не иначе. Это невозможно понять, не зная «простых природ», лежащих в основании единичных вещей и определяющих закономерность их существования. «Природами» материальных вещей, то есть тел, Декарт считает фигуру, протяжение, движение, а «природами» вещей интеллектуальных — знание, волю, сомнение и т. п. Эти открываемые разумом «природы» не существуют отдельно, но обнаруживают себя только через посредство единичных вещей, уточняет Декарт.
Описанный метод возведения единичного во всеобщее (в его терминологии — «абсолютное») Декарт подметил в математике. Приняв определенную единицу за основание всего ряда величин, математик получает возможность представить отношение всяких величин — все равно, чисел ли, фигур ли — в виде некоторой пропорции, где эта единица выступает как «общая мера» (mensura communis) для всех членов пропорции. В каждом конкретном случае можно принять за единицу «или одну из уже данных величин, или любую другую, которая и будет общей мерой для всех остальных» [1, 140]; в пространственном созерцании эту единицу нетрудно представить в образе точки, линии, квадрата. Имея в своем распоряжении такого рода пропорцию, математик мог бы аналитически вывести ту или иную неизвестную величину из данной известной величины.
Для Декарта выведение новых определений на основании уже имеющихся есть единственная возможная схема действия теоретического мышления в какой угодно области знания. Между всяким научным открытием и кругом ранее сложившихся знаний всегда существует известная пропорция, более или менее явная и сложная. Декарт первый сделал эту внутреннюю пропорциональность теоретического мышления предметом логического исследования. Не случайно излюбленным образом истинного знания у Декарта является series (вереница, цепь), в которой каждое новое звено-идея так прочно соединяется с предшествующим, что «мы легко замечаем, каким образом соотносятся друг с другом также первое и последнее из них» [С 1, 147].
Как человеческий разум прибавляет к цепи своих знаний новые звенья? Всякая новая идея образуется из других, уже известных идей. Сначала она является в образе некой проблемы, условия которой по возможности точно обозначают границы уже имеющегося знания — того, что, как говорят математики, дано наперед. Предполагается, что эти посылки находятся в определенной пропорции к неизвестному покамест решению проблемы. Далее Декарт рекомендует действовать аналитически, исследуя, в какой мере занимающее нас понятие х определяется принятыми условиями, — так математик решает уравнение с неизвестными.
«Хотя во всяком вопросе и должно быть нечто неизвестное, ибо иначе не стоило бы задаваться им, все же необходимо, чтобы оно было так обозначено посредством определенных условий, что мы всецело были бы вынуждены исследовать что-то одно скорее, чем другое. И таковыми являются условия, о которых мы говорим, что их изучением следует заняться с самого начала: это произойдет, если мы направим взор ума так, чтобы отчетливо усмотреть каждое из них, тщательно исследуя, насколько то неизвестное, которое мы отыскиваем, определяется каждым из них…» [С 1, 130].
Наши познавательные возможности всецело определяются тем, что мы уже знаем. В общем, метод Декарта нацеливает мышление на рефлексию и анализ конкретных идей, которыми человек уже располагает до того, как он приступает к решению той или иной теоретической проблемы. Имея это в виду, Спиноза впоследствии прямо определит метод как «рефлективное познание» (cognitio reflexiva).
Истинное знание представляется Декарту и Спинозе бесконечной чередой идей, вытекающих одна из другой в последовательности не менее строгой, чем та, что существует в ряду непрерывно пропорциональных величин. Логический метод обязывает, в первую очередь, определить единицу мышления, то есть идею, которая могла бы стать основанием и «общей мерой» для всех прочих идей, доступных человеческому духу. Пока не известна эта идея-основание, ни одна из имеющихся в распоряжении духа идей не может считаться безусловно достоверной. Вследствие этого поиск первоидеи мышления превращается в решающее испытание метода.
Древние философы едва ли не единодушно считали верховной идеей разума ту, в которой мыслится некое начало или субстанция всего сущего. Вскоре, однако, философы удостоверились, что среди всевозможных мнений относительно первых начал не нашлось ни одного, которое признавалось бы всеми за неоспоримое, и скептики обратили внимание на природу человеческого ума — не она ли делает этот спор неразрешимым? Разум подвержен какому-то врожденному недугу, писал Мишель Монтень: словно шелковичный червь он обречен без конца путаться в собственных построениях, рискуя задохнуться в них. А Фрэнсис Бэкон уподоблял человеческий разум зеркалу с искривленной поверхностью, так что никогда нельзя быть совершенно уверенным, что мысленное изображение какого-нибудь предмета — тем более отвлеченнейших материй метафизики — адекватно предмету как таковому.
Декарт соглашается учесть предположение скептиков о врожденном несовершенстве человеческого ума, он даже допускает, что существует некий всемогущий «злой гений» (genius malignus), который «приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение» [С 2, 20]. Теперь речь ведется не просто о первоначале сущего как такового, а о его начале для человеческого мышления, причем Декарт приходит к выводу, что совпадение первоидеи человеческого мышления и идеи реального начала мира нельзя постулировать без доказательства.
Идею, образующую истинное первоначало знания, Декартов метод обязывает удовлетворять двум условиям, довольно простым: требуется, чтобы эта идея, во-первых, была яснейшей из всего, что доступно человеческому разумению, и, во-вторых, позволяла вывести из себя все остальные знания о мире, — «кроме этих двух условий, никакие иные для первоначал и не требуются» [С 1, 306].
Чем определяется ясность идеи? На первый взгляд, ясность — вещь сугубо индивидуальная: то, что ясно для меня, возможно, покажется весьма смутным всякому другому человеку. Существует ли все же какой-нибудь общезначимый критерий ясности?
У Декарта этим критерием является непосредственность восприятия вещи. Наше восприятие вещи тем яснее, чем меньше зависит от посредствующих форм, помещаемых духом между собой и своим предметом. Дух воспринимает вещи при посредстве форм чувственности — ощущения, памяти, воображения, — а также форм рассудочного знания, к которым Декарт относит число и фигуру, время и место, порядок и меру, логические универсалии и прочие подобные абстракции.
Предельно ясное восприятие есть, стало быть, восприятие абсолютно непосредственное, когда предмет является духу в чистом виде, без всякого участия чувств или же рассуждения. Рассматривая по очереди предметы внешнего опыта, «универсальные вещи» (протяжение и модусы мышления, посредством которых мы различаем протяженные вещи) и в конце концов Бога, Декарт находит, что при некоторых условиях восприятие всякой из этих вещей может оказаться неясным, а следовательно, сомнительным, и потому не пригодным служить основанием истинного мышления. Для этой цели требуется безусловно ясное восприятие.
Единственная вещь, явственно воспринимаемая духом без всякого посредства чувств или рассуждения, это его собственное бытие, утверждает Декарт. Никакое сомнение, сколь угодно решительное, не в состоянии пошатнуть достоверность суждения «я существую», напротив, наличие сомнения есть надежное свидетельство в пользу существования моего «я»[542]. Истина «я существую», как таковая, общеизвестна и понятна всякому здравомыслящему человеку, замечает Декарт, однако до сих пор никто не сумел распознать в ней Principium Philosophiae — своего рода «геном» интеллекта, в котором сокрыто все доступное человеческому разуму знание о сущем.
«Я» означает просто «мыслящую вещь» (res cogitans), поясняет Декарт. Следовательно, в положении «я существую, я есмь» утверждается непосредственная связь мышления и бытия. Бытие здесь — свойство мыслящей вещи. Мышление логически предше-сгвует бытию и является его основанием, а бытие — следствием мышления, как это явствует из формулы: «я мыслю, следовательно, я существую» (cogito, ergo sum).
Однако уже первая идея, которую Декарт извлекает из положения о существовании «я», — идея существования Бога, — ставит под сомнение логический приоритет cogito и устанавливает совершенно иную форму связи мышления и бытия. Последим за тем, как эта коллизия разворачивается в Декартовых «Размышлениях».
В Размышлении Первом Декарт решает отвлечься от всего, что может дать малейший, хотя бы только воображаемый повод к сомнению. Он отвлекается от всего содержимого духа и даже от восприятия собственного тела, так что, как остроумно выразился Фредерик Броуди, «в конце Первого Размышления мы расстаемся с чрезвычайно бесплотным Декартом»[543].
В Размышлении Втором Декарт находит, что лишь одна вещь — существование «я» — остается вне всякого сомнения. И решает принять акт чистого самосозерцания, «ego sum», за абсолютное начало знания и меру истинности всех прочих идей.
У Декарта, пишет Мартин Хайдеггер, истина о сущем взвешивается и измеряется посредством ego. Причем ego здесь не зависит ни от чего, кроме себя, и является средоточием всего сущего, утверждает Хайдеггер[544]. Так ли верно это его суждение?
Присматриваясь ближе к собственному «я», Декарт первым делом замечает что «я» — существо конечное и несовершенное. Только конечное и несовершенное существо способно сомневаться, ошибаться, испытывать аффекты, стремиться к чему-либо и вообще изменяться во времени. Но в сравнении с чем дух сознает себя конечным и несовершенным? Должно быть, в духе, рассуждает Декарт, имеется идея некой бесконечной и совершеннейшей вещи, и, руководствуясь этой идеей-эталоном, дух судит о степени совершенства воспринимаемых им конечных вещей.
Идея конечного и несовершенного вообще не могла быть образована иначе, как из идеи бесконечного и совершеннейшего, утверждает Декарт. Аналогично тому, как нельзя построить отрезок, не располагая прежде идеей незавершенной прямой линии, или образовать понятие предела без идеи о непрерывной последовательности величин, стремящейся к бесконечности.
«Во мне некоторым образом более первично восприятие бесконечного, нежели конечного, или, иначе говоря, мое восприятие Бога более первично, нежели восприятие самого себя», — констатирует Декарт [С 2, 38][545].
Здесь выясняется, что достоверность положения «я существую» непосредственным образом зависит от достоверности восприятия Бога. Знание о существовании «я» поэтому не есть абсолютная истина! До тех пор, пока не доказана истинность идеи Бога, мы не вправе однозначно утверждать, что идея существования «я» истинна, несмотря даже на ее несомненную достоверность для моего «я». Свое существование я, существо конечное, получаю не от себя[546], поэтому метод обязывает Декарта искать основание существования конечного духа вне «я». И лишь открыв эту вещь-основание и доказав, что дух располагает истинной идеей о ней, Декарт смог бы утвердиться в том, что вещь-следствие, то есть «я», действительно существует.
Марсьяль Геру писал о том, что фактическая достоверность cogito оказывается недостаточной для преодоления декартовского универсального сомнения[547]. Это мнение разделяет Эдвин Керли: коль скоро существование Бога в первых двух Размышлениях еще не доказано, Декартово «ego sum»
«все еще сомнительно — сомнительно в том нормативном смысле, что оно заслуживает сомнения, даже несмотря на то, что способно вызывать доверие к себе всякий раз, когда само оно в фокусе внимания…. И Декарт говорит в конце этого отрывка, что пока он не знает, Бог существует или нет и может ли быть обманщиком, он не может быть полностью уверен в чем бы то ни было. Он не делает исключения для своего собственного существования, как то с легкостью мог бы сделать. Если он думал, что Второе Размышление поставило его собственное существование вне всякого рационального сомнения, это было бы невероятным упущением»[548].
У ego, рассматриваемого в абстракции от собственной бесконечной природы, не достало бы сил даже для того, чтобы «взвесить» в понятии истину о собственном бытии. В рефлективном зеркале Декартова cogito отражается вовсе не хайдеггеровская «уединенная в себе экзистенция», притязающая стать средоточием сущего, а лишь некий «отрезок» бесконечного и совершенного мышления. Своим существованием конечный дух обязан не себе, а Богу, который есть для Декарта единственный абсолютно независимый субъект, поскольку Бог, в отличие от «я» или всякой иной конечной вещи, «не нуждается ни в чем для сохранения своего существования и, таким образом, является некоторым образом своей собственной причиной (sui causa)» [С 2, 89]. «Я» же не более, чем конечный образ бесконечной духовной субстанции, то есть Бога.
Нередко полагают, что понятие Бога у Декарта — просто методологическое допущение, к которому он прибегает в тех случаях, когда не может объяснить что-либо механическими причинами. Это справедливо только отчасти. В его понимании Бога есть грани, имевшие серьезное значение для математики и естествознания.
Основным атрибутом Бога для Декарта является абсолютная бесконечность. Его доказательства существования Бога, таким образом, заключают в себе логическую санкцию на оперирование категорией бесконечности в теоретическом мышлении, в первую очередь в математике. С другой стороны, моделью для априорного доказательства существования Бога Декарту, несомненно, служат доказательства математические: рассматривая идею Бога аналогично тому, как математик рассматривает фигуры и числа, Декарт находит, что
«вечное бытие еще более присуще его природе, нежели все те свойства, относительно которых я доказываю, что они присущи какой-либо фигуре или числу; в силу этого… бытие Бога для меня приобрело, по крайней мере, ту степень достоверности, какую до сих пор имели математические истины» [С 2, 53].
Математикам, как и философам, категория бесконечного доставила немало проблем, причем логическая природа этих проблем одинакова[549]. Декарт недвусмысленно принял сторону партии платоников, которая отстаивала логическое первенство категории бесконечного[550], причем его решение данной проблемы оказало заметное влияние на реально действующие методы физико-математического мышления. В этом заключается, на мой взгляд, самый значимый аспект его учения о Боге, которым никак нельзя пренебречь, при всей справедливости адресуемых Декарту упреков в эксплуатации Бога ex machina.
Все, чем располагал Декарт по окончании Размышления Второго, — это идея собственного существования. В начале Размышления Третьего выясняется, что достоверность этой идеи не безусловна, так как конечный дух, «я», способен существовать лишь при условии существования бесконечной мыслящей субстанции, в качестве ее творения. Но истинна ли та идея Бога, которой я располагаю? Иными словами, существует ли в действительности бесконечная мыслящая субстанция? Отрицательный ответ означал бы, кроме всего прочего, что положение «ego sum» тоже является ложным, несмотря на его несомненную достоверность для моего «я».
Прежде всего, Декарт предлагает посмотреть, откуда конечный дух мог почерпнуть идею Бога. Положим, Бог не существует. В таком случае его идея создана моим воображением, творческим актом моего «я». Декарт отвергает это предположение. В идее Бога, существа абсолютно бесконечного, рассуждает он, мыслится больше реальности — «intelligo plus realitatis esse», — чем ее имеется в «я» или в какой угодно иной конечной вещи, и даже больше, чем во всех конечных вещах вместе взятых[551].
Далее он предлагает принять как аксиому, диктуемую «естественным светом» разума, что в причине должно быть, по меньшей мере, столько же реальности, сколько в действии этой причины. Поэтому конечный дух не может являться причиной идеи, в которой мыслится абсолютно бесконечная реальность. Значит, ее причиной является абсолютно бесконечное существо, иначе говоря, эту идею сообщает мне сам Бог. Уже просто то, что я постигаю существование бесконечной реальности, именуемой Богом, доказывает, что эта реальность наличествует и по ту сторону моего сознания. Вот первый апостериорный аргумент, доказывающий существование Бога.
Затем Декарт предлагает еще одну версию апостериорного доказательства, согласно которой без признания существования бесконечной мыслящей субстанции невозможно объяснить существование «я». Это явствует из аксиомы о том, что идея конечного образуется не иначе, как из идеи бесконечного, — поэтому довольно сложное доказательство, приводимое в Размышлении Третьем и Ответах на Вторые Возражения, превращается в чистую формальность.
В Размышлении Пятом Декарт формулирует и априорный аргумент в доказательство существования Бога[552]. Впервые этот знаменитый аргумент встречается в «Прослогионе» (1077-78) Ансельма Кентерберийского. Впоследствии Ансельма поддержали Бонавентура и Дунс Скот, однако партия противников априорного аргумента, возглавляемая Аквинатом, оказалась все же более влиятельна, так что во времена Декарта этому аргументу не придавали слишком серьезного значения. В декартовской версии он выглядит следующим образом:
Бог мыслится как всесовершенное существо (ens summe perfecti).
Бытие является наивысшим совершенством вещи.
Следовательно, к природе Бога необходимо принадлежит актуальное и вечное бытие.
Простота логической формы составляет очевидное преимущество этого аргумента перед каузальными. Слабая же его сторона связана с категорией совершенства. Пьер Гассенди раньше других указал Декарту, что вторая посылка его умозаключения неверна:
«Существование не есть совершенство; оно лишь то, без чего не бывает совершенств» [С 2, 254].
Иными словами, существование — бытие — предельно общая категория, и ее не следует рассматривать как вид совершенства, скорее совершенство (или несовершенство) является модусом бытия вещи. Следовательно, из определения Бога как «всесовер-шенного существа» нельзя извлечь вывода о его бытии.
Означает ли это, что априорный аргумент как таковой ошибочен, или же категорию совершенства можно заменить иной, более подходящей категорией? К примеру, Спиноза предпочел заменить определение Бога как «всесовершенного существа», почерпнутое Декартом в христианской богословской литературе[553], — определением Бога как абсолютно бесконечной реальности, на которое опирались каузальные аргументы.
В дальнейшем априорный аргумент привлекал значительно большее внимание, чем каузальные. Кому-то он представлялся «возвышеннейшей мыслью»[554], а кто-то убежден, что все старания, затраченные на это доказательство, потрачены впустую[555], — во всяком случае априорный аргумент до сих пор живо обсуждается философами и теологами.
Независимо от признания или непризнания корректности априорного аргумента, едва ли можно отрицать его ближайшую связь с возникновением вскоре после смерти Декарта новой отрасли знания — математического анализа. Один из отцов математического анализа, Лейбниц, посвятил немало страниц размышлениям над априорным аргументом, придав ему несколько более сложную форму. Лейбниц не раз повторял, что метафизические истины распространены в математике гораздо шире, чем обыкновенно думают. Значимость философских доказательств существования абсолютно бесконечной реальности оказалась тем более велика, что все опыты (Эйлера, Лагранжа и других) чисто математического обоснования дифференциального и интегрального исчислений долгое время не имели успеха. Пользуясь этим, Джордж Беркли в своем «Аналитике» оспаривает правомерность использования в математике категории бесконечного, на том основании, что бесконечные величины лежат за пределами доступной чувственному представлению реальности. Беркли не слишком оригинален: еще в Аристотелевой «Физике» утверждается, что «величина не может быть бесконечной актуально» [206а 15], что бесконечное ограничивается сферой потенциального бытия.
Декарт заставил основательно усомниться в логичности этого решения, но только в конце XIX — начале XX века, после создания Георгом Кантором теории множеств и ряда открытий в области математической логики, категория бесконечного смогла окончательно утвердиться в законных правах как объективно значимая форма мышления. По существу, предложив свои доказательства существования абсолютно бесконечной реальности, Декарт показал, что логика в состоянии не только учиться у математики, но и помогать ей — подобно компасу ориентировать математическую мысль в безграничном мире «количеств», чистых величин.
Меж тем с принятием априорного доказательства существования Бога перед Декартом вырастает трудноразрешимая проблема: этот аргумент не только не зависит от самосознания «я», но по своей логической форме противоположен исходному положению Декартовой философии. В пределах cogito мыслящее «я» — субъект, а существование — предикат. Априорный аргумент утверждает нечто обратное:
«Мою мысль предопределяет необходимость… существования Бога» [С 2, 54][556].
Первенство здесь явно признается за бытием. Кроме того, хотя понятие духа о себе, то есть рефлективная идея «я», образуется раньше, чем понятие Бога, — Бог, согласно Декарту, по природе вещей предшествует «я» и заново воссоздает дух в каждый миг его существования. Стало быть, последовательность выведения понятий и порядок вещей в природе у Декарта оказываются диаметрально противоположными.
Спрашивается, коль скоро «восприятие Бога более первично, нежели восприятие самого себя», отчего же все метафизические трактаты Декарта открываются понятием о существовании «я»? Почему, признавая за «наилучший путь философствования… объяснение вещей, созданных Богом, из познания его самого» [С 1, 323], Декарт делает исключение для объяснения собственного «я», помещая идею чистого самосознания впереди идеи Бога, и даже принимает идею «я» за основание (каузального) доказательства существования Бога?
Рефлективная идея «я» и идея Бога вступают в учении Декарта в конфликт за право первенства в мире идей. То обстоятельство, что Декарт начинает свои работы суждением «я есмь», свидетельствует, как будто, в пользу первенства рефлективной идеи конечного духа. Однако в дальнейшем оказывается, что бытие конечного духа всецело зависит от существования некой бесконечной субстанции. Априорный аргумент окончательно закрепляет за идеей бесконечной мыслящей субстанции, именуемой Богом, звание, «первой и превосходной идеи» (idea prima et praecipua)[557]. В таком случае отчего бы Декарту не начать свои «Размышления» сразу с априорного доказательства существования Бога?
Все дело в несовершенстве человеческого духа, в его конечной и зависимой природе, скорее всего ответил бы на это Декарт. Разумеется, человеческий разум всего адекватнее мог бы постичь сущее, образуя свои идеи в той же последовательности, в какой Бог создает все сущее, начиная с идеи самого Бога-творца. Есть только одно препятствие: наряду с идеей Бога в человеческом духе имеется огромный сонм иных идей и образов, в большинстве своем весьма недостоверных или, по меньшей мере, сомнительных. Все идеи, которыми располагает человек, образуют сложную ассоциацию, замысловатым образом переплетаясь и наслаиваясь одна на другую, так что идея Бога обыкновенно легко теряется в этом необозримом клубке. Поэтому, прежде чем класть идею Бога в основание свода истинных знаний о сущем, философу надлежит твердо удостовериться, что к ней не примешались никакие посторонние мыслительные формы или, тем более, чувственные образы. Как раз вследствие смешения идеи Бога с идеями и образами конечных вещей возникают всевозможные разногласия в понимании Бога и, несмотря на то, что идея Бога у всех одна и та же, существует немалое число на редкость несхожих представлений о Боге.
«Что же до Бога, то, если бы я не был тяжко обременен предрассудками и образы чувственных вещей не осаждали со всех сторон мое мышление, не было бы вещи, которую я познал бы прежде и с большей легкостью, нежели его…»[С 2, 56].
Декарт желает очистить идею Бога и представить ее в том виде, в каком она «врождена» духу. Инструментом, с помощью которого совершается своеобразное очищение идеи Бога, Декарту служит рефлективная идея «я». По этой причине последняя предваряет понятие Бога в порядке человеческого знания.
«Декарт решительно восстанавливает теистическую дистинкцию между первой истиной, познаваемой человеком, и первой творящей причиной всех вещей. Cogito является первым в порядке знания, но не в порядке бытия и реальной причинности»,
— замечает James Collins[558].
Однако Collins оставляет без внимания то обстоятельство, что схоластические теологи просто констатировали различие между порядком вещей и порядком идей в человеческом духе, тогда как Декарт видит тут проблему, подлежащую разрешению. Декарт находит весьма нетривиальное решение: он отождествляет «я» с идеей Бога:
«Бог, создавая меня, вложил в меня эту идею [Бога] — дабы она была во мне как бы печатью его искусства; нет также никакой необходимости, чтобы знак этот был чем-то отличным от самого творения [то есть от «я»]» [С 2, 43][559].
Последнее означает, что мое «я» не просто обладает идеей Бога, но, в определенном смысле, «я» есмъ эта идея Бога, правда, всего лишь несовершенная его идея, конечный отпечаток бесконечной реальности. Поэтому рефлектируя природу собственного «я», мы естественным образом приходим к мысли о существовании абсолютно бесконечной реальности:
«Когда я обращаю острие своей мысли на самого себя, я не только понимаю, что я несовершенная вещь, зависящая от кого-то другого, — вещь, неограниченно устремляющаяся все к большему и большему, то есть к лучшему, — но и понимаю, что тот, от кого я зависим, содержит в себе это большее… актуально, как нечто бесконечное, и потому он — Бог» [С 2, 43].
Бог есть не что иное, как актуально бесконечная реальность. В этом, собственно, и заключается «очищенная» рефлексией духа в себя идея Бога. Благодаря априорному аргументу она окончательно утверждает себя в качестве первичной и верховной идеи разума.
«Итак, я вижу, что вся достоверность и истинность знания зависит исключительно от постижения истинного Бога, так что раньше, нежели я его познал, я не мог иметь ни о какой другой вещи совершенного знания» [С 2, 57].
В этом месте «Размышлений» возникает известная проблема, получившая название «Картезиева круга». Первым его заметил Антуан Арно: сначала Декарт доказывал существование Бога, ссылаясь на ясность и отчетливость нашего восприятия его бытия, а затем заявил, что существование Бога — гарантия истинности всех ясных и отчетливых восприятий нашего духа [С. 2, 169]. Декарт в ответ подтвердил, что никакое ясное и отчетливое восприятие не может считаться истинным до тех пор, пока не доказано существование Бога, и, с тем чтобы отвести обвинение в логическом круге, ввел дистинкцию «того, что ясно воспринимается нами само по себе, и того, что мы вспоминаем как ясно воспринятое нами раньше» [С 2, 192].
Это разъяснение в современной историко-философской литературе известно как «Гамбит памяти» (Memory Gambit). Его правомерность отстаивали Этьен Жильсон (Е. Gilson) и Уиллис Донн (W. Doney). Бог у Декарта призван гарантировать истинность только прошлых восприятий, которые мы припоминаем как ясные и отчетливые, а не тех восприятий, с помощью которых в настоящее время доказывается его собственное существование.
Возможны и иные приемы устранения Картезиева круга. Так, Алан Гюирт (A. Gewirth) предлагает различать две формы достоверности (ясности и отчетливости) наших восприятий — психологическую и метафизическую достоверность:
«Декартов аргумент не образует круг, поскольку существование Бога доказывается посредством психологической достоверности, тогда как то, что гарантирует Бог, — это метафизическая достоверность таких восприятий»[560].
Наверное, едва ли найдется такое логическое противоречие, от которого нельзя было бы избавиться с помощью введения какой-нибудь дистинкции, более или менее тонкой. Это один из самых характерных «диалектических» приемов, к которым прибегала столь сурово порицаемая Декартом общая логика. Такой прием, конечно, может работать — при условии, что противоречие вызвано небрежным обращением с терминами, а не кроется в самом существе дела. В последнем же случае вместо решения реальной проблемы, явившей себя нашему мышлению в форме противоречия, «диалектик» устраняет ее с помощью какой-нибудь вербальной операции (этим искусством, как известно, прославились средневековые схоластики). Меж тем постановка проблемы в виде предельно точно и остро сформулированного логического противоречия есть совершенно необходимое предварительное условие для ее рационального разрешения. Ни одна серьезная теоретическая проблема не решается посредством «уточнения предикатов»; такая проблема заставляет разум исследовать реальный предмет, на который противоречие указывает своим логическим острием.
Картезиев круг, на мой взгляд, из числа таких, реальных, а не словесных противоречий. По сути дела, это настоящая антиномия, разрушающая «первоначала» декартовской философии — в равной мере и cogito, и идею Бога[561]. Строго и логически грамотно сформулировать ее, как это сделал Арно, значит уже наполовину ее решить. Однако решение не может сводиться к заверению в том, что Картезиев круг есть нормальная, законная форма действия мышления, которое делает своим предметом самое себя (Александр Койре)[562]. Картезиев круг — отнюдь не всеобщая форма логического, обращенного на самое себя, мышления. Исток данного, конкретного круга кроется в противостоянии рефлективной идеи «я» и идеи абсолютно бесконечной реальности, в несовпадении порядка идей и порядка вещей, оснований логики и онтологии.
В порядке философской рефлексии мысль «я есмь» предшествует идее Бога, а значит следствие предшествует своей причине, конечное — бесконечному, мышление — бытию. В реальном порядке природы дело, согласно Декарту, обстоит прямо противоположным образом. Вот почему на «стыке» этих двух порядков (в доказательствах существования Бога) не мог не возникнуть логический круг.
Первым конкретное решение проблемы предложил Спиноза, задавшийся целью образовать понятие Бога без помощи рефлективной идеи «я» и тем самым привести к общему знаменателю последовательность выведения первоначал философии и порядок вещей в природе. Подобным же образом поступит позднее Фихте — с той существенной разницей, что общим знаменателем он делает не идею Бога, а чистое самосознание, идею «я есмь». В обоих случаях Картезиев круг оказывается снят, уступая свое место иным «кругообразным» (рефлективным) формам мышления о мышлении — логики.
II. Замысел «истинной логики»
Уже в XVI веке понимание предмета и задач логики начинает заметно меняться. Лоренцо Валла и Петр Рамус пробуют создать взамен схоластической логики «естественную логику», ориентированную на лучшие образцы античной eloquentia (красноречие, риторическая техника); Филипп Меланхтон выдвигает на первый план логико-дидактическую проблематику; наконец в XVII веке Паскаль, Декарт и их последователи (помимо Логики Пор-Рояля стоит упомянуть о «Логиках» Иоганна Клауберга и Арнольда Гейлинкса) принимаются разрабатывать логику, пригодную для целей теоретического исследования, логику научных открытий.
Ту же задачу ставит перед своей «истинной логикой» и Спиноза. Хотя слово «логика» с его производными встречается у Спинозы считанные разы, свои взгляды относительно предмета и задач «истинной логики» — так он однажды назвал свое учение о методе мышления[563] — он высказывает еще определеннее и яснее, чем Декарт. Прилагательное «истинная» свидетельствует о том, что Спиноза проводил отчетливую грань между своей собственной логикой и дисциплиной, которая излагалась в общепринятых руководствах по логике или в трактатах средневековых перипатетиков. О последней он в самом деле отзывался довольно пренебрежительно. Истинная же логика призвана решать в высшей мере важную практическую задачу — искать метод усовершенствования человеческого интеллекта.
«Каким образом Интеллект должен быть совершенствуем…. это рассматривается в Логике» [Eth5 prf][564].
Спиноза проводит параллель между логикой и медициной, заботящейся о правильной работе органов тела; в этом отношении логика является, так сказать, медициной духа, прикладной дисциплиной, призванной вооружить интеллект знанием о законах и формах его собственной работы. Логика даже полезнее медицины, поскольку совершенство интеллекта для человека важнее, нежели здоровье тела:
«Так как лучшая часть в нас есть интеллект, то несомненно, что если мы действительно желаем искать пользы для себя, мы должны больше всего стремиться к совершенствованию его, насколько возможно, ибо в его усовершенствовании должно состоять высшее наше благо» [ТТР, 43][565].
Стало быть, логика учит человека тому, как, совершенствуя свой интеллект, достичь «высшего блага», то есть истинная логика является в то же время истинной этикой. Этическая ориентация логики Спинозы делает еще более контрастным ее противостояние формальной, и потому этически нейтральной, «диалектике» схоластиков.
Выражение intellectus perficere в определении предмета логики и сама этическая окраска этого определения, по всей вероятности, свидетельствуют о влиянии, которое оказала на Спинозу янсенистско-картезианская литература по логике.
«Разумом пользуются как инструментом приобретения познаний, а следовало бы, наоборот, познания использовать как инструмент совершенствования разума: ведь правильность ума неизмеримо важнее любых умозрительных знаний», — говорится в самом начале «Логики Пор-Рояля»[566].
Авторы этой книги считали усовершенствование человеческого разума, а не знания сами по себе, настоящей целью любых научных занятий. Логика указывает самую прямую дорогу к этой цели.
В «Этике» разница между познанием и моральностью окончательно стирается — на ее месте располагается синтетическое понятие amor Dei intellectualis. В «интеллектуальной любви к Богу», вырастающей из интуитивного знания, заключается высшая человеческая свобода и добродетель[567]. Усовершенствование интеллекта — это дорога, ведущая дух человека к спасению (вечной жизни) и блаженству (наивысшему удовольствию). У логики в этом отношении имеется одно преимущество: она не только усовершенствует интеллект, как это делают вообще все науки, а вдобавок исследует саму механику его усовершенствования. В отличие от прочих наук логика не только ведет человека к «высшему благу», но и показывает, как именно это благо, может достигаться.
Сколь это ни странно, в учебниках по истории логики имя Спинозы почти не встречается. В лучшем случае авторы вкратце упоминают о геометрическом методе и делении форм познания в «Этике», как в книге Александра Маковельского[568], или уделяют немного внимания особенностям спинозовской терминологии, как Уильям и Марта Нил[569]. В спинозоведческой литературе дефиниция Логики комментировалась в том смысле, что он
«не интересовался логикой и не заботился о ней, рассматривая ее как область чего-то вроде гигиены духа. Она только однажды упоминается в «Этике» и очень редко где-либо еще в его работах»[570].
Примечательно, что автор этих слов, Ричард Мэйсон, не счел нужным привести саму эту дефиницию. Науку о «высшем благе», каковым для Спинозы является усовершенствование интеллекта, Мэйсон, с заметным оттенком пренебрежения, зовет «гигиеной духа» (очевидно, имея в виду сравнение логики с медициной). Меж тем во времена Спинозы медицина вовсе не сводилась к лечению и «гигиене». Разделами медицины считались анатомия и химия[571] [Ер 8], а Декарт называл медицину первой среди трех главных ветвей «древа философии», наряду с механикой и этикой [С 1, 309]. Сравнением с медициной Спиноза намеревался возвысить логику, вопреки ее устоявшейся репутации мало для чего пригодной, школьной дисциплины.
Да и мог ли Спиноза «не интересоваться и не заботиться» о науке, которая занимается таким предметом, как интеллект? И что для него могло быть важнее дела усовершенствования интеллекта? В «Этике», во всяком случае, прямо говорится, что
«в жизни, стало быть, самое полезное — совершенствовать свой интеллект или рассудок, насколько мы можем, и в этом одном заключается для человека наивысшее счастье или блаженство» [Eth4 ар сар4][572].
А главное, почему Мэйсон решил, что дефиниция Логики относится к общепринятой логике? Неужто Спиноза мог всерьез считать эту логику методом усовершенствования интеллекта— теорией достижения «наивысшего счастья или блаженства»?
Общую логику Спиноза относит не к риторике, как Декарт, и не к семиотике, как Гоббс и Локк, а к мнемонике. Дело в том, что две основные категории этой логики — genus et species — служат реальными формами действия человеческой памяти. Спиноза ссылается на «привычнейшее (notissima) правило Памяти»: для удержания вещи в памяти
«мы обращаемся к другой, знакомой нам вещи, которая согласуется с первой или по имени, или на самом деле. Подобным же образом Философы свели все естественные вещи к известным классам, к которым они прибегают, когда встречается что-либо новое, [и] которые зовут род, вид, etc.» [СМ 1 ср1].
Еще в KV Спиноза писал, что категории genus и species непригодны для определения природы вещей: они не позволяют понять Природу как таковую (ибо эта субстанция единственна «в своем роде»), а без этого главнейшего понятия интеллекта вообще «ничего нельзя было бы знать» [KV 1 ср7]. Аргументация весьма и весьма характерная. Регулятивом логического мышления, равно как и всякой иной деятельности интеллекта, теоретической или практической, у Спинозы становится идея Природы, Бога. Правила же общей логики суть формы работы не интеллекта, а воображения, которому, согласно [Eth2 pr18], принадлежит память.
В пояснении к заголовку голландского издания СМ[573] Спиноза снова повторил, что обычная логика[574] не имеет применения в практике познания и пригодна только для того, чтобы упражнять и развивать память, —
«чтобы мы могли припоминать вещи, которые даны нам в разрозненных восприятиях, без порядка и связи, и до тех пор, пока мы испытываем их нашими чувствами»[575].
А упоминание логики на титульном листе книги, надо полагать, свидетельствует о намерении автора дать там пример альтернативной логики. Это не обычная логика — не логика памяти и чувств, но «истинная логика» — метод усовершенствования интеллекта.
Ее необычность проявляется уже в том, что в сферу своей компетенции «истинная логика» втягивает основные категории метафизики (недаром латинский оригинал книги имел заглавие «Метафизические мысли»). Основания для такой перемены «ведомства» становятся понятными с первых же страниц. Метафизические категории — всевозможные универсалии («роды» и «виды» вещей), время и число, единое и многое, благо и зло и др. — Спиноза отказывается считать идеями. На том основании, что у них нет никакого конкретного идеата[576], обладающего актуальным бытием extra intellectum (вне интеллекта). Он именует эти абстрактные модусы мышления «сущими Рассудка» (entia Rationis). Спиноза порицает прежних философов (в частности, Аристотеля, с его определением человека как разумного животного) за то, что они принимали эти чистой воды абстракции за реальные сущности вещей. Меж тем
«одно дело исследовать природу вещей, иное — модусы, посредством которых вещи нами воспринимаются» [СМ 1 cpl][577].
Этим проводится строгое различие между логическим и «физическим» знанием. «Физика» есть положительное знание о природе вещей, существующих вне интеллекта. Предмет же логики — модусы мышления (modi cogitandi), среди которых различаются [а] идеи реальных вещей, [Ь] сущие рассудка и [с] «вымышленные сущие»[578]. Тем самым немалая доля фамильных владений прежней метафизики отходит в распоряжение логики. У Спинозы логика не занимается больше общей формой высказываний и умозаключений; ее занимают конкретные модусы мышления, и в первую очередь — идея Бога, рациональное исследование которой ранее считалось прерогативой метафизики, этой аристотелевской Philosophia prima.
Стало быть, верно, что Спиноза не выказывал интереса к обычной логике, «и в его мире нет места для особой, sui generis области высказываний, логических или иных»[579], — однако он вовсе не считал эту логику единственно возможной наукой о законах и категориях мышления. И дефиниция Логики как учения об усовершенствовании интеллекта никоим образом не распространяется на общую логику. Последняя представляет собой логику воображения, описывающую формы неадекватного познания и памяти, а не логику интеллекта.
Где же излагается та Логика, о которой упоминается в [Eth5 prf]? Несомненно, в «Трактате об усовершенствовании интеллекта»: чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить выражение «emendatio intellectus», которое фигурирует в названии этого трактата, с выражением «intellectus perficere» в дефиниции предмета Логики, даваемой автором «Этики». Правда, в тексте TIE слово «логика» отсутствует. Его замещает, как и у Декарта, слово «метод»[580]. Спиноза пишет здесь о методе почти в точности то же самое, что и в [Eth5 prf), в дефиниции предмета логики:
«Главнейшая часть нашего метода заключается в том, чтобы наилучшим образом понимать (intelligere) силы интеллекта и его природу» [TIE, 32][581].
В общем, логический метод Спинозы представляет собой рефлексию интеллекта в себя с целью исследования средств усовершенствования себя.
То обстоятельство, что слово «логика» ни разу не встречается в TIE, лишний раз свидетельствует, что Спиноза сознавал коренное различие предмета и задач общей логики и своего учения о методе. В отличие от общей логики, «истинная логика» Спинозы откровенно неформальна, являясь в этом отношении предшественницей трансцендентальной логики Канта (окончательно поглотившей предмет метафизики) и, в особенности, гегелевской и марксистской диалектической логики.
На первых же страницах TIE Спиноза заявляет, что его главная цель — направить дух к познанию единой природы сущего и внушить читателям любовь к «вещи вечной и бесконечной» (словом «Бог» он поначалу не пользуется, возможно, желая удержать читателя от поспешных религиозных ассоциаций). Логика, еще как следует не начав свое дело, спешит навстречу метафизике и этике. Как мы увидим далее, есть все основания предполагать, что понятию (точнее, «рефлективной идее») Бога суждено было появиться в финальной сцене TIE, с тем, чтобы придать логическую завершенность его учению о методе.
«Метод необходимо должен говорить о рассуждении или о понимании; то есть метод не есть само рассуждение для понимания причин вещей, и еще менее есть собственно понимание (το intelligere) причин вещей; но [Метод] есть понимание того, что такое истинная идея… Отсюда следует, что Метод есть не что иное, как рефлективное познание, или идея идеи; а так как идея идеи не дана, если ранее не дана идея [как таковая], то, следовательно, не будет дан метод, если раньше не дана идея. Поэтому хорошим методом будет тот, который показывает, как следует направлять дух согласно норме данной истинной идеи» [TIE, 12][582].
Здесь мы снова встречаем дистинкцию «физического» и логического (рефлективного) мышления, познавательной деятельности, обращенной во внешний мир и обращенной на самое себя. Одно дело просто мыслить вещь и совсем другое — понимать, каким образом мы эту вещь мыслим. В первом случае интеллект формирует идею вещи, во втором — идею идеи, или рефлективную идею вещи.
Метод есть «рефлективное познание» (cognitio reflexiva), пишет Спиноза. Иными словами, для того чтобы приобрести хороший метод мышления, необходимо исследовать конкретные идеи, которыми располагает дух. Дело в том, что уже имеющиеся в наличии идеи выступают в качестве «норм» мышления, которыми руководствуется дух, расширяя область своих знаний о сущем. Всякий отдельный акт мышления всецело обусловлен идеями, ранее имевшимися в духе[583].
Представим себе некую каузальную последовательность А — В — С: если дана идея вещи А, то рефлексия этой идеи в себя служит конкретным методом формирования идеи В, а «идея идеи» В дает метод познания предмета С. Стало быть, весь ход мышления зависит от того, которая из уже наличествующих в духе идей в данном случае работает в качестве регулятива или актуальной нормы мышления. Если принята неподходящая норма или же нормой служит неадекватная идея, приобретенные знания оказываются ошибочными. Напротив, чем совершеннее идея-норма, тем дальше и яснее видит дух природу вещи. И все вновь полученные идеи улучшают «оптику» человеческого духа, приумножая собой арсенал методов мышления, в свою очередь превращаясь в «умственные орудия (instrumenta intellectualia), благодаря которым [интеллект] обретает новые силы для других умственных работ» [TIЕ, 10].
Выбор подходящего умственного орудия, или нормы мышления, имеет решающее значение для успеха конкретного познавательного акта. Польза же, приносимая хорошим методом, как раз и состоит, по замыслу Спинозы, в том, чтобы помочь духу избрать адекватную для данного предмета норму мышления и проследить за правильным порядком исследования. Однако следует помнить, что метод (идея идеи) есть нечто отличное от идеи как таковой, поэтому методом нельзя пользоваться в качестве «нормы» мышления вместо нерефлективной идеи. Метод лишь помогает духу понять свои действия и выбрать из бесчисленного множества идей, которыми дух уже располагает, ту конкретную идею-органон, посредством которой можно образовать новую идею о том или ином предмете, занимающем дух.
Этим метод Спинозы кардинально отличается как от формальных методов схоластической логики, так и от позднейших спекулятивных методов: он не притязает быть абсолютной нормой истины; в каждом отдельном случае метод диктуется конкретной идеей, а не предписывается миру идей логиком в качестве какого-нибудь априорного «канона чистого разума». Метод направляет нашу мысль «ad datae verae ideae normam» — согласно норме данной истинной идеи. Его назначение заключается в том, чтобы раскрыть присущий всякой идее эвристический потенциал. Притом, утверждает Спиноза, познавательная способность духа простирается ровно настолько, насколько это позволяет «умственный инструментарий», которым располагает дух. Этот инструментарий включает в себя все идеи, когда-либо ранее приобретенные духом, и возрастает вместе со всяким открытием, всякой новой истинной идеей.
Легко предположить, что этим устраняется сама возможность существования универсального метода познания, о котором мечтали поколения логиков от Аристотеля до Декарта. Так, Вим Клевер пишет, что, работая над TIE, Спиноза, чем дальше, тем больше убеждался в невозможности создания логики, отличной от «физики». Причина того, почему Спиноза не создал специальной логической теории, как Аристотель или Гегель, «кроется в натурализме Спинозы, в его глубоком убеждении, что логика заключена в науке о природе, и нигде более»[584]. Вероятно поэтому он (намеренно) оставляет TIE незавершенным и приступает к исследованию Природы как таковой (в KV), полагает Клевер[585].
Это его предположение, будто Спиноза, по мере того, как работа над TIE приближалась к концу, мало-помалу сознавал, что излагаемая им концепция метода неудовлетворительна[586], выглядит более чем сомнительным. О том, что Спиноза надеялся какое-то время спустя завершить-таки TIE, свидетельствует письмо Э.В. фон Чирнгаусу [Ер 60], в котором незадолго до своей смерти (январь 1675 года) он высказывает намерение когда-нибудь изложить свое понимание метода письменно «в должном порядке». Из предшествующего письма Чирнгауса [Ер 59] явствует, что Спиноза совсем недавно сообщил ему о своем методе в устной форме, и Чирнгаус — стоит учесть, что это свидетельство принадлежит первоклассному математику! — нашел данный метод превосходным, весьма легким и полезным в эвристическом отношении:
«При личном свидании Вы указали мне метод, каким Вы пользуетесь для нахождения истин, Вам еще неизвестных. Из своего опыта я нахожу, что метод этот превосходен и в то же время весьма легок, насколько я его понимаю. Могу сказать, что его одного было уже достаточно, чтобы сильно продвинуть меня в математике» [Ер 59].
Что это, как не описание отдельного, самостоятельно существующего логического метода? Разве Спиноза дает Чирнгаусу рекомендацию в том (позитивистском) духе, что, дескать, «если хочешь иметь философскую логику…, постарайся как можно дальше продвинуться в естественных науках»[587]? То есть, не спрашивай о методе меня, философа, а занимайся-ка лучше, «благороднейший муж» Чирнгаус[588], своей математикой, — тогда и знание метода придет само собой. Напротив, Спиноза вначале отдельно формулирует одно из правил своей логики, а затем пространно поясняет его на примерах из математики и метафизики. Несомненно, он считал это правило, а вместе с ним и самый логический метод, вполне универсальным инструментом познания.
Стало быть, до конца жизни он держался мнения, высказанного в TIE: что метод не есть понимание причин вещей, а значит, и Природы как таковой; метод — это знание о модусах мышления, об истинных идеях. И стало быть, в известном смысле метод все-таки существует отдельно от «natural science», то есть от знания о причинах вещей, лежащих extra intellectum. Хотя, оговаривается Спиноза, логическая рефлексия и метод как «идея идеи» возможны только при условии, что та или иная идея реальной вещи уже дана. Нет такой идеи — значит, нет предмета для рефлексии. В этом смысле логический метод действительно зависит от внелогического знания о реальности и, стало быть, не является автономным.
Клевер предельно точно и остро ставит проблему[589]: коль скоро логическое знание — рефлективное, а метод мышления диктуется конкретным содержанием всякой идеи, получается, что общего для всех идей логического метода просто не может быть. В таком случае логика, как специальная наука, тоже оказывается невозможной. Ей остается лишь выявлять и описывать правила и методы, уже действующие в науках о природе. —
«Невозможно описать законы правильного рассуждения отдельно от законов природы, описать их отлично от физических законов. Наше знание о природе (physical knowledge) есть в то же время (в качестве рефлективного знания) логическое знание, то есть знание о механизмах нашей познавательной деятельности… Увеличение знания (о природе) непосредственно ведет к увеличению знаний о нашем мыслительном инструментарии и автоматически расширяет свод логических правил»[590].
Наука логики призвана описывать мыслительный инструментарий, который действует «автоматически», — или, как выразился Гегель, инстинктивно[591], — до и независимо от всякой логической рефлексии, увеличиваясь ровно в той мере, в какой растет наше знание о природе.
В TIE действительно есть слова, которые отвечают такому представлению об автоматическом саморазвитии знания. Спиноза пишет, что мыслящая душа «действует согласно определенным законам и словно некий духовный автомат»[592]. Он хорошо сознает оригинальность свой позиции. Прибавляя, что прежние философы никогда, «насколько я знаю», не представляли себе познание как автоматически протекающую, строго закономерную и саморегулируемую деятельность, комментирует Клевер.
«Спиноза предлагает, как станет ясно из приведенных выражений, новшество, новое видение логики науки. Словно корабль, управляемый автопилотом, разум располагает знанием, посредством которого он направляет себя и ведет себя дальше, не уделяя специального внимания этому механизму… Реальное знание автоматически трансформируется в инструкции для дальнейших операций… Я ученик и невольник тех вещей, которые я реально знаю»[593].
Клевер утверждает, что эти взгляды Спинозы предвосхищают в главных чертах логическую программу позднего Витгенштейна, с его тезисом: «Мы используем суждения как принципы суждения» [О достоверности, § 124], — так что последний выглядит своего рода «крипто-спинозистом»[594].
Без сомнения, оба философа понимали нормативную функцию уже имеющихся у нас идей в познании. Однако сходство вряд ли идет дальше, даже отваживаясь допустить, что «суждения» Витгенштейна — то же самое, что «идеи» в понимании Спинозы, а мышление и впрямь есть «игра в суждения». Главное, что отличает Спинозу от Витгенштейна, — это абсолютное, «догматическое» убеждение в том, что у мышления нет никаких законов и форм, которые не были бы вместе с тем законами и формами самой реальности, Природы как таковой. —
«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» [Eth2 pr7].
Приняв этот постулат, философу приходится принять и его ближайшее следствие: что учение о мышлении с его идеями, логика, является в той же мере и учением о вещах, реально существующих в Природе. Однако это никоим образом не значит, что Спиноза ограничивал логику рефлексией по поводу знаний, доставляемых физическими науками, как думается Клеверу. У логики все же есть свой собственный предмет и собственное содержание, которое не зависит от физики. Логика есть «cognitio reflexiva» — мыслящее себя мышление, или идея идеального (как формы выражения реального, всеобщей природы вещей).
Верно, что логический метод рефлектирует конкретные идеи и что поэтому Спиноза отвергает возможность построения универсального метода познания, который не зависел бы от содержания мышления, то есть от природы вещей, которые мыслит человеческий разум (такой, «автономный» логический метод Декарт пренебрежительно звал «диалектикой»). И все-таки метод может быть универсальным — в том единственном случае, когда предметом его рефлексии является универсальная идея — идея реальной универсальной вещи.
Среди прочих «умственных орудий» наш интеллект располагает одним совершенно особым, по-настоящему универсальным инструментом — идеей, пригодной для выведения всех возможных истинных идей. Это идея Природы. Что крайне важно, ее доставляет нам не «physical knowledge», эта идея от природы дана всякому разумному существу[595]. Она-то, эта конкретная идея, и является собственным предметом логики, равно как и основанием адекватной логической рефлексии по поводу физических идей. Предметом естественных наук являются модусы Природы протяженной, предметом логики — модусы мыслящей Природы, которые, взятые все вместе, образуют единую идею Природы. Рефлексия этой верховной идеи в себя, то есть idea ideae Природы, оказывается искомым универсальным, или «совершеннейшим», методом мышления:
«Рефлективное познание идеи совершеннейшего Сущего (Ens perfectissimum), — говорит Спиноза, — предпочтительнее рефлективного познания прочих идей; то есть совершеннейшим будет тот метод, который показывает, каким образом следует направлять дух согласно норме данной идеи совершеннейшего Сущего» [TIE, 12].
Вообще говоря, никакая рефлексия физического знания в себя не возможна без участия тех или иных универсальных логических норм. «Автоматическая» рефлексия ученых по поводу приобретаемых ими идей (которой, согласно Клеверу, ограничивается область логического знания) в действительности, как правило, опирается на самые тривиальные и поверхностные представления о природе мышления, которым придается универсальное значение. К примеру, Lakatos отмечал «драматический контраст» между богатством исследовательской программы Ньютона и нищетой (the poverty) его теории научного метода[596]. В случае Спинозы дело обстоит прямо противоположным образом; созданная им эвристически мощная методология «усовершенствования интеллекта» не смогла найти себе эффективного применения, не превратилась в активно действующую «исследовательскую программу».
Следуй Ньютон собственным логическим рецептам, он добыл бы, самое большее, несколько тощих абстракций, коих и без того хватало в тогдашней метафизике. По счастью, мышлением ученых — в этой части Клевер абсолютно прав — руководит не столько рефлексия, сколько объективные логические законы, действующие «инстинктивно» и квази-автоматически, — «имманентная логика человеческого мышления, которое само себя направляет»[597]. Ее-то, эту объективную логику действий интеллекта, и делает предметом исследования Спиноза в своем учении о методе в ТЕ. Знание ее законов и категорий способствовало бы делу усовершенствования нашего интеллекта — делу приращения «капитала» истинных идей, научных знаний, — в той же мере, в какой знание законов физиологии является полезным для укрепления здоровья человеческого тела. Вот в чем заключается настоящий смысл спинозовской параллели Логики и Медицины.
Мало того, что знание автоматически возрастает, само себя увеличивает, дух, вдобавок, автоматически сознает достоверность своего знания.
«Конечно, раз некто знает что-либо, он тем самым знает, что он знает это» [Eth2 pr21 sch].
Если я знаю некую истину, то я знаю, что это — истина, и что я в самом деле эту истину знаю. Однако неверно, что дух автоматически сознает, каким образом он приобретает новые знания. Достоверность (certitudo) знания не тождественна методу познания вещи. Достоверность, или знание того, что я действительно знаю нечто, отлична от метода, который есть знание того, как я познаю это нечто. Метод — это отделившаяся от своего идеата и сама сделавшаяся объектом мышления «форма истинной мысли» (forma verae cogitationis)[598], это снятая и очищенная рефлексией «формальная сущность» (essentia formalis) идеи, взятая безотносительно к непосредственному объекту этой идеи. Достоверность же, напротив, выражает отношение идеи к своему объекту, это — «объективная сущность» (essentia objectiva) идеи[599].
Познавая нечто, дух рефлектирует содержание своего знания — как знание достоверное либо сомнительное, — а не его форму как таковую. Поэтому ученый, наилучшим образом познавая ту или иную вещь и, вместе с тем, сознавая достоверность своих идей, чаще всего не имеет понятия о логических законах, которыми руководствуется его разум. Представления «физиков» о законах и методах своего мышления оказываются, как правило, весьма и весьма неадекватными. Логическая рефлексия — это особый мыслительный акт, не совпадающий с актом познания причин вещей.
Идея есть нечто отличное от своего идеата, стало быть, одно дело мыслить вещь, к примеру круг, и совсем иное — мыслить идею этой вещи, идею круга[600]. Владеть какой-либо конкретной идеей и уметь пользоваться ею в качестве метода познания, также еще не значит понимать механику действия данного метода.
Спиноза ясно пишет, что идея идеи Петра имеет особую сущность, отличную от сущности идеи Петра, которая является идеатом рефлективной идеи.
«Поэтому, раз идея Петра есть нечто реальное, имеющее свою особую сущность, она тоже будет чем-то доступным разумению (etiam quid intelligibile), то есть объектом другой идеи…. и снова, идея, которая есть [идея] идеи Петра, опять-таки имеет свою сущность» [TIE, II][601].
Значит, идея идеи, то есть идея-метод, реально отличается от идеи как таковой. У метода иная сущность, нежели у той идеи, которая является предметом его рефлексии. Выражаясь языком «Этики», идея вещи и идея идеи этой вещи остаются двумя разными модусами мышления, несмотря на то, что они выражают одну и ту же вещь. Клевер счел рефлективное знание всего-навсего свойством всякой идеи, вследствие чего логике пришлось расстаться с своей самостоятельностью, чтобы превратиться — даже не в служанку — в простую тень «физики». Спиноза же видит в рефлективной идее отдельный модус мышления, полноправную идею, с собственной, индивидуальной «формальной сущностью» и особым предметом.
Что происходит с идеей, когда она выполняет функцию метода познания? Ее форма обретает относительную независимость от предмета (ideatum) и, в свою очередь, становится объектом другой, рефлективной идеи[602]. Так идея автоматически превращается в метод, становясь инструментом приобретения новых идей. Наука логики изучает этот объективный метаморфоз идей, с тем, чтобы научить нас регулировать действия своего (конечного) интеллекта и направить наш дух к высшему человеческому совершенству — «ad summam humanam perfectionem» [TIE, 6].
Существование логического «автопилота», управляющего интеллектом, ничуть не делает излишней науку о методе мышления. Человеческое тело, например, «автоматически» дышит, поддерживает постоянную температуру, переваривает пищу и т. д., однако это не значит, что нам нет надобности знать законы физиологии и методически усовершенствовать свое тело.
В отличие от формальных схем умозаключения, которые описывает общая логика, объективная логика мышления — это логика его предмета; говоря конкретнее, это те «нормативные» идеи, идеи-методы, посредством которых всякая реальная вещь только и может быть дана мышлению в качестве предмета. Акты мышления не совершаются в логической пустоте, в которой человеческий дух оставался бы наедине с реальными вещами. Уже имеющиеся идеи в сумме образуют своеобразное логическое пространство, в котором и протекает всякое мышление. Свойства этого пространства меняются от точки к точке, от идеи к идее, в прямой зависимости от характера предмета мышления. —
«Идеи разнятся между собой, как сами [их] объекты» [Eth2 prl3 sch][603].
Выражаясь языком геометров, логическое пространство заметно искривлено и эта его кривизна определяет «геодезические» линии движения теоретической мысли. В этом смысле логика — это геометрия мышления. Ее категории выражают инвариантные отношения идей, универсальные условия и метод перехода от одной идеи к другой. Это искривленное, «неаристотелево» логическое пространство у Спинозы именуется «интеллектом».
Среди идей интеллекта выделяется одна, которая является абсолютной мерой истины[604] и логическим эталоном для остальных идей, обладая всеми свойствами интеллектуального «пространства» в целом. Это идея совершеннейшего Сущего (Бога, Природы). Ее рефлексия в себя даек универсальный метод мышления.
В чем же заключается рефлективная идея совершеннейшего Сущего? Ответ на это призвано дать предпринятое Спинозой исследование интеллекта, так как знание природы и свойств интеллекта служит общим основанием для всякого адекватного рефлективного (логического) знания, в том числе для «идеи идеи» совершеннейшего Сущего.
«Если мы хотим исследовать вещь из всех первую, то с необходимостью должно быть какое-то основание (fundamentum), которое соответствующим образом направляло бы наши мысли. А поскольку метод есть рефлективное познание как таковое, то основание, которое должно направлять (dirigere) наши мысли, не может быть ничем иным, как познанием того, что составляет форму истины, и познанием интеллекта с его свойствами и силами» [TIE, 32].
Складывается характерная диалектическая ситуация: собственная (рефлективная) идея интеллекта принимается Спинозой в качестве нормы, призванной направлять интеллект к познанию идеи совершеннейшего Сущего. В похожей ситуации находился Декарт, когда положил рефлективную идею «я» в основание каузального доказательства существования Бога[605]. Декарт принял решение отождествить «я» с идеей Бога, и Спиноза, по всей вероятности, предполагал действовать в том же духе и определить интеллект как идею совершеннейшего Сущего (ниже я постараюсь доказать это), если бы стечение обстоятельств или же некие соображения, о которых Спиноза умолчал, не помешали ему завершить TIE. Однако методы восхождения к рефлективной идее Бога у Декарта и Спинозы разные, несмотря на общее исходное определение Бога как абсолютно бесконечной реальности!
Приступая к исследованию природы интеллекта, Спиноза сначала выясняет, чем отличается интеллект от прочих форм мышления, присущих человеческому духу. Эта операция дает общее представление о вещи, которая служит предметом мышления, с тем, чтобы, приступая к поискам сущности вещи, мы хотя бы предположительно знали, как она выглядит и чем отличается от прочих вещей, то есть представляли бы, сущность чего, собственно, предстоит искать. Спиноза составляет historiola mentis — краткое описание духа по аналогии с «естественными историями» теплоты, цвета, ветра у Бэкона Веруламского [Ер 37]. Рассматривая свойственные духу формы восприятия вещей, Спиноза обращает особое внимание на случай,
«когда вещь воспринимается единственно через свою сущность[606] или через познание ее ближайшей причины» [TIE, 7].
Эту форму восприятия он признает наилучшей и в дальнейшем именует «интеллектом». Данное определение указывает характерную отличительную особенность интеллекта — обращение к ближайшим причинам вещей. Но, заметим себе, там нет ни слова о ближайшей причине самого интеллекта. Спиноза просто констатирует существование феномена интеллекта и указывает одну его особую примету, чтобы мы могли отличить идеи интеллекта от идей, принадлежащих воображению. Далее он показывает, чем истинная идея отличается от идеи фиктивной, ложной и сомнительной, и как оградить дух от этих последних.
Все формы заблуждения предполагают наличие по меньшей мере двух идей. Заблуждение есть особая форма взаимосвязи идей, а не свойство идеи как таковой. Простые идеи, рассматриваемые clare et distincte — отдельно от прочих идей, взятые сами по себе, всегда являются истинными, уверяет Спиноза.
«Истинная идея является простой или сложена из простых идей» [TIE, 27].
Простой идеей он считает ту, которая заключает в себе только чистую сущность или ближайшую причину бытия вещи, и ничего больше.
Далее, согласно плану Спинозы, предстоит образовать простую идею интеллекта и отлить ее в форму дефиниции. Она легла бы в основание совершеннейшего метода, направив мышление к рефлективной идее Бога. Материалом для этой дефиниции могут служить свойства интеллекта, открытые в ходе его «врачевания и очищения». Приводя обширный свод характерных черт интеллекта, рисующих его примерный портрет, Спиноза намеревался указать «нечто общее» (aliquid commune), что могло бы служить ближайшей причиной всех этих свойств и выражало сущность интеллекта. —
«Дефиниция интеллекта уяснится сама собой, если мы обратим внимание на его свойства, которые мы разумеем ясно и отчетливо… Надлежит установить нечто общее, откуда с необходимостью следовали бы эти свойства, иначе говоря, то, при наличии чего они были бы с необходимостью даны и с устранением чего все они устранялись» [TIE, 32–34].
На этой фразе рукопись трактата обрывается.
«Очевидно, Спиноза так никогда и не нашел удовлетворительной формулы», —
скептически констатирует Е. Curley[607].
На мой взгляд, очевидно как раз обратное. В других своих работах и письмах Спиноза неоднократно повторял искомую формулу: интеллект — это непосредственный бесконечный модус мыслящей субстанции.
Слово «непосредственный» означает, что ближайшей причиной существования интеллекта является Бог как «вещь мыслящая». Бесконечные непосредственные модусы «проистекают из его абсолютной природы» и опосредствуют все прочие действия Бога [Eth1 pr28 sch].
Ближайшая причина интеллекта, стало быть, нам известна, а ведь это главное, что нужно для хорошей дефиниции. Следовательно, Спинозе оставалось справиться с сугубо технической проблемой — надлежащим образом сформулировать дефиницию интеллекта. Дело осложнялось тем, что в TIE Спиноза не вводил понятия субстанции и модуса, а вместо обычного термина «Бог» предпочел воспользоваться иносказательным оборотом «совершеннейшее Сущее».
Дефиниция интеллекта, надо полагать, должна была стоять в связи с данным ранее определением «совершеннейшего метода» — как «рефлективного познания идеи совершеннейшего Сущего». На последних страницах трактата Спиноза указывает, что понятие интеллекта образует «основание» (fundamentum) всякого рефлективного познания и «самую главную часть метода» (vero praecipua methodi pars). Стало быть, связь двух дефиниций — ранее данной (дефиниции метода) и искомой (дефиниции интеллекта) — диктуется предшествующим ходом мысли Спинозы, не говоря уже о том, что такая связь придала бы завершенность композиции трактата.
Связующим звеном между этими дефинициями является понятие совершеннейшего Сущего. Если Спиноза действительно не собирался пользоваться понятиями субстанции и модуса[608], значит оставалась только одна возможность определить интеллект через его отношение к своему объекту и ближайшей причине: интеллект есть бесконечная идея совершеннейшего Сущего.
Это мое предположение можно подкрепить и более прямой аргументацией, опирающейся на текст TIE, непосредственно предшествующий предполагаемой дефиниции интеллекта. В числе свойств интеллекта, на которые Спиноза предлагал обратить внимание, с тем, чтобы дефиниция интеллекта «уяснилась сама собой», значится бесконечность, а последнее, восьмое из этих свойств заслуживает особого внимания:
«Идеи тем совершеннее, чем более совершенства какого-либо объекта они выражают» [TIE, 33].
Остается сделать только один шаг, чтобы определить интеллект как бесконечную идею совершеннейшего объекта. Хотя в TIE Спиноза этого шага не делает, в других его работах аналогичные определения имеются (только вместо «совершеннейшего Сущего» там говорится о «Природе»). Одну такую дефиницию мы находим в приложении к KV, где Спиноза пишет о существовании в мыслящей Природе
«бесконечной идеи, которая заключает в себе объективно всю природу, как она реально существует в себе» [KV vmz].
Эта бесконечная идея Природы и есть интеллект. Слово «интеллект» в данном фрагменте отсутствует, однако после слов о бесконечной идее Природы Спиноза прибавляет:
«Поэтому я назвал эту идею в IX главе первой части «созданием, которое непосредственно сотворено Богом»» [KV vmz].
Этот эпитет в указанном месте относится к вечному и бесконечному модусу Бога — «разуму в мыслящей вещи» (в утраченном латинском оригинале KV в этом месте наверняка стояло слово intellectus, которым Спиноза обозначал непосредственный модус мыслящей субстанции).
Кроме того, первым свойством интеллекта, упоминаемым в TIE, является свойство достоверности —
«знание того, что вещи формально (formaliter) суть таковы, как они в самом [интеллекте] объективно (objective) содержатся»[609] [TIE, 32];
и то же самое свойство Спиноза приписывает «бесконечной идее» в приведенном выше фрагменте из приложения к KV.
Другая подходящая дефиниция помещается в письме Спинозы к Ольденбургу:
«Я считаю, что в Природе существует бесконечная потенция мышления, которая, поскольку она бесконечна, заключает в себе объективно всю Природу и отдельные мысли которой располагаются таким же образом, как и сама Природа, являющаяся ее идеатом» [Ер 32].
Из дальнейших слов Спинозы явствует, что эта «бесконечная потенция мышления» есть не что иное, как интеллект:
«Далее я полагаю, что человеческий Дух является той же самой потенцией мышления, но не поскольку она бесконечна и постигает всю Природу, а поскольку она конечна, то есть поскольку она воспринимает только человеческое тело. И на этом основании я считаю, что человеческий Дух есть часть некоего бесконечного интеллекта» [Ер 32][610].
Разумеется, историки философии могут лишь с той или иной долей уверенности догадываться, какой дефиницией Спиноза намеревался завершить свое «очищение интеллекта», однако, я полагаю, можно считать вполне доказанным, что интеллект есть, согласно Спинозе, не что иное, как бесконечная идея субстанции[611].
В качестве идеи субстанции интеллект становится предметом исследования в части I и в начале части II «Этики». О рефлективном характере даваемого там понятия субстанции в известной мне литературе не упоминалось ни словом. Дело в том, это понятие у Спинозы представляет собой не просто идею субстанции — эта идея является «врожденным орудием» человеческого духа, а не приобретается философствованием, — но рефлективную идею субстанции. А ведь это и есть то, что Спиноза зовет «совершеннейшим методом» мышления — «ideae Entis perfectissimi cognitio reflexi va»!
Спиноза в «Этике» не конструирует идею субстанции, а только рефлектирует эту априори наличествующую в человеческом духе, то есть врожденную ему, идею. Это обстоятельство, кажется, не учитывал Клевер, когда писал, что Спиноза
«убедился, что его исследовательское начинание [TIE] излишне и даже бессмысленно и что единственный способ усовершенствовать разум — это «исследовать природу» как таковую»[612].
Я полагаю, ни в TIE, ни в «Этике» Спиноза не исследовал Природу как таковую. Предметом его исследования была идея Природы. Человеческий дух не воспринимает Природу как таковую — то была бы чистая абстракция, а, согласно Спинозе, «начало Природы… нельзя понять абстрактно» [TIE, 24]. Предметом мышления может быть Природа протяженная (в математике и естествознании) либо Природа мыслящая (в логике и гуманитарных науках). Знание о Природе полностью исчерпывается знанием ее атрибутов.
В «Этике» предметом исследования являются модусы Природы мыслящей, идеи. Это, главным образом, идея Бога — интеллект, и идея человеческого тела — дух. Если так, значит метафизика Спинозы и является тем самым «совершеннейшим методом» мышления, о котором он рассуждал в TIE.
Из идеи Бога «следуют бесчисленные [идеи] бесчисленными способами (infinita infinitis modis)» [Eth2 pr4]. Поэтому рефлективная идея Бога является универсальным методом, который позволяет вывести все адекватные идеи, какие только возможны, даже идеи вещей несуществующих, поскольку такие идеи тоже должны содержаться в идее Бога [Eth2 pr8].
Конечно, Спиноза не был настолько наивен, чтобы надеяться априори вывести из первоидеи Бога какую угодно частную идею. Больше того, он предупреждает, что конечный, человеческий интеллект одними собственными силами, без содействия чувственного опыта, не способен вывести ни одной идеи единичной вещи. Каким бы хорошим методом он не располагал. Конечный интеллект идет вслед (posterior) за вещами, которые мыслит [Eth1 prl7 sch]; в том, что касается существования (но не сущности!) единичных вещей, ему приходится прислушиваться к неадекватным свидетельствам чувственного опыта. Хотя человеческий дух располагает от природы универсальной логической нормой — идеей Бога, — своеобразным компасом, безошибочно направляющим разум к истине вещей, однако ведь одного только компаса, хотя бы и «совершеннейшего», недостаточно, чтобы разыскать в бесконечном логическом пространстве конкретную идею той или иной единичной вещи. Для этого надобны также органы чувств.
Итак, мы установили, что предмет спинозовской логики не общая форма высказываний и умозаключений, а идея конкретной вещи — абсолютно бесконечной реальности.
В главе VII «Краткого трактата о Боге, человеке и его счастье» Спиноза противопоставляет общепринятой логике — «истинную логику», основывающую свои законы на «делении Природы», а не на формальной структуре речи. Верховное основоположение его логического метода гласит: законы и формы мышления диктуются природой вещей, о которых мы мыслим. Нельзя ничего понять адекватно, т. е. конкретно, если применять одни и те же логические нормы к различным по своей природе вещам, как это делала силлогистика. К тому же природу и сущность вещей Спиноза понимал совершенно иначе, нежели «отец логики» и его последователи[613].
Согласно Спинозе, знание существенных различий вещей является непременным условием для решения основной задачи логики — усовершенствования интеллекта. Ибо интеллект совершенствуется не столько за счет увеличения числа адекватных идей, сколько тогда, когда мы обращаем свою мысль к более совершенным предметам:
«Идеи тем совершеннее, чем более совершенства какого-либо объекта они выражают. Ведь мы не так удивляемся мастеру, который создал идею какой-нибудь часовни, как тому, кто создал идею некоего замечательного храма» [TIE, 33]. «Превосходство идей и действительная потенция мышления оцениваются по превосходству объекта» [Eth3, agd, ехр].
Качество нашего знания о вещи обусловлено мерой совершенства предмета знания, и коль скоро логика ставит своею задачей усовершенствование интеллекта, ей приходится учиться «вычислять» эту меру. Только так можно определить идею-основание исследования того или иного предмета и избрать наилучший порядок мышления. Качество знания тем выше, чем совершеннее идея, лежащая в основании мышления.
Что же принимается за критерий совершенства предметов мышления? Категория совершенства у Спинозы идентична категории актуально бесконечного (infinitum actu). Высшее совершенство Бога — это его абсолютная бесконечность, а совершенство всякой отдельно взятой вещи определяется тем, в какой мере она выражает бесконечную реальность Бога. В частности, идея бесконечного модуса субстанции совершеннее, чем идея ее конечного модуса, а идеи «вещей постоянных и вечных» (res fixae et aeternae) совершеннее, нежели идеи «вещей единичных изменяемых» (res singularia mutabilia).
Старый постулат о логическом примате идеи абсолютно бесконечного нашел в философии Спинозы свое законченное воплощение[614]. Правда, Спиноза не сумел объяснить происхождение этой идеи в человеческом духе, посчитав ее, вслед за платониками и Декартом, «врожденной». Тем самым он как бы сознается в том, что не понимает, каким образом дух приобретает эту идею (т. е. почему человек начинает мыслить); однако он твердо уверен, что идея, непосредственно выражающая абсолютную бесконечность, не может быть каким-либо образом вымышлена конечным человеческим духом, как полагали Гассенди, Локк и их сторонники.
Идея бесконечного принадлежит к числу тех простейших идей, которые не в состоянии доставить духу никакая, сколь угодно тонкая рефлексия. Маркс называл такие идеи «практически истинными абстракциями». Он предположил, что Аристотель не смог образовать категорию стоимости лишь потому, что к рождению мыслительных форм подобного сорта теоретический разум вообще не имеет ни малейшего отношения. Если это верно, и разум в самом деле находит эти идеи уже готовыми к употреблению, то вполне естественно, что они представляются ему «врожденными орудиями», «вечными истинами» или «априорными логическими функциями». Проблему формирования логических категорий так просто не решишь, но, по крайней мере, ясно, что они не созданы разумом, а суть условия самой возможности мышления.
Другим инструментом логического деления Природы Спинозе служит категория деятельности:
«Вещь тем совершеннее, чем более она действует» [Eth5 pr40 dm].
Важность этого положения невозможно переоценить. В нем — подлинный исток и тайна учения Спинозы как философии Дела.
Но об этом речь еще впереди. В плане же «деления Природы» отсюда следует, что идея действующей причины (causa efficiens) совершеннее, чем идея каких-либо свойств (propria) вещи, а идея действия (actio) человеческого тела совершеннее, чем идея его страдательного состояния (passio).
Для различения активного и пассивного существования вещи служит категория причины[615]. Приступая к «очищению» интеллекта в ТЕ, Спиноза определяет его как восприятие ближайших причин вещей. Истинное мышление представляет собой последовательный ряд (series) идей, в точности повторяющий последовательность сплетения причин и следствий в Природе. Меж тем, формальные абстракции метафизиков передают только сходные признаки вещей; принятые в метафизике роды и виды не существуют вне мышления и не имеют отношения к каузальным связям вещей.
«Поэтому нам никогда нельзя допускать, проводя исследование вещей, делать заключения о чем-либо на основании абстракций (ex abstractis)…» [TIE, 28].
Адекватное логическое деление вещей, существующих в Природе, должно опираться на их каузальные характеристики.
В TIE Спиноза проводит различие между «вещами постоянными и вечными» и «вещами единичными изменяемыми». Что представляют собой единичные изменяемые вещи? Просто всевозможные предметы чувств, обладающие наличным бытием здесь-и-те-перь. Человеческий интеллект, пишет Спиноза, не в состоянии охватить и постичь «порядок существования или ряд (series) единичных изменяемых вещей», вследствие их превосходящей всякое число множественности и бесчисленных обстоятельств, всякое из которых прямо или косвенно служит причиной бытия или небытия «вот этой» отдельной вещи [TIЕ, 31].
Предположим на миг, что дух сумел охватить одним взглядом Вселенную и воспринять сразу весь ряд единичных изменяемых вещей. Узнаем ли мы тогда, какова их сущность или законы, управляющие бытием той или иной вещи? Нет, зная весь порядок существования единичных изменяемых вещей, мы понимали бы эти законы ничуть не больше, чем теперь, когда этот пространственно-временной порядок известен нам лишь в бесконечно малой части.
«Действительно, нет надобности, чтобы мы понимали их ряд, потому что сущности единичных изменяемых вещей нельзя извлечь из их ряда или порядка существования; этот последний не дает нам ничего кроме внешних определений[616], отношений или, самое большее, обстоятельств, а это все далеко отстоит от сокровенной сущности вещей» [TIE, 31].
У единичных вещей «существование не имеет никакой связи с их сущностью», — отмечает Спиноза [TIE, 31]. То есть сущность единичной изменяемой вещи лежит в совершенно иной (очерчиваемой категорией вечности) логической плоскости, нежели та, в которой протекает ее (временное) существование. Эта мысль, вообще говоря, принадлежит Платону. Однако Спиноза не спешит определить «сокровенную сущность» (intima essentia) вещей как нечто идеальное, соглашаясь с Платоном лишь в том, что
«ее надлежит искать только в постоянных и вечных вещах и вместе с тем в законах, начертанных в этих вещах, как в своих истинных кодексах, согласно которым все единичное и возникает и упорядочивается» [TIE, 31][617].
У комментаторов нет общего мнения насчет того, что такое эти «постоянные и вечные вещи» (res fixae et aeternae) Спинозы. Разумеется, это ни в коем случае не абстракции, поскольку Спиноза именует их еще «физическими и реальными сущими» (entia physica et realia) и призывает не смешивать с универсалиями метафизиков или, по примеру пифагорейцев, с математическими «абстрактными вещами» (res abstractae: числа и фигуры) и прочими «сущими рассудка» (entia rationis), хотя последние в некотором смысле тоже могут считаться постоянными и вечными [TIЕ, 29–30].
Из текста TIE явствует, что постоянные и вечные вещи [а] образуют «ряд причин» (series causarum); [b] заключают в себе сущность единичных изменяемых вещей; [с] являются единичными, но, тем не менее, служат «как бы универсалиями или родами для определения единичных изменяемых вещей и ближайшими причинами всех вещей», и [d] в них «вписаны законы…, согласно которым единичные вещи возникают и упорядочиваются» [TIЕ, 31].
Чаще всего считается, что res fixae et aeternae суть атрибуты и/или бесконечные модусы субстанции[618]. Однако непонятно, каким образом те могли бы образовать series causarum — каузальный ряд, вдоль которого интеллект продвигался (progredi) бы от одного реального сущего к другому реальному сущему [ПЕ, 30]. Ведь ни бесконечные модусы, ни атрибуты не связаны каузальными отношениями друг с другом.
Нет, здесь речь ведется о бесконечном ряде конечных вещей. Я полагаю, что в данном случае текст Спинозы надо понимать буквально. «Постоянные и вечные вещи» суть именно вещи, а не модусы или атрибуты. Вещи и модусы не одно и то же. Модусы, разумеется, тоже суть «вещи», тем не менее различие между этими двумя понятиями сохраняется. В терминах общей логики, объем у понятия вещи больше. Всякая реальная вещь выражается посредством различных — и притом бесчисленных — модусов.
Для интеллекта вещь (res) есть или причина как таковая, или же действие этой причины. Ordo et connexio rerum — это порядок связи причин и действий. Модусом же Спиноза называет форму бытия вещи в том или ином одном атрибуте субстанции.
Понятия вещи и модуса нередко смешиваются. К примеру, Джонатан Беннетт пишет, что «мой дух есть тот же самый модус, что и мое тело»[619]. Меж тем дух и тело, согласно Спинозе, образуют одну и ту же вещь, но ни в коем случае не один и тот же модус. Вообще, расхожее мнение, что для Спинозы человек есть модус субстанции, простая ошибка. Человек, как таковой, — вещь, которая состоит из двух разных модусов — духа и тела. Вещь (вне зависимости от конкретного прилагательного: конечная или бесконечная, постоянная и вечная или единичная изменяемая, мыслящая или протяженная) для интеллекта есть сумма своих модусов либо (если эта вещь — Бог) сумма своих атрибутов[620].
Отдельный человек, несмотря на непрерывные изменения, происходящие с его духом и телом, — человек, понятый sub specie aeternitatis, — является постоянной и вечной и, вместе с тем, единичной вещью. Это необходимый «узелок» в бесконечномерной каузальной сети, или «паутине» Природы, как образно выражался Хэролд Хэллетт. Строение каузальной сети единичных вещей описывается в [Eth1 pr28]:
«Все единичное, то есть всякая вещь, конечная и имеющая ограниченное (determinatam) существование, может существовать и определяться (determinari) к действованию лишь поскольку она определяется к существованию и действованию другой причиной, которая тоже имеет конечное и ограниченное существование; и та причина, в свою очередь, также может существовать и определяться к действованию лишь поскольку определяется к существованию и действованию иной [причиной], тоже конечной и имеющей ограниченное существование, и так до бесконечности».
В последнем счете всякая единичная вещь детерминируется всей совокупностью единичных вещей и, в свою очередь, детерминирует все остальные вещи в «порожденной Природе». В этом смысле она, несмотря на ее конечное и ограниченное бытие, является постоянным и вечным условием бесконечного бытия Природы, взятого в целом[621].
В том или ином конкретном атрибуте субстанции каузальная сеть вещей предстает как единый бесконечный модус, слагающийся из бесчисленных конечных модусов (тел или идей). Вот как она выглядит в атрибуте мышления:
«Дух наш, поскольку он познает посредством интеллекта (quatenus intelligit), есть вечный модус мышления, который определяется (determinatur) иным вечным модусом мышления, а тот — иным, и так до бесконечности; тем самым они все вместе образуют вечный и бесконечный интеллект Бога» [Eth5 pr40 sch].
В атрибуте протяжения такой же бесконечный модус именуется facies totius Universi (форма Вселенной в целом).
Истинная индивидуальность постоянной и вечной вещи определяется тем конкретным местом, которое она занимают в вечном и бесконечном порядке причин, иначе говоря, осуществляемыми ею действиями. Понимать эти действия и значит понимать вещь sub specie aeternitatis. Особенности же существования вещи в пространстве и времени характеризуют только единичную изменяемую вещь, ее воображаемую индивидуальность; они могут быть адекватно поняты только частично (ибо ее существование зависит от бесчисленного множества внешних причин) и только на основании знания истинной, каузальной индивидуальности вещи.
Знание постоянных и вечных вещей логически совершеннее знания единичных изменяемых вещей. Феноменальный порядок, то есть последовательность явлений, данная в чувственном созерцании, зависит от каузального порядка вещей и не может быть понят раньше последнего. Однако феноменальный порядок зависит не только от порядка каузального, а еще от действий воображения.
Воображение формирует ряд единичных изменяемых вещей посредством некоторых заимствованных у рассудка категорий — времени, числа и меры, — которые Спиноза зовет «помощниками воображения» (auxilia imaginationis). Эти категории занимают ту же логическую нишу, что «трансцендентальные схемы», опосредствующие отношение явлений чувственности и категорий рассудка, у Канта: они служат посредниками, налаживающими косвенную связь между оторванными друг от друга сущностью и существованием конечных вещей. Пользуясь этими категориями, воображение упорядочивает поток чувственных данных — увязывает в целостные образы и раскладывает по полочкам «родов» и «видов», — тем самым отливая их в доступную для интеллекта (хотя и неадекватную) форму.
Проблема в том, что воображение и интеллект действуют по совершенно разным законам:
«Те действия, из которых возникает воображение, происходят по другим законам, совершенно отличным от законов интеллекта…» [TIЕ, 27].
Допускает ли Спиноза, тем не менее, возможность заключения разумной конвенции воображения с интеллектом, которая способствовала бы усовершенствованию интеллекта? Во всяком случае логика обязана выяснить, возможно ли согласовать две эти формы мышления, и, если такая возможность существует, конкретнее определить условия и средства достижения желаемой конвенции.
Решение этой задачи важно для человека в практическом отношении. Ведь я воспринимаю свое существование, себя самого, как вещь единичную изменяемую — посредством воображения, сущность же всякого человека есть вещь постоянная и вечная, и познаваемая только посредством интеллекта. Умея согласовать воображение и интеллект, я мог бы понять, как привести свое существование в соответствие с сущностью или, выражаясь прозаичнее, мог бы строить свои действия так, чтобы моя человеческая природа проявлялась в них насколько возможно более совершенным образом.
Взнос интеллекта заключается в знании вечных сущностей единичных изменяемых вещей и знании законов человеческой чувственности; воображение поставляет данные о существовании единичных вещей. Инициатива конвенции исходит от интеллекта, который посредством опытов (experimenta) может ограничивать (determinare) условия чувственного восприятия и за которым остается право окончательного суждения о вещах. Вот что говорится на этот счет в TIE:
«Познание этих [изменяемых] единичных вещей, по-видимому, сопряжено с немалой трудностью: ведь воспринять их все вместе есть дело, далеко превышающее силы человеческого интеллекта. Порядок же, согласно которому одна вещь постигается раньше другой, как мы сказали, нельзя почерпнуть ни из ряда их существования, ни из вечных вещей. Ибо там [в вечности] все вещи по природе существуют разом. Поэтому необходимо искать иных вспомогательных средств, кроме тех, которыми мы пользуемся для постижения вечных вещей и их законов…
Прежде чем мы приступим к познанию единичных изменяемых вещей, у нас будет время обсудить эти средства, которые все направлены к тому, чтобы мы умели пользоваться своими чувствами и в соответствии с известными законами и порядком ставить опыты, достаточные для определения (ad determinandam) искомой вещи; чтобы из них в итоге мы заключили, согласно каким законам вещей вечных [изменяемая вещь] создается, и [чтобы] сокровенная ее природа сделалась нам известной, как это я покажу в своем месте» [TIE, 31].
Отсюда явствует, что построение метода познания единичных изменяемых вещей предполагает [1] знание вечных вещей, образующих сущность вещей изменяемых, и [2] знание природы человеческой чувственности. А весь метод сводится к умению правильно пользоваться чувствами и оперировать опытными данными о существовании единичных вещей[622].
Не вполне ясно, намеревался ли Спиноза изложить этот метод уже в TIE, и что из себя представляют те единичные изменяемые вещи, которыми он предполагал заняться после обсуждения метода. Хотя он не оставил нам обещанного описания метода познания единичных изменяемых вещей, мы располагаем образцом практического применения этого метода — в ТТР. Речь здесь ведется о предметах религиозного опыта, который почти что весь ограничивается вещами единичными изменяемыми и формируется воображением, а не интеллектом. Кроме того, Спиноза позаботился отвести здесь достаточно места, всю седьмую главу, рассуждению об «истинном методе истолкования Писания». Последний представляет собой частный случай метода познания единичных изменяемых вещей, о котором Спиноза упоминал в TIE, — с той оговоркой, что экспериментальная составляющая в истолковании Писания остается величиной бесконечно малой. В остальных моментах два эти метода вполне идентичны.
«Метод истолкования Писания, говорю я, не отличается от метода истолкования Природы, но всецело с ним согласуется. Ибо как метод истолкования Природы состоит главным образом в изложении именно истории Природы (historia Naturae), из которой, как из достоверных данных, мы выводим дефиниции природных явлений (rerum naturalium); так же точно для истолкования Писания надлежит приготовить его правдивую историю и из нее, как из достоверных данных и начал, извлекать законные выводы о мысли авторов Писания» [ТТР, 80].
Стало быть, «метод истолкования Природы» (methodus interpretandi Naturam) учит, как получать достоверные описания, или «истории» (historiae) вещей, на основе которых мы делаем выводы о сущности этих вещей и даем им дефиниции. Как это происходит, когда дух имеет дело с вещью бесконечной и вечной, мы рассмотрели выше на примере дефиниции интеллекта. В случае с вещами единичными изменяемыми все обстоит несколько сложнее.
Для адекватного описания вещей, о которых трактует Писание, Спиноза считает необходимым: [а] хорошо владеть языком авторов Писания; [Ь] свести разнообразные мнения авторов о той или иной вещи к нескольким основным элементам (ad summa capita), [с] иметь в виду исторические обстоятельства, связанные с каждым автором и с предметами, о которых он повествует. Все это, взятое вместе, дает достоверную историю Писания.
По существу, эта история возникает в результате упорядочения наличного эмпирического материала средствами рассудка (ratio). Рассудок вторгается на территорию воображения и выстраивает населяющие ее чувственные образы единичных вещей в некую условную последовательность, сообразно своему знанию истинной природы воображения и его орудий — языка и чувственного восприятия, — и принимая во внимание имеющиеся исторические данные о связи этих вещей.
Положим, мы располагаем готовой историей вещи. Теперь, пишет Спиноза, надлежит отыскать в ней нечто «наиболее общее» (maxime universale, commune), по отношению к чему все данные нашей истории были «как бы ручейками» (tanquam rivuli), проистекающими из общего источника. С подобной операцией— Герман Де Дийн именует ее «экстракцией» всеобщего[623] — мы встречались, когда искали дефиницию интеллекта посредством интегрирования его свойств. В TТP Спиноза приводит новые примеры:
«Подобно тому как при исследовании природных явлений мы стремимся отыскать прежде всего вещи наиболее универсальные и всей Природе общие (res maxime universales et toti Naturae communes) — а именно, движение и покой, с их законами и правилами, которые Природа всегда соблюдает и посредством которых она беспрерывно действует, — и от этого постепенно продвигаемся к иному, менее универсальному (minus universalia); так же в истории Писания дблжно искать прежде всего то наиуниверсальнейшее (universalissimum), что является основанием и фундаментом всего Писания…» [ТТР, 84].
То есть мышление вначале отыскивает в «истории» своего предмета нечто всеобщее и универсальное, дает ему определение и раскрывает его законы, а затем нисходит ко все более частному и «менее универсальному», пока, в конце концов, опять не достигнет единичного. Так движется не только мышление о материальных вещах, но и мышление о мышлении — логика.
Учение об усовершенствовании интеллекта тоже начинается с изложения «истории Духа» (historiola Mentis) и нахождения всеобщей дефиниции интеллекта, каковая есть «основание и фундамент» (basis et fundamentum) логического Метода Спинозы. Определение интеллекта как бесконечной идеи субстанции открывает доступ в предметное измерение логики. Рассмотрим конкретнее, как это происходит.
TIE исследует интеллект в качестве идеи субстанции, теперь же его предстоит исследовать предметно — как идею субстанции. Это предприятие Спиноза осуществил в «Этике». Все, что мы далее узнаем о субстанции, оказывается рефлективным определением интеллекта! Хотя бы слово intellectus вообще не упоминалось. Всюду, где что-либо говорится о Боге, Природе, субстанции или о совершеннейшем Сущем, настоящим предметом исследования у Спинозы является интеллект.
Столь же верно и обратное: все до единого определения интеллекта оказываются рефлективными определениями Бога, вечных законов Природы. Определения предмета и формы мышления взаимно рефлектируют друг в друга, — просто-таки классическая диалектическая ситуация. Комментаторы, как правило, фиксируют какую-нибудь одну из этих полярных сторон отношения понятий Бога и интеллекта. Так, Маркс Вартофски пишет, что метод Спинозы
«исходит из природы интеллекта, а не из природы субстанции… Спинозовское понимание природы субстанции само вытекает из размышления о том, каким должен быть для интеллекта адекватный объект познания, определенный известным образом (то есть как совершенный, бесконечный и т. п.). Короче говоря, методология Спинозы не строится на фундаменте предшествующей ей онтологии; напротив, онтология создается на основе методологии, а методология, в свою очередь, конструируется как определение способа, каким действует интеллект, согласно его природе»[624].
Спинозовский Бог, заключает Вартофски, есть модель интеллекта. Это так, однако, следовало бы к этому добавить, ровно в той же мере и интеллект есть идеальная модель Бога, — эту сторону дела Вартофски начисто упускает из виду.
Противоположную позицию занял Эррол Харрис. По его мнению, Спиноза, работая над ТЕ, пришел к выводу, что дефиниция интеллекта зависит от дефиниции его объекта — Бога, субстанции — и что, следовательно, метод является вторичным по отношению к метафизике[625]. Поэтому, де, Спиноза прервал работу над трактатом и никогда больше не вернулся к нему.
Определение интеллекта действительно зависит от понимания его объекта и его ближайшей причины — в данном случае и причиной существования, и объектом интеллекта является одна и та же вещь, которая в TIE зовется «совершеннейшим Сущим». Наличие этой категории в самом сердце TIE — в положении о том, что есть Methodus perfectissima, — подкрепляет мнение Харриса, что логический метод зависит от метафизики (да и как иначе логика могла бы стать предметной?).
Однако верно и обратное: метафизика Спинозы не в меньшей мере зависит от учения о методе. Логика «настраивает» человеческое мышление по камертону бесконечного интеллекта и готовит наш интеллект к работе, разъясняя ему условия и законы его действования. В частности, в TIE выясняется метод формирования дефиниций, не владея которым, Спиноза не смог бы приступить к написанию «Этики». Метафизика и логика в философии Спинозы не связаны отношением субординации, это две стороны или, вернее сказать, два рефлективных модуса одной и той же идеи — идеи Бога..
Интеллект получает у Спинозы двоякое определение: в качестве идеи Бога он являет собой «объективную сущность» (essentia objectiva) Бога и, вместе с тем, он некая «формальная сущность» (essentia formalis), совершенно отличная от Бога, — как модус отличен от своей субстанции.
«К примеру, Петр есть нечто реальное; истинная же идея Петра есть объективная сущность Петра, притом нечто реальное в себе и совершенно отличное от самого Петра. Поэтому, так как идея Петра есть нечто реальное, имеющее свою особую [формальную] сущность, она будет… объектом другой идеи, каковая [рефлективная] идея будет иметь в себе объективно все то, что идея Петра имеет формально…» [TIE, II][626].
Эта схоластическая терминология прекрасно позволяет передать двойственный характер логического знания. Интеллект, подобно той идее Петра, подлежит рассмотрению [1] «формально» (formaliter), то есть как особая идея, отличающаяся от прочих идей, и [2] «объективно» (objective) — в качестве идеи некоего объекта, существующего независимо от интеллекта. «Формальная» логика Спинозы излагается большей частью в TIE, «объективная» логика — в первой и начале второй части «Этики»[627].
Рефлективная идея Бога формируется в «Этике» в том же самом порядке, в котором TIE раскрывает формальную сущность интеллекта. Вначале восемь дефиниций рисуют для читателя «историю» Бога (хотя в ней нет ничего «исторического» в обычном значении этого слова). В этой «истории» даны существенные признаки Бога: причина себя, абсолютная бесконечность, свобода и вечность, — плюс существенные признаки состояний Бога, модусов, некоторые из которых могут ограничивать друг друга (это «конечные в своем роде» вещи), а некоторые не могут (к примеру, тело не ограничивается мыслью, а мысль — телом, поясняет Спиноза).
К начальным дефинициям Спиноза относится как к вспомогательным инструментам мышления. В них нет даже указания на то, существует ли в действительности определяемая вещь, а говорится, что данная вещь просто мыслится автором так-то и так-то. Не случайно почти все дефиниции в «Этике» содержат выражение «я разумею» (intelligo).
В общем, мысленную «историю» Бога, начертанную в первых дефинициях, следует воспринимать как изложение условий задачи, а не ее готовое решение, по недоразумению помещенное автором уже в начале задачника. Впрочем, правильная постановка задачи, как правило, скрывает в себе ее решение, так что Гегель отчасти прав, утверждая, что все учение Спинозы содержится уже в дефинициях «Этики».
Эти дефиниции представляют сущность Бога не в ее чистом виде, а в особой, заимствованной у рассудка (ratio) логической форме. В составе этой необычной формы абстрактное всеобщее в строгой пропорции смешивается с конкретным. Абсолютная бесконечность, вечность и прочие подобные признаки суть категории, которые схватывают нечто общее всем бесчисленным атрибутам, образующим сущность Бога, и при этом отвлекаются от существенных различий между атрибутами, — что делает их полноправными абстракциями. Вместе с тем все эти признаки характеризуют лишь одну-единственную и совершенно конкретную вещь, Бога, и не могут относиться ни к какой иной вещи. В этом, предметно-логическом, смысле их определения представляются предельно конкретными.
В эту гибридную логическую форму «конкретной абстракции» Спиноза облекает все свои предварительные дефиниции. Далее происходит своеобразная дистилляция конкретной составляющей этих дефиниций и в итоге образуется реальное конкретное определение: Бог есть «вещь мыслящая» и «вещь протяженная», — которое, в отличие от предварительных определений рассудка, Спиноза не просто постулирует, а доказывает в [Eth2 pr1-2].
Об атрибутах протяжения и мышления, образующих реальную сущность Бога, в предварительных дефинициях не упоминается ни словом. Там Спиноза указывает
«лишь некоторые собственные признаки (propria), которые, правда, принадлежат вещи, но никогда не объясняют, что такое сама вещь. Ибо хотя существование через самого себя, причина всех вещей, высшее благо, вечность, неизменность и так далее присущи только Богу, однако посредством этих свойств мы не можем знать, что представляет собой его сущность, а также, какие он имеет атрибуты, которым принадлежат эти свойства» [KV 1 ср7].
Знание характерных свойств дает общее представление о сущности Бога, на которое мы могли бы опереться в ходе построения рефлективной идеи Бога, однако для настоящего понимания его сущности этого слишком мало. Сущность Бога-субстанции складывается из атрибутов [Eth1 df4], а не из признаков или свойств. И знание его атрибутов — протяжения и мышления — нельзя прямо и непосредственно вывести из знания этих свойств. Однако, не имея общего представления о свойствах вещи, невозможно решить, какие атрибуты действительно относятся к ее сущности, а какие не могут к ней относиться.
Стало быть, в здании «совершеннейшего метода» мышления у Спинозы имеются два больших отдела: [1] «история» Бога — учение о присущих ему свойствах бесконечности, вечности и т. д., и [2] учение о конкретных атрибутах Бога — протяжении и мышлении, с их модусами, конечными и бесконечными.
III. «Совершеннейший метод» мышления
Приступая к исследованию метода формирования рефлективной идеи Бога, необходимо сперва прояснить смысл слова «Бог». Учение Спинозы о Боге получило множество диаметрально противоположных истолкований: большинство людей религиозных сочли Спинозу атеистом и даже «убийцей Бога»[628]; напротив, Гете и йенские романтики почитали Спинозу как пантеиста и восхищались его «интеллектуальной любовью к Богу»; глава русских неокантианцев Александр Введенский доказывал, что в «Этике» понятие Бога отсутствует, а Владимир Соловьев возражал ему, что Спиноза разделяет это понятие с восточными религиями и в значительной мере с христианством. В XX столетии за дело взялись комментаторы-профессионалы и число интерпретаций возросло сразу на порядок. Выяснилось, что решение проблемы зависит от того, как мыслится отношение Бога к единичным вещам — в категориях рода и вида (Н. A. Wolfson), субъекта и предиката (Н. Joachim) или причины и следствия (H. F. Hallett).
Бог Спинозы не существует отдельно от единичных вещей и, вместе с тем, лишен всякого сходства с какой-либо единичной вещью и даже с Вселенной, понимаемой как упорядоченное множество единичных вещей. Вселенная — это Natura naturata, а Бог есть Natura naturans. В этом смысле Спиноза, определенно, не пантеист.
«Поскольку конечные модусы не являются причинами себя, их тотальность тоже не может быть причиной себя. Спиноза не пантеист» (A. Donagan)[629]. «Если бы Спиноза рассматривал Природу-Бога-субстанцию просто как «тотальность вещей», тогда было бы правомерно считать его пантеистом… Но субстанция не может быть тотальностью вещей» (R. Mason)[630].
Все так, однако на каком основании понятие пантеизма ограничивается признанием непосредственного тождества Бога и мира единичных вещей? Что мешает понимать пантеизм в более широком смысле — как имманентность Бога всем вещам, которая не устраняет их кардинальное различие? В таком случае было бы правомерным квалифицировать Спинозу (а также, возможно, апостола Павла[631] или, к примеру, Гегеля) как пантеиста. Смотря как мы понимаем пантеизм.
Очевидный и самый сильный аргумент в пользу признания Спинозы пантеистом заключается в том, что он решительно и недвусмысленно отрицает трансцендентность Бога миру единичных вещей. Бог не существует отдельно от своих модусов-состояний[632]. Всякая конечная вещь «существует в Боге», однако верно и обратное: Бог существует в вещах — существует не иначе, как Deus in rebus.
Что же такое есть Бог «в себе», в отличие от суммы своих модусов? Спинозовский Бог как таковой есть универсальный порядок и закон бытия. Этот закон остается одним и тем же во всех бесчисленных и бесконечных формах своего проявления, которые Спиноза зовет «атрибутами» Бога. Понять вещь как существующую «в Боге» значит познать ее «из универсальных законов и правил Природы» (per leges et regulas Naturae universales), согласно которым все происходит и которые остаются вечно одними и теми же [Eth3 prf]. Бог и есть не что иное, как этот вечный закон природы.
Такое понимание спинозовского Бога с давних пор и довольно широко распространено в историко-философской литературе. Вот пара хороших и не слишком давних примеров:
«Спиноза… оставляет [аристотелевско-схоластическое] понятие субстанции как частного сущего (a particular entity) и отождествляет ее с всеобщим порядком самой природы (the universal order of nature itself).
В последнем счете, далее, утверждение, что существует одна субстанция с бесконечными атрибутами, может быть истолковано в том смысле, что существует один всеобщий порядок в отношении к которому все вещи должны быть поняты. Это порядок природы» (Н. Allison)[633].
«Он… отождествил Бога с (начертанными в атрибутах) фундаментальными законами природы, которые дают исчерпывающее объяснение всему, что происходит в природе. То есть он отождествил Бога с Природой, понимаемой не как тотальность вещей, но понимаемой как наиболее общие принципы порядка, воплощенного в вещах» (Е. Curley)[634].
Итак, я тоже стану в дальнейшем понимать спинозовского Бога как всеобщую конституцию бытия, однако полагаю, что этого мало. Бога следует мыслить как особую, обращенную в самое себя деятельность, как единый и свободный, вечный (совершающийся вне времени и пространства) и абсолютно бесконечный (неограниченный) каузальный акт. Иначе, как мы увидим, невозможно понять ни бытие этого Бога, ни конкретное единство его атрибутов, ни principium individuationis его модусов.
Напоследок остается лишь добавить, что знаменитая формула «Deus sive Natura» в известном смысле действительно совершает «убийство Бога» — того трансцендентного миру существа, чье бытие постулируют религиозные вероучения. Спинозовский Бог не нуждается в восхвалениях, молитвах и жертвоприношениях; вместо этого он требует, чтобы человек деятельно усовершенствовал свой интеллект, свое органическое тело и свои отношения с другими людьми. Храм этого Бога — вся Вселенная, а его жрецы — все мыслящие существа, обладающие идеей Бога (интеллектом) и испытывающие любовь к познанию, эту истинную amor Dei intellectualis.
А. УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ
В концептуальной структуре «Этики» категория существования образует главную логическую ось. Спиноза не дает эксплицитного определения существования, однако эта категория действует в пяти из восьми дефиниций части I «Этики» и уже в первой ее аксиоме. С помощью категории существования Спиноза определяет категории причины себя, субстанции, модуса, свободы, необходимости, вечности.
Меж тем история философии свидетельствует, что понимание существования может быть весьма и весьма различным: достаточно вспомнить острые столкновения учений о бытии Гераклита и Парменида, Фараби и Аверроэса, Фомы и Оккама, Декарта и Гассенди. Существование может пониматься как форма чувственного созерцания либо рефлективная категория, как сущность вещи либо ее акциденция, как предикат либо субъект, как логическая связка в суждении либо форма действия вещей.
Спиноза делит сущее на две категории:
«Все, что существует, существует либо в себе, либо в ином» [Eth1 ax1].
Аналогичные формулы нередко встречаются в трактатах и суммах средневековых перипатетиков — арабских, еврейских, европейских. По всей вероятности, они восходят к той, что открывает главу 5 книги XII «Метафизики»:
«Иные существуют отдельно, а иные нет» [1071а 1].
Вещь, существующую «отдельно», Аристотель именует oysia. Это причастие настоящего времени от «einai» (быть) означает у Платона и Аристотеля истину бытия, умопостигаемую природу сущего. «Essentia» (от «esse», быть) — латинская калька oysia, появляющаяся в работах Цицерона и Сенеки Младшего. Средневековые философы в большинстве своем предпочитали переводить «oysia» другим латинским словом — «substantia». Хотя, скажем, Аврелий Августин полагал, что неологизм «essentia» лучше передает понятие «oysia», чем успевший уже в те времена стать привычным термин «substantia».
Отдельность существования субстанции передавалась выражением «in se esse» (быть в себе) или «per se existere» (существовать посредством себя). К примеру, Фома Аквинский определяет субстанцию как «ens per se existens» (сущее, существующее посредством себя)[635]. Далее он противополагает «esse per se» (бытие в себе) субстанции и «esse in alio» (бытие в ином), свойственное акциденциям.
Понимание субстанции, стало быть, зависит от того, в чем усматривается признак «отдельности», «в себе бытия». Аристотель определяет oysia как предмет, о котором что-либо «сказывается» или в котором нечто находится, тогда как этот предмет не сказывается и не находится ни в чем ином. Вид и род, к которому принадлежит oysia, Аристотель именует «второй oysia»[636]. Бытие такого рода «отдельных» вещей-субстанций схоластики обозначали термином «in se esse». Скажем, Сократ существует в себе, он — субстанция, oysia. «Человек» (вид, к которому принадлежит Сократ) и «живое существо» (род) тоже считаются существующими в себе, так как они «выявляют oysia» Сократа. А его остроумие, бедность, курносость и тому подобные свойства суть акциденции, то есть нечто, существующее в ином (в частности, в Сократе).
Спрашивается, каким образом субстанция существует в себе и акциденция в ней? В каком смысле здесь употребляется категория бытия? В себе бытие вещи означает абстрактное тождество с собой, ее «отдельность» от прочих вещей и даже от собственных свойств, которые рассматриваются как более или менее случайные в отношении к ее субстанции. Схоластики не принимают в расчет взаимное действие вещей и изображают существование отдельной вещи просто как данное в наличии, или, в гегелевской терминологии, — Dasein.
У Спинозы категории бытия в себе и бытия в ином вырастают из отношения причины и действия, а не тождества и различия, как у схоластиков. В первой же дефиниции «Этики» категории сущности и существования намертво связываются с категорией причины:
«Под причиной себя я разумею то, сущность чего заключает [в себе] существование; или то, природа чего не может пониматься иначе, как существующей» [Eth1 dfl].
«Существовать» означает здесь действовать на себя, быть причиной и вместе с тем — действием этой причины, создавать себя посредством себя. Речь здесь идет не о существовании вообще, а об одной конкретной форме существования — о существовании, «заключенном в сущности» вещи. Эту форму существования в логике Спинозы выражает категория бытия в себе (esse in se), и такое существование, как потом выяснится, присуще одному только Богу. Поскольку же сущность вещи не заключает в себе существование, то есть не является причиной существования этой вещи, Спиноза пользуется категорией бытия в ином (esse in alio). Это значит, что причина существования данной вещи существует вне ее, в какой-либо «иной» вещи. Так или иначе, истинное (актуальное) существование всякой вещи для Спинозы есть действие, вызываемое конкретной причиной.
Подобное понятие существования, как бытия-акта, имелось в средневековой теологии, которая, в свою очередь, заимствовала его у неоплатоников. Философам неоплатонических школ были хорошо известны категории бытия в себе и в ином, причем логический смысл этих категорий совершенно другой, нежели у последователей Аристотеля. Бытием в себе Прокл именовал акт порождения себя «самобытным»[637]:
«Все сущее в ином одним только иным и производится. Все сущее в себе самобытно… Ведь то, что по природе рождает себя, не нуждается в другом основании, содержась самим собой и сохраняясь в самом себе»[638].
Христианские «отцы церкви» использовали эту дистинкцию в собственных целях. Так, Августин, испытавший весьма значительное влияние неоплатонической философии, прибегает к делению сущего (ens) на то, которое получает бытие «от себя или из себя» (a se vel ex se esse), и то, чье бытие происходит «от иного» (esse at alio), для того чтобы доказать бытие Бога. А Иероним, автор канонического латинского перевода Библии — «Вульгаты», — писал, что
«Бог есть начало себя и причина своей субстанции»[639].
Однако с наступлением эпохи схоластики диалектические идеи этого сорта встретили мощное противодействие со стороны общей логики, культивировавшей совсем другое представление о бытии и о взаимоотношениях категорий причины и действия. Категория бытия-тождества на несколько столетий вытеснила из философского мышления категорию бытия-акта. В своих, некогда знаменитых, «Метафизических рассуждениях» (1597) doctor eximius (превосходный доктор) поздней схоластики Франсиско Суарес констатировал, что положение:
«Бог заключает в себе причину своего бытия (causam sui esse), посредством чего [его бытие] априори доказывается», —
идет вразрез с общепринятым мнением[640] — с позицией Аквината и томистов, прежде всего. Суарес, со своей стороны, защищал априорное доказательство, апеллируя к авторитету Августина и Иеронима.
Надо полагать, во времена Спинозы выражение «causa sui» успело стать привычным, а то и тривиальным, судя по его словам:
«Если же вещь существует в себе или, как обычно (vulgo) говорят, является причиной себя…»[641]
В упрочении позиций каузальной категории существования имеется немалая заслуга Декарта. Категорию действующей причины (causa efficiens), при помощи которой средневековые философы характеризовали творение Богом отдельных вещей, Декарт применил для объяснения собственного существования Бога. Бог рассматривается им как действующая причина себя или, что то же самое, как нечто, существующее посредством себя (per se). «Бытие посредством себя» здесь явно означает каузальный акт, а не просто «отдельность» существования вещей.
Неортодоксальное употребление категории esse реr se вызвало недоумение у теологов, один из которых, голландец Йохан де Катер (Johan de Kater, лат.: Johannes Catenis), открыто высказал его и предложил Декарту разъяснить смысл этой категории. При этом Катер повторил аргумент Фомы о невозможности понимания бытия Бога как действия на самое себя, поскольку никакая вещь не может предшествовать себе [С 2, 76-8].
Декарт с готовностью и довольно-таки пространно разъясняет смысл своих слов о существовании Бога посредством себя. Прежде всего, пишет он, esse per se ни в коем случае не следует понимать как бытие во времени. К отношению причины и действия тоже не следует прилагать категории времени, так как
«в значение действующей причины не входит условие, чтобы она по времени предшествовала своему следствию; ибо, напротив, она имеет значение причины лишь до тех пор, пока производит следствие, а потому и не может ему предшествовать» [С 2, 88].
Принимая это во внимание, Бог
«с полным основанием может быть назван причиной самого себя (sui causa)», и «нам дозволено считать, что в некотором роде он так же предшествует себе самому, как действующая причина предшествует своему следствию» [С 2, 89–90].
Существование Бога «протекает» вне времени, ему свойственны вечность и абсолютная бесконечность. Это не привычное эмпирическое существование, не отпечатавшееся в чувственном опыте наличное бытие, но — существование логическое, данное в рефлексии чистого интеллекта. К этой форме бытия не могут применяться категории времени и пространства (из-за чего философы-эмпирики относятся к ней с пренебрежением, как к метафизической выдумке). Такое бытие мыслится не иначе, как «под формой вечности».
Вещь, существующую посредством себя, Декарт определяет как субстанцию[642]. Однако это понятие субстанции как обращенного в себя действия уживается у Декарта бок о бок со схоластической концепцией субстанции как «отдельно» существующей вещи. Он специально указывает на двойственное значение этого термина:
«Имя «субстанция» неоднозначно соответствует Богу и его творениям, как на это обычно и указывается в школах; иначе говоря, ни одно из значений этого имени не может отчетливо постигаться как общее для Бога и для его творений» [С 1, 334].
Говоря о Боге, он пользуется каузальной категорией субстанции, а для описания творений Бога (вещей, существующих ab alio) сохраняет схоластическую категорию субстанции[643].
Так, «протяженная» и «сотворенная мыслящая» вещи именуются «субстанциями» только в смысле отдельности и независимости друг от друга. Эта отдельность сказывается в том, что определение протяжения не содержит ни одного признака, входящего в определение мышления. Мышление и протяжение, стало быть, могут ясно восприниматься только по отдельности. Для Декарта это означает, что они существуют отдельно. Спиноза так не считает: хотя мышление и протяжение «мыслятся реально различными» (в этой части он солидарен с Декартом), они, тем не менее, существуют «совместно» (simul), в одной и той же субстанции [Eth1 prЮ sch].
То, что вещи воспринимаются или мыслятся по отдельности, еще не значит, что они существуют отдельно. Это вдвойне справедливо в отношении вещей, существующих в ином, — модусов. Умозаключать от их понятия — к бытию категорически воспрещается. Можно ясно и отчетливо понимать сущность единичной вещи и, однако, не иметь ни малейшего представления о ее существовании. Сущность единичной вещи — предмет рассудка (ratio), тогда как ее существование остается предметом чувственного восприятия. Рассудок дает адекватное знание, чувства — всего лишь смутный образ вещи, они руководствуются разными законами и имеют дело с совершенно разными измерениями, разными «слоями» реальности.
Скептики и сенсуалисты подвергли категорию субстанции убийственной критике:
«Имеющаяся у нас идея, которой мы даем общее имя «субстанция», есть не более чем предполагаемая, но неизвестная подпорка тех качеств, которые мы считаем существующими… Нет ясной и отчетливой идеи субстанции вообще», —
писал современник Спинозы Джон Локк[644].
Еще резче звучит приговор Бертрана Рассела: ««Субстанция» — это, на самом деле, просто удобный способ связывания событий в узлы… Всего лишь воображаемый крюк, на котором, как предполагается, должны висеть явления. В действительности им не нужен крюк, так же как земля не нуждается в слоне, чтобы покоиться на нем… Словом, «субстанция» есть метафизическая ошибка, возникающая из-за перенесения в структуру мира структуры предложения, слагаемого из субъекта и предиката»[645].
Спиноза мог бы с чистой совестью подписаться под этими критическими суждениями: то, что Аристотель именовал oysia, а его последователи — substantia, в действительности не более чем слово, лишенное ясного значения. Эту категорию нельзя применять к явлениям чувственного восприятия, равно как нельзя трактовать отношение субстанции к ее атрибутам и модусам по аналогии с отношением субъекта и предиката в общей логике или отношением подлежащего и сказуемого в грамматике[646].
Со своей стороны, Спиноза отказывает категории субстанции в каком бы то ни было эмпирическом применении. По этой причине критика Локка никоим образом не затрагивает его субстанцию. Спиноза, как и Локк, считал ошибочным прилагать эту категорию к явлениям чувственного опыта (только, в отличие от Локка и его единомышленников, он не считал эти явления единственной реальностью). Его субстанция в принципе недоступна чувственному восприятию и воображению[647], ее может воспринимать только чистый интеллект. Субстанция у Спинозы не просто субъект действия, но вместе с тем и предмет действия и само это действие как таковое, — чисто диалектическое представление, идущее вразрез и с формальной логикой, и с чувственным опытом.
Для «связывания событий в узлы», то есть для упорядочения поставляемых чувственным созерцанием данных о существовании вещей, Спиноза предназначал особые категории рассудка, entia rationis. А «отдельность» мышления и протяжения, то есть их взаимную независимость, он предпочитает выражать при помощи категории атрибута, а не категории субстанции, как Декарт. Признак субстанциальности у Спинозы — не мнимая «отдельность» существования явлений в чувственном восприятии, и даже не реальная «отдельность» атрибутов; им становится единство существования и сущности вещи, или, что то же самое, бытие в качестве причины себя.
Номинальная схожесть спинозовской и схоластической дефиниций субстанции — как вещи, существующей в себе или посредством себя, — не должна вводить в заблуждение. Это разные логические категории, несмотря на то, что внешне они выглядят похожими, как близнецы. Выражение «бытие в себе» скрывает у Спинозы (и его предшественников — Прокла, Августина, Суареса) совершенно иной смысл, нежели у последователей Аристотеля.
Понятие модуса у Спинозы претерпевает еще более заметное превращение. Декарт называл «модусами» все свойства вещи, которые не принадлежат к ее сущности (существенные, то есть неотъемлемые и неизменные, свойства субстанции он именовал «атрибутами»). Модусы привносят в субстанцию разнообразные «оттенки», которые могут меняться, не разрушая субстанцию вещи [С 1, 336]. К примеру, сущность телесной субстанции Декарт усматривает в протяженности в длину, ширину и глубину, а фигуру и движение считает ее модусами. Спиноза же распространяет категорию модуса на все сущее в ином, включая и сущности вещей. В действительности существует только субстанция и ее состояния (модусы), постулирует он. Субстанция представляет собой единую для всего существующего действующую причину, а модусы суть действия этой причины.
Модусы Спинозы не имеют ничего общего с акциденциями схоластиков (хотя номинально дефиниция модуса как «состояния субстанции, или того, что существует в ином и понимается посредством этого иного» [Eth1 df5], мало чем отличается от схоластических определений акциденции). Это признает даже Гарри Вульфсон[648], считающий «Этику» едва ли не компиляцией схоластических сумм. Слово «accidens» (случайное) выглядит явно неуместным, если сущее делится на причину и действие. Действие никак нельзя назвать «случайным», коль скоро оно имеет необходимо существующую причину.
Еще более важное отличие спинозовского модуса от акциденции заключается в том, что модус является выражением сущности субстанции, тогда как акциденция есть нечто несущественное для субстанции (сущность субстанции традиционная логика выражает в категориях рода и видового отличия). Субстанция Спинозы не может существовать без модусов — ибо не бывает причины без действия.
Верно ли это? Кажется, Спиноза утверждает обратное, когда определяет субстанцию как «то, что существует в себе и понимается посредством себя» [Eth1 df3]. Не значит ли это «в себе и посредством себя», что субстанция должна существовать независимо от модусов? Нет, ведь модусы не просто суть нечто «иное» по отношению к субстанции, они — ее собственное инобытие. Без своих модусов субстанция — ничто, бездействующая причина.
Субстанция Спинозы существует в себе не потому, что она обладает «отдельным» (от всех иных вещей) существованием, а потому, что она, в отличие от модусов, содержит в себе все существующее[649]. И всякое действие на себя субстанция совершает не иначе, как через посредство собственных модусов-состояний, вследствие чего
«в том же смысле, в каком Бог называется причиной себя, он должен называться и причиной всех вещей» [Eth1 pr25 sch].
Бытие в себе Бога означает бытие посредством своего иного — модусов, создавая которые, Бог создает не что иное, как самого себя. Выражаясь гегелевским слогом, этот Бог есть конкретное тождество себя и своего иного: в своем инобытии он остается у себя самого.
Слова «existentia» и «substantia» происходят от одного и того же глагола «sto, stare» (стоять). Спиноза пользуется их родством, формулируя свой априорный аргумент в [Eth1 pr7]:
«Ad naturam substantiae pertinet existere».
«Природе субстанции присуще существовать», то есть природе того, что у-стойчиво, присуще вы-ставлять себя, выступать наружу, — так латинский язык передает коррелятивность категорий субстанции и существования.
Доказательство этой теоремы ведется следующим образом: субстанция не может иметь своею причиной какую-либо иную, отличную от нее вещь (это положение доказывается в предшествующей теореме); следовательно, субстанция — причина себя, то есть ее сущность заключает в себе существование. Спиноза даже не находит нужным придать этому «доказательству» формальные признаки умозаключения. Здесь просто постулируется логическое родство категорий субстанции и причины себя, ничего более.
Детальнее суть дела излагается в [Eth1 prl1], гласящей, что «Бог… необходимо существует». К этой теореме прилагаются сразу три доказательства и пространная схолия. Доказательство первое отсылает к [Eth 1 pr7] и имеет чисто формальное значение. Доказательство второе ведется «от противного»:
«Ни в Боге, ни вне Бога нет основания или причины, которая уничтожала бы его существование, и потому Бог необходимо существует».
Третье доказательство — апостериорное: существование вещи есть ее потенция, а потенция конечных вещей не может превышать потенцию абсолютно бесконечного Сущего; следовательно, либо ничего не существует, либо существует и абсолютно бесконечное Сущее. Однако мы, существа конечные, существуем, значит, абсолютно бесконечное Сущее, Бог, тоже существует.
Примечательно, что Спиноза избегает пользоваться в своих доказательствах существования Бога категорией совершенства, которая занимала ключевое положение в априорном аргументе Декарта[650]. По примеру Дунса Скота, Спиноза отдает предпочтение категории бесконечного. В [Eth1 prl 1 sch] он разъясняет, что субстанция именуется «совершеннейшим Сущим» лишь в том смысле, что ее реальность абсолютно бесконечна. Тем самым устраняется слабость декартовской формулировки априорного аргумента, отмеченная в Возражениях Гассенди.
Другое возражение, знакомое еще Ансельму, состоит в том, что нельзя умозаключать от понятия к бытию предмета этого понятия: хотя мы можем помыслить совершеннейший остров — «остров, больше которого нельзя помыслить», — это не значит, что он в действительности существует, заметил Ансельму один его оппонент. Однако совершенство острова, равно как всякой иной конечной вещи, относительно: остров может считаться более или менее совершенным лишь в сравнении с каким-нибудь другим островом. А Бог мыслится как абсолютно совершенная реальность, — примерно таков был смысл ответа, данного Ансельмом.
Из этого рассуждения видно, что он понимал Бога как вещь, несопоставимую с другими вещами. Впоследствии Спиноза выразит ту же самую мысль одной лаконичной формулой:
«Бог, как в отношении сущности, так и в отношении существования, совершенно отличен от других вещей» [РРС1 pr5 dm].
В чем же заключается это отличие? Выражение «то, больше чего нельзя помыслить» (Ансельм), и категория совершенства слишком неопределенны для того, чтобы точно передать абсолютную несоизмеримость Бога с прочими вещами. Категория бесконечного подходит для этого намного лучше.
Спиноза полагает, что доказать существование «абсолютно бесконечного сущего» (ens absolute infinitum) позволяет простой логический анализ категории бесконечного, чистая интеллектуальная рефлексия, не обращающаяся к чувственным образам вещей или иным данным опыта.
«Мы нуждаемся в опыте лишь в отношении того, что не можем вывести из определения вещи, как, например, существование Модусов, ибо это [последнее] не может быть выведено из определения вещи. Но не [нуждаемся в опыте] в отношении тех [вещей], чье существование не отличается от их сущности и вследствие этого выводится из их определения. Мало того, никакой опыт никогда не сможет научить нас этому…» [Ер 10].
Возможно ли, в самом деле, вывести существование Бога априори, из одного лишь его определения как «абсолютно бесконечного сущего»? Спиноза уверен, что да. Мыслить абсолютно бесконечное — значит мыслить нечто, стоящее вне времени и пространства, нечто, никогда не начинающее и никогда не прекращающее быть. Бытие непосредственно входит в понятие абсолютно бесконечного Сущего, точнее, это понятие оказывается одной из форм его бесконечного бытия.
Бытие в пространстве-времени, описываемое категорией длительности (duratio), и бытие вне времени и пространства, вечное и бесконечное, суть совершенно разные измерения реальности. Со своей стороны, противники априорного аргумента признают только первый род бытия, а вечность и бесконечность считают всего лишь метафизическими абстракциями. По их мнению, бытие Бога в принципе не отличается от бытия конечных вещей — воображаемого острова, или льва (в Возражениях Катера), или крылатого коня (в Возражениях Гассенди), или ста талеров (у Канта).
Кант ставит перед защитниками априорного аргумента законный вопрос: является суждение «данная вещь существует» аналитическим или синтетическим?
«Если оно аналитическое, то утверждением о существовании вещи вы ничего не прибавляете к вашей мысли о вещи» и получаете в итоге «лишь жалкую тавтологию». Остается признать, «как и должен это признавать каждый разумный человек, что все суждения о существовании синтетические»[651].
Рассчитывая вывести идею существования Бога из его рефлективного определения как абсолютно бесконечного сущего и отказываясь апеллировать к чувственному опыту, Спиноза, тем самым, дает понять, что положение «Бог существует» — чисто аналитическое. Иначе говоря, оно ровным счетом ничего не прибавляет к понятию Бога, а лишь некоторым образом разъясняет содержание этого понятия.
С формальной стороны, это доказательство и впрямь является простой тавтологией, чего, между прочим, и не скрывали ни Декарт, ни Спиноза. Оба они недвусмысленно заявляли, что Бог не является чем-то отличным от своего бытия.
«Бог есть необходимое существование как таковое», — писал Декарт [С 2, 298]. «Existentia Dei est Deus ipse», — «Существование Бога есть самый Бог», — вторит ему Спиноза [СМ 2 ср1].
Если так, суждение «Бог существует» не что иное, как тавтология.
Бытие — не предикат Бога, а субъект, предикатами которого являются абсолютная бесконечность, вечность, свобода и пр. Априорный аргумент, строго говоря, не доказывает бытие Бога, а просто раскрывает понятие Бога как тождественное с понятием абсолютно бесконечного бытия[652]. Этот аргумент опирается на чистую рефлексию интеллекта в себя и с формальной стороны, как всякое отношение вещи к себе, может выглядеть либо тавтологией, либо логическим противоречием. Однако, возможно, в данном случае средства формальной логики недостаточны для того, чтобы разобраться в существе дела?
Канту они скорее мешают сделать это: чем еще можно объяснить, что существование Бога приравнивается у него к существованию «ста талеров»? Талеры, как впоследствии заметил Маркс, по своей природе не могут существовать нигде за пределами общего представления (не говоря уже о том, что сто талеров — нечто во всех отношениях конечное). В сравнении с этим даже наивная параллель между Богом и островом выглядит более предпочтительной, ибо остров, в отличие от талеров, по крайней мере может существовать независимо от человеческого духа.
Дело в последнем счете упирается в следующую проблему: может ли применяться к понятию абсолютно бесконечной вещи та же самая категория существования, посредством которой мы мыслим конечные вещи, или же бытие вещи абсолютно бесконечной кардинально отличается от бытия конечных вещей? Действительно ли «все суждения о существовании синтетические», как полагает Кант, либо одно (и только одно!) такое суждение — касающееся «вещи абсолютно бесконечной» — все же является аналитическим, как думали Декарт и Спиноза? Они, ничуть не смущаясь, пренебрегли советами общей логики. Логика, которая не делает различия между бытием вещи абсолютно бесконечной и бытием вещей конечных, не слишком многого стоит в качестве метода теоретического мышления[653].
Логический смысл априорного доказательства существования Бога заключается в том, что оно проводит отчетливую грань между существованием конечных вещей и существованием абсолютно бесконечной субстанции. Принимаем мы эту дистинкцию в качестве аксиоматической или отвергаем ее, вряд ли справедливо видеть в априорном доказательстве «лишь жалкую тавтологию» и ничего больше.
Essentia — причастная форма глагола esse (быть); однако essentia означает не просто бытие, но источник бытия, то, благодаря чему вещь существует, откуда она получает свое бытие. В том случае, когда вещь получает существование от себя, категории сущности и существования оказываются непосредственно тождественными:
«Существование Бога и его сущность суть одно и то же» [Eth1 pr20][654].
Внешне эта теорема напоминает привычные со времен Северина Боэция формулы христианских теологов. В частности, в «Сумме теологии» Фомы Аквинского говорится:
«так как в Боге нет ничего потенциального…, в нем нет иной сущности, нежели его бытие. Следовательно, его сущность (essentia) есть его бытие (esse)»[655].
Меж тем за внешним сходством этих высказываний Фомы и Спинозы скрывается абсолютно разное понимание категорий сущности и существования.
«Быть (esse), — развивает далее свою мысль Фома, — может означать одно из двух. Это может означать акт бытия или связующее начало предложения, применяемое духом для соединения предиката с субъектом. Взяв бытие (esse) в его первом значении, мы не можем понять бытие Бога, то есть его сущность; но [это возможно] только во втором значении»[656].
Вынужденный выбирать между авторитетом Философа (средневековое прозвище Аристотеля), который говорит: «Бытие ни для чего не есть сущность»[657], — и аксиомой христианского вероучения, которую сформулировал еще Блаженный Августин: Бог есть бытие, — Фома лавирует. Он признает, что сущность Бога тождественна с актом его бытия, однако прибавляет, что человеческий ум не в состоянии понять это бытие-акт.
Что же мешает нам понять бытие Бога в качестве акта, то есть определенного действия, происходящего в сущности Бога? Понять акт значит понять его причину, рассуждает Фома. Но что может быть причиной акта бытия Божия? Бог — не может, просто потому, что Бог не есть нечто отличное от акта своего бытия. И вне Бога такой причины нет, ибо Бог, по определению, является абсолютно первой причиной сущего. Следовательно, бытие-акт превосходит человеческое разумение, заключает Фома, и мы знаем о существовании Бога лишь на основании знания о сотворенных им вещах.
«Мы можем доказать истинность положения «Бог есть», но в этом единственном случае мы не можем знать смысл глагола «есть»»[658].
Принятие категории бытия-акта заставляет пересмотреть традиционное представление о причинности, что и было сделано Декартом и поздними схоластиками, которые ввели в обращение категорию causa sui. Фома, руководствовавшийся перипатетическими традициями в логике, счел ее «невозможной»:
«Однако неизвестно, да и невозможно, чтобы нечто было действующей причиной себя самого (causa efficiens seiipsius), так как оно оказалось бы первее себя самого, что невозможно»[659].
Категория причины себя нарушает формальный закон тождества: вещь А рассматривается как отличная от себя самой, как не-А, причем она оказывается «первее себя»[660]. Категории причины и следствия по отношению к этой вещи тождественны. Спинозу логическая противоречивость категории causa sui нимало не смущает. Он кладет ее в основание своего учения о Боге, помещая на первое место в списке дефиниций «Этики» и пользуясь ею для построения априорного аргумента в [Eth1 pr7]. Бытие-сущность Бога для Спинозы — это бесконечный акт, в котором Бог является и причиной и следствием, и тем, что действует, и предметом своего действия, и — самим этим действием как таковым.
Для обозначения истинного, действительного существования вещей, в отличие от их временного существования, Спиноза, как правило, пользовался выражением «actu existere». Слово «actu» происходит от «agere» (действовать), благодаря чему превосходно передает отличительную особенность спинозовского понимания существования — как каузального акта, а не просто логической связки или предиката. Актуальное существование есть действие[661], обусловленное природой самой действующей вещи.
«Не существует ничего, из природы чего не следовало бы какое-нибудь действие» [Eth1 pr3б].
Всякая вещь существует лишь в той мере, в какой она действует на все прочие вещи и, в конечном итоге, на себя. Прекращение деятельности равнозначно утрате «актуального» существования, хотя бы вещь по-прежнему продолжала пассивно пребывать в пространстве-времени.
С категорией актуального существования, бытия-действия, ближайшим образом связаны даваемые Спинозой доказательства существования тел и связи человеческого духа и тела.
«Мы чувствуем, что некое тело подвергается многообразным действиям (affici)» [Eth2 ах4].
Это аксиома: в духе существуют идеи о состояниях (affectiones) тела[662]. Значит, должна существовать действующая причина этих состояний и такой причиной может быть только тело (сам дух ею быть не может, так как не обладает никакими свойствами тела).
«Следовательно, объект идеи, образующей человеческий Дух, есть Тело, притом актуально существующее (actu existens)» [Eth2 pr13 dm].
Быть может, продолжает Спиноза, в духе существует еще какой-нибудь объект, кроме тела? В таком случае «в нашем Духе с необходимостью должна была быть дана идея о каком-либо его действии (effectus)». Однако такой идеи у нас нет. Нет действия — значит нет и бытия.
Ago, ergo sum, — я действую, следовательно, я существую, — так могла бы звучать первая аксиома спинозовской философии духа. Это превосходно показал в свое время английский философ-спинозист Хэролд Фостер Хэллетт. ««Быть» значит «действовать»»[663], — вот кровеносная артерия спинозовской философии.
Пол Винпал обратил внимание на характерную грамматическую особенность латинских текстов Спинозы, которая делает его понимание бытия, как формы действования, еще более рельефным.
«Схоластики и Декарт… использовали глагол «быть» (sum, esse) как связку чаще, чем как активный глагол. Когда они хотели выразить активность бытия, они предпочитали применять неклассический глагол «существовать» (exsto, или ex(s)isto, existere)… [Спиноза] никогда бы не использовал «быть» как связку, но только как активный глагол»[664].
Винпал предлагает переводить спинозовский глагол «esse» не связкой «is» (есть), как это делается обычно, а буквально — с помощью активных форм глагола «to be» (быть), в частности «being» (глагол в длительной форме, причастие и существительное в одном лице).
Упомяну еще об одной грамматической детали: выражение «actu existere» встречается у Спинозы сплошь и рядом, в то время как выражение «passive existere» (существовать пассивно) не встречается вовсе. Вместо этого он пишет: «nos pati» — мы пассивны [Eth3 df2], или «Mens patitur» — Дух пассивен [Eth3 prl]. Он не считает возможным связывать вместе категории существования и пассивности. Passio[665], то есть пассивное состояние, отсутствие деятельности, для Спинозы равнозначно небытию. Это всего лишь призрак конечного бытия, его имагинативная тень, а не действительное (актуальное) существование вещи «в Боге». Человек, как всякая конечная вещь, активен только отчасти, и лишь в той мере, в какой человек активен, он существует. Поскольку же его активность конечна, то есть ограничивается активностью внешних вещей, постольку он остается пассивным и его удел — небытие.
А спинозовский Бог, в отличие от человека, не просто некое существо, которое действует; Бог сам и есть это действие, свой собственный акт бытия[666]. Бытие вообще тождественно активности.
Дух воспринимает бытие вещей двояким образом: в интеллекте вещь понимается как необходимый элемент вечного и бесконечного порядка бытия Природы (Natura naturata); посредством воображения вещь созерцается как нечто сущее «здесь-и-теперь», в ее временном существовании. Двойственному бытию вещей отвечают две разные логические категории. Одна — existentia — легла в основание «совершеннейшего метода» Спинозы, другая — Seyn, Sein — в основание «науки логики» Гегеля.
Прежде всего важно понять, чем эти философы руководствовались, определяя последовательность выведения категорий. Спиноза полагал, что последовательность логических категорий должна передавать общий порядок Природы. А логика Гегеля откровенно равняется на исторический порядок действий человеческого мышления (вследствие чего науку логики предваряет «феноменологическое» исследование истории духа). К исходной категории оба эти мыслителя предъявляли особые требования, так как отчетливо понимали, что выбор категории-основания предопределяет характер всех последующих теоретических построений.
1. Existentia (esse) Спинозы — категория рефлективная. Она возникает в результате рефлексии интеллекта в себя, причем Спиноза внимательно следит за чистотой рефлексии, предпочитая доказывать существование Бога априори, не обращаясь за поддержкой к чувственному опыту.
Seyn, напротив, представляет собой чистую форму чувственного созерцания. Seyn «есть только само это чистое, пустое созерцание»[667]. В истории духа чувственные образы бытия — мифология и искусство — возникли раньше, чем рефлективные понятия философии, математики, механики. Гегель посчитал это веским аргументом в пользу того, что категории чувственного созерцания предшествуют в логике рефлективным категориям «учения о сущности».
Спиноза, вероятно, ответил бы ему, что интеллекту не стоит слишком доверяться свидетельствам временного существования (duratio) вещей, так как о последнем «мы можем иметь только весьма неадекватное познание» [Eth2 pr31]. Кроме того, порядок эмпирической истории предмета есть нечто иное, нежели порядок логический. История нередко бывает нелогичной, поскольку зависит от множества внешних причин или случайных обстоятельств.
К тому же без рефлективных категорий Гегель, как логик, ровным счетом ничего не мог бы сказать о категориях чувственного созерцания: разве, определяя чистое бытие как нечто абстрактное и себе тождественное, говоря о противоположности чистого бытия и ничто и их единстве в понятии становления, Г егель не пользуется категориями, которые им пока что еще не выведены? Категории абстрактного тождества, противоположности и единства противоположного он именует «чистыми рефлективными определениями» и рассматривает в книге второй «Науки логики» — в «Учении о сущности». А так как рефлективные категории входят в состав определений категорий чувственного созерцания, не логичнее ли выводить последние из первых, как поступает Спиноза и вслед за ним Фихте?
2. У Спинозы категория existentia выражает сущность Бога и вместе с тем его отличие от прочих вещей, у которых сущность не заключает в себе существования. Гегелевское Seyn выражает… чистое ничто.
«Бытие, неопределенное непосредственное, есть наделе ничто и не более и не менее, как ничто»[668].
Предметный мир мертв. В категории Seyn стерты все конкретные различия между вещами, даже разница между бесконечным и конечным, Богом и ста талерами.
«Начало Природы… нельзя понять посредством абстракции или универсалии (abstracte sive universaliter), оно есть все бытие (esse) и то, помимо чего нет никакого бытия», —
со своей стороны предупреждает Спиноза [TIE, 24]. Бытие Природы настолько отличается от бытия ее модусов, что просто невозможно создать абстракцию или универсалию, которая охватывала бы то и другое вместе. Бытие, «заключенное в сущности», присуще одному только Богу и, следовательно, схватывает сущность «вот этого», конкретного предмета, тогда как чистое бытие, которое приписывается всем вещам без различия, является законченной абстракцией.
Спиноза настаивает на том, что существование не следует мыслить в форме абстрактной всеобщности:
«Итак, чем более обще (generalius) мыслится существование, тем более смутно оно мыслится и тем легче его можно приписать какой угодно вещи; и напротив, чем конкретнее (particularius)[669] мыслится [существование], тем оно понимается яснее…» [TIE, 16].
Борис Кузнецов провел остроумную параллель между гегелевским бытием-ничто и «абсолютным пространством» Ньютона[670]. Две эти абстракции действительно имеют общую природу — являются чистыми формами созерцания, отвлеченными от созерцаемого предмета и безразличными к его конкретной определенности. А бытие спинозовской субстанции в логическом отношении схоже с пространственно-временным континуумом релятивистской физики: обе эти категории описывают предмет, обладающий конкретными атрибутами — протяжением и мышлением, в первом случае, и определенной кривизной, зависящей от распределения масс, энергий и импульсов, во втором. Все единичные вещи могут быть представлены как модусы, то есть состояния или формы бытия и действия этих универсальных атрибутов.
3. Исходная категория логики обязана совпадать с той, которая появилась первой в реальной истории логического мышления, учит Гегель.
«Это начало мы находим в элеатской философии, главным образом у Парменида, который понимает абсолютное как бытие…»[671]
С открытия элеатами категории чистого бытия (которому противостоит столь же чистое ничто) Гегель ведет свой отсчет истории логики. Он не обратил внимания либо не пожелал учесть, что Парменид излагал свое понимание бытия в полемике с теми,
«у кого «быть» и «не быть» считаются одним и тем же и не одним и тем же и для всего имеется попятный [=«противоположный»] путь»[672].
По всей вероятности, автор поэмы имел в виду Гераклита или его последователей. Эти «смертные о двух головах» — так Парменид именует философов-диалектиков, — не в состоянии уразуметь простую истину: что бытие есть, а небытия нет. Данный фрагмент не оставляет сомнений в том, что Парменид не был первооткрывателем категории бытия. Диалектическое учение о бытии ко времени написания Парменидом своей поэмы уже существовало и было ему хорошо известно.
Гераклит проводит ясное различие между вечным бытием Логоса и квази-бытием становящихся вещей, которое граничит с небытием, с ничто[673]. Логос у Г ераклита обладает теми же самыми чертами, которыми в поэме Парменида наделяется «истинное сущее» (в отличие от «сущего по мнению» — мнимого бытия). Логос тоже остается неизменным, единым и единственным, бесконечным и совершенным, он существует вне времени и пространства. Однако в мире единичных вещей Логос проявляет себя не в устранении всякого различия между вещами (как в метафизике Парменида: hen ta panta — «все едино»), а, напротив, в заострении этого различия до прямой противоположности и противоречия.
Согласно современным представлениям, Гераклит был заметно старше Парменида и жил примерно в одно время с основателем элейской школы Ксенофаном[674]. Стоит прибавить, что большинство современных историков философии отрицают преемственность учений Ксенофана и Парменида и, что в нашем случае особенно существенно, оспаривают наличие у Ксенофана категории чистого бытия. Учитывая все эти обстоятельства, права категории чистого бытия на историческое первенство выглядят довольно призрачными.
Разглядеть настоящее положение вещей Гегелю мешает известная предвзятость: в истории логики он видит зеркальное отражение своей собственной логической системы, покоящейся на категории чистого бытия. Этим в какой-то мере объясняется то странное, на первый взгляд, обстоятельство, что немецкий гроссмейстер диалектики отдает историческое первенство в логике не своему единомышленнику Гераклиту, а враждебным духу диалектики элеатам, пренебрегая и личными симпатиями, и хронологией, и этимологией — а ведь самое имя науки логики происходит ведь от слова «Логос»! И та же самая предвзятость накладывает свой отпечаток на гегелевскую интерпретацию философии Спинозы[675].
[4] Мы сталкиваемся с разными методами выведения логических категорий: с восхождением от абстрактного к конкретному и синтетическим снятием (Aufhebung) абстрактного в конкретном — в «Науке логики»; а в «Этике» — с рефлективным, аналитическим усовершенствованием (emendatio) идеи конкретного, которая дана с самого начала — уже в исходных дефинициях.
Логика Гегеля демонстрирует, как ее предмет, абсолютная идея, конструирует самое себя с нуля. В логике Спинозы предмет — идея Бога — предполагается данным априори и только проясняется в акте философской рефлексии. Идея Бога «очищается» и обогащается новыми, более конкретными определениями, давая начало множеству новых категорий и втягивая в себя все новые «ручейки» почерпнутых в чувственном опыте «историй» вещей, как о том повествуется в [ТТР 7].
Порядок мышления в обоих случаях выглядит, вроде бы, одинаково: мысль движется от всеобщего к особенному и единичному. Однако Гегель начинает с абстрактного всеобщего, с категорий, охватывающих все сущее разом; а Спиноза — с всеобщих определений конкретного предмета, Бога.
Спиноза первым делом определяет, и далее ни на секунду не упускает из виду, субстанцию, понятую как то конкретное целое, внутри которого действуют, каждая по-своему, все до единой частные вещи. Впоследствии и Маркс, в полном согласии со Спинозой, скажет, что конкретное целое, как «реальный субъект», должно «постоянно витать в нашем представлении как предпосылка»[676]. Этого как раз нет у Гегеля, утверждает Маркс. По его словам, Гегель «впал в иллюзию», понимая конкретное как результат деятельности мышления. Конкретное вовсе не синтезируется из чистых абстракций, а лишь мысленно усваивается с помощью абстракций.
И Спиноза в этом плане на все сто прав против Гегеля. Как блестяще показал в свое время Ильенков, в логике Спинозы
«целое предполагается данным, а все исследование ведется как анализ… Именно идея такого анализа, — исходящего из ясного представления о целом, и идущего последовательно по цепочке причинности, которая и воспроизводит это целое уже как результат анализа, — и заключена в логически-концентрированном виде в категории субстанции, как «causa sui», — как причины самой себя… Идея «субстанции», — то есть основная идея спинозизма, — идея детерминации частей со стороны целого, или, в другой терминологии — первенства конкретного (как «единства во многообразии») как исходной категории Логики»[677].
Не могу понять лишь одно: отчего Ильенков числил Гегеля среди единомышленников Спинозы в вопросе о начале Логики как науки? У Гегеля-то ни о каком «первенстве конкретного» и речи нет — там абстракьщя всему голова: «Seyn, reines Seyn, — ohne alie weitere Bestimmung» (бытие, чистое бытие, — без всякого дальнейшего определения)[678].
Что бы там ни говорил Гегель, его Seyn и existentia (esse) Спинозы — далеко не одно и то же. Ближайший аналог спинозовской категории existentia появляется у Гегеля в «Учении о сущности» подтем же фамильным именем: «Existenz» (существование). Это уже не абстрактное бытие, неразличимое с ничто. Определяя Existenz как «бытие, возникающее из сущности» (das Seyn, das aus dem Wesen hervorgeht)[679], Гегель фактически повторяет слова Спинозы о бытии, «заключенном в сущности» Бога.
С другой стороны, Спинозе хорошо знакома категория абстрактного бытия, прообраз гегелевского Seyn, — под латинским именем Ens (Сущее). В [Eth2 pr40] он рассуждает о «трансцендентальных терминах», первым среди которых упоминается Ens. Это — «предельно смутная идея», возникшая в результате абстракции от всех различий между чувственными образами вещей. Ровно то же самое говорится о происхождении категории Seyn в «Науке логики».
Неограниченная, предельная всеобщность категории Ens позволяет применять ее к чему угодно: к реальным вещам, к абстракциям рассудка, к явлениям чувственного восприятия и даже к химерам речи. Поэтому, пользуясь этой категорией, Спиноза всегда непременно уточняет ее смысл с помощью какого-нибудь конкретного прилагательного: Ens reale (реальное Сущее), Ens perfectissimum (совершеннейшее Сущее), ens absolute infinitum (абсолютно бесконечное сущее), Ens fictum (вымышленное Сущее), Ens rationis (рассудочное Сущее), Ens verbale (словесное Сущее), и т. д.
Вообще, у Спинозы, как показала Варвара Половцова[680], термины могут получать разное значение в зависимости от того, к какой области мышления относятся обозначаемые ими идеи— к интеллекту либо воображению[681], к философии либо религии, к естественному либо гражданскому праву.
Противоположностью Ens, равно как и Seyn, является категория Ничто (Nihil). У Гегеля, по всей видимости, имелись предшественники из числа средневековых метафизиков, которые, по словам Спинозы,
«не без большого ущерба для истины искали середины (medium) между Сущим и Ничто. Однако я не стану задерживаться на опровержении их заблуждений, так как они, пытаясь дать определения таких [срединных] состояний, сами совершенно теряются в своих пустых тонкостях» [СМ 1 ср3].
Противостояние чистого бытия и ничто образует координатную ось гегелевской логики. Всякая следующая логическая категория — от категории становления до абсолютной идеи — выступает в качестве своеобразного посредника, или «медиума», соединяющего бытие и ничто. В итоге непосредственное тождество бытия и ничто превращается в тождество конкретное, вобравшее в себя десятки всевозможных мыслительных форм.
Истинное бытие в логике Спинозы противостоит самому себе, то есть бытию же (вернее, своему собственному инобытию), а не ничто. Абсциссу и ординату его логики образуют не бытие и ничто, а бытие в себе (in se esse) и бытие в ином (in alio esse). Не случайно эта дистинкция формулируется им уже в первой аксиоме «Этики».
Понятие причины себя возникло несравненно раньше того времени, когда была написана «Этика». Философы неоплатонических школ оперировали им уже довольно свободно. К примеру, в «Первоосновах теологии» Прокла мы читаем:
«§ 40. Всему эманирующему из другой причины предшествует то, что получает свое существование само от себя и обладает самобытной сущностью. В самом деле, все самодовлеющее превосходит или по сущности, или по энергии то, что зависит от другой причины. Ведь производящее само себя, будучи способным производить свое бытие, самодовлеюще в отношении сущности.
§ 41. […] Могущее пребывать и быть водруженным в самом себе способно само себя производить, само в себя эманируя, само себя поддерживая и находясь, таким образом, в самом себе, как вызванное причиной — в причине».
Однако прежде никто из философов не придавал понятию causa sui столь большого значения, как Спиноза, никто другой не усмотрел в нем «основное понятие (ein Grundbegriff) во всем спекулятивном» (Гегель).
Декарт, заявляя, что Бог — действующая причина самого себя, оставляет ему трансцендентное бытие по ту сторону единичных вещей (во всяком случае, по ту сторону материальной природы). Отношение Бога к себе и его отношение к другим вещам у Декарта суть два разных отношения. Иначе говоря, создавая вещи, Декартов Бог не создает тем самым себя, а создавая себя — не полагает этим свое иное. Понятие causa sui не получает у Декарта диалектического завершения: причина существует отдельно от своего действия и каузальное отношение не замыкается на самое себя, как это бывает в органическом целом.
Иначе обстоит дело у Спинозы. В его понятии causa sui отношение к себе и отношение к своему иному становятся моментами одного и того же каузального акта:
«В том же смысле, в каком Бог называется причиной себя, он должен называться и причиной всех вещей» [Eth1 pr25 sch].
Противоположность Natura naturans и naturata, причины и действия, тем самым снимается и стягивается в единство.
В определении Бога как причины себя речь идет о его взаимодействии с собой. А в категории взаимодействия соединяются вместе две пары категорий — причины и действия, субстанции и модуса (впоследствии это обстоятельство отразит в своей таблице категорий Кант, с той разницей, что вместо «модуса» у него фигурирует классический термин «акциденция»). Выражение «причина себя» кажется не слишком удачной формулой взаимодействия, в том смысле, что три остальных слагаемых категории взаимодействия оказываются в тени категории причины. В логике Спинозы, однако, категория причины занимает действительно ключевое место, поскольку главной отличительной чертой интеллекта он считал познание ближайшей причины вещи.
«Надлежит заметить, что для каждой существующей вещи необходимо дана какая-либо определенная причина, по которой она существует» [Eth1 pr8 sch2], —
постулирует Спиноза.
Он почему-то не поместил это важнейшее положение среди аксиом, несмотря на то, что высказал его без всякого доказательства, считая его, должно быть, чем-то неоспоримым. В нем утверждается, что у всех вещей имеется причина для существования, нечто, чему они обязаны тем, что существуют. Что же есть в этом каузальном постулате такого, что ставит его вне всякого доказательства?
Немногим позже Юм предположил, что основанием этого постулата является всего лишь некая «привычка», приписывающая необходимую связь явлениям чувственного опыта, обыкновенно следующим одно за другим и «смежным» в пространстве. Откуда же могла взяться эта привычка? Из опыта? Без категории причины опыт представлял бы собой не более чем беспорядочный поток ощущений, в котором невозможно почерпнуть не то что какую-либо привычку, а даже простейшее суждение о чем бы то ни было. Категории вообще не проистекают из опыта, напротив, они являются условиями возможности опыта, поскольку опытом считается знание о вещах, а не простое чередование явлений в чувственном созерцании.
Спиноза, вероятно, согласился бы с Кантом в том, что положения: «всякая вещь имеет причину для своего существования» и «все вещи связаны отношениями взаимодействия», — не имеют основания ни в чувственном опыте, ни в каких-либо истинах более высокого порядка. Они сами образуют основание практически всех действий теоретического мышления. Спиноза счел это достаточным аргументом в пользу принятия данных положений в ряды «вечных истин».
Схоластики, следуя Аристотелю, различали четыре вида причин: формальную, материальную, действующую и целевую. Не признавая аристотелевское деление природы на материю и форму-эйдос, Спиноза, естественно, не нуждается и в категориях материальной и формальной причины. Тем не менее, мы неожиданно встречаемся с категорией формальной причины в самом конце «Этики», где дух именуется формальной причиной интуитивного знания [Eth5 pr31]. Эта терминологическая аномалия проясняется в доказательстве теоремы: речь вдет о причине адекватной, или формальной145. В дефиниции же адекватной причины [Eth3 dfl] говорится о ее действии (effectus) — надо полагать, это та разновидность действующей причины (causa efficiens), которую Спиноза ставит на место формальных причин схоластиков.
Все настоящие причины вещей—действующие, считает Спиноза. Причем действуют они иначе, нежели это представлялось схоластикам. У последних действующая причина дает вещи только существование, сущность же вещи образует ее формальная причина. Спиноза распространяет понятие действующей причины и на существование вещей, и на их сущность:
«Бог является действующей причиной не только существования вещей, но и сущности тоже» [Eth1 pr25].
Тем самым Бог является действующей причиной себя, поскольку, согласно схолии той же теоремы, причиной себя и причиной всех вещей он именуется в одном и том же смысле.
Когда Декарт впервые заявил, что Бог «некоторым образом является действующей причиной себя», философам, воспитанным [682] в духе общей логики, это показалось «безусловно грубым и неправильным» [С 2, 164]. Эти слова адресовал ему Антуан Арно, доктор богословия в Сорбонне. Декарт ценил Возражения Арно выше всех остальных и позаботился дать ему самые обстоятельные ответы.
В частности, Декарт заметил, что, так как сущность и существование Бога не различаются, его формальная причина «совершенно аналогична» действующей. Отношение причины формальной к действующей причине Бога Декарт сравнивает с отношением сферы к вписанной в нее прямолинейной фигуре с бесконечным числом граней, которое рассматривается у Архимеда: строго говоря, никакого «отношения» тут нет, а есть просто два разных описания одного и того же предмета.
Категория действующей причины у Спинозы показывает основание, из которого происходит та или иная вещь[683]. Только посредством этой логической формы может мыслиться генезис всего сущего. Генезис вещи согласно понятию действующей причины не следует смешивать с ее эмпирической историей, то есть с описанием обстоятельств ее возникновения и различных форм ее существования. Действующая причина объясняет, почему вещь существует так, а не иначе, тогда как эмпирическая история, в лучшем случае, показывает просто, что происходит с вещью.
Что касается категории целевой причины (causa finalis), эта тема заслуживает отдельного исследования. С самого начала Нового времени целевые причины старательно удалялись из естествознания. Фрэнсис Бэкон передает исследование целевых причин в ведение метафизики[684], Лейбниц ограничивает действие таких причин сферой духа[685].
Спиноза действует последовательнее и решительнее всех: он вообще отрицает существование целевых причин:
«Природа не ставит себе никаких целей, и все целевые причины суть только человеческие вымыслы… Указанное учение о цели полностью переворачивает [порядок] Природы. То, что на самом деле является причиной, оно рассматривает как действие, и наоборот» [Eth 1 ар].
Понятие целевой причины не согласуется ни с опытом, ни с разумом, и показывает не природу какой-либо вещи, а только «состояние воображения», заключает Спиноза.
Его аргументы заметно контрастируют с декартовскими. Отвечая на замечание Гассенди, Декарт писал, что конечный интеллект человека не в состоянии постичь замыслы Бога — «все его цели одинаково скрыты в неизъяснимой бездне его премудрости» [С 2, 292]. Другими словами, Декарт не отрицал существование «конечных целей, поставленных Богом или природой при созидании естественных вещей» [С 1, 325], а просто считал, что человек не может иметь о них достоверного знания.
Спиноза отклоняет и эти осторожные оговорки, заявив, что целевые причины существуют только в человеческом воображении, а не в вещах как таковых. Он намеревается стереть всякие следы дуализма действующих и целевых причин, материального и духовного миров, физики и метафизики.
Кажется, что [Eth1 ар] доводит до последнего, абсолютного предела механическое понимание мира, распространяя категорию действующей причины на бытие мыслящего духа и мир идей, так что ни о какой телеологии не может больше идти и речи. Спинозе нередко приписывали «механическое миросозерцание» — на том основании, что «из понятия субстанции он исключил всякую деятельность по целям» (Александр Введенский)[686]. Однако, я полагаю, стоит взглянуть надело иначе, приняв во внимание дистинк-цию относительной (внешней) и внутренней целесообразности, которая формулируется в «Критике способности суждения».
Относительная целесообразность есть «пригодность одной вещи для другой»[687], а целесообразность внутренняя есть бытие вещи ради себя, ее существование как органического целого, или как «индивидуума», если держаться терминологии «Этики». Эта последняя форма г^лгсообразности есть поэтому не что иное, как целесообразность—детерминация вещью, как целым, отдельных своих частей либо состояний, модусов.
«Именно Спиноза раскрыл тайну целесообразности как простой факт цело-сообразности, — как факт обусловленности частей со стороны целого», —
писал Ильенков[688].
Таким образом, отвергая объяснение вещей посредством целевых причин, Спиноза отнюдь не устранял саму идею целесообразности. Causa finalis далеко не единственная категория, позволяющая мыслить целесообразное. Категория causa sui тоже по-своему выражает целесообразность, притом именно всеобщую, объективную и внутреннюю целесообразность бытия.
Кант, впрочем, считал, что эта «непреднамеренная целесообразность», лишающая природу всякой случайности и всякой интенции рассудка, есть не что иное, как «слепая необходимость». Кроме того, понятие цели лишается всякого смысла, когда мы распространяем его на все сущее разом.
«Это просто детская игра словами вместо понятий. В самом деле, если бы все вещи надо было мыслить как цели, следовательно, быть вещью и быть целью было бы одно и то же, то в сущности не было бы ничего, что следовало бы представлять особо как цель»[689].
Да, Спиноза удаляет из натуральной философии антропоморфные представления о «преднамеренных» и произвольных целях, вместе с категориями финальной причины и чистой случайности. Но разве отсюда следует, что Природа, эта мыслящая субстанция, действует вслепую? Всякому действию Природы в бесконечном интеллекте отвечает конкретная идея, которая, в свою очередь, является предметом особой рефлективной идеи. Природа с необходимостью мыслит себя и адекватно сознает всякое свое действие. Назвать эту необходимость «слепой» — в высшей мере несправедливо. И разве произвольная цель, идущая вразрез с пониманием необходимых законов Природы, может считаться действительной целью? Где же тут «понятия», а где «детская игра словами»?
Верно, что Спиноза мыслит все вещи как цели в самих себе, поскольку считает, что всякая вещь стремится сохранять свое бытие. В этом смысле категория цели является столь же всеобщей, как категория причины или категория бытия. Но неужто всеобщий характер этих логических форм превращает их в пустые слова? Может, просто способы целесообразного действования бывают разными?.. Давайте последим за дальнейшим развитием событий в «Этике».
Конкретнее всеобщая целесообразность Природы, как causa sui, раскрывается у Спинозы в понятии стремления к сохранению себя.
«Всякая вещь, поскольку она существует в себе (in se), стремится сохранять свое бытие» [Eth3 prб]. И это «стремление (conatus) вещи сохранять свое бытие (in suo esse perseverare) есть не что иное, как сама актуальная сущность вещи» [Eth3 pr7].
Любое стремление предполагает наличие некой цели, к которой вещь стремится. Уже простого наличия такого понятия, как conatus, достаточно, чтобы усомниться в соответствии учения Спинозы рациональным канонам классической механики.
Ньютон, формулируя первый закон механики — принцип инерции: «всякое тело сохраняет свое состояние (perseverare in statu suo)…», — не пользовался телеологическими терминами. Кроме того, у Ньютона речь идет о сохранении состояния (status) тела, внешнего состояния покоя или равномерного движения по прямой, а у Спинозы — о сохранении самого бытия (esse) вещи. Причем conatus в равной мере выражает «актуальную сущность» и тела и духа. Это универсальная действующая причина бытия, форма целесообразного действования, обнимающая собой все сущее.
Томас Гоббс считал conatus атрибутом только живых существ. В этом есть смысл. Природа, в которой всякая вещь деятельно стремится сохранять свое бытие, меньше всего напоминает механическую конструкцию. Винтики и шестерни машины не стремятся к чему бы то ни. было (разве что какой-нибудь внешний субъект заставит их действовать сообразно его собственным целям — отмерять время или, скажем, шлифовать линзы). Для спинозовской Природы уместнее была бы аналогия с живым организмом, нежели с машиной.
Механическая Вселенная нуждается в Боге-механике, который создал бы ее в своих целях и непрерывно заботился о сохранении ее существования (в картезианской механике), либо транслировал взаимные действия тел, к примеру гравитацию, в пустом пространстве (у ньютонианцев).
«Я не видел ни одного ньютонианца, который не был бы теистом в самом строгом смысле этого слова», — отмечал Вольтер[690]. Он искренне, с немалым возмущением, удивлялся тому, что Спиноза отрицал присутствие в природе Провидения: «Как мог он не бросить ни единого взгляда на эти пружины, эти средства, каждое из которых предназначено для определенной цели, и не исследовать, свидетельствуют ли они о руке верховного мастера?»[691]
Если бы Вселенная Спинозы была механической, ему пришлось бы сделаться теистом. Бесцельность механической каузальности приходится компенсировать понятием трансцендентного Творца и его внешними по отношению к отдельным винтикам-вещам целями (вольтеровским Провидением).
Поступок Спинозы, объявившего понятие целевой причины «вымыслом» (figmentum), не означает, что бытие лишилось всякой целесообразности. На место трансцендентной (внешней или относительной, в терминологии Канта) целесообразности финальных причин в философии Спинозы заступает внутренняя целесообразность, так сказать, самоцельностъ, причин действующих. Не только Природа в целом, но и всякий ее единичный модус заключает в себе цель своего бытия.
«Никто не стремится сохранять (conservare) свое бытие ради другой вещи» [Eth4 pr25].
Conatus имеет своей конечной целью сохранение существования той самой вещи, сущностью которой он является, это форма ее ради-себя-бытия. В той (и только той!) мере, в какой всякая вещь в состоянии сохранять свое бытие, она сама является своей субстанцией, является причиной себя и целью своего действования. В этом рефлектирующем в себя, целесообразном стремлении сказывается субстанциальная природа вещи и, вместе с тем, недостаточность и неполнота ее бытия, которую конечная вещь стремится возместить за счет внешних вещей, присваивая их долю бытия.
Идея о стремлении вещей к сохранению собственного бытия имеет весьма древнюю родословную. Ее открытие приписывают перипатетикам, позже находят в сочинениях стоиков, схоластиков, Декарта и Гоббса. Во времена Спинозы, сообщает Вульфсон, понятие conatus давно успело стать «общим местом расхожей мудрости»[692]. Однако Вульфсон не учел, что Спиноза первый увидел в стремлении к бытию истинную сущность вещей и принялся последовательно объяснять с помощью этого понятия все вещи, существующие в Природе, в том числе человека — не только его тело, но и дух, и человеческое общество[693]. К тому же схоластики трактовали conatus как целевую причину — врожденное «формам» вещей стремление к идее блага, по аналогии с платоновским eros; Спиноза же понимает его как причину действующую, как естественный мотив всякого события в Природе.
В мире неорганической материи conatus обнаруживает себя только как инерция движения тел, а в живой природе — как естественная потребность, или влечение, побуждающее тело к действованию ради сохранения себя, своего бытия. Кант писал, что живой организм — единственное, что дает понятию цели природы объективную реальность и заставляет принять в естествознание идею телеологии. Спиноза тоже исследует органическую природу при помощи характерной телеологической категории—влечения (appetitus). Он прямо связывает понятия влечения и цели (finis) в [Eth4 df7]:
«Под целью, ради которой мы что-либо делаем, я разумею влечение».
Латинское слово «appetitus» происходит от «телеологического» глагола «peto» — стараться, стремиться, добиваться [какой-либо цели], — ив средневековой философии означало некую идеальную склонность или способность. «Lexicon peripateticum» определяет appetitus как «склонность вещи к благу» (inclinatio rei ad bonum) и в качестве его причины указывает познание (cognitio)[694]; Аквинат считал appetitus характерной способностью (vis specifica) души и рассматривал чувственность, волю и свободный выбор как разновидности влечения, хотя признавал и существование естественного влечения (appetitus naturalis) в идеальной форме всякой вещи, например «склонность формы огня к возгоранию»[695]. При этом он ссылался на дистинкцию способностей души, предложенную Аристотелем [De anima, 414а 31].
Спиноза предельно упрощает и «материализует» понятие влечения: это обычная органическая потребность и ничего больше. Понятие appetitus распространяется вместе на тело и дух (поскольку тот есть идея тела). Осознанное влечение есть желание (cupiditas). Спиноза предупреждает, что идея блага является не целевой причиной стремления, влечения или желания (как у перипатетиков), а напротив, их прямым следствием [Eth3 pr9 sch].
После, в [Eth4 prf], он неожиданно реанимирует категорию целевой причины, предлагая рассматривать ее как своеобразную «превращенную форму» человеческого влечения:
«Причина же, которая зовется целевой, есть не что иное, как само человеческое влечение, поскольку оно рассматривается как если бы оно было началом или первой причиной какой-либо вещи».
Так как люди обычно не знают причин своих влечений, последние представляются им актами свободного волеизъявления духа и конечными целями их действий.
На самом деле всякое влечение — причина действующая, которая, в свою очередь, зависит от множества внешних, материальных причин и еще от собственного состояния человеческого тела. Таким образом, категория целевой причины выражает форму объективной видимости, обусловленной ограниченностью нашего знания о действующих причинах своих влечений. Избавиться от этой видимости человеческий дух не может, так как его конечный интеллект не в состоянии воспринять всю бесконечную последовательность причин и следствий, прямо или же косвенно детерминирующих его поступки.
Спиноза понимает жизнь как реальный акт целеполагания, которым управляет органическая потребность, образующая сущность всего живого. В этом отношении человек ничем не отличается от прочих живых существ.
Appetitus, пишет Спиноза, «есть не что иное, как самая сущность человека, из природы которого с необходимостью вытекает то, что служит к его сохранению, и, таким образом, человек является определенным (determinatus est) к действованию в этом направлении» [Eth3 pr9 sch].
Органическая потребность образует деятельное начало целесообразности в живой природе[696], и в высшей мере примечательно, что именно с нею Спиноза связывает «самую сущность человека» (ipsa hominis essentia). Очевидный недостаток данного им определения заключается в том, что оно принимает за сущность человека нечто общее для всех живых существ и не указывает, в чем же конкретно заключается особая, свойственная только человеку форма осуществления этой сущности. Не в том ли, что человек, будучи «вещью мыслящей», способен понимать предмет своего влечения и действовать с предметом сообразно его понятию? Спиноза оставляет читателя «Этики» в неведении, не сообщая нам своего мнения на сей счет.
Так или иначе, учение Спинозы о Природе может показаться «чистым механизмом» (Введенский) лишь тому, кто не признает никакой иной формы целесообразности, кроме внешней целесообразности «финальных причин». В действительности его объективная телеология взрывает механический образ мира. Спинозовская Natura абсолютно не похожа ни на Декартов геометрический Универсум, ни на механическую Fabrica Mundi (Мастерскую Мира) Роберта Бойля: всякая ее частица-индивидуум стремится сохранять свое существование (независимо от того, сознает она эту реальную цель своих действий или нет), и в этом смысле ее существование является насквозь целесообразным и целесообразным, внутренне и объективно детерминированным бытием бесконечной Природы в целом.
Категории бесконечного в учении Спинозы отводится особое место. Спиноза посвятил пространное письмо своим размышлениям «о природе бесконечного» [Ер 12]. В «Этике» категория бесконечного встречается уже в начальной дефиниции Бога, определяемого как «ens absolute infinitum» — абсолютно бесконечное сущее.
Кажется весьма странным, что ни в одной работе Спинозы нет отчетливо сформулированной дефиниции бесконечного. Он, как и Декарт, считал, что категорию конечного необходимо выводить из категории бесконечного. Меж тем дефиниция конечного — точнее, «вещи, конечной в своем роде» (res in suo genere finita), — следует сразу после дефиниции причины себя. Остается предположить, что первая дефиниция — причины себя — содержит в себе имплицитное определение бесконечного.
Причина себя определяется как «то, чья природа не может пониматься иначе как существующей» [Eth1 dfl], а бесконечное бытие (infinitum esse) — как «абсолютное утверждение существования какой-либо природы» [Eth1 pr8 sch1]. Значит, наше предположение подтверждается: понятие причины себя совершенно идентично у Спинозы понятию бесконечного и [dfl] следует рассматривать как имплицитное определение бесконечного. Нелишне здесь учесть и мнение Гегеля, который говорил, что causa sui и есть «истинная бесконечность»[697]. Два определения Бога, как «вещи абсолютно бесконечной» и как «causa sui», оказываются у Спинозы эквивалентными.
Дефиниция конечного гласит:
«Конечной в своем роде называется та вещь, которая может ограничиваться другой [вещью] той же природы» [Eth1 pr8 sch1].
Далее поясняется, что вещи, различные по своей природе, не могут иметь общую границу. Тело не ограничивается мыслью (идеей), а мысль — телом. Но всякое конечное тело ограничивается каким-нибудь иным телом, а всякая конечная мысль — иной мыслью. Однородные вещи взаимно ограничивают одна другую, они рассекают бесконечное бытие на бесчисленное множество неравных долей. Каждая частица бытия получает конечную определенность «вот этой», уникальной вещи, которой удалось вытеснить из данного сектора реальности все прочие вещи. В этом смысле существование всякой конечной вещи означает логическое отрицание всех прочих вещей той же самой природы:
«Конечное бытие на самом деле является отчасти отрицанием, а бесконечное — абсолютным утверждением существования какой-либо природы» [Eth1 pr8 sch1].
Конечное бытие является отрицанием только «отчасти» (ех parte). Отчасти же оно является собственным состоянием (affectio) бытия бесконечного. Конечная вещь не просто отрицает существование определенной природы (атрибута субстанции), не превращает ее в чистое ничто, — вместе с тем, как модус этой природы она выражает и утверждает последнюю, пусть и в ограниченных пределах. Вневременной акт превращения бесконечной природы в упорядоченный континуум конечных вещей (тел либо идей) Спиноза именует «детерминацией» (determinatio)[698].
В отношении к бесконечной Природе детерминация означает отрицание: determinatio negatio est [Ер 50]. Однако это отрицание лишь ex parte, так как бесконечная Природа им не уничтожается, не превращается в ничто, а только переводится в иное состояние, в форму какой-нибудь конечной вещи. В этом плане категория детерминации родственна гегелевской категории снятия (Aufhe-bung). В отличие от «mera negatio» — чистого, простого, сплошного отрицания, — означающего «невозможность существования» [СМ 1 ср3], детерминация образует некую реальность. Она превращает бесконечное в конечное, вследствие чего бытие раздваивается на сущее в себе и сущее в ином.
Гегель приписал спинозовскую детерминацию рассудку, с его «внешней рефлексией». Он не придал значения словам Спинозы о том, что конечное бытие только ex parte отрицает бесконечное. В акте детерминации Бог реально дифференцирует свое бесконечное бытие. Логическим отрицанием «абсолютно бесконечного сущего» (ens absolute infinitum) является не гегелевское «чистое ничто», но его собственные модусы-состояния, конечные и бесконечные «в своем роде» (in suo genere) вещи.
Категория истинной, «актуальной» бесконечности (infinitum actu) у Спинозы лишена всякой количественной определенности. Такая бесконечность характеризует определенное качество вещей[699]: бесконечная вещь — та, которая не встречает никаких препятствий в осуществлении своей природы. Поскольку интеллект и движение принимают все формы, которые им позволяет принять их природа, не встречая никакого ограничения (determinatio), Спиноза определяет их как бесконечные в своем роде вещи. Конечные вещи всегда так или иначе ограничены в своих действиях: стремясь осуществить то, что заложено в ее природе, конечная вещь неминуемо встречается с бесчисленными препятствиями со стороны других конечных вещей. Поэтому всякая конечная вещь несовершенна.
Совершенство—вот характерный внешний признак, по которому можно узнать бесконечное. В [СМ 2 ср3] Спиноза определяет бесконечность как «высшее совершенство» (summa perfectio) вещи. В [Ер 4] он пишет, что всякий атрибут субстанции является «бесконечным, или предельно совершенным, в своем роде», а в [KV 1 ср9] говорит о «бесконечном, или совершеннейшем, удовольствии», проистекающем от знания истины.
Уяснение спинозовского понимания бесконечного затрудняется, однако, тем, что слово «infinitum» довольно часто употребляется Спинозой в значении «бесчисленное». К примеру, в [Ер 60] говорится, что круг может рассматриваться как состоящий из бесчисленных прямоугольников (ex infinitis rectangulis). Прямоугольник, разумеется, вещь конечная, поэтому прилагательное «infinitus» характеризует тут не его сущность; оно показывает, что количество прямоугольников, которые могут быть вписаны в круг, «превосходит всякое число», иначе говоря, является неопределенным.
Гегель нарек численную бесконечность «скверной, дурной» — sch1echte Unendlichkeit, — заявив, что она не имеет ничего общего с истинной, актуальной бесконечностью. Стоит задуматься, однако, как иначе могла бы проявляться актуальная бесконечность в мире своих конечных модусов?
«Из необходимости божественной природы должны следовать бесчисленные [вещи] бесчисленными способами (infinita infinitis modis)…» [Eth1 prl6]
В этой теореме слово «infinitum» тоже употребляется в своем общепринятом значении, в значении неопределенного множества. Спиноза не принял предложение Декарта закрепить это значение за категорией indefinitum (неопределенное). К последней Спиноза относит только те вещи, которые, хотя и «превосходят всякое число», являются, тем не менее, конечными и потому «могут мыслиться большими или меньшими» [Ер 12]. A infinitum Спинозы — выражает эта категория актуальную бесконечность или простую бесчисленность вещей, — ни в коем случае не может мыслиться большим или меньшим.
Джоуким, Вульф и Клайн полагают, что слово «infinitum» в выражении «infinita infinitis modis» и в тех местах, где говорится, что субстанция «absoluta infinita attributa habeat» (имеет абсолютно бесчисленные атрибуты), употребляется в значении «все без исключения», «абсолютно все», а не в «скверном» значении неопределенного множества. В данном случае, пишет Клайн, Спиноза пользуется словом «infinitum» как «более выразительной формой omnia»[700].
Клайн, разумеется, прав насчет того, что бесконечность охватывает все, однако ведь слово «omnia» (все) может равным образом относиться к бесчисленным вещам и к какому-то ограниченному кругу вещей. Спрашивается все-таки, допускает ли Спиноза, что модусы или атрибуты субстанции существуют в ограниченном количестве? Нет. Он недвусмысленно заявлял:
«Чем больше реальности или бытия имеет какая-либо вещь, тем больше атрибутов ей присуще» [Eth1 pr9].
Абсолютно бесконечная вещь обладает бесчисленными атрибутами и бесчисленными модусами в каждом из атрибутов. Ее действия не могут ограничиваться определенным числом. Что, в конце концов, «скверного» в этой бесчисленности? Да, infinitas-совершенство и infinitas-бесчисленность суть разные логические определения, относящиеся к разным слоям сущего, однако эти категории ближайшим образом связаны. Для Спинозы бесчисленность атрибутов и модусов — это проявление абсолютной бесконечности и совершенства субстанции.
В оригинальном и возвышенном учении Спинозы о вечности логика сливается с этикой. Можно сказать, логика здесь излучает этику. Истинное знание, согласно Спинозе, есть знание вещей «под формой вечности», и человек, приобретая это знание, делает свой дух вечным. В этом заключается для него «наивысшее благо и добродетель».
Первое определение вечности мы находим в [СМ 1 ср4]: вечность — это «атрибут, под которым мы понимаем бесконечное существование Бога»[701]. Как мы видим, категория вечности синтетична: она происходит из соединения категорий существования и бесконечности.
Отношение данной вещи к иным вещам может мыслиться sub specie aeternitatis (под формой вечности) — в категориях причины и действия, либо sub specie durationis (под формой длительности) — в категориях времени, числа, меры. В первом случае существование вещи представляется действием внутренней причины и проявлением сущности вещи; во втором случае дух воспринимает существование вещей со стороны его продолжительности. Спиноза определяет длительность как «неопределенную продолжительность существования (indefinita existendi continuatio)» [Eth2 df5] или, иначе, как «существование, поскольку оно понимается абстрактно и как некоторый вид количества» [Eth2 pr45 sch].
Эти две логические формы далеко не равноправны: под формой вечности вещь всегда воспринимается адекватно и только адекватно; напротив, о длительности вещей дух может иметь только очень неадекватное знание. Кроме того, вечность (бесконечное существование) «не может объясняться посредством длительности или времени, хотя бы длительность понималась как лишенная начала и конца» [Eth1 df8 ex]; длительность же, напротив, следует мыслить под формой вечности, чтобы понять ее истинную природу.
Логическое неравноправие категорий вечности и длительности объясняется тем, что в реальности «длительность… проистекает от вечных вещей» [Ер 12]. Поэтому Спиноза считает правомерным мыслить длительность под формой вечности и вместе с тем противополагать категории длительности и вечности. Длительность вещей ни в коем случае не произвольна, она непосредственно зависит от вечного порядка и последовательности причин в природе, и если бы дух был в состоянии охватить мыслью всю эту бесконечную последовательность, длительность существования всех вещей тоже оказалась бы для него понятной.
Хэллетт справедливо говорил об «укорененности» длящегося существования в вечном[702] и характеризовал длительность как «истечение» (efflux) вечности. Его перу принадлежит великолепный комментарий к философии Спинозы — книга под заглавием «Вечность. Спинозистское исследование»[703].
Общее положение о вечности, которое отстаивал Хэллетт, гласит: все реальное — вечно. Вещи являются реальными ровно в той мере, в какой они причастны вечности. Вот почему адекватное познание реального совершается не иначе, как под формой вечности:
«Понимать вещи под формой вечности значит понимать вещи как реальные сущие (entia realia) через посредство сущности Бога…» [Eth5 pr30 dm].
Реальное и вечное для Спинозы категории коррелятивные, заключает Хэллетт. Вечность есть «подлинное вещество Реального»[704].
В каком же смысле существование конечной вещи является вечным и в каком длящимся? На это ХэллетТ отвечал:
«Как реальная часть целого индивидуум вечен вместе с целым; как часть, которая тоже есть некое целое, он вечен внутри целого (которое в известной мере он воспроизводит); как часть целого, взаимодействующая с другими частями, он длится»[705].
Длительность конечных вещей — своеобразный эффект их взаимодействия. Существование всякой конечной вещи количественно и качественно ограничивается существованием всех прочих вещей. Так вот количественная определенность существования и есть длительность.
Кроме конечных вещей существуют еще «бесконечные в своем роде» вещи и модусы — интеллект и движение, идея Бога и «форма Вселенной в целом», — которые не взаимодействуют с иными вещами. Их существование ограничивается только их собственной природой, то есть ограничивается не количественно, а только качественно. Эту неограниченную длительность существования Хэллетт описывал категорией sempiternity (от лат. sempiternus — длящийся всегда, всегдашний), которой у Спинозы соответствуют выражения: «длительность, лишенная начала и конца» [Eth1 df8 exp], «длительность, которая с обеих сторон не имеет предела» [СМ 2 ср1].
Многие и многие комментаторы «Этики» смешивают понятия вечности и неограниченной длительности[706]. Вследствие чего изречение Спинозы: «Мы чувствуем и знаем из опыта, что мы вечны»[707], — приходится толковать мистически, как утверждение нашего бессмертия, либо аллегорически, как посмертную жизнь в памяти человечества, — в стиле «нет, весь я не умру…»
Иные предпочитают вовсе не замечать учения Спинозы об индивидуальной вечности вещей, в том числе и человека. Хэллетт протестовал:
«Спиноза провозглашает вечность индивидуального духа «того или этого» человека, а не вечность некоего общего духа человечества, или «бесконечной идеи Бога», или «Науки»[708].
Это соображение Хэллетт подкреплял ссылкой на [Eth5 pr22]:
«В Боге с необходимостью дана идея, которая выражает сущность того или этого (hujus, et illius) человеческого тела под формой вечности».
Речь тут явно идет о вечности единичного, индивидуального, «того или этого» духа, а не о вечности духа человечества, божественного интеллекта или, скажем, научных доказательств.
Понятие вечности характеризует не количество, не длительность существования вещи, а ее качество как определенной целостности. Отчасти вечными являются не только идеи, но и тела, вообще все реальные вещи. Они вечны, поскольку всякая вещь представляет собой индивидуальное (частичное) воплощение вечного целого — единой и бесконечной Природы.
В качестве индивидуального состояния целого вещь является вечной наравне с целым, а в качестве индивидуального состояния целого, которое отличается от целого как такового и от других его состояний, она характеризуется длительностью. Все зависит от того, в какой «проекции» дух воспринимает данную вещь — в неадекватной проекции ее длящегося существования (посредством воображения) или под формой вечности, которая дает адекватное понятие причины существования вещи (посредством интеллекта).
Воображение оперирует чувственными образами вещей, интеллект — рассуждениями и доказательствами. В первом случае индивидуальность воспринимаемой вещи преломляется в индивидуальности человеческого тела и духа и в этом смешении рождается образ вещи. В интеллекте вещь объясняется посредством причины, которая превращает вещь в то, что она есть, и определяет ее, и только ее собственную индивидуальность. Причем интеллектуальная, каузальная индивидуальность (к примеру, индивидуальность живого существа, представленная в его генетическом коде) позволяет отчасти объяснить его воображаемую индивидуальность (представить, как это существо может выглядеть в тот или иной момент времени и какова потенциальная длительность его существования).
Вещи не делятся на вечные и длящиеся. Два эти компонента характеризуют существование всякого модуса, в том числе бесконечного интеллекта и движения. «Вечная жизнь», или бессмертие, нашего духа обусловлена приобщением его к бесконечному интеллекту Бога. Несомненно, речь не идет о неограниченной длительности существования конечного человеческого духа в Природе. Спиноза ясно говорит, что дух погибает вместе с телом [KV 2 ср23], следовательно, под «вечной жизнью» понимается качество существования, а не его количество, не длительность. Истинная вечность определяется тем, как существует вещь — в какой мере существование этой вещи соответствует ее природе, — а не тем, сколько длится ее существование.
Решение моральной проблемы достижения свободы Спиноза ставит в прямую зависимость от адекватного познания природы вещей и усовершенствования нашего интеллекта. Знание дает человеку свободу. Мера моей свободы обусловлена мерой адекватности моих идей.
Но свобода не есть исключительное достояние «мыслящей вещи». Эта категория распространяется у Спинозы на все сущее. Вещь является свободной в той мере, в какой от сама служит причиной своих действий, иначе говоря, поскольку она активно действует в соответствии с законами своей собственной природы:
«Свободной вещью называется та, которая существует вследствие необходимости только собственной природы и определяется к действованию только лишь собой» [Eth1 df7].
Разумеется, абсолютная свобода в этом смысле присуща одному Богу-субстанции. Прочие вещи могут быть свободны всего лишь в той мере, в какой всякая из них выражает природу субстанции и, тем самым, свою собственную природу — выражает ее своими активными действиями, превращающими ее в непосредственную, «ближайшую» причину каких-либо других состояний субстанции. И отчасти всякий модус субстанции является «вещью принуждаемой» (res coacta), поскольку его существование зависит от действия бесчисленного множества внешних причин.
Человек не составляет исключения. Ни отдельный индивид, ни человечество в целом не в состоянии стать независимыми от внешних причин. Могущество внешних причин бесконечно превосходит способность человека к свободной деятельности [Eth4 pr3]. Однако внешние причины бывают разные: одни из них сходны с человеческой природой и, следовательно, полезны для человека, другие противны нашей природе и вредны для нее [Eth4 pr31 сог]. Истинная свобода, возможная для человека, заключается в том, чтобы стремиться к соединению с теми внешними причинами, которые больше всего сходны с человеческой природой и увеличивают способность человека к активному действо-ванию, и стремиться избегать тех, что разрушают его тело и дух, повергая человека в «пассивные состояния» (passiones).
«Если [человек] пребывает среди таких индивидуумов, которые сходны с человеческой природой, тем самым способность человека к действованию получит содействие и поддержку. А если он находится среди тех, которые менее всего сходны с его природой, то вряд ли он может приспособиться к ним без значительного изменения самого себя» [Eth4 ар сар7].
Действительная свобода всякого индивидуума прямо пропорциональна его «способности к действованию» (agendi potentia) и обратно пропорциональна его пассивности.
Категория необходимого по-разному применяется Спинозой в зависимости от того, идет ли речь о сущности вещей или же о существовании. У конечных модусов субстанции
«сущность зависит от вечных законов Природы, а существование — от последовательности и порядка причин» [СМ 2 ср3].
Характер существования вещи внутри каузальной сети «Природы порожденной» определяется ее положением относительно прочих вещей, которые прямо или косвенно воздействуют на нее в качестве внешних причин. Это Спиноза и называет «зависимостью от последовательности и порядка причин». Строение каузальной сети и взаимодействие ее «узелков» подчиняется вечным законам, которые задают всеобщие условия взаимодействия и, вместе с тем, изнутри определяют всякую вещь к активному действованию. В этом смысле от вечных законов Природы зависит сущность вещи.
К примеру, генетические законы определяют сущность растения, от них зависит, что вырастет из данного семени, — береза, клен или нечто иное. А наличное бытие растения определяется, помимо этих законов, еще своеобразным сочетанием бесчисленных внешних факторов, не принадлежащих непосредственно к сущности данного растения — составом почвы, климатом и пр., — все это вместе взятое называется «последовательностью и порядком причин».
Необходимость, проистекающую из сущности вещи, Спиноза именует «свободной необходимостью», а ту, что зависит от по-следовательности и порядка причин, — «вынужденной необходимостью». Последняя является человеческому мышлению в форме случайности и может постигаться им только в бесконечно малой части.
Когда причины существования какой-нибудь вещи неизвестны, она является для нашего мышления случайной. Иногда же мы знаем эти причины, но недостаточно, чтобы решить, вызывают ли они к существованию данную вещь. Такую вещь Спиноза называет возможной. Вещи считаются возможными, пишет он,
«поскольку мы, обращаясь к причинам, которыми они должны производиться, не знаем, определены ли [причины] к произведению этих вещей» [Eth4 df4].
Предположим, синоптик, наблюдая сближение холодной и теплой воздушных масс, предсказывает возможность дождя. Следовательно, он допускает, что некоторые укрывшиеся от его внимания обстоятельства могут воспрепятствовать дождю. Слово «возможно» всегда указывает на «недостаточность восприятия» (defectus perceptionis) порядка причин в Природе, на некоторую неопределенность знания о причине той или иной вещи. В известной мере этот недостаток призвана компенсировать математическая теория вероятности, которая была создана старшими современниками Спинозы — Паскалем, Ферма и Гюйгенсом. Однако даже наивысшая вероятность все же ни на йоту не приближает вещь к существованию. Существование вещи гарантируется только наличием определенной причины и ничем иным.
Возможное и вероятное являются чистыми рассудочными категориями (entia rationis) и выражают только состояние мышления, а не состояние вещей вне мышления. Спиноза, безусловно, согласился бы с Эйнштейном в том, что «Бог не играет в кости» и что вероятностные понятия квантовой механики не могут считаться адекватными. Однако Спиноза, в отличие от Эйнштейна, и не считал, что конечный интеллект в состоянии приобрести адекватное знание о существовании единичных изменяемых вещей: ведь их поведение, величина, масса и прочие свойства зависят не столько от собственной сущности единичной вещи (о сущности всякой вещи можно и нужно создать адекватную идею), сколько от порядка и связи бесчисленных внешних причин. Поэтому вероятностное знание — самое большее, на что может рассчитывать человек, делая предметом мышления существование той или иной единичной вещи.
Этот defectus perceptionis свидетельствует о конечности нашего духа. Бор и его единомышленники были абсолютно правы, утверждая, что человеческому разуму не дано точно знать причины и образ действия отдельных элементарных частиц. При этом они, равно как и их противники, заблуждались, допуская, что такое знание возможно относительно индивидуальных объектов обычного опыта (с какими привыкла иметь дело классическая физика). Разница лишь в степени вероятности наших суждений о существовании «единичных изменяемых вещей». Вероятность таких суждений тем выше, чем больше общего внешняя вещь имеет с человеческой природой, и тем ниже, чем более действия данной вещи определяются внешними причинами, а не ее собственной сущностью. В конечном счете существование всякой конечной вещи зависит от конкретного состояния бесконечной Вселенной в целом, о котором конечный интеллект не может иметь сколько-нибудь адекватного понятия. Вот почему, человеческий разум, в отличие от спинозовского Бога, с его бесконечным интеллектом, обречен «играть в кости» и довольствоваться неадекватным, вероятностным знанием о существовании вещей, данных в чувственном опыте.
Этимологически возможное противополагается невозможному, однако у Спинозы, как обнаружил Хэллетт, возможному противостоит потенциальное[709]. Категория potentia (потенция, способность, могущество) очень часто встречается в текстах Спинозы. Потенция — это существенная определенность вещи, благодаря которой вещь существует. В этом смысле «способность существовать есть потенция» [Eth1 prll dm3].
Категория возможности характеризует существование вещи относительно какой-либо неопределенной внешней причины, а категория потенции — в отношении к сущности вещи:
«Потенция Бога есть сама его сущность» [Eth1 pr34]. «Под добродетелью и потенцией я разумею одно и то же;…это сама человеческая сущность или природа» [Eth4 df8].
Если потенция образует существенную определенность вещи, то возможное питается неопределенностью. Полено, например, в зависимости от действия внешних причин может превратиться в скрипку или в плаху, или просто в угли, то есть оно заключает в себе все эти вещи и неопределенное множество других «в возможности». При этом собственная определенность, «потенция» полена оказывает всяческое сопротивление действию внешних причин, существенно ограничивая круг его возможных превращений. Радиус круга возможного обратно пропорционален потенции вещей. Чем больше вещь имеет атрибутов и свойств, чем конкретнее определено ее существование, тем меньше неопределенных возможностей она в себе заключает. Бог, то есть существо, абсолютно бесконечное и обладающее бесчисленными атрибутами, по словам Спинозы, «абсолютно бесконечную потенцию от себя имеет» [Eth1 prl 1 sch]. К его существованию категория возможного адекватно применяться не может.
Старое религиозное кредо, отлитое Кьеркегором в его «Философских крохах» в лаконичную формулу: «для Бога все возможно», — Спиноза расценивает как чистой воды химеру. Для Бога невозможно сделать что-либо вопреки законам своей природы, равно как невозможно не сделать нечто, заключенное в его потенции. Да и не существует никакой отличной от Бога вещи, которая помешала бы ему реализовать свой потенциал. Бог действует только так, как может, и создает все, что только может, причем всякое отдельное действие совершается им с абсолютной необходимостью. Бог не знает никаких «возможных миров», среди которых, согласно теории Лейбница, ему предстояло бы избрать наилучший и создать его практически.
«Вещи не могли производиться Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем они произведены», — категорически заявляет Спиноза [Eth1 pr33].
Декарт столкнулся с неразрешимой проблемой: как две субстанции, — мышление и протяжение, — не имеющие ни одного общего признака, могут соединяться и действовать одна на другую? Тела и идеи существуют как бы в разных измерениях, тем не менее, по крайней мере в человеке они все же оказываются связанными в единое целое. В «Страстях души» Декарт высказывает предположение, что посредником, преобразующим акты мышления в акты телесные, является шишковидная железа мозга. Как же дух приводит в движение эту материальную, то есть образующую частицу протяженной субстанции, железу? Тут Декарту приходится ссылаться на Бога, однако, поскольку Бог понимается им как мыслящая субстанция, остается по-прежнему неясным, посредством чего эта субстанция-мысль воздействует на протяженную субстанцию.
Единство субстанций мыслится Декартом как взаимодействие, однако механика этого взаимодействия ему не ясна. Спиноза ставит проблему иначе. У мышления и протяжения нет ничего общего, следовательно, они не могут взаимодействовать. Между абсолютно разными вещами невозможна даже простая каузальная связь:
«Вещи, которые не имеют между собой ничего общего, не могут быть причиной одна другой» [Eth1 pr3].
Не удивительно, что все старания Декарта найти посредника, превращающего состояния духа в состояния тела, оказались напрасными. Спиноза предлагает мыслить единство мышления и протяжения посредством категории тождества, а не категории взаимодействия, как Декарт.
«Субстанция мыслящая и субстанция протяженная есть одна и та же (una eademque) субстанция, постигаемая то под тем, то под другим атрибутом» [Eth2 pr7 sch].
Мышление и протяжение, не переставая быть абсолютно различными, оказываются вместе с тем тождественными. Это, разумеется, не формальное тождество вещи себе (А = А), но тождество различенного. Различие мышления и протяжения у Спинозы не исчезает в «темной бесформенной бездне субстанции», как то живописал Гегель. Спиноза часто повторяет, что атрибуты Бога не имеют между собой ничего общего и их следует мыслить «реально различными» [Eth1 pr10 sch]. В общем, различия внутри субстанции ничуть не менее реальны, чем ее единство. Единство субстанции проявляет себя не в устранении различия мышления и протяжения, но в том, что в различных ее атрибутах осуществляется «один и тот же порядок или одна и та же связь причин, то есть те же самые вещи следуют одна за другой» [Eth2 pr7 sch].
Диалектический характер спинозовского понимания единства субстанции как тождества различенных атрибутов неоднократно отмечался в историко-философской литературе (Робинсон, Хэллетт, Геру, Ильенков, Харрис и др.). Впрочем, нашлось немало и тех, кто вслед за Гегелем склонен видеть в спинозовской субстанции «бесформенную бездну», в которой гаснут все различия, и проводить аналогии с чистым бытием элеатов (Й. Эрдманн, Вл. Соловьев), с индифферентной Dei essentia Маймонвда (Вульфсон), с Единым платоников, с Абсолютом немецких романтиков и тому подобными абстракциями.
«Единая субстанция Спинозы не есть нечто схожее с «das eleatische Sein», как это утверждает Гегель в Науке логики. Напротив, она содержит или охватывает бесконечное множество бесконечных (всеобщих) дифференциаций, а именно атрибутов. Субстанция есть единство бесконечно многого», —
совершенно верно отмечает Гилеад[710].
Что касается Гегеля, то источник его недовольства спинозовской версией единства субстанции лежит почти на поверхности. Спиноза признает равноправие атрибутов протяжения и мышления в отношении к Богу. Всякий атрибут выражает всю без остатка сущность Бога. Мышление в этом смысле ничуть не лучше и не хуже протяжения. Бог Спинозы, по словам Гегеля, содержит мышление «лишь в его единстве с протяжением, то есть содержит его не как отделяющее себя от протяжения»; тогда как Гегель, держась христианской богословской традиции, предлагает понимать Бога как чистый дух[711]. В этом он солидарен с Декартом.
Каким образом Спиноза приходит к мысли о единстве Природы? — спрашивает далее Гегель, указывая на то, что «субстанция принимается Спинозой непосредственно, без предшествующего диалектического опосредствования.!.»[712] Гегель хочет знать, как возникает в мышлении идея субстанции, единой для всего сущего (в его «Логике» ей предшествует длинный ряд иных категорий мышления).
Однако для Спинозы интеллект есть не что иное, как идея субстанции, и первый, непосредственный модус мыслящей субстанции. Поэтому идея субстанции оказывается в его философии первичным состоянием мышления:
«Наш дух… должен вывести все свои идеи из той, которая выражает начало и исток всей Природы, чтобы сама [эта идея] так же явилась истоком всех прочих идей» [TIE, 13].
Идею субстанции нельзя вывести из какой-либо другой идеи, да и не надо этого делать, ибо нарушился бы порядок вещей в Природе.
«Божественную природу, которая раньше всего должна была бы рассматриваться, ибо она первична (prior est) как в познании, так и в природе, поставили в порядке познания последней…», —
осуждает Спиноза сенсуалистов [Eth2 pr10 sch].
Наряду с категорией единства (тождества различенного) у Спинозы сохраняется и категория непосредственного тождества. К услугам последней он прибегает, когда утверждает, что одно и то же (unum et idem) есть существование Бога и его сущность [Eth1 pr20], воля и интеллект [Eth2 pr49 сог], или когда соединяет слова «Бог», «Природа» и «субстанция» союзом «или» (seu, sive). Категория непосредственного тождества применяется для того, чтобы показать, что за номинальным различием скрывается одна и та же вещь.
В [Eth1 pr19] Спиноза ставит знак равенства между единством Бога и множеством всех его атрибутов: «Бог, или все атрибуты Бога (Deus, sive omnia Dei attributa)». Противоположность категорий единства и множества в понятии Бога оказывается снятой. У Спинозы многообразие существует внутри единого, а не по ту сторону единого, как у Парменида и мистиков. Это различие прекрасно показал еще Лев Робинсон:
«Бесчисленные атрибуты составляют божественную субстанцию, без остатка исчерпывают ее сущность и бытие… Спиноза не знает абсолюта, возвышающегося над царством разнородного, однородной основы многокачественного мира атрибутов. Царство бесконечно разнородного — атрибуты — и есть Бог»[713].
В этом вся разница между рефлективной идеей субстанции у Спинозы и понятиями чистого бытия или абсолютного тождества.
Гегель упрекает Спинозу и в том, что тот не показывает, как различия атрибутов выводятся из единой субстанции: «где именно субстанция переходит в атрибуты, этого Спиноза не говорит»[714]. Со своей стороны, Спиноза не считает возможным подобное выведение: никакого «перехода» или хотя бы реального различия между субстанцией и ее атрибутами нет. Порядок выведения категорий обязан повторять порядок причин и следствий в Природе, а субстанция — причина своих модусов, но не своих атрибутов. Поэтому бесконечное многообразие атрибутов с самого начала предполагается данным в единстве субстанции.
Уже в начальной дефиниции Бога говорится, что он мыслится как «субстанция, состоящая (constans) из бесчисленных атрибутов» [Eth1 df6]. Атрибут определяется как «нечто конституирующее сущность (essentiam constituens)» субстанции. Без атрибутов субстанция — это чистая абстракция, из них целиком складывается ее сущность, — по этой причине определения атрибутов невозможно логически вывести из понятия субстанции. Ибо за вычетом определений атрибутов у субстанции попросту нет никакого понятия.
Сущность единой субстанции складывается из абсолютно разных, ни в одной точке не пересекающихся атрибутов. Довольно необычная мысль. Еще Декарт без тени сомнения постулирует, что «каждой субстанции присущ один главный атрибут, как мышление — уму, а протяженность — телу» [С 1, 335]. Это заставляет Декарта считать субстанцию мыслящую и субстанцию протяженную разными вещами. Он никоим образом не допускает возможности существования вещи, которая обладала бы двумя атрибутами, не имеющими ни малейшего сходства.
Когда один картезианец, некий Хендрик Деруа, предположил, что атрибуты мышления и протяжения могут принадлежать одному и тому же субъекту, Декарт усмотрел в этом предположении «явный паралогизм», прибавив:
«Ведь это было бы то же самое, что сказать, будто один и тот же субъект имеет две различные сущности; противоречие здесь несомненное»[С 1, 466].
Спинозе же эта возможность «единомножия» сущностей (= атрибутов) представляется более чем реальной:
«Далеко не является абсурдным, следовательно, приписывать одной субстанции многие атрибуты; ведь в природе нет ничего яснее того, что всякое сущее должно пониматься под каким-либо атрибутом, и чем больше оно имеет реальности или бытия, тем больше имеет атрибутов, которые выражают необходимость, или вечность, и бесконечность» [Eth1 pr10 sch].
Здесь угадывается скрытое возражение теологам (в равной мере относящееся к Декарту и Гегелю): почему, собственно, Бог понимается только под атрибутом мышления? Нет никаких оснований так ограничивать природу Бога, считает Спиноза. У вещи абсолютно бесконечной логичнее предположить наличие бесчисленных атрибутов.
Гарри Вульфсон старался доказать прямую зависимость спинозовского понимания субстанции от учения схоластиков о Боге как ens simplicissimum — простейшем, лишенном каких бы то ни было внутренних различий сущем. Атрибуты привносятся в субстанцию конечным человеческим интеллектом, который расчленяет единое на многое и приписывает субстанции различия, которых на самом деле в ней нет (слова Спинозы о «реальном различии» атрибутов Вульфсон отказывается принимать в расчет). Свою позицию Вульфсон подкрепляет, главным образом, двумя ссылками: на положение «Этики» о неделимости субстанции (словно неделимость равнозначна абсолютной внутренней индифферентности) и присутствие в дефиниции атрибута слов «intellectus percipit, tanquam» (интеллект воспринимает, как)[715].
Впоследствии аргументация Вульфсона была разрушена до самого основания в работах Хазерота (F. Haserot), Геру, Керли, Донагана (A. Donagan) и др.[716] Нам нет смысла вдаваться в детали этого давно решенного спора. Однако, в понимании единства субстанции по-прежнему остаются серьезные трудности и разногласия, которые стоит обсудить.
Прежде всего остается неясным, зачем Спинозе понадобилось упоминать об интеллекте в определении атрибута? На этот счет существуют самые разные мнения[717]. Простейший ответ, оставшийся почему-то незамеченным, кажется мне самым правдоподобным: Спиноза не желал уже в начальной дефиниции предвосхищать теорему [Eth1 pr10 sch], где доказывается, что все существующие атрибуты действительно принадлежат одной и той же субстанции и образуют ее сущность. Это важнейшее положение идет вразрез с логикой и метафизикой Декарта и, как легко было предположить, неминуемо стало бы предметом полемики с картезианцами не говоря уже о теологах, — поэтому Спиноза решил для начала, в исходной дефиниции атрибута, ограничиться апелляцией к «восприятию интеллекта». Ну а несколькими страницами ниже доказал истинность данного «восприятия».
Так или иначе, не подлежит сомнению одно: упоминание интеллекта не может бросить на понятие атрибута ни малейшей тени субъективности, ибо для Спинозы все до единого восприятия интеллекта адекватны реальным вещам, — интеллект и истина в этом смысле просто одно и то же.
Кроме того можно предположить, что Спиноза, включая в дефиницию атрибута субстанции слова «intellectus percipit, tanquam», хотел показать, что интеллект не воспринимает субстанцию как таковую[718], abstracte, но только под тем или иным одним конкретным атрибутом — как мыслящую либо протяженную.
«Всякое сущее должно пониматься под каким-либо атрибутом» [Eth1 pr10 sch].
И, далее, всякий атрибут, согласно Спинозе, воспринимается интеллектом «посредством себя» (per se), то есть безотносительно к остальным атрибутам.
Почему же интеллект не воспринимает атрибуты все вместе (simul), как они реально существуют в Боге, а воспринимает их по отдельности (per se), как если бы каждый атрибут был субстанцией?
Габриэль Хуан на этом основании делает вывод, что Спиноза
«никоим образом не допускает, что интеллект, даже бесконечный, может иметь о субстанции абсолютное знание, знание того, что сама она есть в себе»[719].
Спиноза тотчас превращается в мистика, полагающего, что сам Бог (его собственный бесконечный интеллект) — не говоря уже о конечном человеческом разуме — не в состоянии понять единство своих атрибутов.
Робинсон в ответ приводит собственные слова Спинозы, недвусмысленно свидетельствующие о том, что интеллект познает сущность Бога как она есть в себе, — иначе говоря, наш дух адекватно понимает единство Бога[720]. Это так, но проблема-то остается: почему интеллект воспринимает атрибуты Бога лишь по отдельности, а не вместе, как они существуют в Боге?
В отношении ко всякому своему модусу субстанция выступает только под каким-либо одним атрибутом. Интеллект—модус, поэтому он не может воспринимать атрибуты simul, но воспринимает каждый атрибут per se, то есть как особую субстанцию. Раздельное восприятие атрибутов интеллектом не может нарушить понятие единства субстанции и не дает основания утверждать, что мышление и протяжение существуют по отдельности. Существовать для Спинозы означает действовать, а Бог (законы Природы) действует единообразно, сохраняя один и тот же «порядок и связь» в протяженном мире и в мире мышления. Следовательно, в действительности Бог един, и в обоих случаях действует-существует) одна-единственная субстанция.
«В философии Спинозы первичное единство действия Бога проявляет себя в отношении к интеллекту как разделенное на множество разных, но согласующихся атрибутов. Здесь нет элемента субъективного вымысла, нет введения чего-либо постороннего в истинное бытие Бога. Mens non potest plus intelligere quam natura praestare[721]. Происходит только поляризация единого света Божества в призме интеллекта», —
пишет Фриц Кауфман[722].
Очень хорошо, однако почему «поляризация» субстанции в интеллекте не нарушает адекватности восприятия ее единства (в отличие от поляризации обычного светового луча, которая реально разрушает его единство)? Этого Кауфман не объяснил.
Думаю, в данном случае возможно лишь одно объяснение. Слова Спинозы: в разных атрибутах осуществляется «один и тот же порядок или одна и та же связь причин, то есть те же самые вещи следуют одна за другой», — логически означают, что в данном случае целое эквивалентно своей части, точнее, всякой из бесчисленных частей (атрибутов), составляющих его сущность. А потому адекватное восприятие одной такой части — одного бесконечного in suo genere атрибута субстанции — эквивалентно восприятию целого, то есть абсолютно бесконечной субстанции как таковой.
Напрашивается сравнение с положением дел в математике. Академик П. С. Александров писал о необходимости «в применении к бесконечным множествам отказаться от аксиомы: часть меньше целого»[723]. Аксиома «целое больше части» была сформулирована еще в Евклидовых «Началах» и до открытий Кантора не вызывала у математиков ни малейшего сомнения.
Слова Спинозы о тождестве порядка и связи причин во всех атрибутах субстанции можно интерпретировать в канторовских терминах так: множество модусов всякого атрибута равномощно по числу своих элементов множеству вещей-причин в субстанции как таковой, порядок и связь элементов обоих множеств тоже одинаковы. Это классическое отношение взаимно-однозначного соответствия части и целого, подобное тому, что Кантор установил между точками n-мерного пространства и точками прямой или плоскости.
Атрибут, образующий часть субстанции, выражает — хотя не absolute, а только in suo genere, — всю ее сущность целиком (так же, как бесконечная прямая линия или плоскость in suo genere выражает сущность пространства в целом, независимо от числа измерений). Потому интеллект, воспринимая тот или иной отдельный атрибут per se, тем самым воспринимает сущность субстанции, как она есть in se. Единство субстанции, говоря гегелевским слогом, «светится» в каждом из ее атрибутов; больше того, субстанция не может быть воспринята как таковая, abstracte, — вне какого-либо конкретного атрибута. В этом смысле субстанция целиком состоит из своих атрибутов.
Идентичность категорий субстанции и атрибута — очередной вызов прежней логике и, в первую очередь, вызов логике Декарта.
«Спиноза, в отличие от Декарта, отождествляет субстанцию с ее атрибутами или, скорее, с совокупностью ее атрибутов», —
указывает Керли[724].
С этим отказывается согласиться Беннетт, настаивающий, что атрибуты Спинозы нельзя понять иначе, как «основные и несводимые свойства» (basic and irreducible properties) субстанции. Свойства, ясное дело, не могут быть тождественны их субъекту, поэтому слова Спинозы о том, что сущность субстанции «состоит» из атрибутов, не более чем «преувеличенные выражения» (exaggerated expressions)[725]. Чтобы спасти нормы общей логики, Беннетт готов пожертвовать прямым смыслом слов Спинозы. Такая позиция не могла не вызвать у историков философии законных протестов[726].
Если понимать Спинозу буквально, атрибуты суть части субстанции и, вместе с тем, выражения сущности субстанции в целом. Таковы условия проблемы — hic Rhodus, hic salta! Вместо того, чтобы устранять кроющееся тут противоречие, изменяя смысл спинозовских терминов, надо исследовать реальный предмет, в котором обнаружилось противоречие, идею Природы, и отыскать в самом предмете те конкретные логические формы, в которых данное противоречие осуществляется и разрешается.
То же самое относится и к другой, возможно, самой острой проблеме «совершеннейшего метода» Спинозы: каким образом абсолютно различные атрибуты связаны в единой субстанции. Как реально, не на словах, возможна такая необычная связь?
«Мы оказываемся в мертвой точке… Позиция Спинозы в том, что атрибуты Бога реально различны, и, вместе с тем, что каждый из них выражает одну и ту же божественную сущность. Классическая метафизика отвергает такое сочетание как невозможное, самопротиворечивое»[727].
В более поздней работе Донаган пришел к выводу, что реального единства сущности у спинозовской субстанции все же нет и что монизм Спинозы оказывается лишь «мнимым» (professed), как Декартов геоцентризм[728].
Беннетт предлагал компромисс: считать Спинозу дуалистом в одном отношении и монистом в другом. У Г еру спинозовский Бог сделался похожим на Декартова человека, слагаемого из двух автономных субстанций — мыслящего духа и протяженного тела[729]. Единство Бога в этом случае выглядит своеобразной «предустановленной гармонией» мышления и протяжения.
Однако спинозовская субстанция есть не только сумма независимых сущностей-атрибутов. Более конкретно ее следует понимать как деятельность, как единый (хотя и выражающийся в различных атрибутах абсолютно по-разному) каузальный акт. Единство атрибутов сказывается в том, что все они вместе выражают одно и то же действие, причем каждый отдельный атрибут по-своему, in suo genere, исчерпывает всю (абсолютно бесконечную) реальность субстанции.
Данное решение можно пояснить на примере[730] корреляции движения рук пианиста с идеями в его духе. Это разные стороны одного и того же действия, ближайшей причиной которого является пианист (разумеется, существует бесчисленное множество более «отдаленных» причин, которые определяют его игру и самое его существование, — для нашего примера они не имеют значения). Тело — ближайшим образом рука, касающаяся клавиш, — действует на внешние тела, изменяя их и свое собственное состояние. Идея этого действия в духе пианиста objective выражает двоякое состояние его тела — аффективное и «кинематическое», — плюс состояние воображаемого предмета (музыкальная тема); aformaliterarra идея есть его конкретное «суждение» о предмете (понимание им темы). Причем в состояниях его тела, и равным образом в состояниях духа, выражается не одна какая-либо часть действия, игры, а все действие целиком.
Равным образом всякое действие человека протекает параллельно в двух разных плоскостях — его тело изменяется и движется относительно других тел, а в его духе возникают соответствующие идеи о состояниях тела.
Атрибуты суть замкнутые каждая на себя и, тем не менее, строго симметричные формы проявления одного и того же каузального акта — акта детерминации, осуществления бесконечного в конечном. Причем субстанция (в отличие от пианиста) есть и та «вещь», которая действует, и закон своего действия, и предмет, который подвергается действию, и сам каузальный акт как таковой. Упустить из виду хотя бы один из этих моментов бытия субстанции как «причины себя», значит отрезать возможность понимания истинного единства ее атрибутов. Она рассыплется на две автономные сущности, как это случилось у Г еру и Донага-на (а вслед за этим неминуемо вырастет неразрешимая, иначе как на словах, картезианская проблема взаимодействия мышления и протяжения), либо, напротив, замкнется в абстрактное тождество с собой, как у Хуана и Вульфсона. В обоих случаях единство субстанции невозможно помыслить логически: оно оказывается мистическим, а то и вовсе мнимым.
В. УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ
На учении Спинозы о протяженной природе лежит печать незавершенности[731], однако логическая нить этой части его философии просматривается достаточно ясно. Ее основоположением является признание протяжения (extensio) атрибутом Бога наравне с мышлением.
Декарт представил мышление и протяжение как две несоизмеримые реальности и наделил их неравными правами: Бог обладает мышлением (точнее, Бог есть мыслящая субстанция — чистый дух), но не обладает протяжением. У Спинозы мышление и протяжение представляются двумя различными измерениями одной и той же реальности, причем эти измерения оказываются абсолютно конгруэнтными: всякая вещь, существующая в Природе, образует некий модус протяжения (тело) и некий модус мышления (идею). Порядок и связь существования модусов протяжения и мышления тоже абсолютно идентичны. А в чем же состоит различие?
Категория атрибута вообще выражает различное отношение субстанции к своим собственным состояниям, модусам. Это особенная форма проявления всеобщего в единичном, вечных законов Природы — в действиях отдельных вещей. Человеку известны лишь две такие формы: протяжение и мышление. В протяжении законы Природы осуществляются через внешнее взаимное действие (движение) бесконечного множества вещей, в мышлении — посредством одной, особенной вещи, которая строит свои действия (идеи) сообразно с природой всех прочих вещей — «по образу вселенной» (ex analogia universi). Последнее, согласно Спинозе, есть характерный признак интеллекта и «вещи мыслящей».
Отличительную особенность протяжения Хэллетт обозначал термином «externality» (от лат. externus — чужой, внешний). Общая природа протяженных вещей проявляется только посредством внешнего отношения одной вещи к другой, а именно «взаимного исключения» (mutual exclusion) или «формальной разности» (formal diversity) тел, которой пронизано единство материальной Вселенной.
В протяженной Природе «внешность (externality) кажется первичным признаком Реального, и там, следовательно, взаимное исключение сосуществующих частей представляется, на первый взгляд, нормой, несмотря на неделимость, единство и целостность, в которых Спиноза видит истинные признаки Протяжения» (в равной мере присущие всем атрибутам субстанции). «Протяжение с необходимостью выражает себя посредством этого обоюдного тяготения к внешности и к единству»[732].
Взаимоотношения тел складываются двояким образом: сталкиваясь между собой, тела разрушаются либо, напротив, преодолевают свою формальную разность и образуют общую структуру — «индивидуум». Синтетическим внешнее отношение тел становится при условии, что их движения взаимно скоординированы так, что различные по своим природным свойствам тела «все вместе образуют одно (unum) тело, или Индивидуум, отличающийся от прочих этой связью (unio) тел» [Eth2 df][733].
Синтетическим характером обладает не только протяжение, но и мышление. А вот внешняя форма проявления общих законов Природы в действиях отдельных вещей характерна только для протяжения. Это отличительный признак протяженной субстанции. В действиях вещей мыслящих субстанция проявляет себя иначе: она наличествует внутри всякой отдельной мыслящей вещи прямо и непосредственно — в виде конкретной идеи бесконечного Сущего. Обладание этой идеей отличает мыслящую вещь от не-мыслящей (хотя бы и одушевленной), и человек действует как мыслящее существо, лишь руководствуясь интеллектом, то есть действуя в соответствии с идеей субстанции. Универсальный (ex analogia universi) характер этой идеи — интеллекта как такового — передается всем действиям конечной мыслящей вещи, тогда как конечная протяженная вещь действует строго ограниченным образом, в зависимости от внешних условий деятельности.
В атрибутах протяжения и мышления субстанция по-разному дифференцирует свое единство и по-разному интегрирует множество своих частных состояний.
Атрибут протяжения, о котором ведется речь у Спинозы, не имеет ничего общего с протяженной субстанцией (материей), как ее понимали его средневековые предшественники или Декарт, равно как с абстрактным пространством Евклидовой геометрии или «абсолютным пространством» ньютонианцев. Протяжение, согласно Спинозе, является конкретной формой бытия-действия Бога[734], — это форма in suo genere вечная и бесконечная, не слагающаяся из частей и неделимая на части:
«Все, кто тем или иным образом размышляли о божественной природе, отрицали, что Бог является телесным… Они совершенно устраняют телесную, или протяженную, субстанцию из божественной природы и все же утверждают, что она сотворена Богом. Но какой божественной способностью (potentia) она могла быть сотворена, они совершенно не знают; это ясно показывает, что они сами не понимают того, что говорят» [Eth1 prl5 sch].
Каким образом Бог может являться причиной протяженной субстанции, коль скоро у него нет с ней ничего общего? Этому нельзя найти разумного объяснения. Причина обязана иметь нечто общее с собственным действием, в противном случае всякая вещь могла бы служить причиной всякой иной и достоверное знание причин оказалось бы невозможным. Утверждая, что Бог представляет собой чистую мысль, философы лишают себя возможности объяснить происхождение материи, поскольку природа протяжения не имеет ничего общего с природой мышления.
Декарт обсуждает эту проблему в письмах к Генри Мору (кембриджскому философу-платонику, считавшему протяжение атрибутом Бога, но не материи как таковой). Здесь ему приходится ввести дистинкцию «субстанциального протяжения» и «потенциального протяжения»: первое принадлежит лишь материи и описывается геометрически, второе — атрибут Бога, посредством которого он присутствует в сотворенной материальной природе.
«Я сказал, что Бог протяжен с точки зрения мощи (potentia), то есть что мощь эта выявляет себя или может выявить в протяженной вещи… Но я отрицаю, что мощь эта существует там наподобие протяженной вещи» [С 2, 586].
Потенциальное протяжение нельзя представить себе геометрически — в образе пустоты, как это делает Мор, либо некоего тела, материальной субстанции, — утверждает Декарт. Однако он не уточняет, что конкретно такое есть эта потенция Бога и каково ее отношение к потенции мышления. Между тем дальнейшая экспликация этого «негеометрического» понятия протяжения — как действия, посредством которого Бог создает тела, — привела бы его прямиком к Спинозе. Интересно, что последний также именовал атрибут протяжения «божественной потенцией» (divina potentia) [Eth1 prl5 sch].
Спинозовская дистинкция количества (= протяжения[735]), понимаемого абстрактно, посредством воображения, и количества, понимаемого как субстанция, посредством интеллекта, в [Eth1 prl5 sch] выглядит почти зеркальным отражением той, которую Декарт приводит в письме к Мору. Вся разница заключается в том, что Декарт считает «истинным» протяжением то, которое может быть «доступно воображению» [С 2, 569], а для Спинозы истинной является идея протяжения (количества), как она дана в чистом интеллекте.
Отчего же Декарт и христианские теологи отрицали причастность материи к природе Бога? Решающим аргументом считалась делимость материи на. части. Делимость — несовершенство, а всякое несовершенство разрушает понятие Бога как «совершеннейшего Сущего» и абсолютно бесконечной субстанции.
Впрочем, у Декарта положение о делимости материи выглядит не слишком логичным. Может ли какое-нибудь тело во Вселенной существовать совершенно независимо от остальных тел? Перестает ли существовать материя тела в том случае, когда перестает существовать само это тело? Декарт не допускает ни того, ни другого, — значит, реальное деление материи на части невозможно так же, как реальное деление мыслящей субстанции. Несмотря на это, Декарт постулирует в материи неограниченную возможность деления на все более и более простые тела (в мышлении же существуют неделимые далее, предельно простые идеи), однако этот свой постулат он не в состоянии подкрепить чем-либо, кроме апелляции к всемогуществу Бога[736]. Ему приходится признать, что
«мы не можем постичь способ, каким совершается это беспредельное деление», и «эта истина принадлежит к числу тех, которые нашей конечной мыслью объять нельзя» [С 1, 367].
Спиноза в весьма резком тоне оспаривает реальную делимость протяженной субстанции. Утверждение о ее делимости основывается на предположении,
«что бесконечное количество доступно измерению и слагается из конечных частей» [Eth1 pr15 sch].
Спиноза находит это предположение «абсурдным». Бесконечная материя есть нечто большее, нежели множество конечных тел, хотя бы число элементов этого множества было неограниченным.
Материя» сверх того и по преимуществу, есть конкретный закон связи тел и, в этом смысле, всеобщая причина их бытия.
Представление о том, что материя слагается из конечных тел, столь же неверно, как утверждение, что линия образуется из точек, пишет Спиноза. Конечно, всякую линию можно рассматривать абстрактно, как бесчисленное множество точек, однако, чтобы совершить этот мысленный акт «деления» линии, приходится отвлекаться от характера связи этих точек, образующего индивидуальную сущность той или иной линии. Выразить сущность линии можно, только определив конкретную форму взаимосвязи ее точек (к примеру, с помощью понятия движения точки, как предлагает геометрический «метод индивидуумов», или «неделимых», открытый современником Декарта Б. Кавальери).
Бесконечное заключает в себе конечное иначе, чем одна конечная вещь заключает в себе другие, конечные же, вещи. Категории целого и части не позволяют точно выразить отношение бесконечного к конечному. Элементы бесконечного не могут существовать по отдельности и, стало быть, не являются «частями» в привычном смысле слова. Конечная вещь есть состояние (affectio) бесконечной вещи-субстанции или действие (effectus) бесконечной вещи-причины, в общем, это — ограниченная форма проявления бесконечного бытия.
Представление о делимости материи выглядит в особенности странным у тех философов, которые, как Аристотель или Декарт, отрицают существование пустого пространства (vacuum), замечает Спиноза. Пустота в самом деле могла бы служить тем, что реально отделяет одно тело от другого и, таким образом, осуществляет деление материи на части.
«А так как пустоты в Природе не существует (о чем в другом месте), то все ее части должны соединяться так, чтобы не оставалось пустого пространства; отсюда следует, что эти части не могут быть реально различны, то есть что телесная субстанция, поскольку это субстанция, не может быть делима» [Eth1 pr15 sch]
Чем делится на части всякое конечное тело? Каким-либо иным телом, отвечает Декарт, и больше ничем. Но всякое тело представляет собой только индивидуальное состояние материи. А посредством чего может осуществляться деление в материи, взятой в целом, как субстанция? Декарт ничего не сообщает об этом, несмотря на то, что он считает делимость материи ее важнейшим отличительным признаком в сравнении с мышлением, позиция Спинозы более последовательна:
«Материя повсюду одна и та же, а части могут различаться в ней лишь поскольку мы мыслим ее в разнообразных состояниях; следовательно, части ее различаются модально, а не реально[737]… И хотя бы этого [свойства неделимости] не было, я не знаю, почему [материя] недостойна божественной природы: так как (по теореме 14) вне Бога не может быть никакой субстанции, [действию] которой [материя] подвергалась бы» [Eth1 prl5 sch].
Логическим определением материи у Декарта и Спинозы является категория количества. В этом отношении они следуют средневековой традиции, восходящей еще к Аристотелю. А в его «Метафизике» признак делимости входит прямо в исходную дефиницию категории количества:
«Количеством называется то, что делимо на составные части…» [1020а 7-14].
Материальные вещи (тела) Аристотель описывает категорией «непрерывного количества» на том основании, что у частей тела всегда имеется какая-нибудь общая граница — линия или поверхность, которой они соприкасаются. Это всего лишь внешние, условные границы, разделяющие одинаковые по своей природе вещи. Между частями «непрерывного количества» (в математике эта аристотелевская категория действует под латинским именем «континуум») нет никакого промежутка или пробела, который бы разделял их реально. Стало быть, материальная природа, рассматриваемая sub specie quantitatis, в действительности непрерывна и может делиться на части лишь условно, «модально», а не реально.
К категории «раздельного количества» Аристотель относит знаки — число и речь, — части которых не имеют общей границы и «стоят раздельно». Между словами или единицами натурального ряда чисел, по мнению Аристотеля, есть некий логический пробел. Знаки соединяются иначе, нежели тела, у них отсутствует общая граница, и в этом смысле натуральные числа и речь являются реально делимыми количествами, или, в более современной терминологии, «дискретными множествами». Раздельные количества не существуют вне мышления, утверждает Аристотель.
Все это, в сущности, вполне сходится с тем, что доказывает Спиноза: материя (количество, протяженная природа) как субстанция является единой и неделимой — «непрерывной», если держаться терминов аристотелевской «Метафизики». Никакое тело не может существовать отдельно и независимо от других тел, следовательно, границы между телами должны описываться категорией модального, а не реального различия. Материя делится на части только в нашем воображении, в действительности же все тела суть лишь различные состояния одной и той же субстанции.
«Количество понимается нами двумя способами: абстрактно, то есть поверхностно, как мы его воображаем, либо как субстанция, что происходит только от интеллекта. Так, если мы размышляем о количестве, как оно существует в воображении, — что делается нами часто и легче, — оно оказывается конечным, делимым и слагаемым из частей; если же затем мы размышляем [о количестве], как оно существует в интеллекте, и понимаем его как субстанцию, — что бывает труднее, — то, как мы уже достаточно доказали, оно оказывается бесконечным, единым и неделимым» [Eth1 prl5 sch].
Для интеллекта количество есть сама Природа, выступившая в своей конкретной и, вместе с тем, всеобщей форме «протяженной вещи», материи. Количество обладает качествами субстанции — бесконечностью и единством. А воображение представляет количество абстрактно, отвлекаясь от его субстанциальных качеств. Так возникает «поверхностная абстракция» материи, лишающая материю всякого конкретного качества, действенности и «самобытия». Эта абстракция легла в основание идеалистических философских концепций, а затем и классической механики.
Открытие такого, чисто негативного понимания материи, как абсолютного хаоса и неопределенности, принадлежит Платону (Аристотель звал эту материю «первичной»), а радикальнее всего эта абстракция проводится в «Наукоучениях». Фихте рассчитывает чисто дедуктивным образом извлечь все определения материальной природы из «дела-действия» (Tathandlung) Я. Материя при этом начисто лишается автономной реальности (качества), превращаясь в логическую тень Я, в не-Я, а это последнее определяется как «некоторое количество» и «как бы реальное отрицание (отрицательная величина)»[738]. Реальное, положительное качество материя приобретает только посредством отношения к Я, которое мыслится как «источник всякой реальности».
Спинозе Фихте приписывает воззрение, согласно которому вся положительная реальность сосредоточивается в материи, то есть на стороне не-Я, а мышление превращается в ее несущественное свойство, в акциденцию[739]. Это, конечно, чистой воды недоразумение. На самом деле, для Спинозы мышление и протяжение (количество, материя) суть два различных качества бытия субстанции, обладающих совершенно одинаковой реальностью. Он, в отличие от Фихте, не ставит их в отношение противоположности, ограничиваясь словами о «реальном различии» атрибутов[740]. А главное, мышление и протяжение не связаны отношением взаимодействия, как Я и не-Я у Фихте. Взаимодействовать могут только разные вещи, меж тем как мышление и протяжение — это две разные формы бытия одной и той же вещи — единой и единственной субстанции.
Многие и многие философы после Фихте доказывали, что спи-нозовская субстанция не что иное, как материя, и приводили всевозможные доводы с целью объяснить, почему же сам Спиноза предпочитал именовать ее «Богом» или «Природой», и никогда «Материей». Неогегельянцы — Джоуким, Макминн (J. B. MacMinn) и другие, — напротив, обращают субстанцию в Абсолютный Дух; а Кассирер, Донаган и Тэйлор (А. Е. Taylor) считают воззрения Спинозы на отношение протяжения и мышления латентной формой дуализма или (принимая во внимание наличие бесконечного множества других атрибутов) плюрализма[741].
Субстанция действительно есть и материя, и мышление, и сверх того другие бесчисленные атрибуты. Всеобщий закон связи вещей, который Спиноза зовет «субстанцией», не существует в чистом виде, отдельно от in suo genere бесконечных форм своего выражения, каковыми являются ее атрибуты. Однако Спиноза отказывается отдать предпочтение одной из сторон — материи либо мышлению, — и тем самым ограничить реальность другой.
Более того, он вообще отвергает, как чистый вымысел, давнее представление о противоположности материального и идеального, о непримиримом противостоянии духовного и физического миров. Эта химера обрела прочность предрассудка у неоплатоников и была возведена в канон отцами христианской церкви. С тех самых пор ученые мужи, разбившись на два враждующих лагеря, стараются выяснить, что главнее, «первичнее» в этом мифическом противоборстве духа и плоти. Одни считают мышление особой формой существования и действия материи, у иных деятельное мышление противостоит пассивной материальной стихии. Неординарность решения Спинозы заключается в том, что материю (протяжение) и мышление он признавал в одинаковой мере реальными и деятельными формами бытия одной и той же субстанции. Субстанция проявляет себя различным образом в мире тел и в мире идей, однако она повсюду сохраняет в неизменности одни и те же законы своего действия и тот же самый «порядок вещей».
Можно оспаривать основательность этого решения, доказывать, что такое тождество мышления и протяжения имеет место только на словах, но, как бы то ни было, я полагаю, буква его учения не позволяет причислить его к той или иной существующей школе — в своем философском «лагере» Спиноза остается в одиночестве[742].
Природа протяженной субстанции проявляет себя прежде всего в движении вещей, учит Спиноза. Движение есть модус, «-не-посредственно» выражающий природу протяжения (в мыслящей природе таким «непосредственным» модусом является интеллект). Непосредственные модусы субстанции «следуют из абсолютной природы Бога», и потому они, так же, как их ближайшая причина, Бог, обладают вечным и бесконечным существованием [Eth1 pr21]. Правда, их бытие является бесконечным не absolute, а всего лишь in suo genere — в пределах одного атрибута субстанции. В [KV 1 ср9] эти непосредственные модусы субстанции — «движение в материи и разум в мыслящей вещи» — Спиноза несколько высокопарно именует «сынами Бога». Они призваны «опосредствовать» (mediare) все прочие действия Бога [Eth1 pr28 sch], иначе говоря, все остальные модусы субстанции существуют и действуют только через посредство какого-либо из этих первых модусов.
За этим отвлеченно-умозрительным построением скрывается простая и великая мысль: природа тел заключается в движении, которое является вечным и бесконечным состоянием материи. В основании знания о материальной природе лежит знание о законах движения тел, и всякое тело, в сущности, представляет собой своеобразный «сгусток» движения:
«Всякая отдельная телесная вещь есть только определенная пропорция движения и покоя…» [KV vmz].
Тело не конгломерат атомов, не частица вещества или его геометрическая форма, а — «пропорция движения и покоя». Физика во времена Спинозы была еще не в состоянии по достоинству оценить эту идею. В континентальной Европе властвовала картезианская механика. Спиноза, со своей стороны, считал «Декартовы начала естествознания негодными, чтобы не сказать абсурдными»[743]. Все начинается с расхождения мнений Декарта и Спинозы относительно причины движения.
Декарт усматривал «природу материи, или тела, рассматриваемого вообще…, лишь в том, что оно—субстанция, протяженная в длину, ширину и глубину» [С 1, 350], —то есть приписывал материи геометрическую природу. Движение Декарт понимал как «модус» материи, то есть свойство, описывающее только форму внешнего существования материи, а не ее природу[744]. Движение тела никак не связано с его протяженностью в пространстве, утверждает Декарт.
«Геометрический ум»[745] оказывается не в состоянии усмотреть физическую связь движения и пространства. Для геометра движение вообще есть просто перемещение — изменение внешнего положения тела относительно всех прочих тел, или перемена занимаемого телом «внешнего места».
Поскольку в собственной природе материи движения нет, приходится предположить, что ее приводит в движение некая внешняя причина. Так Декарт приходит к заключению о том, что
«Первичной и универсальной причиной, вызывающей вообще все движения, какие имеются в мире… может быть только Бог» [С 1, 367].
Это почти аристотелевское определение Бога как Первого Двигателя материи Спинозе представляется совершенно ложным, равно как и утверждение Декарта, что тело можно мыслить без движения[746]. Геометрический образ тела, получающийся вследствие абстракции от движения, есть всего лишь «рассудочное сущее» (ens rationis), а не «вещь физическая, или реальное сущее» (res physica, sive ens reale).
«Из Протяжения, как его понимает Картезий, а именно покоящейся массы, доказать существование тел… совершенно невозможно, ибо покоящаяся материя, поскольку она существует в себе, будет пребывать в покое и не придет в движение, иначе как вследствие более могущественной (potentiora) внешней причины» [Ер 81].
Природа материи сказывается прежде всего в движении, это оно, движение, определяет геометрические и вообще все возможные свойства тел, — вот что имеет в виду Спиноза, именуя движение «непосредственным» модусом протяжения или «сыном Бога». Движение не просто свойство тел, а непосредственная причина их существования:
«Всякая отдельная вещь, начинающая действительно существовать, становится такой через движение и покой, и таковы суть все модусы в субстанциальном протяжении, которые мы называем телами» [KV 2 prf].
Движение — вот чему тела обязаны своим бытием. В материальной природе Бог непосредственно выражает себя в движении, вследствие чего движение является in suo genere бесконечным и вечным, как и ближайшая причина его существования — Бог. Это значит, что, вопреки мнению Аристотеля и Декарта, у движения нет начала и не существует никакой внешней причины, которая бы его сотворила или сохраняла одно и то же количество движения. Бог не приводит в движение «покоящуюся массу» (moles quiescens) материи, как полагал Декарт, но создает и формирует тела посредством движения.
Это генерирующее материю движение, разумеется, не есть просто механическое перемещение тела в пространстве. Для Спинозы движение — это вечный и бесконечный творческий акт, в ходе которого образуется материальная Вселенная. По-видимому, недалеко от истины мнение Эррола Харриса, согласно которому спинозовский модус движения-и-покоя есть не что иное, как энергия современной физики[747].
Перемещение, которое Декарт считал «движением в подлинном смысле» [С 1, 360], Спиноза рассматривает как воображаемую форму движения. Это та форма, посредством которой движение конечных тел является человеческим чувствам. Изменение реальной «пропорции» движения и покоя в известных пределах (выход за эти пределы означает уничтожение тела) воображение воспринимает как перемещение тела в пространстве, как изменение его геометрической формы и становление иным во времени.
В [Eth2] Спиноза различает три основные формы движения: простейшие тела (corpora simplicissima) движутся иначе, чем конечные сложные тела (corpora composita), а Вселенная, образующая одно бесконечно сложное тело, движется иначе, чем все конечные тела, из которых она слагается. Вселенная движется, не претерпевая никакого изменения, поэтому ее движение, в отличие от движения конечных тел, невозможно представить в имаги-нативной форме перемещения в пространстве и становления во времени:
«Вся [протяженная] Природа есть один Индивидуум, части которого, то есть все тела, изменяются бесчисленными способами, без всякого изменения Индивидуума в целом» [Eth2 lm7 sch].
Этот второй бесконечный модус материи — facies totius Universi (форма Вселенной в целом), как Спиноза именует его в [Ер 64][748], — в отличие от бесконечного модуса движения, следует «из абсолютной природы» (ex absoluta natura) протяжения не прямо и непосредственно, а лишь «через посредство» (mediante) бесконечного движения. Форму бытия Вселенной в целом Спиноза описывает здесь в сугубо диалектической манере, заставляющей читателя вспомнить о Гераклите: facies totius Universi, «хотя и изменяется бесчисленными способами, тем не менее остается постоянно одним и тем же».
Это абсолютно высшая, интегральная форма движения в Природе — движение, тождественное с покоем. Она заключает в себе в снятом виде все прочие формы движения, свойственные различным телам в бесконечной Вселенной. Движение связывает все существующие тела в «одно тело, или Индивидуум, отличающийся от прочих этой связью тел», и это единое динамическое тело Вселенной, вечное и бесконечное, в письме Спинозы именуется facies totius Universi.
Нередко facies totius Universi понимается как мир, данный в чувственном опыте в формах пространства и времени. Эту феноменальную Вселенную, мир явлений опыта, Спиноза зовет «общим порядком Природы» (communis Naturae ordo) и рассматривает как результат преломления в оптике человеческого воображения одного небольшого сектора той реальной Вселенной, которую описывает выражение facies totius Universi. В основании феноменальной Вселенной лежат геометрические свойства тел, поскольку категория пространства возглавляет отряд форм человеческой чувственности; реальную Вселенную — facies totius Universi — необходимо мыслить посредством динамических категорий, производных от категории движения.
Геометрическая концепция Вселенной возникаем в трудах пифагорейцев, а ее дальнейшее развитие связано с именами Архимеда, Галилея, Декарта и Ньютона. Декарт усматривает природу тел в их геометрической форме, отвлекаясь не только от «вторичных качеств», но, поначалу, и от характера движения тел. Спиноза же оказывается предтечей современной динамической физики (начало ей положили электродинамика Максвелла и релятивистская механика Лоренца — Пуанкаре). В его гениальном положении: всякое тело есть известная пропорция движения и покоя, — без труда угадывается антитеза аксиомам картезианской механики. Геометрические свойства тел — их внешняя форма, величина и положение в пространстве — диктуются характером их движения. Пространство вообще есть не что иное, как внешняя форма движения тел, а не «главный атрибут» материальной субстанции, как полагал Декарт.
Уоллес Мэтсон (W. Matson) остроумно заметил, что если бы духи покойных метафизиков могли в наши дни присутствовать на конгрессе по теоретической физике, наверное, один Спиноза имел бы право воскликнуть: «I told you so» — «я же вам говорил!»[749] А Борис Кузнецов писал, что сведущим в философии физикам «категории Спинозы начинают казаться душами, которые в течение трех веков искали и не находили физического воплощения»[750]. Впрочем, насколько можно судить, Спиноза сам не вполне понимал последствия, которые его учение о протяжении могло иметь для естественных наук. Во всяком случае его чисто механические рассуждения — притом не слишком убедительные — в письмах, адресованных Ольденбургу и Бойлю, заставляют в этом усомниться.
Что же позволило Спинозе, который, безусловно, не был физиком масштаба Декарта или Гюйгенса, предугадать тенденцию развития естествознания на три столетия вперед? Полагаю, он обязан этим тому, что не стал углубляться на территорию физики, предпочитая оставаться логиком. Тому, что предметом его внимания была не физическая реальность, а физическое мышление, и не материя как таковая, а идея материи в человеческом разуме.
В логическом арсенале разума есть свои, универсальные критерии для определения адекватности физической или всякой иной теории. Геометрическая физика Декарта этим критериям не удовлетворяла, поэтому Спиноза и счел ее «негодной». Лакатос назвал бы это «отрицательной эвристикой» (negative heuristic) исследовательской программы Спинозы. Ее «твердое ядро» (hard core) — универсальный логический постулат: «существовать» означает «действовать», — прямо указывает на то, что природу, причину существования тел следует видеть в осуществляемых ими действиях, то есть в их движении, а не в тех (геометрических) свойствах, которыми тела обладают в воображаемом состоянии абсолютного покоя и пассивности.
Стало быть, учение Спинозы о материальной природе — это вовсе не умозрительная физика, как принято думать, но особая, предметная логика. Она не занимается явлениями природы как таковыми, а осуществляет рефлексию идеи природы протяженной в себя. Идея не является чем-то посторонним своему предмету, напротив, истинная идея вещи, согласно Спинозе, есть «объективная сущность» этой вещи; поэтому, подвергнув рефлексии наличествующие в человеческом духе идеи, логик многое может сказать о предметах этих идей.
Так, излагая законы движения в аксиомах и леммах после [Eth2 pr 13 sch], Спиноза, в отличие от Декарта, не старался объяснить с помощью этих законов те или иные конкретные явления в материальной природе; вместо этого он предупреждал, что учение о природе тел в «Этике» служит лишь для того, чтобы лучше понять человеческий дух (поскольку он рассматривал этот дух как идею тела).
В [С 1, 368] Декарт, размышляя над тем, каким образом Бог может являться причиной движения и изменения материальных вещей, формулирует три закона природы: в первом дается понятие инерции, второй постулирует прямолинейный характер инерционного движения, третий определяет условия механического взаимодействия движущихся тел. Эти законы, пишет Декарт, установлены Богом при сотворении материи, и образуют «вторичные причины» движения тел («первичная причина» — это сам Бог).
Для Спинозы Бог есть не что иное, как закон природы, он отвергает понятие трансцендентного Бога, который существовал бы вне, отдельно от творимых им вещей. За словами Спинозы о том, что Бог является непосредственной причиной движения, кроется его желание подчеркнуть свое несогласие с Декартом: никакой «первичной» причины движения, отличной от законов Природы, не существует, а эти законы самодостаточны и их нельзя объяснить чем-либо иным. Описание законов движения тел для Спинозы равнозначно описанию Бога, протяженной субстанции, как она существует «в себе».
В первой аксиоме своей предметной логики Спиноза констатирует универсальность движения:
«Все тела или движутся, или покоятся» [Eth2 ax1].
А в первой лемме говорится о том, что движение и покой есть единственное, чем одни тела отличаются от других; субстанция же (материя) у всех тел одна и та же.
Вторая аксиома спинозовской предметной логики гласит:
«Всякое тело движется то медленнее, то скорее» [Eth2 ах2].
Стало быть, тел, которые пребывали бы в абсолютном покое, не существует. О том, что «в универсуме нет действительно неподвижных точек» и «ни для какой вещи в мире нет твердого и постоянного места, помимо того, которое определяется нашим мышлением», писал еще Декарт [С 1, 355]. Он полагал, что всякая вещь перемещается по отношению к одним вещам и покоится относительно других, следовательно, различие движения и покоя существует не в реальных вещах, а лишь в человеческом мышлении. Однако, поскольку Декарт мыслит движение как механическое перемещение в пространстве, в своей физике ему поневоле приходится оперировать «модальным» различием движения и покоя. Так, он пишет, что движение и покой суть «два различных модуса тела» и, далее, что «покой противоположен движению» [С 1, 361, 369]. У Спинозы противоположность движения и покоя стирается. Движение и покой (motus et quies) — это не два разных состояния материи, а один ее вечный и бесконечный модус (иногда он пишет просто о модусе движения, а покой не упоминается).
Для конечных тел различие движения и покоя сохраняет некоторый смысл: покой — это предельная форма движения, когда движения тел взаимно уравновешивают друг друга. Понятие «равновесия» (aequilibrium) встречается у Спинозы при решении физических проблем в РРС и Ер[751], а также старой философской проблемы свободы воли. В классической ситуации буриданова осла последний покоится, то есть пребывает в состоянии пассивного равновесия, вызываемого действием противоположных внешних причин. Покой для Спинозы означает отсутствие внутренней причины для существования и смерть вещи (характер ее перемещения в пространстве не имеет значения). Буриданов осел неминуемо умирает, говорит Спиноза. Свобода воли, отличающая «мыслящую вещь» от «глупейшего осла», заключается в том, что «мыслящая вещь» побуждается к действию своею собственной природой [СМ 2 ср12].
Тело существует, поскольку оно движется, а покой равнозначен утрате его существования, уничтожению тела, — вот та общая идея, которой руководствуется Спиноза. Категория покоя указывает, выражаясь языком математики, «предельные точки» существования конечных тел, в которых совершается превращение одного модуса протяжения в другой, качественное изменение конечной формы бытия материи. А бесконечная форма Вселенной, facies totius Universi, пребывает вечно в одном и том же неизменном виде, несмотря на непрерывное движение ее «частей», поэтому различие движения и покоя теряет здесь свою реальность, снимается, растворяясь в бесконечности.
«Субстанция, протяженная в длину, ширину и глубину… и есть то, что называется, собственно, телом», — говорится у Декарта в [С 1, 349]. Это практически дословное повторение дефиниции 1 книги XI «Начал» Евклида: «Тело есть то, что имеет длину, ширину и глубину».
Природу тела в картезианской физике выражают его геометрические свойства (величина и фигура). Динамические свойства тел описывают внешнюю форму их существования, а чувственные качества (температура, плотность, вес, цвет, звук, запах и вкус) вообще не обладают реальным бытием вне человеческого духа.
Спиноза тоже настаивает на необходимости различать «понятия, объясняющие природу так, как она относится к человеческому чувству», и «чистые понятия, объясняющие природу, как она существует в себе». Однако к числу «чистых» понятий он относит только «движение, покой и их законы» [Ер 6], а геометрические понятия — нет, ибо они не показывают причины существования тел. Зато геометрия позволяет адекватно описать особенности существования того или иного тела «рег comparationem ad aliam» — «посредством сравнения с другими» [СМ 1 cpl]; чувства же не могут дать ничего, кроме неадекватных, более или менее «смутных» описаний существования тел. Геометрические и иные понятия, адекватно описывающие положение вещей, однако не указывающие их конкретных причин, Спиноза помещает в категорию «рассудочного сущего» (ens rationis).
Стало быть, первичным качеством тел для Спинозы является движение; вторичные качества суть величина, фигура и тому подобные рассудочные абстракции; ну а чувственные качества, рисуемые человеческим воображением, по словам Спинозы, показывают скорее состояния человеческого тела, нежели внешних тел.
Расхождение Спинозы и Декарта во мнениях делает еще более острым проблема предела деления тел. На старый вопрос, в очередной раз поставленный в книге Бойля:
«Существует ли какая-нибудь [простейшая] доля (portio) материи?» — по мнению Спинозы, «следует отвечать утвердительно, если только мы не желаем постулировать прогресс в бесконечность или допустить (нелепее чего ничего не может быть) существование пустоты» [Ер 6].
Делимость материи до бесконечности — одно из «первоначал» (principia) Декартовой физики, а существование пустоты доказывает, полемизируя с картезианцами, Паскаль. Оба эти решения представляются Спинозе неудовлетворительными, и он постулирует в «Этике» существование
«простейших тел (corpora simplicissima), которые различаются между собой только движением и покоем, скоростью и медленностью [движения]» [Eth2 lm3 ах2].
Спинозовские corpora simplicissima различаются только (solo) формой своего движения — в остальном все они абсолютно идентичны. В мире «простейших тел» совершенно отсутствуют различия геометрической формы и величины, плотности, массы и других физических свойств, которые приписывали своим «атомам» материалисты, от Левкиппа до Гассенди. Простейшее тело есть предельно малая «доля» (~ порция, portio) движения, или, как принято теперь говорить, «квант» движения. Это вообще не «тело» в привычном, эмпирическом смысле слова, поэтому всякая аналогия с «атомами» классической механики теряет смысл. У них имеется только одна формально-общая черта — неделимость, или простота.
Спиноза избегает называть corpora simplicissima «атомами» или «индивидуумами» («individuum» по-латински означает «неделимое» — то же самое, что по-гречески «атом»), так как у них, в отличие от атомов, нет настоящей индивидуальности. «Индивидуумами» Спиноза зовет только «сложные тела» (corpora composita), поскольку всякому из них присуща относительно устойчивая пропорция движения и покоя. Индивидуальность тела у Спинозы определяется не его местом в пространстве, не геометрической формой или веществом, из которого оно состоит, а динамической формой связи его частей:
«То, что образует форму Индивидуума, заключается в связи тел; связь же эта сохраняется, хотя бы тела [образующие Индивидуум] беспрерывно изменялись» [Eth2 lm4 dm].
«Форма» означает здесь конкретную сущность, устойчивую определенность вещи, которая делает вещь тем, что она есть, — Индивидуумом, — и сохраняется в неизменном виде вплоть до самой гибели вещи. Эту индивидуальную форму сложного тела раньше, в KV, Спиноза именовал «пропорцией движения и покоя».
«Сложные тела», бесконечно разнообразные, помещаются между двумя крайними полюсами материальной Природы — «формой Вселенной в целом» и микромиром «простейших тел». Всякое сложное тело возникает вследствие взаимодействия каких-либо более простых тел, которые «взаимно соприкасаются» или «сообщают известным образом свои движения друг другу» так, что они «все вместе образуют одно тело, или Индивидуум, отличающийся от прочих этой связью тел» [Eth2 df].
Индивидуальная форма связи тел — единственное, что может сохраняться без изменения в непрерывном потоке движения материи, значит, в ней скрывается конкретная сущность всякого сложного тела. Мыслить тело как Индивидуум, как некое целое, отличающееся особой внутренней связью своих частей, конкретной пропорцией движения и покоя, — значит понимать это тело как модус субстанции, «под формой вечности» (sub specie aeternitatis). Всякое сложное тело, следовательно, заключает в себе некую вечную индивидуальную сущность.
Но это лишь одна сторона его бытия. Другая состоит в том, что всякое тело является частью более обширного целого и, в конечном счете, частью бесконечно сложного тела — facies totius Universi. Мыслить тело в качестве части какого-либо целого, согласно Спинозе, значит мыслить его «под формой длительности» (sub specie durationis), в категориях пространства и времени.
Обе эти формы восприятия тела — чисто интеллектуальная и чувственная — совершенно правомерны и необходимы (поскольку бытие конечного сложного тела действительно является двойственным: оно существует как конкретное целое, Индивидуум, и вместе с тем как часть более сложного Индивидуума). Однако знание, которое они дают человеку, оказывается далеко не равноценным. Знание сущности тел, безусловно, важнее, чем знание геометрии их относительного перемещения в пространстве, не говоря уже о том, что чувственное знание никогда не бывает вполне адекватным из-за бесчисленных внешних факторов, влияющих на перемещение тела (его траектория диктуется не только собственной природой тела, она в разной мере зависит от действия вообще всех внешних тел, существующих во Вселенной).
Далее Спиноза формулирует одно общее правило: чем сложнее структура тела, тем прочнее существование его индивидуальности.
Сложный индивидуум может претерпевать различные изменения внешней формы (геометрических свойств и траектории перемещения в пространстве и времени) под действием внешних тел, при этом сохраняя свою природу, то есть индивидуальную пропорцию движения и покоя, —
«лишь бы только всякая часть его сохраняла свое движение и сообщала его остальным [частям], как прежде» [Eth2 lm7].
В схолии к этой лемме Спиноза продолжает:
«Мы рассматривали до сих пор Индивидуум, слагающийся из тел, которые различаются только своим движением или покоем, скоростью и медленностью, то есть из тел простейших. Если мы рассмотрим теперь иной [Индивидуум], слагающийся из множества Индивидуумов, различных по своей природе, то найдем, что он может претерпевать столь же многие другие состояния, тем не менее сохраняя свою природу» [Eth2 lm7 sch].
И напротив, чем проще динамическая структура тела, то есть взаимная связь движений его частей, тем менее прочным является его бытие. Нелишне заметить, что критерием прочности бытия Спиноза считает не длительность существования тела во времени, а разнообразие состояний, которые тело способно претерпевать, сохраняя одну и ту же индивидуальную форму, иначе говоря, умение изменять отдельные свои части, не утрачивая индивидуальность целого — свою «этость», haecceitas, как выразился бы Дунс Скот.
Отсюда явствует — хотя Спиноза прямо об этом не говорит, — что corpora simplicissima, вообще не имеющие частей и, стало быть, начисто лишенные индивидуальной формы, не располагают сколько-нибудь устойчивым, прочным бытием. Простейшее тело не знает покоя, оно изменяется каждое мгновение. Размышляя о природе простейших тел, «этого праха физического бытия (the dust of physical being)», Хэллетт приходит к выводу, что
«продолжительность их существования по существу «инфинитезимальна» [бесконечно мала], и они поэтому непрерывно возникают и разрушаются»[752].
Тут есть одна неточность: простейшее тело не возникает и не разрушается — возникать и разрушаться (на части) могут только сложные тела, конечные тела-индивидуумы, — а непрерывно превращается в иное простейшее тело. Оно может существовать только в этом не прекращающемся ни на миг потоке движения, в качестве элементарного момента гераклитовской «реки» становления, «в которую нельзя вступить дважды». Остановить метаморфоз простейшего тела означало бы уничтожить его. Вместе с тем рухнула бы вся материальная Вселенная:
«Если [хотя бы] одна часть материи была уничтожена, то с нею вместе исчезло бы все Протяжение» [Ер 4].
Сущность простейших тел невозможно мыслить «под формой вечности», так как у них нет индивидуальности, нет никакой сколько-нибудь прочной формы бытия. А существование facies totius Universi нельзя представить «под формой длительности», поскольку бесконечное тело Вселенной не существует как часть какого-либо более обширного целого и, следовательно, не изменяет форму своего движения в пространстве-времени.
С. УЧЕНИЕ О МЫШЛЕНИИ
Мышление (cogitatio), понимаемое как атрибут субстанции, не имеет ничего общего с конечным человеческим разумом. Между ними не больше сходства, чем между небесным знаком Пса и лающим животным, заявляет Спиноза [Eth1 prl7 sch]. Прежде всего, атрибут мышления не есть функция души, напротив, дух человека есть лишь один из его модусов, то есть одна из бесчисленных идей, существующих в бесконечном мышлении.
Cogitatio — это особая форма проявления общих всей Природе законов бытия. Ее особенность заключается в том, что законы Природы осуществляются не косвенно, через бесконечный ряд взаимно определяющих друг друга к движению вещей, как это происходит в Природе протяженной, а прямо и непосредственно, в действиях одной конечной вещи. Последняя действует сообразно с природой всех прочих вещей — ex analogia universi (по образу вселенной), как выразился в [Ер 2] Спиноза. Это признак «вещи мыслящей» (res cogitans). А чистые формы ее универсальной деятельности, взятые вместе, образуют ее интеллект.
Мыслящая вещь превращает формы бытия всех прочих вещей в формы своей собственной деятельности. Она присваивает сущность того предмета, с которым действует, рассекая плоть его наличного бытия. В мышлении сущность представляется в чистом виде, отдельно от той вещи, которой эта сущность принадлежит:
«Истинная идея Петра есть объективная сущность (essentia objectiva) Петра, притом [эта идея есть] нечто реальное в себе и совершенно отличное от самого Петра» [TIE, 11].
В общем, идея вещи есть ее же, вещи, собственная сущность, очищенная деятельностью мыслящего существа и существующая «объективно» (objective)[753], то есть отдельно от той вещи, которой она «формально» (formaliter) принадлежит.
Там, где сущность вещи А получает такое своеобразное «инобытие» в поле деятельности вещи В, мы встречаемся с феноменом мышления. Природа мышления заключается в этой способности извлекать и присваивать сущность всякой вещи, превращая эту сущность в форму своей собственной деятельности. Мыслящее существо обращается с вещами так, как того требует их собственная природа. Следовательно, исчерпывающее описание законов мышления равнозначно описанию природы всех без исключения вещей, существующих во вселенной. Вот почему Спиноза считает мышление атрибутом субстанции и что имеет в виду, утверждая:
«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» [Eth2 pr7].
Отличие мышления от протяжения заключается не в наличии особых законов бытия, а лишь в форме выражения общих всему сущему, универсальных законов Природы.
Тут приходит на ум естественное возражение: разве наши мысли, идеи подчиняются физическим, химическим или биологическим законам, действующим в мире тел? Нет, разумеется. В отличие от тел, идеи не движутся в пространстве, не старятся от времени и в огне — даже в гераклитовском вселенском первоогне — не горят[754]. Однако идеи тел обязаны objective передавать все те законы, которым тела повинуются formaliter. В этом смысле бытие тел и их идей оказывается конгруэнтным.
В TIE Спиноза формирует дефиницию интеллекта, анализируя его «положительные свойства» и предлагая установить нечто общее, откуда с необходимостью следовали бы эти свойства. Мы предположили, что Спиноза намеревался определить интеллект как бесконечную идею Бога. Согласно «Этике», интеллект является непосредственным бесконечным и вечным модусом субстанции в атрибуте мышления. Это значит, что причиной существования интеллекта является не какой-либо иной модус мышления, а мыслящая Природа как таковая, и что все остальные модусы мышления получают свое существование через посредство интеллекта. Интеллект «заключает в себе всю Природу» [Ер 32], поэтому objective он представляет собой не что иное, как идею Природы, Бога, субстанции.
Отношение интеллекта к идее Бога в философии Спинозы — давняя проблема. Поллок (F. Pollock) и Джоуким считали их двумя разными бесконечными модусами (по примеру motus et quies и facies totius Universi в протяженной Природе)[755], а Вульфсон доказывал, что это просто два разных термина, обозначающих один и тот же модус. Тексты Спинозы, как мне кажется, не позволяют с уверенностью поддержать одну из сторон.
Проблема осложняется тем, что у Спинозы два разных модуса могут выражать одну и ту же вещь. Эту сторону дела комментаторы, как правило, почему-то не принимают в расчет, хотя такой оборот мысли является в высшей мере характерным для логического метода Спинозы. Ни один известный мне автор не задавался вопросом, образуют ли intellectus infinitus и infinita idea Dei одну и ту же вещь либо две разные. Словно два разных модуса — то же самое, что две разные вещи.
Так, Пол Эйзенберг (Р. Eisenberg) предлагает довольно тонкое доказательство того, что понятие идеи и понятие интеллекта у Спинозы выражают одно и то же действие мышления, и, стало быть, интеллект не является чем-то отличным от своих идей. На этом основании он далее заключает, что термины «infinitus Dei intellectus» и «infinita idea Dei» должны обозначать один и тот же модус субстанции[756]. На самом деле он доказал лишь то, что интеллект и идея Бога есть одна и та же вещь, — полагая, что доказал их тождество как модусов мышления. Однако разве интеллект и идея Бога не могут быть двумя разными модусами одной вещи! Эту возможность Эйзенберг не учел — по той простой причине, что не видел разницы между вещью и модусом.
А ведь, согласно Спинозе, не только два модуса разных атрибутов (как тело и дух), но и два модуса одного атрибута могут принадлежать одной и той же вещи. Таким отношением связаны, к примеру, два конечных модуса мышления — человеческий дух и его рефлективная идея о себе (самосознание):
«Эта идея Духа соединяется с Духом точно так же, как сам Дух соединен с Телом… Идея Духа и сам Дух есть одна и та же вещь, которая понимается под одним и тем же атрибутом, а именно [атрибутом] Мышления».
Эти два модуса в действительности образуют одну и ту же вещь, понимаемую под общим атрибутом: идея духа есть собственная, чистая форма духа, поскольку тот мыслится безотносительно к своему объекту — телу.
«Идея Духа, то есть идея идеи, — это не что иное, как форма идеи, поскольку та рассматривается как модус мышления, без отношения к объекту» [Eth2 pr21 sch].
Хэллетт считает, что выражение «intellectus infinitus» Спиноза, как правило, сохраняет за непосредственным модусом мышления, а выражение «infinita idea Dei» — за «опосредствованным» (mediate) бесконечным и вечным модусом[757]. Ход рассуждения довольно прост. В протяженной Природе бесконечных модусов два — motus et quies и facies totius Universi. А порядок существования модусов мыслящей и протяженной Природы, согласно Спинозе, остается одним и тем же. Значит, и в мышлении тоже должны существовать два бесконечных модуса. Точно известно, что непосредственный бесконечный модус мышления Спиноза именует «интеллектом» и что идея Бога — тоже бесконечный модус.
Само собой напрашивается решение — то, которое предлагает Хэллетт (и, вероятно, не он первый): объявить идею Бога опосредствованным бесконечным модусом мышления, параллельным такому же модусу протяжения, facies totius Universi.
Весьма возможно, таков и был замысел Спинозы. Однако почва для сомнения остается. В [Eth2 pr8] говорится, что идея Бога заключает в себе все возможные идеи. Это и вправду похоже на описание опосредствованного модуса, во всяком случае facies totius Universi Спиноза понимает именно как сумму всех существующих тел (пропорций движения-покоя). Однако в [Eth5 pr40 sch] уже интеллект описывается как полная (бесконечная) сумма адекватных идей. Это наводит на мысль, что термин «intellectus» может обозначать оба бесконечных модуса мышления. Почему бы нет, раз уж эти два модуса принадлежат одной вещи? В текстах Спинозы случаются и более странные приключения терминов.
Так или иначе, твердо ясно одно: intellectus и idea Dei образуют одну и ту же вещь. Идея Бога — это интеллект, рассматриваемый objective, то есть в отношении к своему предмету, а интеллект — это идея Бога, рассматриваемая formaliter, то есть в отношении к атрибуту мышления. Интеллект не есть свойство духа либо некий логический вакуум, в котором пребывают идеи. Это универсальная связь, охватывающая все возможные идеи и выступающая в конкретной форме идеи Бога. Вместе с тем intellectus infinitus и idea Dei вполне могут считаться двумя разными модусами мышления.
В бесконечном интеллекте существует идея о всякой конкретной вещи. Эта идея, согласно терминологии Спинозы, образует «объективное бытие» (esse objecti vum) данной вещи, или ее «дух» (mens). В этом смысле дух имеется не только у человека, но и у
«других Индивидуумов, которые все, хотя в различной мере, тем не менее [тоже] одушевлены (animata). В самом деле, в Боге о всякой вещи с необходимостью существует идея, причина которой есть Бог, таким же образом, как [существует] идея человеческого Тела; поэтому все сказанное нами об идее человеческого Тела с необходимостью относится к идее всякой иной вещи» [Eth2 pr13 sch].
В [KV vmz] Спиноза поясняет, что слово «дух» (~ душа, голланд. Ziel) означает «не только идеи, возникающие из телесных модификаций, но и те, которые возникают из существования любой модификации остальных атрибутов» (которые остались неизвестными человеческому духу). Иными словами, идея всякого модуса есть дух.
В связи с этим Спиноза высказывает в письме к Чирнгаусу одну довольно необычную, даже странную, мысль. Поскольку всякая реальная единичная вещь образует особый модус в каждом из бесчисленных атрибутов субстанции, а идея всякого модуса данной вещи есть дух, постольку всякая вещь имеет бесчисленные души, которые, правда, ничего не могут знать друг о друге, ибо их объекты, модусы различных атрибутов, никак между собой не связаны[758]. У Спинозы это звучит так:
«Всякая вещь выражается в бесконечном интеллекте Бога бесчисленными способами, однако те бесчисленные идеи, которыми она выражается, не могут составлять один и тот же Дух единичной вещи, но [образуют] бесчисленные [души], так как ни одна из этих бесчисленных идей не имеет никакой связи с остальными» [Ер 66].
Значит, общее число идей-душ в атрибуте мышления равно сумме всех существующих модусов всех атрибутов субстанции, включая в эту сумму собственные модусы атрибута мышления (идее всякой единичной вещи в мышлении соответствует еще одна, рефлективная идея)[759]. Континуум идей интеллекта превращается вследствие этого в некое п-мерное гиперпространство, где п — это (трансфинитное) число атрибутов субстанции.
Помимо идей единичных вещей и их модусов в интеллекте существуют еще идеи свойств вещей — разнообразные абстракции их общих или индивидуальных признаков, к которым слово «дух» не прилагается, а также entia rationis — особые модусы мышления, которые, согласно Спинозе, вообще не следует называть «идеями». Тексты умалчивают о том, надо ли считать духом рефлективную вдею, то есть такую идею, предметом которой является не тело, а какой-либо другой модус мышления, в частности идею «я».
Дух человека есть идея его индивидуального органического тела. Одно это тело «и ничто иное», согласно [Eth2 pr13], «служит объектом идеи, образующей человеческий Дух», поэтому единственное, что воспринимается нами прямо и непосредственно, — это состояния собственного тела. Природу всех прочих тел дух воспринимает лишь постольку, поскольку они действуют на тело человека и это тело, в свою очередь, действует на них. Следовательно, тело является своего рода «линзой», через посредство которой дух воспринимает внешний мир:
«Человеческий Дух не воспринимает никакое внешнее тело, иначе как посредством идей о состояниях своего Тела» [Eth2 pr26].
Этим очерчиваются границы человеческого познания. Поскольку дух есть идея тела, он
«может распространить свое познание только на то, что заключает в себе идея актуально существующего тела или что может быть выведено из этой идеи» [Ер 64].
Стало быть, человек может знать что-либо лишь о телах и идеях и обречен оставаться в неведении относительно существования иных атрибутов и модусов бесконечной Природы. Уверенность Спинозы в познаваемости мира человеческим духом не безгранична. Хотя кому-то его позиция кажется излишне осторожной, даже «неразумной» (unwise)[760], она логически следует из положения о том, что наш дух есть идея тела.
Дух и тело никак не действуют друг на друга и у них нет решительно никаких общих признаков или свойств. Тем не менее порядок и связь всех состояний духа и тела строго тождественны: всякое действие духа протекает параллельно какому-либо движению тела, а в теле не происходит ничего, чему не соответствовала бы какая-нибудь идея в духе. Словом, это абсолютно разные формы бытия одной и той же вещи, учит Спиноза. Что не означает, будто отношение духа и тела является «некаузальным» (Мэйсон)[761]. Просто это не прямое каузальное отношение причины к своему действию, а отношение симметрии двух разных форм действия одной и той же причины.
Может показаться, что формула Спинозы mens idea corporis (дух — идея тела) ничем по сути своей не отличается от аристотелевско-схоластической формулы anima forma corporis (душа — форма тела). Такого мнения держится, в частности, Вульфсон. Этимологический резон присутствует: латинское слово «forma» обычно использовалось для перевода греческих философских терминов «idea, eidos». Однако у Аристотеля идеальная форма образует сущность тела, а у Спинозы идея лишь выражает природу тела в особой форме. Природа тел заключается в движении и не имеет ничего общего с формой идей, которой те обладают в атрибуте мышления. Аристотель объясняет характер существования тела качествами идеи, заключенной в этом теле, Спиноза же, напротив, объясняет особенности человеческого духа устройством и действиями его предмета, тела:
«Для определения того, чем Дух человека отличается от прочих и в чем превосходит прочие [души], нам необходимо познать, как мы сказали, природу его объекта, то есть человеческого Тела» [Eth2 pr13 sch].
Керли расценивает это положение как «материалистическую программу»:
«Для того, чтобы понять дух, мы должны понять тело, без которого дух не мог бы действовать или даже существовать. Несмотря на все разговоры о параллельности, порядок исследования [у Спинозы] никогда не направляется от духа к телу»[762].
Это мнение в настоящее время разделяет большинство историков философии. Обычно лишь делается оговорка, что материализм Спинозы не является «упрощенным» (reductive), то есть бытие духа не сводится к материальным процессам, протекающим в человеческом теле.
Несомненно, в философии Спинозы присутствуют материалистические элементы — в том числе и откровенно «редуктивные». Взять хотя бы такой пассаж:
«Если движение, которое передается нервам от предметов, представляемых посредством глаз, приносит пользу здоровью, то предметы, служащие причинами [движения], именуются красивыми; а вызывающие противные [здоровью] движения — безобразными» [Eth1 ар].
Хорошо еще, что Спиноза не стал развивать эту примитивную мысль дальше, как видно, считая эстетическую проблематику предметом «медицины» (физиологии). До тех пор, пока дух понимается лишь как идея органического тела человека, невозможно построить полноценную теорию художественной деятельности. Категория прекрасного образует форму коллективной человеческой деятельности, которая, как всякая идеальная форма, детерминирована собственной мерой бытия предметов деятельности, а не индивидуальной органикой.
Самое серьезное препятствие, мешающее причислить Спинозу к какой-либо из материалистических школ, состоит в том, что он не считает мышление функцией или свойством тела. В письме, адресованном Генриху Ольденбургу, Спиноза недвусмысленно отвергает такое предположение:
«Вы говорите: быть может, Мышление есть телесное действие (actus corporeus)… Я этого не признаю» [Ер 4].
Напротив, понятия мышления суть «действия Духа» (actiones Mentis) [Eth2 df3 ех]. Тело не мыслит, равно как и мыслящий дух не вмешивается в движение тел.
Спиноза говорит о теле как объекте (objectum) идеи, образующей дух. Материалисты, как правило, этим не довольствуются, они утверждают, что тело — органическое тело человека как таковое или вместе с «неорганическим» телом человеческого рода, которое, в свою очередь, существует как частица бесконечного «тела» Вселенной, — является причиной (субстанцией или/и субъектом) существования духа и всех его действий. Спиноза считает причиной существования духа атрибут мышления, а не модус протяжения, каким является тело (все равно, будь то органическое тело человека, его общественное «квази-тело» или даже facies totius Universi).
Понятие «мыслящего тела», в котором Эвальд Ильенков усматривал «краеугольный камень» философии Спинозы[763], последний безусловно расценил бы как «словесное сущее» (ens verbale), или химеру (chimaera), — соединение на словах вещей, которые в действительности обладают совершенно разной природой, — наподобие пифагорейского «квадратного числа». В текстах Спинозы вообще нет выражения «мыслящее тело», зато есть — «мыслящая вещь». Эта мыслящая вещь — дух, а не тело, как явствует из [Eth2 df3]:
«Под идеей я разумею понятие Духа, которое Дух образует потому, что он есть вещь мыслящая (res cogitans)[764].
Или совсем уж недвусмысленно — в [СМ 2 ср12]:
«Мы сказали, что человеческий дух есть вещь мыслящая; откуда следует, что он в силу только своей природы, рассматриваемый сам по себе (ex sola sua natura, in se sola spectata), может как-либо действовать, а именно мыслить, то есть утверждать и отрицать».
Мыслит не тело, а дух, притом «рассматриваемый сам по себе», безотносительно к телу. Ильенков же усматривает в философии Спинозы прямо противоположную истину:
«Мыслит не особая душа…, а самое тело человека»[765].
Однако, согласно Спинозе, тела не мыслят, они только являются объектами идей, притом лишь некоторых идей, далеко не всех.
Ильенков, вслед за Энгельсом, рассматривает мышление как форму движения тел. Спиноза, со своей стороны, считает движение модусом протяжения и прямо заявляет, что движение не имеет ничего общего с атрибутом мышления или с модусами мышления. Движение существует только в мире тел, в мире идей его нет: идея движущегося тела сама не движется и не превращается в свойство тела оттого, что ее объект пребывает в движении. Однако условием возможности существования мыслящего духа в человеке действительно является особая форма движения его объекта, тела:
«Чтобы вызвать идею, познание, модус мышления, какой является наша душа в субстанциальном мышлении, необходимо… именно такое-то тело, имеющее такую-то пропорцию движения и покоя, а не другое, ибо, каково тело, такова и душа, идея, познание» [KV 2 prf].
Звучит как будто материалистически. Меж тем в действительности здесь постулируется объективность человеческого мышления и ничего более. Мышление, идея вещи есть ее esse objecti vum, а непосредственный объект человеческого мышления — тело, поэтому мыслящий дух не может существовать отдельно от своего тела и его познание напрямую зависит от состояния этого тела.
Несмотря на то, что остроумная теория мышления как формы движения человеческого тела по контурам внешних тел, излагаемая Ильенковым в очерке втором «Диалектической логики»[766], на самом деле не принадлежит Спинозе, она схватывает важный момент его учения о мышлении, которому ранее практически не уделялось внимания.
Ильенков указывает, что для того, чтобы понять, что такое мышление, необходимо рассмотреть состав предметных действий человеческого тела. Спиноза, вероятно, первый усмотрел в предметно-практической деятельности необходимое условие истинности мышления и указал на прямую зависимость качества идей, приобретаемых человеческим духом, от характера предметных действий его тела. Прежде мышление понималось как чистое умозрение, способность души оперировать идеями, образами или словами, либо натуралистически — как форма движения вещества мозга. В действиях тела философы в лучшем случае видели внешнюю проекцию мышления, несовершенную форму «инобытия» идей в мире инертной материи.
В «Этике» Спиноза показывает, что тело мыслящей вещи движется особым образом: формы его движения тождественны формам движения самых разнообразных внешних тел. Эти всеобщие (communia) формы движения воображение запечатлевает в человеческом духе, и все наше знание о материальной природе складывается из идей этих «коммунных» состояний тела[767].
Преимущество человеческого духа перед идеями многих иных тел заключается в природе человеческого тела, так сказать, в конструкции «линзы», которой пользуется наш дух. Тело человека представляет собой «сложный индивидуум», способный сообщать себе «весьма многие состояния», соответствующие природе внешних тел.
«Тело человеческое может многими способами двигать внешние тела и многими способами упорядочивать», —
гласит постулат Спинозы[768].
Двигая то или иное внешнее тело, человек приводит свое собственное тело в состояние, общее с состоянием конкретного предмета его действования. Коэффициент преломления образа внешней вещи в «линзе» человеческого тела в данном случае обращается в нуль. А поскольку форма существования человеческого тела и форма внешней вещи оказываются тождественными, то, воспринимая состояние собственного тела, человек получает тем самым представление о состоянии внешней вещи, ее «очищенный» деятельностью чувственный образ.
Ильенков, описывая разумную форму действия человеческого тела, ведет речь о его ориентации в пространстве и действии в соответствии с геометрией («контурами», как он предпочитает выражаться) внешних тел. Меж тем для Спинозы мышление есть действие согласно природе вещей вообще — причинам и законам их бытия, — а не их геометрической форме. Кроме того, мышление располагает своей собственной, идеальной формой, никоим образом не сводящейся к формам материального бытия:
«Форма истинной мысли… не признает объекта за причину, но она должна зависеть от собственной потенции и природы интеллекта»[769].
Что же это за форма? Вернемся снова к дефиниции идеи и приведем ее целиком:
«Под идеей я разумею понятие Духа, которое Дух образует потому, что он есть вещь мыслящая.
Объяснение
Я говорю понятие, а не восприятие, так как слово восприятие указывает, видимо, на страдательное отношение Духа к объекту; напротив, [слово] понятие, по-видимому, выражает действие Духа» [Eth2 df3][770].
В этом пояснении подчеркивается активность мыслящей вещи. Дух не просто отражает готовые формы и «контуры» внешних вещей, но деятельно генерирует свои понятия. В отличие от образа или слова понятие заключает в себе утвердительное или отрицательное суждение о предмете. Это «действие Духа» образует собственную форму всякой идеи.
«Форма» в текстах Спинозы, как и у схоластиков, означает сущность вещи: «essentia, seu forma» — сущность, то есть форма [Eth4 prf]. Чистая форма мышления — то самое «действие Духа», благодаря которому мы понимаем (а не просто воспринимаем) какой-либо предмет, — является предметом рефлективной идеи.
Свою форму, то есть идеальную сущность, дух черпает не в движениях тела, а непосредственно в атрибуте мышления. Или, как это звучит у Спинозы,
«формальное бытие[771] идей имеет своей причиной Бога, только поскольку он рассматривается как вещь мыслящая… Идеи единичных вещей признают своей действующей причиной не свои идеаты или воспринимаемые вещи, а самого Бога, поскольку он есть вещь мыслящая» [Eth2 pr5][772].
В этой теореме нет и следа материализма. Согласно Спинозе, движения тела являются причиной чувственных образов, но ни в коем случае не причиной идеи — даже если это идея тела.
Обратимся к чрезвычайно выразительному примеру, который приводит Ильенков. Рука описывает окружность на бумаге и приходит в динамическое состояние, тождественное форме круга вне моего тела. Сознание этого состояния, общего для движущейся руки и формы круглых тел, и есть идея, притом адекватная, пишет Ильенков. Далее он формулирует свою мысль в общем виде:
«Обладая сознанием собственного состояния (действия по форме того или иного контура), я тем самым обладаю совершенно точным сознанием (адекватной идеей) формы внешнего тела»[773].
Спиноза утверждает нечто прямо противоположное:
«Идея какого бы то ни было состояния человеческого Тела не заключает в себе адекватного познания тела внешнего» [Eth2 pr25][774].
Здесь действует самая первая, неадекватная природе вещей форма познания — imaginatio, — поставляющая «сырье» для работы интеллекта. А геометрическую форму круга, доставляемую духу движением руки, Спиноза вообще не счел бы всерьез идеей, тем более идеей адекватной. Это чистой воды образ чувственного восприятия и только. Спиноза посвящает различию идеи и образа довольно длинный пассаж в конце второй части «Этики»:
«Предупреждаю Читателей, чтобы они проводили строгое различие между Идеей, или понятием Духа, и Образами вещей, которые мы представляем (imaginamur)… Ибо те, кто полагают, что идеи состоят в образах, которые формируются в нас вследствие столкновения с телами…, рассматривают, стало быть, идеи как безмолвные фигуры на картине и, поддавшись этому предрассудку, не видят, что идея, поскольку она идея, заключает в себе утверждение или отрицание» [Eth2 pr49 sch].
То, чего не хватает в ментальном образе круга, и что единственное могло бы превратить этот образ в идею, — это «утверждение или отрицание» (affirmatio aut negatio), иначе говоря, некое конкретное суждение о том, что такое круг. Это суждение не вычитаешь из движения тела, его привносит с собой мышление. Утвердительное или отрицательное суждение и есть esse formale (формальное бытие) идеи как модуса мышления, ее интеллигибельная природа. Нет ни одной идеи, которая не заключала бы в себе какого-либо утверждения относительно своего объекта. Эту способность суждения Спиноза именует волей[775].
Суждение для Спинозы — это не умение применять общие правила в данных конкретных условиях (Кант), и, тем более, не форма речи, которую принято именовать «суждением» в общей логике. Это — чистая (идеальная) форма выражения природы вещей. Суждение (утверждение или отрицание) ничего не примешивает «от себя» к природе своего предмета, напротив, сам предмет диктует все без остатка содержание суждения о нем:
«мы сами никогда не утверждаем и не отрицаем ничего о вещи, но сама вещь утверждает или отрицает в нас нечто о себе» [KV 2 ср16].
Активность духа есть не что иное, как форма выражения активности самих вещей. Если у Канта мышление навязывает вещам свои собственные формы деятельности, то у спинозовской «мыслящей вещи» вообще нет никаких априорных схем действия, отличных от схем действия реальных вещей. Мышление — это способность вещи действовать на саму себя, активно изменять свои собственные состояния — в равной мере тело и дух — сообразно универсальным законам Природы, с тем чтобы сделать свое существование как можно более прочным. Это умение индивидуума привести свое поведение в оптимальное согласие с объективными условиями его бытия.
Полнейшая, абсолютная «прозрачность» выражения природы вещей образует характерную форму мышления; это именно то, чем модусы мышления, идеи, отличаются от чувственных образов (состояний тела). Идеальная форма — единственное, что в нашем суждении принадлежит мышлению как таковому, а не предмету, о котором мы мыслим[776]. В мире тел такой замечательной формы нет, а потому тело не может быть ни причиной, ни субъектом мышления.
Допустим, далее, что, воспринимая образ круга, дух утверждает, что данный круг реально существует в пространстве вне человеческого тела. Это уже некая идея, но является ли она адекватной, как думает Ильенков, ориентируясь на аристотелевскую теорию истины — «adaequatio intellectus et rei»? Никоим образом. «Согласие» (convenientia) идеи с внешним предметом не делает ее адекватной:
«Под адекватной идеей я разумею [такую] идею, которая, поскольку она, рассматриваемая в себе без отношения к объекту, имеет все свойства, или внутренние признаки, истинной идеи.
Объяснение
Я говорю внутренние, чтобы исключить тот [признак], который является внешним, а именно согласие идеи со своим идеатом» [Eth2 df4][777].
Что за «внутренние признаки» имеются в виду? Ильенков сам дает верный ответ, приводя пример Спинозы с дефиницией круга: адекватная идея указывает действующую причину (causa efficiens) своего предмета, а не просто те или иные его свойства, хотя бы то было свойство существования предмета идеи. Адекватная идея — это суждение о конкретной причине какой-либо вещи, которое может служить методом ее реконструкции и оперирования данной вещью.
Метод построения чувственного образа круга и метод формирования идеи круга далеко не одинаковы. Иначе чем отличался бы математик, понимающий природу круга, от обычного осла, который тоже умеет двигать свое тело по кругу (вследствие чего его душа располагает довольно точным образом круга)? Одно дело создать чувственный образ вещи (для этого достаточно иметь тело, умеющее повторять своим движением контуры круглых тел), и совсем другое — судить о причинах ее бытия, для чего надлежит иметь, в придачу к подвижному телу, известную способность понимания, разумения (facultas concipiendi, intelligendi), которая в «Этике» именуется «волей» [Eth2 pr49 cor, sch].
Выходит, образы внешних вещей создает тело, а вот мыслит, то есть формирует идеи, все-таки дух. Хотя — эту важную мысль Спинозы нельзя забывать ни на минуту — абсолютно все, что делает человеческий дух, он делает посредством движений своего тела (рук, органов чувств, мозга и, стоило бы добавить, при активном содействии своего общественного «квази-тела»).
В пользу известной автономии духа в отношении к его непосредственному предмету, телу, свидетельствует еще и то, что в человеческом духе радом с идеями тел существуют «идеи идей». Предметом такой, рефлективной идеи является уже не тело, а другая идея. В акте рефлексии идеальное являет себя как таковое, в чистом виде. Этим рефлективным идеям человек обязан своим самосознанием, то есть тем, что он воспринимает собственное «я».
Каким образом возможно восприятие чистой формы человеческого духа, которая зовется «я»? Тоже не иначе, как через посредство тела, отвечает Спиноза. Декартово «ego», чистый дух, мыслящий себя прежде и независимо от существования тела, не более чем абстракция, которой воображение приписывает реальное бытие. Эта абстракция получается вследствие рассечения рассудком (ratio) духа, идеи тела, на две половины — идеальную форму и материальный объект. В этом нет, строго говоря, ничего ошибочного до тех пор, пока мы не решаемся вообразить, что форма духа может существовать как таковая, отдельно от своего предмета, тела.
«Дух познает себя лишь постольку, поскольку он воспринимает идеи состояний тела» [Eth2 pr23], —
настаивает Спиноза[778].
Это значит, что все происходящее в человеческом теле непосредственно сказывается на самосознании человека, на его представлении о собственном «я». Тело служит человеку не только «линзой» для созерцания внешнего мира, но и тем единственным «зеркалом», в котором его дух может рассмотреть себя самого.
Образы, доставляемые телом, всегда в той или иной мере неадекватны, так как природа моего тела смешана в них с природой множества тел, действующих на меня из внешнего мира. Это касается и образа моего «я» в искривленном зеркале тела: рефлективная идея тела, подобно идее тела как таковой, является «смутной» [~ смешанной, confusa]:
«Идея, образующая природу человеческого Духа…, не есть, рассматриваемая в себе одной, ясная и отчетливая; и то же [относится к] идее человеческого Духа и к [остальным] идеям идей состояний человеческого Тела…»[Eth2 pr28 sch].
Единственной нитью, ведущей к адекватному пониманию природы духа, являются notiones communes (всеобщие понятия). Дело в том, что наряду с множеством различий между человеческим телом и телами внешними, у них есть немало общего. Эти общие состояния тел не страдают от их взаимного действия, оставаясь вечно одними и теми же независимо от того, что происходит с телом, поэтому они могут мыслиться духом не иначе как адекватно. Идеи этих универсальных форм бытия тел Спиноза именует notiones communes. Всеобщие понятия, сознаем мы то или нет, присутствуют в духе всякого человека, поскольку их предметом является то, что присуще всем телам, а дух есть идея тела. Наилучшими примерами таких понятий могут служить аксиомы и леммы части II «Этики», касающиеся природы тел.
В известном смысле всеобщие понятия могут считаться врожденными человеку, подобно идее Бога (интеллекту как таковому) или чистым категориям рассудка (entia rationis). Спинозовские всеобщие понятия, однако, отличаются от врожденных идей, как их понимали схоластики или Декарт и Лейбниц. Скажем, идею вещи (res), которую приводит в качестве типичного примера ясных и отчетливых врожденных идей Декарт [С 2, 31], Спиноза считал в высшей мере «смутной» эмпирической абстракцией, почти дословно повторяя то, что говорилось о ее происхождении в Возражениях Гассенди (тот вовсе отрицал наличие в человеческом духе врожденных идей).
Всеобщие понятия врождены, то есть даны от природы в готовом виде, духу в том же самом смысле, в каком ему врождено само человеческое тело. Тело досталось ему от природы вместе с теми своими состояниями и свойствами, которые являются общими всем телам в природе. Аксиомы математики и естествознания суть не что иное, как выраженные языком науки идеи этих универсальных состояний тела[779].
Впрочем, далеко не все аксиомы обладают безусловной всеобщностью (универсальностью). В связи с этим стоит обратить внимание на [Eth2 pr39], где говорится о существовании
«идеи того [состояния], которое обще и свойственно человеческому Телу и некоторым из внешних тел, со стороны которых человеческое Тело обыкновенно подвергается действиям»[780].
В пределах «обыкновенного» опыта такие идеи тоже адекватны. Однако было бы ошибочным приписывать этим ограниченно общим идеям универсальность, какой обладают notiones communes. Классические теории в геометрии, механике и логике имели в своем составе немало аксиом, которым приписывалась абсолютная всеобщность, меж тем как в действительности они описывали конечную область бытия, лежащую в пределах досягаемости чувственного опыта человеческого тела. Спиноза, понятное дело, этого знать не мог, тем не менее в его логике предусмотрена возможность такой ошибки.
Эти относительно общие понятия, в отличие от понятий строго всеобщих, приобретаются духом по мере того, как его тело контактирует с внешним миром, «двигая и упорядочивая внешние тела». Чем больше общего у человеческого тела и тел внешних, тем выше качество понятий, которыми располагает дух.
Помимо понятий, описывающих всеобщие свойства его непосредственного объекта, тела, дух обладает всеобщими понятиями о форме мышления. Это категории и аксиомы логики, которые либо удерживают то, что является общим для всех идей вне зависимости от характера их предметов (entia rationis общей логики), либо принимают в расчет только универсальные формы бытия предметов идей (примерами тут могут служить notiones communes, представленные в дефинициях и аксиомах части I «Этики»). Все они являются рефлективными, то есть идея образует как объект, так и форму этих понятий.
Комментируя учение Спинозы о рефлективной идее, Хэллетт пишет, что как в акте восприятия духом тел участвуют все тела, действующие на индивидуальное тело духа, точно так же в акте рефлексии духом себя участвуют все действующие на него души. Конечная мыслящая вещь, человек, может сознавать себя лишь посредством отношения к другой мыслящей вещи[781]. Строго говоря, это представление о коллективной природе человеческого самосознания у Спинозы отсутствует. Однако оно действительно хорошо вписывается в рамки его теории духа, указывая линию ее эволюции в направлении феноменологии Гегеля и материалистического понимания истории Маркса. Спиноза дает им общую посылку: все люди связаны узами взаимного общения и образуют поэтому «unum quasi corpus, nempe societatis»[782] — единое общественное квази-тело, которое тоже является «мыслящей вещью» и обладает самосознанием, подобно тем индивидуумам, из которых оно слагается.
IV. Формальная структура метода
Пренебрежительное отношение философов к геометрическому порядку доказательства метафизических истин за последние два столетия успело приобрести прочность предрассудка. В наш век ordo geometricus «Этики» представляется «каким-то гротескным уникумом» и чужестранцем в мире «фаустовских форм» (Освальд Шпенглер)[783].
Меж тем во времена Спинозы геометрическая форма доказательства нисколько не выглядела чем-то необычным. Считалось, что геометрия — «почти единственная из наук, которая располагает истинным методом» (Блез Паскаль)[784], и стоит ли удивляться, что философы, увлеченные строгостью и ясностью геометрических доказательств, охотно пользовались в своих работах логическим инструментарием геометров. То, что «геометрия — отличная логика», признавали даже радикальные скептики вроде Джорджа Беркли[785]. Чистый воздух математики проникает практически во все области интеллектуальной жизни — от живописи до богословия[786], — и разумеется, настоящая философия не могла остаться равнодушной к духу своего времени.
Классическим образцом философского сочинения, написанного ordine geometrico, считается, конечно, «Этика». Существуют разные оценки достоинств ее формальной структуры: чаще всего встречается мнение, что геометрический порядок только затрудняет восприятие мыслей Спинозы и приносит слишком мало пользы, его аксиомы далеко не очевидны и приводят к множеству логических противоречий. Впрочем, случается встретить и одобрительные отзывы (от Бертрана Рассела, к примеру).
В своем ответе парижским математикам на их возражения против «Размышлений» Декарт рассуждает о «геометрическом методе изложения» мыслей (о методе мышления речь здесь не идет), различая два образующих его элемента: порядок и способ доказательства. Последний бывает синтетическим (ordo geometricus) или аналитическим.
Высоко оценивая достоинства синтетической структуры «Начал» Евклида, Декарт, однако, высказывает уверенность в том, что греческие геометры обладали еще иным искусством доказательства — неким эзотерическим «анализом», которому они «придавали столь высокое значение, что сберегали для самих себя как великую тайну» [С 2, 124]. Аналитическое рассуждение стремится передать последовательность движения мысли, усваивающей некий предмет, поэтому оно начинается с постановки проблемы, подлежащей решению, а не с дефиниций и аксиом, как синтетическое рассуждение у Евклида. Декарт считает, что первое легче для восприятия и предпочтительнее при обучении, в то время как последнее предоставляет больше возможностей для убеждения противников. Общим для обеих форм является дедуктивный порядок рассуждения, в соответствии с которым
«первые положения должно познавать без какой бы то ни было помощи последующих, а все остальное следует располагать таким образом, чтобы доказательство было основано лишь на предшествующем» [С 2, 123].
Хотя аналитическая и синтетическая техника доказательства возникли в лоне математики, Декарт считает их универсальными орудиями мышления. Доказательство своих метафизических идей он предпочитает вести аналитически, как в «Размышлениях», однако, идя навстречу пожеланиям оппонентов, соглашается представить и синтетическую версию некоторых ключевых идей: «Аргументы, доказывающие бытие Бога и отличие духа от тела, изложенные геометрическим способом» (помещены в конце Ответов на Вторые Возражения).
Несомненно, Спиноза был хорошо знаком и не мог не считаться с соображениями Декарта о том, что в метафизике аналитическая форма доказательства предпочтительнее синтетической формы. Надо полагать, у него имелись достаточно веские основания для того, чтобы все же воспользоваться последней для изложения своей «Этики».
Синтетическое доказательство, пишет Декарт, «не показывает, каким образом было найдено решение» [С 2, 124]. Ход доказательства теоремы, в самом деле, имеет весьма мало общего с действиями мышления, занятого решением какой-либо теоретической проблемы. Здесь стираются те индивидуальные, в том числе эвристические, особенности мышления, которые не вписываются в собственную логику предмета мысли. Впоследствии Гегель хорошо скажет, что от теоретического мышления требуется умение раствориться в своем предмете, всецело отдаться течению его жизни[787].
Безличность синтетического доказательства делает его подходящим средством для изображения собственной логики предмета (хотя ни в коей мере не гарантирует адекватность изображения). Это преимущество достигается ценой элиминации эвристической составляющей акта познания, что Декарт справедливо отметил как недостаток синтетической формы. Вероятно, Спиноза счел это приемлемой платой за логическую чистоту рассуждения, которую дает ordo geometricus.
Декарт полагал, что синтетическая форма доказательства более уместна в геометрии, нежели в метафизике, вследствие существенной разницы в характере их оснований. — «Различие здесь состоит в том, что аксиомы, предпосылаемые в геометрии доказательству теорем, соответствуют показаниям наших чувств и с легкостью допускаются всеми»; метафизические же аксиомы обязывают интеллект отрешиться от всего чувственного, — чувства только мешают ясному и отчетливому восприятию этих аксиом [С 2, 125]. Философу, в отличие от геометра, полагается аргументировать принятие тех или иных основоположений.
На самом деле различие в характере геометрической и философской аксиоматики не является столь уж резким. С течением времени геометрия приняла в свое лоно множество аксиом, явным образом расходящихся с «показаниями чувств». Однако, хотя основания геометрии лишились непосредственной чувственной достоверности, синтетическая форма отнюдь не потеряла от этого своей значимости. Она с прежним успехом применяется в неевклидовых геометриях, чьи построения нередко вообще невозможно представить в форме, доступной чувственному созерцанию.
Стало быть, Декарт оказался не прав, связывая уместность синтетической формы доказательства с чувственной достоверностью основоположений теории. Внечувственный характер аксиоматики не может служить помехой для применения этой формы в области философии.
Эта дистинкция встречается еще у схоластиков, в частности, у Якоба Цабареллы (J. Zabarella, 1532–1589). Третья глава его книги «О методе» прямо озаглавлена: «De differentia ordinis et methodi» — «О различии порядка и метода». Декарт, Паскаль и авторы «Логики Пор-Рояля» также проводили строгое различие между методом открытия истинной идеи и порядком ее доказательства и изложения. Паскаль начинает трактат «О геометрическом уме» с замечания, что одно дело открыть истину, а другое— доказать ее и отличить от заблуждения, когда истина уже найдена ранее. Он концентрирует усилия на втором, утверждая, что искусству доказательства уже имеющихся истин лучше всего научает нас геометрия. Декарт тоже никогда не смешивал логический метод мышления с геометрическим порядком доказательства, но, в отличие от Паскаля, больше внимания уделял методу.
В общем, никто из ближайших предшественников Спинозы не пользовался геометрическим порядком в качестве метода мышления. И Спиноза, пространно рассуждая о методе в TIE, ни словом не упоминает ordo geometricus. Несмотря на это, комментаторы со времен Гегеля продолжают писать — как правило, в высокомерно-критическом тоне — о некоем «геометрическом методе» (выражение ни разу нигде у Спинозы не встречающееся) «Этики». Настоящий же метод мышления, открытый Спинозой, в этом случае просто ускользает от внимания, так как он не имеет ничего общего с ordo geometricus. Метод, по его словам, «есть понимание того, что такое истинная идея», и представляет собой «не что иное, как рефлективное познание» [TIE, 12].
Ordo geometricus не может считаться методом, хотя бы потому, что не заключает в себе никакого знания о том, «что такое истинная идея». Он не зависит от тех идей, которые доказываются в геометрическом порядке, и соблюдение этого порядка не превращает идею в истину (хотя помогает избежать некоторых ошибочных рассуждений). Так, Спиноза излагает в геометрическом порядке философию Декарта, в том числе те ее положения, которые считает ложными. Это обстоятельство недвусмысленно свидетельствует о формальном характере геометрического порядка.
Леон Брюнсвик некогда заметил, что аналитическая геометрия служит основанием спинозовской теории познания[788]. Основанием, полагаю, вряд ли, но вот логической нормой — весьма возможно. Не правда ли, знаменитая формула Спинозы, согласно которой тело и дух — это одна и та же вещь, понимаемая под разными атрибутами, напоминает идею Декарта и Ферма о том, что фигуры и числа суть просто различные формы выражения одной и той же реальности[789]? Подобно тому как «объектом идеи, образующей человеческий Дух, является Тело» [Eth2 prl 3], объектом той или иной формулы в аналитической геометрии является упорядоченное множество точек на координатной плоскости. Причем алгебраическая формула не имеет ровным счетом ничего общего с геометрической фигурой, которая является ее объектом; эти два модуса количества абсолютно различны и вместе с тем— тождественны, ибо выражают одну и ту же вещь (математическую величину). В точности так же изображается в «Этике» отношение человеческого духа и тела.
Нашу аналогию легко можно продолжить экскурсом в область квантовой механики, которая рассматривает вещество и поле как два разных проявления одной и той же физической реальности[790]. Это, понятное дело, не значит, что физики оперировали «геометрическим методом». Просто есть некая универсальная «норма истины», которая сперва обнаружила себя в математике и только затем — в философии и физике.
Стало быть, скептические замечания комментаторов «Этики» насчет уместности геометрического метода в философии лишены смысла. У Спинозы такого метода — во всяком случае в том смысле, в каком он сам говорил о «методе», — нет. Однако геометрический метод в философии вовсе не химера: его самое эффективное применение демонстрировала philosophia naturalis на протяжении своей истории от Галилея и Декарта — до Ньютона и Лапласа.
Решающее значение математики для интеллектуальной революции XVII века не вызывает сомнений. В это время изменяется не просто та или иная теория — совершается мутация человеческого разума, реформа затрагивает его логическую структуру и первичные категории. Конечный и гетерогенный Космос Аристотеля, этот мир здравого смысла и повседневного опыта, рушится и его заменяет бесконечная и однородная Вселенная — абстрактный «мир реализованной геометрии», как выразился Александр Койре[791].
Вдохновителем этой реформации оказывается Платон, а ее античным предшественником — Архимед. Вероятно, под влиянием «Архимеда-сверхчеловека» у Галилея складывается убеждение в том, что «книга Природы» написана на языке математики, знаками которого служат не буквы или звуки, а треугольники, окружности и прочие геометрические фигуры. Очень скоро математика стала чем-то большим, нежели просто язык; уже у Декарта она окончательно превращается в действующий метод мышления.
«В моей физике нет ничего, что не имелось бы уже в геометрии», —
писал он Мерсенну[792].
Геометрия прочно завладевает у него предметным содержанием физики, что, собственно, и отличает логический метод мышления от всевозможных приемов формального упорядочения мыслей, к числу которых принадлежит ordo geometricus. Природу тел Декарт усматривает в их геометрической форме, отвлекаясь не только от «вторичных качеств», но даже от характера движения тел. За материей как таковой сохраняется только количественная определенность (это «геометрическое» воззрение на природу материи всецело разделяет еще Гегель). Физика становится теперь своего рода прикладной геометрией.
Ньютон довершает превращение Вселенной в «архимедов мир формообразующей геометрии», помещая тела в воображаемое абсолютное пространство (Декарт, как известно, отрицал реальное существование вакуума).
«Демокритовы атомы в платоновском — или евклидовом — пространстве: стоит об этом подумать, и отчетливо понимаешь, почему Ньютону понадобился Бог для поддержания связи между составными элементами своей Вселенной», —
иронизировал Койре[793].
Итак, в классической физике геометрия становится источником идей, то есть методом мышления в настоящем смысле слова. Здесь геометрический метод — это не формальная структура рассуждения, а предметная мысль, рефлективная форма бытия предмета (геометрического пространства с его «модусами» — точками, линиями и фигурами) в мышлении.
История науки показывает, что геометрический метод обладает бесспорными эвристическими преимуществами перед методом здравого смысла (квинтэссенцией которого являются правила аристотелевской логики) и повседневного чувственного опыта. Область его применения, однако, ограничивается чисто количественным бытием предметов: он дает лишь абстрактное описание явлений природы, своеобразную геометрическую схему их наличного бытия, и умалчивает о причинах их существования. «Геометрический ум» позволяет знать, как нечто происходит, но ему не дано понять, почему это происходит так, а не иначе (тут ему приходится апеллировать к непостижимому замыслу Творца). В качественном отношении Вселенная все же больше похожа на аристотелевский Космос, с его конечными размерами, естественным круговым движением и без остатка заполняющей его материей, нежели на механический универсум Ньютона, с его абсолютами пространства, времени и движения, полагает Койре[794].
А что же Спиноза? Согласно его логике, геометрические категории не обладают реальностью за пределами интеллекта (он причисляет их к классу entia rationis) и потому они могут служить не более чем вспомогательными средствами физического мышления, которое имеет дело с «физическими и реальными вещами». Спиноза не устает предостерегать ученых, чтобы те
«не смешивали Природу с абстракциями, хотя бы последние были истинными аксиомами»[795], «не заключать чего-либо на основании абстракций (ex abstractis), и в особенности остерегаться, чтобы не смешать то, что существует только в интеллекте, с тем, что существует в вещах» [TIE, 23, 28].
Спиноза отчетливо сознает, сколь далеки даже наилучшие математические описания явлений Природы от понимания их сущности. Числа, фигуры и прочие абстракции рассудка не дают знания причин вещей, хотя они полезны тем, что позволяют строго сформулировать условия физической задачи (которые Г esprit geometrique принимает за ее окончательное решение). У физических задач бывают только каузальные решения, утверждает Спиноза.
Тем не менее он, как и Декарт, видит в математическом знании «образец истины» (veritatis norma). В его работах мы не находим размышлений о том, что же сообщает достоверность положениям математики, однако характер приводимых им примеров и аналогий не оставляет сомнения в том, что Спиноза видел секрет всех достижений математики в ее методе. На примере определений параболы, эллипса, круга он разъясняет общий метод формирования правильных дефиниций, а различные методы вычисления неизвестного согласно правилу пропорциональности приводятся им в качестве аналогов форм восприятия вещей. Чем же привлекает Спинозу математический метод?
Прочие науки в XVII веке занимались в основном описанием явлений природы (по возможности средствами математики), ничего не зная об их настоящих причинах. К примеру, автор закона всемирного тяготения, Ньютон, сознается, что у него нет ни малейшего представления о причинах гравитации, равно как и намерения «измышлять гипотезы» на сей счет. Спиноза же признает адекватным только познание вещи per causam proximam, то есть посредством ее ближайшей причины.
Математика давным-давно, раньше всех прочих наук, миновала «описательный» возраст и превратилась в конструктивную дисциплину: теоретический образ ее предмета не воспринимается как некая данность, которую ученому остается только описать, а конструируется математиками при помощи всеобщих понятий, отлитых в форму дефиниций и аксиом. В первую очередь конструктивному характеру метода математика обязана высокой достоверностью своих положений. Спиноза усмотрел в этом универсальную характеристику истинного знания и сообщил ее своей логико-философской доктрине. Приходится признать, что Декарт и Спиноза поступили верно, избрав математическое мышление в качестве логической «нормы». Более подходящей «нормы» в те времена просто не существовало.
Легион противников геометрического построения философии возглавляет Гегель. Он совершенно справедливо квалифицирует ordo geometricus как чисто рассудочный метод, а затем прибавляет, что этот метод не в состоянии передать характерную для разума диалектику понятий.
«У Спинозы, который больше других применял геометрический метод, и применял его именно для вывода спекулятивных понятий, формализм этого метода сразу бросается в глаза»[796].
Поскольку в рассудке как таковом нет диалектики понятий, постольку эту диалектику нельзя передать средствами рассудка. Звучит как будто убедительно. В этой связи вспоминается аналогичное возражение Аристотеля Платону: Стагирит доказывает, что невозможно построить математическую теорию движения, поскольку в числах движения нет. Лишь два тысячелетия спустя платоник Галилей, найдя формулу свободного падения тел, смог выразить законы движения в числовой форме, доказав этим, что Аристотель был не прав. Так же ошибается Гегель, уверяя, что диалектическое движение понятий нельзя выразить «геометрическими» средствами рассудка. А ведь сколько раз прежде, в «Феноменологии духа», он повторял, что диалектический разум не вправе действовать в обход рассудка, что
«достигнуть при помощи рассудка разумного знания есть справедливое требование сознания, которое приступает к науке»[797].
Все дело в том, как пользоваться средствами рассудка — в качестве метода мышления либо только формы «демонстрации» идей. В последнем случае, как отмечалось выше, собственный характер идей безразличен: это могут быть в равной мере «спекулятивные» понятия разума, чистые абстракции рассудка или даже чувственные представления.
Порядок построения «Этики» — это просто особый язык рассудка, заимствованный у геометров. Насколько неверно усматривать в геометрическом порядке доказательства подлинный метод мышления Спинозы, настолько же неверно считать этот порядок не более чем литературным приемом, только затрудняющим понимание идей Спинозы (Г. Вульфсон, Л. Рот, Э. Харрис и др.). Характерные сравнения геометрической формы «Этики» с «жесткой скорлупой миндаля» или с занавесью-акусмой, за которой Пифагор скрывался от слушателей, думается, несправедливы: геометрическая форма приносит немалую пользу, ее скорее можно сравнить с шлифованием стекла (учитывая, что Спиноза понимал толк в этом ремесле).
Благодаря тому, что геометрический порядок предусматривает строгие дефиниции ключевых понятий, он облегчает выявление всякого рода противоречий и более или менее надежно защищает мышление от паралогизмов. Предъявляя высокие требования к строгости суждений и последовательности изложения, этот логический метаязык дисциплинирует дух. В общем, достоинства геометрического порядка проистекают из самой природы рассудка — этой «изумительнейшей и величайшей или, лучше сказать, абсолютной способности», без которой невозможны никакая прочность и определенность мышления (Гегель).
Спиноза не считал естественный язык сколько-нибудь адекватной формой выражения идей интеллекта:
«Слова являются частью воображения… Они суть только лишь знаки вещей, [показывающие] как [вещи] существуют в воображении, а не в интеллекте»[798].
Тем не менее, человеку приходится облекать идеи интеллекта в словесную форму. Чтобы отчасти сгладить проистекающую из природы воображения неопределенность естественного языка, Спиноза помещает между языком и интеллектом специального посредника — геометрический порядок доказательства. Отсюда ясно, почему рефлективные взаимоотношения понятий Спиноза стремится подчеркнуть геометрическими, а не литературными средствами, проводя педантичные «демонстрации» всех конкретных положений из нескольких простейших, всеобщих дефиниций и аксиом.
Для Гегеля, напротив, слово — первое и адекватнейшее из всех проявлений мышления:
«Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке»[799].
Возможно поэтому апелляция к этимологии слова так часто заменяет собой доказательство в ходе выведения логических категорий в «Науке логики». Спиноза тоже ценил знание этимологии слов и мастерски пользовался им в «Богословско-политическом трактате» для анализа текстов св. Писания; он автор «Компендиума грамматики еврейского языка»; однако Спиноза никогда не прибегал к этимологической аргументации, размышляя о вещах, чье существование не зависит от языка.
Более адекватной, чем знаки языка, формой выражения идей интеллекта Спиноза считает действия тела, посредством которых человек сообщается с прочими телами в природе. Действуя, человек приобщается к вечному и бесконечному бытию Природы:
«Кто имеет Тело, способное ко многим действиям…, тот имеет Дух, большая часть которого является вечной»[800].
Движения тела гораздо лучше, точнее могут выражать идеи, нежели язык. Слова больше подходят для выражения чувственных образов, а не идей интеллекта. О разуме человека лучше судить по делам, а не по его словам, — эту старую житейскую истину Спиноза превратил в кредо своей философии духа. Границы человеческого познания непосредственно совпадают с радиусом действий тела, причем мера собственной активности тела определяет меру истинности его идей:
«Чем какое-либо Тело способнее прочих [тел] ко многим сразу действиям и страданиям, тем способнее прочих [душ] его Дух ко многим сразу восприятиям; и чем больше действия тела зависят от него самого и чем меньше другие тела ему противодействуют (in agendo concurrunt), тем способнее его дух к отчетливому пониманию» [Eth2 pr13 sch].
Отзвук этих теорем «Этики» слышится в словах гетевского Фауста: «В начале было Дело», — ив тезисах Маркса о «предметной деятельности» как критерии истинности человеческого мышления (хотя Спиноза не связывал понятие действования тела с общественно-исторической и, тем более, революционной практикой).
В заключение нельзя не упомянуть об эстетических достоинствах геометрического порядка доказательства. У читателя «Этики» он оставляет своеобразное впечатление строгой красоты и завершенности формы. Недаром первыми по достоинству оценили «Этику» не философы «ex professo», а Лессинг, Гете и йенские поэты-романтики. Это случилось в те времена, когда у философов, по словам Лессинга, принято было обращаться со Спинозой «как с мертвой собакой», из-за чего Лейбниц, к примеру, предпочитал скрывать простой факт своего знакомства с амстердамским мыслителем.
Ordo geometricus, должно быть, труднейшая среди всех принятых форм изложения теоретической мысли. — «Однако все прекрасное столь же трудно, сколь и редко»[801].
В лекциях по истории философии Гегель проницательно заметил, что все учение Спинозы заключено по сути уже в предварительных дефинициях «Этики». Наше понимание всей «Этики» зависит, стало быть, от того, как понимаем мы смысл этих дефиниций.
Первое впечатление таково, что при построении дефиниций Спиноза руководствовался отчасти простой интуицией, отчасти схоластическими традициями и отчасти формальными приемами, почерпнутыми из арсенала геометров. Не видно никакого общего принципа или единого метода их построения, из-за чего Гегель решился даже утверждать, что
«Спиноза не знает, каким образом он приходит к этим отдельным определениям»[802].
Так ли это на самом деле? Во всяком случае Спиноза отвел теме построения дефиниций всю вторую часть НЕ.
«Осью, вокруг которой вращается вся эта вторая часть метода, является одно — познание условий хорошего определения и, кроме того, способ их нахождения» [TIE, 29].
Прежде всего, Спиноза отказывается следовать предписаниям общей логики: в истинном определении вещи нет места абстракциям, таким как genus proximum et differentia specifica (ближайший род и видовое отличие), при помощи которых строились дефиниции со времен Аристотеля. Истинное определение вещи должно показывать ее причину, которая образует «сокровенную сущность» (intima essentia) всякой вещи. Абстракции же не существуют вне интеллекта и описывают не причину, а в лучшем случае какие-нибудь признаки или свойства вещи.
«Определение, чтобы называться совершенным, должно будет разъяснять сокровенную сущность вещи и предусматривать, чтобы мы не взяли вместо нее какие-нибудь свойства вещи…» [TIE, 29].
В KV критика принятых правил построения дефиниции звучит еще суровее:
«Говорят, что правильное определение должно состоять из рода и видового отличия. Хотя логики и признают это, однако я не знаю, откуда они это взяли. Конечно, если бы это была правда, то ничего нельзя было бы знать… Но так как мы свободны и вовсе не считаем себя связанными с их утверждениями, то согласно истинной логике мы составим другие законы определения, именно согласно нашему делению природы» [KV 1 ср7].
Законы определения зависят от «деления природы», то есть от конкретных качеств определяемой вещи. Этим-то предметная логика вообще и отличается от логики формальной, диктующей одни и те же правила для определения всех вещей. Деление природы осуществляется Спинозой посредством рефлективных категорий причины и действия, а не описательных категорий рода и вида. Разницу между каузальной и описательной дефинициями Спиноза обычно показывал на примере круга.
Круг можно определить как фигуру, у которой прямые линии, проведенные от центра к периметру, равны, или как многоугольник с бесконечным числом сторон, или дать описание еще каких-нибудь отличительных признаков круга по сравнению с другими фигурами того же самого «рода» (плоскими). Все эти дефиниции удовлетворяли бы принятым в прежней логике нормам. Спиноза же предпочитал определять круг как
«пространство, очерчиваемое линией, одна точка которой покоится, а другая движется» [Ер 60].
В этой дефиниции содержится указание на causa efficiens круга, каковой является движущаяся относительно одной из своих точек линия. Такая дефиниция содержит в себе формулу построения круга и, в этом смысле, выражает сущность круга, тогда как две первые дефиниции демонстрируют всего лишь отдельные свойства круга.
Впрочем, оговаривался Спиноза, это различие «мало что значит» для фигур и прочих категорий рассудка, зато очень важно для «вещей физических и реальных» [TIE, 29]. Дело в том, что entia rationis, которыми оперирует чистая математика, не имеют реального предмета вне интеллекта. Их дефиниции оказываются конструктивными в любом случае, поскольку сами и создают определяемый предмет, — вот почему Спиноза полагал, что математические дефиниции могут быть произвольными.
И все-таки, пожалуй, Спиноза напрасно недооценивал значение своего метода для математики. Отлично знакомый ему метод аналитической геометрии оперирует сплошь формулами построения линий и фигур, как и уже упомянутый «метод неделимых» Кавальери[803]. В основании всего математического естествознания лежит понятие функции, выражающее. метод построения одних величин через посредство их отношения к другим величинам.
В XX веке в трудах JI. Брауэра, А. Гейтинга, А. А. Маркова открытый Спинозой метод конструктивного, или генетического, определения — которое показывает, как возникает определяемый предмет или как его можно построить, — превратился в своеобразный категорический императив математики и логики. Определение или доказательство существования математического объекта считается в конструктивной математике корректным лишь при условии, что указан метод, позволяющий его вычислить или построить[804].
Обращаясь к своим амстердамским друзьям, Спиноза предлагал делать различие между двумя родами дефиниций:
«[1] Определение либо объясняет вещь в зависимости от того, как она существует вне интеллекта, — тогда ему надлежит быть истинным, и от теоремы или аксиомы оно отличается лишь тем, что обращается только к сущностям [отдельных] вещей или их состояний, а [аксиома или теорема] простирается шире, еще и на вечные истины, — [2] либо [дефиниция объясняет] вещь в зависимости от того, как она понимается или может пониматься нами; и в этом случае она отличается от аксиомы и теоремы тем, что требует только, чтобы ее понимали абсолютно (absolute), а не как аксиому, на основании истинности (sub ratione veri). Поэтому плоха лишь та дефиниция, которую нельзя понять» [Ер 9].
Этот непростой фрагмент нуждается в пояснении.
Дефиниция [1] утверждает нечто о реальном положении вещей вне интеллекта, а дефиниция [2] указывает, как следует мыслить ту или иную вещь, независимо от того, существует ли она вне интеллекта. Дефиниция [1] является истинной или ложной в зависимости от того, верно ли она описывает вещь. Дефиниция [2] не обязана согласоваться с чем-либо существующим актуально — лишь бы она была понятной.
Дефиниция [1] почти что ничем не отличается от теоремы или аксиомы (разве только тем, что имеет предметом одну, «эту вот» вещь, тогда как некоторые теоремы и все аксиомы распространяются на множество вещей разом). Подобно теореме, дефиниция [1] нуждается в доказательстве ее истинности. Нередко эта дефиниция выступает в качестве предмета доказательства в теореме. В «Этике» это случается с определениями Бога как «вещи мыслящей» [Eth2 prl] и «вещи протяженной» [Eth2 pr2], с определением Духа как идеи Тела, существующего в действительности [Eth2 prl 3] и еще с несколькими важнейшими дефинициями.
Дефиниция [2] в «геометрическом порядке» предваряет появление аксиом и теорем, открывая врата теории. Ее легко узнать по содержащемуся в ней выражению «рег… intelligo» (под… я понимаю, разумею), где на месте многоточия помещается имя определяемой вещи.
«Если я говорю, что всякая субстанция имеет только один атрибут, это будет настоящая теорема, и она нуждается в доказательстве. Если же я говорю, что под субстанцией я разумею то, что состоит из одного только атрибута, эта дефиниция будет хорошей, лишь бы впоследствии предметы, состоящие из многих атрибутов, обозначались иным именем, нежели «субстанция»» [Ер 9][805].
Существует давний спор относительно того, являются предварительные дефиниции «Этики» номинальными или же реальными, определениями словили определениями вещей. «Номиналистическое» истолкование восходит еще к Предисловию, написанному Л. Мейером к изданию РРС. Здесь сказано, что дефиниции суть «объяснения знаков и имен» (а не объяснения реальных предметов, которые обозначаются этими именами). Номинальными считал предварительные дефиниции «Этики» и Гегель. Эта позиция подкрепляется, главным образом, внешними соображениями: тем, что Спиноза прочел и одобрил Предисловие Мейера, плюс напрашивающейся параллелью с исходными дефинициями геометров.
По сути единственный веский довод в пользу номиналистической интерпретации, который ее сторонники находят в текстах Спинозы, это присутствие во всех без исключения начальных дефинициях «Этики» слов «intelligo, dico, nomino, voco» (я разумею, говорю, именую, зову). На самом деле эти слова показывают только, что начальные дефиниции нельзя считать реальными. Означает ли это автоматически, что они номинальные? Такое заключение было бы слишком поспешным.
Сам Спиноза, вне всякого сомнения, не считал свои дефиниции номинальными, как можно судить из его частых напоминаний о том, что дефиниция должна выражать природу, сущность, действующую причину вещи:
«Истинное определение какой-либо вещи не содержит и не выражает ничего, кроме природы определяемой вещи» [Eth1 pr8 sch2]. «…Я соблюдаю только одно [правило]: чтобы эта идея, или определение, вещи выражало [ее] действующую причину» [Ер 60].
Таким образом, можно считать твердо установленным, что Спиноза рассчитывал в своих дефинициях объяснить причины вещей, а не только значение тех или иных слов (значение слов, разумеется, выясняется во всякой дефиниции — в этом отношении дефиниции Спинозы ничем не отличаются от любых других).
Меж тем, несмотря на прямые указания Спинозы, некоторые историки философии по-прежнему продолжают считать предварительные дефиниции «Этики» номинальными. Так, Делаунти полагает, что
«дефиниции, возглавляющие «Этику», должны быть бессодержательными, как в математическом трактате; и что они могут гарантировать выполнение только одного требования — чтобы слова понимались в определенном значении»[806].
Требование справедливое, однако никак не достаточное. Есть, как мы видели, еще одно, содержательное правило определения — объяснять сущность, действующую причину вещи. Хорошая дефиниция позволяет мысленно или же реально построить вещь и вывести ее свойства.
Керли считает «по крайней мере наиболее важные из них скорее реальными, нежели номинальными»[807]. Ранее и Половцова на основании того, что «definitio не является [только] разъяснением содержания некоторого термина, но всегда некоторой сущности», сделала недостаточно обоснованный вывод, что начальные дефиниции «Этики» являются «истинными реальными определениями» (с оговоркой, что они не имеют ничего общего с тем, что считалось «реальным определением» у схоластиков)[808].
Однако реальная дефиниция говорит о том, что есть, существует, а не всего лишь разумеется нами. Нельзя же игнорировать слово «intelligo», которое Спиноза делает опознавательным знаком, отличающим его начальную дефиницию от дефиниции реальной. Это «я разумею» дает ему право оставить свои дефиниции без доказательства, так как мы свободны мыслить что угодно до тех пор, пока воздерживаемся от утверждения о реальном существовании того, что мы мыслим. Станет ли
«кто-либо требовать, чтобы я доказывал истинность моего определения? Это все равно, что… требовать от меня доказательства того, что я мыслил то, что я мыслил…» [Ер 9].
Нет никакого смысла доказывать дефиниции, касающиеся не реальных, а только мыслимых вещей.
Приняв начальные дефиниции «Этики» за реальные, мы этим приравняли бы их к теоремам, а Спиноза выглядел бы наивным догматиком, который без всякого доказательства ввел важнейшие положения своей философии. Тем более что эти дефиниции сплошь и рядом стоят в отношении противоречия к последующим теоремам, — это обстоятельство не раз отмечалось комментаторами «Этики».
Очень многие противоречия объясняются тем, что исходные дефиниции и теоремы «Этики» лежат в разных логических плоскостях: дефиниции, в отличие от теорем, нельзя судить sub ratione veri или приписывать предметам этих дефиниций наличное бытие вне интеллекта. Нет ничего удивительного в том, что, ошибочно поставив дефиниции «Этики» в один общий ряд с теоремами о реальных, а не просто «разумеемых» нами, вещах, комментаторы обнаруживают затем множество противоречий самого странного свойства[809].
Что же представляет собой логическая плоскость, в которой действуют эти дефиниции? Я полагаю, это плоскость рассудка (ratio). Ее главный отличительный признак — безразличие к наличному бытию определяемой вещи вне интеллекта, поэтому начальные дефиниции никак не могут считаться реальными. Однако они далеко не безразличны к сущности (ближайшей причине) вещи, как дефиниции номинальные, которые объясняют только значения слов. Предварительные дефиниции «Этики», вернее всего, следует считать не номинальными и не реальными, но рассудочными определениями.
«Основания Рассудка суть понятия, которые раскрывают то, что является общим (communia) всем [вещам], и которые не раскрывают сущности никакой единичной вещи…» [Eth2 pr44 соr2 dm].
Предметом рассудка является всеобщее. Это не то абстрактное всеобщее, universalia, которое образуется посредством отвлечения одинаковых свойств вещей (данную работу, согласно Спинозе, выполняет воображение, а не рассудок, как в учениях Канта и Гегеля). Свое всеобщее, communia, рассудок извлекает посредством «экстракции»[810] данных в опыте свойств вещей (как это происходит в случае «очищения интеллекта» в НЕ), либо он располагает им априори, как своеобразным «врожденным орудием».
«Универсальные образы» (imagines universales), пишет Спиноза, люди образуют по-разному, «в зависимости от расположения своего тела», — вот отчего образы вызывают столько разногласий [Eth2 pr40]. Напротив, «то, что обще (communia) всем [вещам] может пониматься не иначе, как адекватно» [Eth2 pr38].
Общие понятия у всех людей одинаковы, поэтому тем, кто в состоянии понять рассудочные дефиниции или аксиомы, никакие доказательства не требуются.
Помехой для понимания рассудочных дефиниций является недостаточная прозрачность словесной формы, в которую человеку приходится облекать свои мысли. Ведь слова суть pars imaginationis (часть воображения); одни и те же слова нередко понимаются по-разному, и никакие усилия духа не в состоянии сделать соответствие языка (формы воображения) и рассудка безупречно строгим[811]. Тем не менее поиск сколь возможно более точного словесного выражения для всеобщих понятий (notiones communes) — тех, которыми дух располагает, поскольку он вообще мыслит, и тех, которые он «экстрагирует» из опыта, — имеет чрезвычайно важное значение.
Из ранних работ и писем Спинозы хорошо видно, как кропотливо шлифуется словесная форма его дефиниций и аксиом. И все vXce фактор языка является для него второстепенным. Требования, тсоторые предъявляет к своим дефинициям рассудок, важнее. Их всего два. Правильная дефиниция обязана выражать сущность, действующую причину вещи и быть понятной (conceptibilis), то есть не вступать в противоречие с собой.
Последнее Спиноза поясняет примерами определения понятия фигуры. Определив фигуру как пространство, очерчиваемое двумя прямыми линиями, мы получили бы противоречивую дефиницию, которую невозможно помыслить (в пределах евклидова пространства, благоразумно добавил бы современный математик). Тем не менее, и эта дефиниция может оказаться хорошей, то есть понятной, если слово «прямая» означает то, что обычно называют «кривой» линией.
Заметим, что Спиноза не требует, чтобы рассудочная дефиниция описывала какой-нибудь реально существующий предмет, подобно теореме и аксиоме. Предмет рассудочной дефиниции мыслится сам в себе, absolute, как выражается в [Ер 9] Спиноза, то есть безотносительно ко всему, кроме своей ближайшей причины. Реальное существование вещи в начальных дефинициях не постулируется даже в том случае, если это существование мыслится как «заключенное в сущности» этой вещи. Посмотрим, в чем разница между рассудочной дефиницией и реальной, на примере ключевой для «Этики» дефиниции — Бога.
[Eth1 df6] гласит:
«Под Богом я разумею абсолютно бесконечное сущее, то есть субстанцию, состоящую из бесчисленных атрибутов, всякий из которых выражает вечную и бесконечную сущность».
Здесь наличествует характерный признак рассудочной дефиниции — «intelligo» (я разумею). Что такое в действительности есть Бог, то есть существует ли Бог и каковы его конкретные атрибуты, отсюда не понятно. Иными словами, существование Бога остается пока что не определенным. Но существование Бога — то же, что его сущность [Eth1 pr20], значит, сущность Бога невозможно определить отдельно от его существования. Получается, что [df6] оставляет неопределенным не только существование, но и сущность Бога, — а это противоречит императиву, который обязывает указывать в определении вещи ее сущность.
Перед нами одно из тех противоречий, которые возникают вследствие некорректного отношения к рассудочным дефинициям, когда их истинность измеряется теоремой, в данном случае [рr20]. Между тем теорема являет собой мысль совершенно иного порядка, нежели рассудочная дефиниция.
Сущность Бога его дефиниция схватывает не в той реальной и конкретной форме, которую сообщают ей последующие теоремы, а в форме рассудочной всеобщности. Всеобщим (communis) определением Бога в рассудке оказывается «абсолютная бесконечность». Это подтверждается тем, пишет Спиноза Чирнгаусу, что данное определение позволяет вывести все прочие свойства Бога, меж тем как определение Бога посредством категории «совершеннейшего Сущего» не дает такой возможности [Ер 60], и потому не является всеобщим. Кроме того, Спиноза считает свое определение Бога существенным, то есть выражающим действующую причину бытия Бога, каковой является его собственная сущность (выше мы видели, что категории абсолютно бесконечного и причины себя у Спинозы тождественны).
Дальнейший анализ категории бесконечного приводит Спинозу к мыслям (теоремам) о том, что Бог существует и его сущность тождественна с существованием, что он единствен, вечен, свободен в своих действиях и так далее. Все это суть свойства или признаки, принадлежащие Богу и общие (communes) всем его атрибутам. Конкретные определения атрибутов Бога как таковых Спиноза дает в теоремах [Eth2 pr1-2]:
«Deus est res cogitans» и «Deus est res extensa».
Только эти определения Бога, как вещи мыслящей и протяженной, суть его реальные дефиниции. Спиноза пишет, что Бог есть вещь мыслящая и протяженная, а не просто: Бога я понимаю (iintelligo) как вещь мыслящую и протяженную. Связка «est» прямо указывает, что данная дефиниция — реальная и ее надлежит воспринимать sub ratione veri. Реальные дефиниции подводят некий итог исследования вещи, рассудочные же образуют его отправной пункт.
Наличие более или менее строго очерченного круга исходных допущений, истинность которых не доказывается, является необходимым условием формирования всякой теории. Аксиоматика «Этики», безусловно, не удовлетворяет строгим формально-логическим требованиям — независимости, полноты и непротиворечивости.
К примеру, [Eth1 ax1] гласит:
«Все, что существует, существует либо в себе, либо в ином».
Согласно Спинозе, существовать в себе или в ином значит иметь причиной своего существования себя или иное. Эта важнейшая аксиома основывается на предположении, что всякая вещь существует вследствие какой-либо причины, появляющемся только в [Eth1 pr8 sch2]. Следовательно, уже первая аксиома «Этики» не может считаться независимой.
В [Eth1 ахб] Спиноза объясняет, что «истинная идея должна согласоваться со своим идеатом». Меж тем дефиниция идеи дается гораздо позже, в [Eth2 df3]. А относительно [Eth5 ах2] Спиноза замечает: «эта аксиома явствует из теоремы 7 части III». Но в таком случае ее нельзя считать аксиомой, а правильнее квалифицировать как королларий этой теоремы!
Нетрудно показать, что в «Этике» наличествует еще несколько «нелегальных» аксиом. Ее аксиоматика никак не может считаться независимой и достаточно полной. Противоречия «Этики» — предмет отдельного разговора, однако даже невооруженному взгляду заметно, что она совершенно не вписывается в канон непротиворечивости, предлагаемый традиционной логикой. У Вольтера имелись основания писать о «туманностях его [Спинозы] так называемого геометрического, а на самом деле весьма запутанного стиля»[812].
Трудно судить, отчего Спиноза столь откровенно пренебрегает формальными требованиями, предъявляемыми к аксиоматике. Какой смысл пользоваться геометрическим порядком, если не соблюдаются его простые нормы? Во всяком случае, это пренебрежение лишний раз свидетельствует о том, что Спиноза не придавал решающего значения геометрическому порядку доказательства, не считал, что от точного соблюдения этого порядка зависит истинность мышления, и не использовал его потенциал в полной мере.
В философии никогда не было эталонной аксиоматики, наподобие Евклидовой. Здесь почти в одно время возникли сразу несколько соперничающих аксиоматических систем. Чаще всего философы полагались на ясность и простоту восприятия своих аксиом и на согласие выводимых из аксиом следствий с данными опыта. Спиноза ищет предметный критерий. Аксиома верна лишь в том случае, когда ее предмет — нечто всеобщее, то есть общее всем вещам и не образующее сущности никакой единичной вещи. Это всеобщее «может пониматься не иначе как адекватно», доказывает Спиноза.
Почему же, в таком случае, аксиомы «Этики» многим философам все же представляются сомнительными или даже ошибочными? Керли справедливо указывает, что последователю Юма четыре первые аксиомы «Этики», производные от каузального постулата, вовсе не покажутся убедительными. А аксиомы и постулаты второй части «Этики» — в особенности те, что касаются природы тел, — в большинстве своем просто абстракции, извлекаемые из опыта.
«Я нахожу просто невероятной мысль, что Спиноза мог считать всякое из этих положений столь ясным и очевидным, что никто, понявший термины, не в состоянии отрицать их», — заключает Керли[813].
Спиноза, конечно, не мог быть столь наивен, чтобы думать, что его аксиомы ни у кого не вызовут никаких возражений. Еще Декарт сетовал, что в философии нет ни одного положения, которое не служило бы предметом споров и в этом смысле не могло считаться сомнительным. Спиноза не придает подобного рода сомнениям столь серьезного значения, как Декарт. Скептиков, оспаривающих адекватность понятий причины, субстанции, актуальной бесконечности, лежащих в основании его аксиом, Спиноза пренебрежительно зовет «людьми, поистине пораженными слепотою духа» [TIE, 14][814].
Это, впрочем, не означает, что сам он видел в аксиомах «Этики» истины в последней инстанции. Гилеад отстаивает мнение, что Спиноза вообще был противником картезианского принципа непосредственной достоверности основоположений теории:
«На самом деле Спиноза отвергает возможность непосредственного, самоочевидности в человеческом знании»[815].
В этой части Спиноза встает в оппозицию к Декарту и… оказывается солидарен со скептиками. Последнее выглядит почти невероятным, учитывая «догматическую» репутацию спинозовской философии, однако Гилеад подкрепляет свое мнение солидной аргументацией.
Методологическая программа Декарта предполагала конструирование всего корпуса знаний из элементарных, непосредственно ясных и достоверных идей, как в геометрии (вот это, а не ordo geometricus, и есть настоящий геометрический метод философского мышления). Локк и Юм, Рассел и Карнап, каждый по-своему, делали то же самое, пишет Гилеад. Спиноза же считал такой метод ошибочным:
«Спиноза предоставляет статус очевидного знания только завершенному in concreto знанию Субстанции как целого, а не дефиниции Субстанции или какой бы то ни было иной дефиниции «Этики». Дефиниции, Аксиомы и Постулаты «Этики» заключают в себе общие знания, которые требуют подтверждения, экспликации, конкретизации, а иногда исправления и ограничения»[816].
В этой оппозиции Спинозы «самоочевидным истинам» Гилеад усматривает предвосхищение кантовской «Дисциплины чистого разума» и феноменологии Гегеля с ее знаменитым: «Das Wahre ist das Ganze» — истинное есть целое.
В свое время Фихте ставил трансцендентальной философии в заслугу (перед философией догматической) как раз непосредственную данность ее оснований: в отличие от веры в реальность внешних вещей, моя вера в свое Я абсолютно непосредственна, — снова и снова повторял он. Разумеется, Спиноза отдавал себе отчет, что аксиомы «Этики» не могут поспорить в очевидности с «фактами сознания»[817]. Это не могло его смутить, ибо он не верил в возможность непосредственного усмотрения истины.
«Ведь очами Духа, которыми он видит и рассматривает вещи, являются именно доказательства» [Eth5 pr23 sch].
Без рациональных «демонстраций» наш дух не в состоянии увидеть ни одну истину — даже ту, которой он располагает от природы. Самый интеллект (конечный, человеческий интеллект, разумеется) нуждается в логическом «врачевании и очищении, насколько это возможно вначале, чтобы он успешно понимал вещи, без заблуждений и наилучшим образом» [ТЕ, б].
Однако, спрашивается, разве знаменитая интеллектуальная интуиция не позволяет прямо и непосредственно созерцать истину? Твердое «нет». Scientia intuitiva у Спинозы не действует прежде рассудка или в обход рассудка, как у мистиков[818]. Чувственное и демонстративное знание предшествуют интуитивному: мы ничего не знали бы о существовании единичных вещей без воображения и не умели бы упорядочить данные чувств без помощи категорий рассудка. Без предварительной совместной работы обеих этих форм мышления ни о каком интуитивном познании сущности вещей не могло бы идти и речи! Дух не имел бы представления о том, сущность чего, собственно, ему предстоит познать; чтобы «увидеть» единичную вещь, ему требуются oculi и historia — «очи» доказательств и «история» чувственного опыта (в ней собраны данные о свойствах вещи, которыми рассудок пользуется для «экстракции» своих понятий). Значит интуиция не может лежать в самом основании знания. Напротив, это вершина познания и его итог.
Эта интуиция не имеет никакого отношения к аксиоматике (как у Декарта или у математиков-интуиционистов). Notiones communes, которые «суть основания для наших рассуждений» (ratiocinii nostri fundamenta sunt), Спиноза числит по ведомству рассудка, а не интуиции.
Из данного Спинозой определения: scientia intuitiva «продвигается от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей», — явствует, далее, что условиям определения интуиции не отвечает чистая математика, поскольку она не занимается сущностями реальных вещей. А следовательно, математические аналогии, с помощью которых Спиноза пояснял отличие интуиции от прочих форм познания, нельзя интерпретировать как примеры действия интуиции[819].
Однако было бы слишком поспешным делать заключение, что математика не имеет дела с реальностью вне мышления и что ее настоящий предмет — entia rationis[820]. Есть еще одна возможность: предмет математики — «количество, понимаемое как субстанция» [Eth1 prl5 sch], то есть атрибут протяжения как таковой. А числа и фигуры суть поставляемые рассудком средства оперирования определенными количествами (величинами). Однако эта тема требует отдельного исследования.
Беннетт доказывает, что аксиомы «Этики» гипотетичны и их достоверность зависит от верификации следствий, то есть от истинности последующих теорем. Этот диагноз хорошо согласуется с мнением Гилеада о том, что истинность аксиом зависит от их последующей экспликации, а не достается им априори. Однако верным остается и обратное — что истинность теорем, в свою очередь, зависит от истинности аксиом. Истинное есть целое, «круглящаяся цепь» идей, все звенья которой взаимно обусловливают друг друга.
Керли обращает внимание на письмо Спинозы Ольденбургу, в котором говорится, что аксиомы «выводятся» (concluduntur) из дефиниций [Ер 4]. Последние Керли тоже склонен рассматривать как особые гипотезы, учитывая неоднократно повторяемые Спинозой слова о том, что хорошая дефиниция вещи позволяет вывести (deducere) все известные духу свойства вещи. А как можно знать это прежде, чем мы на деле выведем последнее из этих свойств?
«Он трактует дефиницию как теорию, а известные свойства вещи как явления, которые теория предполагает объяснить. И один из центральных критериев правильности дефиниции есть ее способность объяснять эти явления. При таком прочтении «Этика» Спинозы становится упражнением в своего рода гипотетико-дедуктивном методе»[821].
На мой взгляд, гипотетичность спинозовской аксиоматики, равно как и всякой аксиоматики вообще, несомненна. Истинность дефиниций (а стало быть и аксиом, которые из них отчасти «выводятся») выявляется апостериори, лишь в итоге полнокровного исследования определяемой вещи. Важнейшим критерием отбора дефиниций и аксиом для Спинозы было соображение об их пригодности для обоснования философской системы в целом (а не просто для выведения известных свойств вещей, как думает Керли). Это тот самый случай, когда целое, говоря словами Маркса, «витает перед нашим представлением как предпосылка».
То обстоятельство, что большинство аксиом ранней версии «Этики», упомянутых в переписке, впоследствии превратились в теоремы, по-видимому, свидетельствует, что Спиноза достаточно серьезно заботился об очевидности аксиоматики (Гилеад несколько перегибает палку, оспаривая значение этого фактора). Claritas, ясность, есть свойство всякой истинной идеи, а всякая простая идея, по его словам, «per se nota» — понятна посредством себя. Однако Керли и Гилеад совершенно правы в том, что очевидность, как таковая, не была для Спинозы критерием истинности, и в «Этике» нет непосредственно самодостоверных суждений в смысле Декартова cogito.
Клевер, верно отмечая, что теоретическая система не однородная масса знаний и отдельные ее положения имеют разную «истинностную ценность» (truth-value), затем прибавляет, что
«аксиомы… суть те идеи, которые обладают наивысшим достоинством и ценностью в сфере нашего знания»[822].
Аксиомы задают общие правила мышления и лежат в основании теории, поэтому они, по мнению Клевера, ценнее, чем «маргинальные» (marginal) положения, то есть теоремы и суждения о единичных вещах.
Спиноза был крайне далек от подобных взглядов. —
«Чем больше понимаем мы единичные (singulares) вещи, тем больше мы понимаем Бога», — говорится в [Eth5 pr24].
Знание сущности единичных вещей есть высшая форма познания, scientia intuitiva, и (опять мы встречаемся с совпадением логического и этического) summa virtus — наивысшая добродетель [Eth5 pr25]. Значит, чем конкретнее наша идея, тем она ценнее, а всеобщие понятия имеют скорее вспомогательное значение.
Спиноза ясно пишет, что notiones communes — и, стало быть, аксиомы, ибо у Спинозы есть прямое указание на то, что аксиомы «числятся среди всеобщих понятий» [Eth1 pr8 sch2], —принадлежат второй форме познания, рассудку; а в плане «истинностной ценности» рассудок существенно уступает интеллектуальной интуиции. Это лишнее свидетельство в пользу того, что истинность аксиоматики «Этики» зависит от ее последующей экспликации и конкретизации посредством применения к единичным вещам.
Аксиомам, как любому инструменту человеческой деятельности, придает ценность конкретная работа, которая выполняется с их помощью. «Истинностная ценность» всякой отдельной идеи или конечной суммы идей — величина относительная. Только разум как таковой (бесконечный интеллект, идея Бога, то есть знание о Природе в целом sub specie aeternitatis) обладает, в глазах Спинозы, абсолютной «истинностной ценностью».
Заключение
Мы выяснили структуру универсального логического метода, основы которого были заложены Декартом и Спинозой. Как мог без труда заметить читатель, автор книги в общем и целом разделяет взгляды Спинозы на предмет логики и на самое существо логического метода. В его учении об «усовершенствовании интеллекта» я вижу не только исторический феномен, не просто одну из ступеней, которую человеческий дух миновал в своем поступательном восхождении к истине три столетия назад, но— в высшей мере эффективный, универсальный метод теоретического мышления.
Вместе с тем, справедливости ради следует упомянуть о недостатках спинозовского метода, к которым я бы отнес прежде всего отсутствие ясно формулируемых принципов и схем выведения категорий, этой метрики логического «пространства». TIE в том виде, в котором его оставил Спиноза, производит впечатление довольно аморфной, сырой в формальном отношении теоретической конструкции; реальный же логический остов «Этики» просматривается с большим трудом и опыты его исследования в историко-философской литературе нередко напоминают расшифровку сложной криптограммы[823]. Результаты получаются на редкость разноречивые.
Кроме того почти не просматривается связь логических идей Спинозы с серьезной научно-исследовательской практикой его эпохи (примеры различных действий мышления он черпает, чаще всего, из элементарной математики и обычного опыта). В известной мере это помогло ему избежать предрассудков механического склада ума, однако и лишило его учение о методе жизненных соков, которые питали методологию Декарта и Лейбница. Не в последнюю очередь по причине своей чрезмерной умозрительности логический метод Спинозы так долго оставался невостребованным научным сообществом.
Задача заключается в том, чтобы исправить эти недостатки, сохранив суть спинозовской методологии «усовершенствования интеллекта», и активнее использовать ее для решения конкретных теоретических проблем. В XX веке укоренилось предубеждение, что классическая форма рациональности исчерпала свои возможности и что дальнейшее развитие теоретической мысли, в том числе логико-философской, предполагает разрушение или по меньшее мере значительное ограничение классического принципа каузальности (свое крайнее выражение эта тенденция нашла в школах философского «постмодерна»). Ныне это предубеждение не выглядит больше столь прочным и массовым, как прежде. Насколько можно судить, теоретическая программа, питавшая его своей «положительной эвристикой», в настоящее время вступила в фазу «регрессивного сдвига проблем» (degenerating problemshift), как выразился бы Лакатос. И автору настоящей книги хотелось бы внести свою посильную лепту в реабилитацию классической формы рационального мышления, неразрывно связанной с именами Декарта и Спинозы.
Условные сокращения
AT (Euvres de Descartes (ed. Ch. Adam & P. Tannery), 12 vols. Paris, 1897–1913.
С Сочинения, 2 т. Москва, 1989-94.
VL Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt, ed. J. van Vloten & J. P. N. Land, 3 vols. (2rs ed.) Hagae Comitum, 1895.
HG Spinozae Opera philosophica, 4 vols. Herausgegeben von Hugo Ginsberg. Leipzig: E. Koschny, 1876 — Heidelberg: G. Weiss, 1882.
Eth Ethica ordine geometrico demonstrata
Этика, доказанная в геометрическом порядке
df = определение
ах = аксиома
pr = теорема
dm = доказательство
соr = королларий
sch = схолия
lm = лемма
pt = постулат
cap = глава
ар = прибавление
prf = предисловие
ехр = пояснение
afdf = определения аффектов
agd = общее определение аффектов
KV Korte Verhandeling van God, de Mensch en des Zelfs Welstand
Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье
prf = предисловие
ср = глава
vmz = О человеческой душе
TIE Tractatus de intellectus emendatione, et de via, qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur
Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей В ссылках указывается номер страницы в издании VL (vol. I, рр. 3-34).
PPC Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae pars I et II, more geometrico demonstratae
Начал философии Рене Декарта части I и II, доказанные геометрическим способом.
В ссылках даны те же сокращения, что и в ссылках на «Этику».
CM Appendix, continens Cogitata Metaphysica
Приложение, содержащее Метафизические Мысли
ср = глава
TTP Tractatus theologico-politicus
Богословско-политический трактат
В ссылках указывается номер страницы в издании HG (vol. IV, рр. 1-237).
TP Tractatus politicus Политический трактат
Ep Epistolae doctorum quorundam virorum ad В. d. S. et auctoris responsiones
Письма некоторых ученых мужей к Б. д. С. и ответы автора