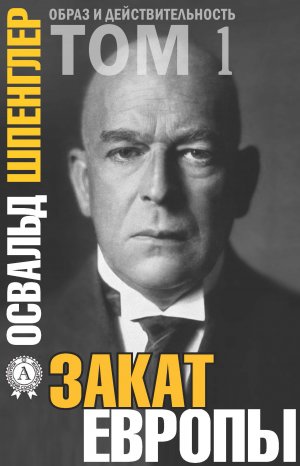
«ПАДЕНИЕ ЗАПАДА» И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(общедоступное введение)
Общедоступное введение не пишут для профессионалов.
Это обращение к читателю, открывающему книгу Шпенглера и не имеющему предубеждений. Наше пожелание – посмотрите «Содержание» «Заката Европы», оцените масштаб темы, заявленной во «Введении», материал и способ его подачи в последующих шести главах, и Вам будет трудно не согласиться с Н. А. Бердяевым и С. Л. Франком в том, что «Закат Европы» О. Шпенглера есть бесспорно самое блестящее и замечательное, почти гениальное явление европейской литературы со времени после Ницше. Эти слова были сказаны в 1922 г., когда феноменальный успех книги Шпенглера (за два года, с 1918 по 1920-й, вышло 32 издания 1 тома) сделал ее идею предметом пристального внимания выдающихся умов Европы и России.
«Der Untergang des Abendlandes» – «Падение Запада» (так переводят еще «Закат Европы») опубликовано в двух томах Шпенглером в Мюнхене в 1918–1922 гг. Сборник статей Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, А. Ф. Степуна, С. Л. Франка «Освальд Шпенглер и Закат Европы» вышел в издательстве «Берег» в Москве в 1922 г. На русском языке «Падение Запада» прозвучало как «Закат Европы» (Т. 1. «Образ и действительность»). Издание, в переводе Н. Ф. Гарелина, было осуществлено Л. Д. Френкелем в 1923 г. (Москва – Петроград) с предисловием проф. А. Деборина «Гибель Европы, или Торжество империализма», которое мы опускаем.
Необычно смыслоемкое и информативное «Содержание» книги «Закат Европы» само по себе есть почти забытый в наше время способ представления автором своего произведения читающей публике. Это не список тем, но многомерный, объемный, интеллектуальный, красочный и привлекательный, образ именно «Заката» Европы как феномена всемирной истории.
И сразу же начинает звучать вечная тема «Форма мировой истории», которая вводит читателя в остросюжетную проблему XX в.: как определить историческое будущее человечества, отдавая себе отчет в ограниченности наглядно-популярного членения всемирной истории общепринятой схемой «Древний мир – Средние века – Новое время?»
Заметим, что Маркс формационно членил всемирную историю также на триады, диалектически порождаемые развитием производительных сил и классовой борьбой. В знаменитой триаде «Субъективный дух – Объективный дух – Абсолютный дух» Гегеля всемирной истории отведено скромное место одной из ступеней внешневсеобщего самоосуществления мирового духа в праве, нравственности и государстве, ступени, на которую лишь ступает абсолютный дух, чтобы явиться в адекватных самому себе формах искусства, религии и философии.
Впрочем, что Гегель и Маркс, Гердер и Кант, М. Вебер и Р. Коллингвуд! Просмотрите учебники по истории: они и ныне знакомят со всемирной историей по той же схеме, которую еще в начале XX в. подвергал сомнению Шпенглер и в которой Новое время только расширено Новейшей историей, якобы начавшейся в 1917 г. Новейший период всемирной истории в школьных учебниках до сих пор трактуется как эпоха перехода человечества от капитализма к коммунизму.
Мистическая троица эпох в высшей степени привлекательна для метафизического вкуса Гердера, Канта и Гегеля, писал Шпенглер. Мы видим, что не только для них: она приемлема для историко-материалистического вкуса Маркса, она приемлема и для практически-аксиологического вкуса Макса Вебера, т. е. для авторов любой философии истории, которая представляется им некоей заключительной стадией духовного развития человечества. Даже великий Хайдеггер, задаваясь вопросом, в чем сущность Нового времени, опирался на ту же триаду.
Что же претило Шпенглеру в этом подходе, почему уже в начале XX в. такие абсолютные мерила и ценности, как зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое развитие, просвещение, свобода народов, научное мировоззрение и т. д., он не смог принять в качестве принципов философии истории, объясняющих ее формационное, стадиальное, эпохальное членение («наподобие какого-то ленточногочервя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой»)?
Какие факты не укладывались в эту схему? Да прежде всего очевидный декаданс (т. е. «падение» – от cado – «падаю» (лат.)) великой европейской культуры в конце XIX – начале XX в., которым, согласно шпенглеровской морфологии истории, порождены и первая мировая война, разразившаяся в центре Европы, и социалистическая революция в России.
Мировая война как событие и социалистическая революция как процесс в марксистской формационной концепции истолкованы как конец капиталистической общественной формации и начало коммунистической. Шпенглер же оба эти явления интерпретировал как признаки падения Запада, а европейский социализм объявил фазой упадка культуры, тождественной, по его хронологическому измерению, индийскому буддизму (с 500 г. н. э.) и эллинистическо-римскому стоицизму (200 г. н. э.). Это отождествление могло считать причудой (для тех, кто не принял аксиоматику Шпенглера) или простым, формальным следствием концепции мировой истории как истории высших культур, в которой каждая культура предстает как живой организм. Однако провидение Шпенглера относительно судеб социализма в Европе, России, Азии, высказанное уже в 1918 г. определение сути его («социализм – вопреки внешним иллюзиям – отнюдь не есть система милосердия, гуманизма, мира и заботы, а есть система воли к власти. Все остальное самообман») – заставляют пристально всмотреться в принципы такого понимания мировой истории.
Сегодня, по прошествии трех четвертей XX в., в течение которых возник, развился и угас европейский и советский социализм, можно по-иному оценить и предсказания О. Шпенглера, и историческое высокомерие (приведшее к исторической ошибке) В. И. Ульянова-Ленина («как бы ни хныкали Шпенглеры» по поводу упадка «старой Европы», – это всего «лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистическим грабежом и угнетением большинства населения земли». В самом деле, В. И. Ленин и К. Маркс видели в диктатуре пролетариата инструмент необходимого государственного насилия во имя создания общества социалистической справедливости, мира и гуманизма. Но революционная практика показала, что подобная система насилия непрерывно воспроизводит себя как система такой воли к власти, которая высасывает природные ресурсы, жизненные силы народов и дестабилизирует общемировую обстановку.
Почти одновременно с «Закатом Европы» (1923 г.) Альберт Швейцер, великий гуманист XX в., опубликовал свою статью «Распад и возрождение культуры»[1], в которой упадок европейской культуры осмысливался тоже как трагедия мирового масштаба, а не как эпизод в истории падения мировой буржуазии. Если, согласно О. Шпенглеру, «закат» вообще невозможно конвертировать в «восход», то А. Швейцер верил в этот «восход». Для этого, с его точки зрения, необходимо было, чтобы европейская культура обрела вновь прочную этическую основу. В качестве такой основы он предложил свою «этику благоговения перед жизнью» и вплоть до 60-х гг. практически следовал ей, не разуверившись в ней даже после двух мировых войн и всех революций XX в.
В 1920 г. вышла в свет знаменитая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». С точки зрения Вебера, о «падении Запада» и речи быть не может. Ядро европейской культуры (теории государства и права, музыки, архитектуры, литературы) – универсальный рационализм, порожденный ею давно, но получивший универсальное значение как раз в XX в. Рационализм – основа европейской науки, и прежде всего математики, физики, химии, медицины, основа «рационального капиталистического предприятия» с его производством, обменом, учетом капитала в денежной форме, со стремлением к непрерывно возрождающейся прибыли[2].
Однако именно этот универсальный рационализм и волю к экономической и политической власти (в капиталистической ли, в социалистической ли ипостаси) Шпенглер считал закатом тысячелетней западноевропейской культуры, т. е. переходом ее на стадию цивилизации.
Итак, в 1920-е годы были сформированы по крайней мере три фундаментальные концепции будущего западноевропейской культуры:
• О. Шпенглер: рационалистическая цивилизация есть деградация высших духовных ценностей культуры, и та обречена;
• А. Швейцер: упадок культуры имеет философско-этические причины, он не фатален, и культуру можно спасти, влив в нее Этику «благоговения перед жизнью»;
• М. Вебер: европейскую культуру нельзя измерять прежними ценностными критериями, на смену им пришла универсальная рациональность, что меняет представление об этой культуре, и поэтому о гибели ее не может быть и речи.
Наше столетие заканчивается. Оно принесло невиданные и немыслимые в XIX в. катастрофы, глобальное изменение способа существования человечества. Рациональная наука вызвала к жизни планетарную технику. Человечество начало освоение космоса. Найдены генно-инженерные, киберорганизменные технологии изменения физических и духовных свойств человека, заново открыты нетехнологические и применены технологические методы расширения возможностей психики. Над человечеством нависли апокалиптические опасности. За считанные годы классический капитализм сошел с исторической арены (уступив место постиндустриальному и информационному обществу), погибла европейская социалистическая система. Экологические катастрофы стали обыденностью. Население планеты стремительно приближается к критическому порогу. И потому ныне единственно важный глобальный вопрос – удастся ли человечеству избежать самоуничтожения. И тут нам не обойтись без обращения к классикам – пессимистам и оптимистам. Да, О. Шпенглер предрекал закат культуры, но М. Вебер и А. Швейцер были на этот счет иного мнения. Принципиально важно, кто из них оказался более правым. Но пусть эту задачу читатель решает сам. Решал подобную глобальную задачу и Мартин Хайдеггер, в серии послевоенных докладов «Einblick in das, was ist» («Прозрение в то, что есть», как перевел это В. В. Бибихин). Хайдеггер, процитировав строки из «Патмоса» Гёльдерлина:
сделал знаменательный вывод: «Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к спасительному. Тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть благочестие мысли»[3].
Будем же вопрошать и мы, и прежде всего Шпенглера, который заметил, что падение Запада – это, конечно, отдельный феномен всемирной истории, но и «философская тема, заключающая в себе, если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия». К таким вопросам он отнес следующие: Что такое культура? Что такое всемирная история?
В чем отличие бытия мира как истории от бытия мира как природы? В чем заключается великий кризис современности?
Так что же такое культура? По нашим наблюдениям, в литературе еще никому не удавалось определить культуру бесспорно и окончательно. Только в академической советской культурологии последних лет были выдвинуты регулятивно-деятельностный, целостный, формационный, телеологический (целевой), сущностно-смысловой, страноведческий, производственно-продуктивный, демографический, локально- типовой, ценностный, системный и другие подходы к определению понятия культуры.
Суперорганическая концепция культуры в географии культуры (The cultural geography) США опирается на такое обобщающее определение: «Культура состоит из явных и неявных форм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое при помощи символов; она возникает в результате деятельности групп людей, включая их воплощение в средствах. Сущностное зерно культуры состоит из традиционных (исторически сложившихся и выделенных) идей и особенно присваиваемых им ценностей. Системы культуры могут рассматриваться, с одной стороны, как результаты деятельности, с другой – в качестве регулирующего элемента дальнейшей деятельности»[4] W. Zelinsky (USA) предложил понимать культуру как надбиологический организм, живущий и меняющийся по своим внутренним законам. Компоненты культуры у У. Зелински те же, что и у Дж. Хаксли, – артефакты, социофакты, ментифакты. Артефакты – это базисные средства жизнеобеспечения (по широкому кругу подсистем) антропного происхождения. Социофакты суть элементы культуры межличностных отношений. Ментифакты – это общечеловеческие ценности (религии, идеологии, этика, искусство, философия), связывающие воедино всех представителей данной культуры.
В менее широком значении культура обычно рассматривается как класс вещей и явлений, зависящий от символики надсоматического (внетелесного) содержания.
В период расцвета культуры, подметил А. Швейцер, ее и не определяют, ибо что культура есть прогресс, всем ясно и так. Нужда в определении культуры возникает там, где начинается опасное смешение культуры и бескультурья. Культура ориентирована на духовное и нравственное совершенствование человека. Культура, по Швейцеру, слагается из господства человека над силами природы и над самим собой, когда свои помыслы и страсти личность согласует с интересами общества, т. е. с нравственными требованиями. А. Швейцер сознавал деморализацию человека обществом, идущую полным ходом. Он вплотную приблизился к пониманию «страшной правды, заключающейся в том, что по мере исторического развития общества и прогресса его экономической жизней возможности процветания культуры не расширяются, а сужаются». И вина европейской философии, что эта правда осталась неосознанной.
Но в том-то и дело, что европейская философская мысль в лице Освальда Шпенглера эту страшную правду возвестила urbi et orbi. И в этом легко убедиться. Цена этой правды велика: культура – это высшая форма жизни, исторический суперорганазм, а всякий организм смертен. Человеческая история есть не что иное, как поток бытия сверхорганизмов – «египетской культуры», «античной культуры», «китайской культуры» и пр. Но в таком случае и европейская культура должна обветшать в свой срок – и в этом нет ничего сверхординарного. Мы видели, что и современные ученые трактуют культуру как надбиологический организм. Однако они никак не решаются сделать тот вывод, который Шпенглер вынес на первую страницу своей книги, – «живые культуры умирают!» Решись они на это, и закат культуры станет и для них великой философской темой. Ибо что такое жизнь, а значит и смерть, что такое бытие и ничто, что есть дух и бессмертие, в сущности, не знает никто. И чтобы понять опасность, грозящую культурам, не лучше ли внять доводам Шпенглера, нежели паническим стонам алармистов? Итак, если культура – это организм, живущий примерно тысячу лет, если в мировой истории Шпенглер выделяет восемь культур (египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, западноевропейскую, культуру майя)» и Предсказывает рождение и расцвет русской культуры, то культура имеет свои формы – народ, язык, эпоху, государство, искусство, науку, право, религию, мировоззрение, хозяйство и пр. Словом, каждая культура имеет свое лицо, физиономию, и потому вторая глава книги начинается параграфом «Физиогномика и систематика».
Физиогномика – это учение о том, что человек выражает себя в чертах лица, жестах и позах, формах тела. Физиогномика разительно отличается от учения о сущности, которая непосредственно не дана, которая «является». Внешний облик чего-либо дан зрительно, его нельзя свести к одному свойству, признаку, не исказив этот облик. В то же время внешний облик – внерациональный аналог категориально выражаемой сущности. Сущность выражается рационально – Ренэ Декарт об этом писал еще 360 лет тому назад, в «Regulae ad directionern inqenii», т. е. «Правилах для руководства ума».
Так вот, чтобы понять морфологию истории Шпенглера, нужно поразмышлять о предмете физиогномики, ее возможностях и возможностях физиогномики мировой истории! Для чего? Для того, говорил Шпенглер, «чтобы обозреть весь феномен исторического человечества оком бога, как ряд вершин горного кряжа на горизонте». Емкие слова! В них ощущаются ницшевский «пафос дистанции» от толпы и пафос Коперника, восставшего против птолемеевского геоцентризма, и пафос провозглашения равноценности любых культур, питаемый, в частности, принципом относительности Эйнштейна.
Шпенглер был уверен, что «морфология мировой истории» как способ видения мира еще обретет признание. И он оказался прав: всмотримся в то, что происходит на планете, и увидим – идет борьба против унификации ценностей и жизненных стандартов, против власти тех, кто определяет эти ценности и стандарты. Яростная борьба за национальные суверенитеты на территории бывшего СССР породила «Декларацию прав и свобод человека», в которой провозглашены права на родной язык, на сохранение и развитие национальной культуры. Утверждение и усиление культурной аутеничности наций выдвинуто в качестве одной из четырех главных целей Всемирного десятилетия Культуры (1988–1997), объявленного ЮНЕСКО.
Стремление современных этносов и культур обладать «лица необщим выраженьем», неприятие гражданской, языковой, классовой, религиозной, образовательной унификации прямо работает на следующее предвиденье Шпенглера: «Через сто лет все науки, способные еще вырасти на нашей почве, будут частями единой огромной физиогномики всего человеческого».
В «противоположность живой и одушевленной материи» морфологии культуры, истории и жизни, называемой их физиогномикой, морфологию мертвых (механических, физических) форм природы Шпенглер называет систематикой, т. е. наукой, открывающей и приводящей в систему законы природы и причинные связи. Словом, физиогномика и систематика – это два способа наблюдения мира. Какой же из них более продуктивен? Любой естествоиспытатель, рационалист по убеждению, ответит однозначно: самый продуктивный метод – это метод выявления каузальной, причинно-следственной детерминации посредством наблюдения, измерения, эксперимента и формулирования математической формы закона.
Однако Шпенглера не удовлетворяли прежние методы познания истории – и рационалистические, и аксиологические. Поэтому он создал свой метод, и различные аспекты этого метода как раз и раскрываются в «Закате Европы».
Новое, оригинальное и глубокое, всегда кажется странным. Вот и Шпенглер все время демонстрирует свои «странности».
Главная «странность» предъявляется во втором параграфе главы «Проблема мировой истории», в которой вводится представление о двух формах космической необходимости: о причинности как судьбе органической формы (культуры) и причинности как физико-химической, причинно-следственной каузальности. «Идея судьбы» и «принцип причинности» и есть, по Шпенглеру, две формы необходимости, существующие в нашем универсуме и несводимые одна к другой; две логики – логика органического и логика неорганического; два способа представления – образ и закон; два способа объемной данности – временная необратимость судьбы в истории, их временная протяженность и конечность, и пространственная протяженность естественных объектов; два способа исчисления – хронологический и математический.
Шпенглер утверждает, что Природа и История суть два способа представления действительности в картине мира.
Иными словами. История и Природа – это два итога переживания и усвоения окружающего мира, в первом случае – как суммы образов, картин и символов (полученных с помощью воображения и не «объективных», а лишь возможных), во втором – как совокупности законов, формул, систем и пр.
Действительность становится Природой, если это становление рассматривать как ставшее, и тогда это миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Действительность есть История, если ставшее подчинить становлению, рассматривая его в образах, и тогда возникают миры Платона и Рембрандта, Гете и Бетховена.
Шпенглер делает очень сильное утверждение: математика и принцип причинности определяют систематизацию явлений по методу природоведения (естествознания), хронология и идея судьбы – по историческому (культурологии как морфологии истории). Эти систематизации и охватывают весь мир. Понятно, что и это утверждение вызывает возражение многих. Так, Хайдеггер спрашивал: почему мы при истолковании определенной исторической эпохи говорим о картине мира? каждая ли эпоха истории имеет свою картину мира и озабочена построением своей картины мира, или это только новоевропейский способ представления мира? что значит кар- тина мира? Ведь мир-это космос и история. И разве при- рода и история обязательно исчерпывают весь мир?[5] Действительно, Хайдеггер нашел уязвимые места в концепции «Заката Европы». Но, возможно, Шпенглер сознательно ограничился фаталистическим выводом, который следует из идеи судьбы – выводом о неизбежном падении Запада (как за сто лет до него Артур Шопенгауэр). Мартин Хайдеггер отождествил превращение мира в его картину с процессом превращения человека в субъекта, т. е. с началом такого человеческого существования, когда намечается овладение действительностью («целокупным сущим»). Хайдеггер показал, что лишь там, где мир становится очеловеченной картиной, возможен гуманизм как таковой. Это, правда, не исключает возможности скатиться к уродству субъективизма в смысле индивидуализма (личного, государственного, национального). Хайдеггер увидел «чуть ли не абсурдный, но коренной процесс новоевропейской истории: чем шире и радикальнее человек распоряжается покоренным миром, тем объективнее становится объект, тем субъективнее, т. е. выпуклее, выдвигает себя субъект, тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращается в науку о человеке, в антропологию». Антропология здесь мыслится как нравственно-этическая антропология, как гуманизм в историческом и философском смысле. Так Хайдеггер делает онтологическое (человек становится сутью сущего) обобщение идеи сверхчеловека Нищие, сверхчеловека, овладевающего собственным способом существования как культурой недетерминированного жизнеописания, мира как истории в мире как природе. Теперь вам понятно, какое мировоззрение обосновывал Освальд Шпенглер в идее судьбы высоких культур, в противоположности двух форм универсальной необходимости – природной и историко-культурной, когда жизнь и культура, как ее высшая историческая форма, бросают вызов природному детерминизму в том смысле, который формулировал М. Хайдеггер и который вынесен в качестве эпиграфа к нашему Общедоступному введению: «Никогда бытие не протекает в рамках причинно-следственных связей».
Так проясняется смысл связи между геопланетарной ситуацией в XX в., образ которой создан глобальными проблемами человечества, и возможностью для человечества, подавленного силами природы и ее законами (воплощенными в супертехнике) стать планетарным субъектом, формирующим свою судьбу вопреки жестокому рационализму природы и интеллекта.
Вместе с тем подчеркнем, что модернизацией философии истории как морфологии высших культур мы увлекаться не должны. В самом деле, Шпенглеру ни на миг не являлась мысль о возможном конце человеческой истории, о самоуничтожении человечества и разрушении им биосферы как планетарной среды обитания, о возможности подчинения человечества Мегамашине, о чем уже через два-три десятилетия думали Хайдеггер, Ясперс, Бердяев и в чем уже не сомневались глобалисты Римского клуба в начале 70-х гг. Так, Аурелио Печчеи воззвал к человечеству: на карту поставлена судьба человека как вида, и не будет ему спасения, пока он не изменит свои человеческие качества! Истинная беда человеческого вида на данной стадии его эволюции в том, что он оказался неспособным приспособиться к тем изменениям, которые сам же и внес в этот мир[6].
Глобальный алармизм не был стилем Шпенглера, хотя он и сказал, что ««человечество» – пустое слово», потому что для него существовал лишь «феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр своей страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму, у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть».
Только абсолютная убежденность в неиссякаемости человечества в качестве «материала» для бесконечного, ничем не прерываемого процесса формообразования новых, неповторимых культур позволяла Шпенглеру упрекать европейских мыслителей в тривиальном оптимизме относительно будущего высшего человечества и его целей. Он упорно доказывал, что у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у бабочек или орхидей. Во всемирной истории, говорил он, я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. Это свойство живой природы Гёте, а не мертвой природы Ньютона.
Обитатели нашей планеты во второй половине текущего столетия вполне ощутили реальность того, чего никогда не могли себе вообразить великие европейцы, гуманисты и рационалисты, – ядерного, экологического, цивилизационного апокалипсиса. И ныне абсолютная убежденность Шпенглера в вечности цветения жизни и культуры на Земле кажется столь же наивной, что и вера европейских мыслителей в нескончаемость Нового времени.
В конце XX в. представление об исторической бренности мировых культур, философий и религий замещается осознанием весьма возможного саморазрушения современной цивилизации, т. е. возможного конца истории, и именно это осознание может стать абсолютным сознанием нового планетарного субъекта – Сверхчеловечества, того, каким его представляли себе М. Хайдеггер, П. Тейяр де Шарден, Николай Бердяев.
Слово «цивилизация» используется ныне в нескольких значениях: как противоположность дикости и варварству, как современное состояние западного общества, как синоним слова «культура» для обозначения культурно-исторических типов в исторической концепции крупнейшего современного историка Арнольда Тойнби. Для Шпенглера же цивилизация – это завершение, исход культуры, каждая культура заканчивается собственной цивилизацией. Потому-то в «Закате Европы» и западная цивилизация предстает как неизбежная судьба западной культуры, как ее декаданс.
Понять цивилизацию как декаданс данной культуры легче всего на примерах вырождения иных культур. Вот Шпенглер пишет, что римская цивилизация есть варварство, последовавшее за цветущей эллинской культурой, когда культивируются бездушная философия, чувственные искусства, распаляющие животные страсти, когда право регулирует отношения между людьми и богами, когда люди ценят исключительно материальное, когда жизнь перемещается в «мировой город», когда холодный практический интеллект замещает пылкую и благородную духовность, когда атеизм вытесняет религии, а деньги становятся универсальной ценностью, лишенной живой связи с плодородием земли, талантом и трудолюбием, – и мы убеждаемся, что это, действительно, признаки заката античной культуры.
И еще один парадокс: власть – политическую, экономическую, военную, административно-государственную и правовую – Шпенглер представляет как главный признак империализма на стадий превращения всякой культуры в цивилизацию. Поэтому для, него неоспоримо существование вавилонского, египетского, андийского, китайского, римского империализма. Отсюда, по его мнению, «одновременность» всех империализмов, в какие бы веках и странах они ни господствовали. Так что же, и наша «великая русская», славянская, культура «прекратила течение свое»? Неужели это предвидели или предчувствовали Гоголь, Достоевский, Чехов, Блок, Бунин, а Некрасов точно попал во «временной объект» своим «все, что мог, ты уже совершил, – / Создал песню, подобную стону;/ И духовно навеки почил?» Похоже, что так. Ведь согласно методу Шпенглера, уже сама горечь по поводу упадка своей культуры есть первейший признак ее декаданса. Действительно, цветущая культура – это мощное мажорное утверждение жизни, например в поэзии «солнечного», раннего А. С. Пушкина. Но рефлектирующий поздний Пушкин – уже декадент. Урбанизация мега полисов, оппозиция «центра» и «провинции» – это признаки цивилизации. Центр, или «мировой город», как говорит Шпенглер, всасывает в себя и сосредоточивает в себе жизнь целой страны. Духовные, политические, экономические решения принимают не вся страна, а три-четыре «мировых города», которые поглощают лучший человеческий материал страны, и она нисходит на положение провинции. «В мировом городе, – пишет Шпенглер, – нет народа, а есть масса Присущее ей непонимание традиции, борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в науке, ее превосходящая крестьянский ум острая и холодная рассудочность, ее натурализм совершенно нового склада, идущий гораздо дальше назад, чем Руссо и Сократ, и непосредственно соприкасающийся в половых и социальных вопросах с первобытными человеческими инстинктами и условиями жизни, то «panern et circenses», которое в наши дни оживает под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, – все это признаки новой по отношению к окончательно завершенной культуре и к провинции, поздней и лишенной будущего, однако неизбежной формы человеческого существования».
Мы полностью привели один из блестящих пассажей Шпенглера, которые потрясают глубиной проницательности и одновременно вызывают неконтролируемое разумом сопротивление, неприятие этой неизбежности. Нам еще не довелось прочесть работу, посвященную «Закату Европы», автор которой не восстал бы против этого утверждения о неизбежности декаданса культуры, будь то культура Европы или России. Вместе с этим декаданс великих культур древности воспринимается «свободно от оценок», как бы сказал М. Вебер.
Видимо, дистанция тысячелетий и чуждость иных культур снимают пафос неприятия. Но неизменно снисходительное отношение к «мрачному пессимисту» Шпенглеру тех, кто получает заряд оптимизма из других философских, религиозных, этических и социально-доктринальных источников. В наше время эти «источники» опошляют, низводят до уровня «обыденности» многие острейшие глобальные проблемы.
Но Шпенглер так же был искренен, когда восклицал: кто не понимает, что ничто не изменит неизбежного, что нужно или желать этого, или вообще ничего не желать, что нужно или принять эту судьбу, или отчаяться в будущем и в жизни, кто носится со своим провинциальным идеализмом и жаждет воскресить стиль жизни прошедших времен, тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю!
Читая «Закат», спрашиваешь себя, а к кому, собственно, взывал Шпенглер? К тем, кто способен понимать, переживать, делать историю, либо и к тем, кто об этом не помышляет? Кто в состоянии смотреть на историю культур «оком бога, как на цепь поднебесных вершин», воздвигнутых планетарным горообразованием?
Несколько лет спустя после публикации «Заката Европы» Карл Мангейм в знаменитой работе «Идеология и утопия»[7] обосновал главный тезис своей социологии знания: существуют человеческие типы мышления, которые не могут быть поняты без выявления их социальных корней и социальной детерминации этих типов. Карл Мангейм развил идею Карла Маркса о классовой определенности общественного сознания, распространив ее на все слои и группы, укорененные в обществе, и утверждал, что люди обычно мыслят групповыми стереотипами. Эти навыки вырабатываются в ходе бесчисленных реакций на типические ситуации. Из этого следует, что утверждение «индивид мыслит» некорректно: он, скорее, участвует в процессе мышления, созданном не им и задолго до него. Люди воспринимают окружающий мир не абстрактно, они стремятся либо сохранить его в существующем виде, либо изменить его в соответствии с условиями существования группы. Характер и положение группы, в которую включен индивид, предопределяют его мыслительные реакции на происходящее так, что он отбирает те или иные факты и включает их в утопические или идеологические построения. Эти конструкты суть ипостаси ложного сознания их носителей, т. е. приверженности их ценностям культуры или ценностям цивилизации (по Шпенглеру), ценностям консервативного или прогрессивного класса (по Марксу).
В любом случае, если развить мысль Мангейма, закат культуры не может быть принят подлинными носителями и наследниками этой культуры как ее гибель, ибо признать это выше сил живого существа. Именно так и реагируют на события в нашей стране представители русского зарубежья и многие наши деятели литературы и искусства. Однако научно-техническая интеллигенция, в сущности, согласна с М. Вебером и отождествляет научно-технический прогресс с апофеозом западной культуры.
Так кто же, в конечном счете, воспримет «вызов» Шпенглера и что это за «конечный счет»? Шпенглера обычно обвиняли в историческом релятивизме, ставили ему в главную вину отказ от воодушевляющей идеи социального прогресса. Мангейм тоже был объявлен социальным релятивистом, в особенности из-за его идеи «свободно парящей интеллигенции», способной возвыситься над идеологиями и утопиями. «Конечный счет» сегодня – это глобальные проблемы человечества, а потому воспреемниками идей Шпенглера стали глобалисты, т. е. те люди, для которых абсолютной ценностью представляется жизнь человечества, пусть даже и не такая, как в эпоху расцвета великих культур, а изувеченная планетарным кризисом, но живая и еще жизнетворящая.
Шпенглер желал своим читателям браться за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, за политику вместо теории познания, и ничего лучшего, собствен но, пожелать им не мог. Но сегодня он мог бы пожелать этого «лучшего» – участия в глобальных исследованиях. Теперь это и есть орлиная перспектива, а не лягушачья, как говорил Ницше. Да, Шпенглер – столь же первый глобалист, сколь Ницше – последний метафизик Запада; к такому выводу в отношении Ницше и пришел Хайдеггер.[8] Так, Шпенглер утверждал, что Ницше вышел на все важнейшие, глобальные проблемы человечества, но, оставаясь романтиком, не смог взглянуть в лицо истине. Истина же западной цивилизации, ее, говоря словами Шпенглера, «последняя метафизика», состоит в том, что история и природа противоположны друг другу. А сегодня это едва ли не их антагонизм, что тоже предсказано Шпенглером в его философии. Ныне наличие второй природы – технологизированной среды обитания – очевидно даже зрителям развлекательных программ телевидения. Да и само телевидение – подсистема той же среды. Так вот еще в начале века Шпенглер говорил: человек не только элемент и фактор природы, но и фактор истории как второго космоса – космоса, который совершенно отличен от первого, т. е. физического, космоса. Словом, Шпенглер предчувствовал, точнее – предвидел рождение невиданного искусственного объекта (планетарной техники) западной рационалистической цивилизацией.
Эти предсказания либо не бывали приняты всерьез, либо подвергались уничижительной критике. Так, Г. М. Тавризян – автор интереснейшего анализа «Заката Европы» и поздней шпенглеровской работы «Человек и техника», в которой планетарная (машинная) техника представлена как кульминация и завершение всемирно-исторического развития человечества, сочла книгу «Человек и техника» актом «духовного вандализма» (при всем том, что некоторые из ее мотивов уже содержались в «Закате Европы»); «поразительным случаем не только предельной вульгаризации писателем своих идей и тезисов, но и глумления над материалом».[9]
Давайте, однако, сравним это мнение с мнением А. Печчеи: «Техника почти так же стара, как и сам человек, и была она вначале скорее средством, чем самоцелью… Теперь, когда техника в своей новой версии зиждется исключительно на науке и ее достижениях, она приобрела статус доминирующего и практически независимого элемента… Техника, следовательно, превратилась в абсолютно неуправляемый, анархический фактор… И новый факт здесь состоит в том, что – на радость нам или на горе – техника, созданная человеком, стала главным фактором изменений на земле… Гигантский мир, созданный человеком, не только ошеломлял нас, но производил пугающее впечатление… Так пришел конец той культуре и образу жизни, которые вели свое начало от далекой эпохи неолита… Чтобы организовать обсуждение всех этих вопросов, я буду условно называть тотальной системой глобальную систему Природа – Человек – Общество – Техника; человеческой системой ту ее часть, которая включает лишь последние три элемента, без Природы; и, наконец, природной системой, или экосистемой, – весь внешний мир».[10]
Парадокс, не правда ли: то, что одни называют актом духовного вандализма, другие – глубочайшим «прозрением в то, что есть», как сказал бы М. Хайдеггер. Шпенглер увидел рождение чудовища планетарной техники из лона культуры Европы XVII–XVШ – XIX вв. Увидел, ужаснулся и честно написал об этом. И он был не менее честен, чем Достоевский в «Братьях Карамазовых», сказавший правду об отношении современного человечества к учению Христа, а в «Бесах» провидевший на 100 лет вперед зомбиально-фанатическую суть многих устроителей царства справедливости в России.
Ужасное в цивилизации ясно видел и М. Хайдеггер. Он считал чудовищным развитие техники до степени «планетарной», когда она превращается в «Мегамашину», «Gestell» («опору», «станину»[11]) всего общественного здания, когда «любая река, в частности, великий Рейн – гордость Германии, встроена в гидроэлектростанцию в качестве поставщика» энергии. К этому нельзя привыкать: вдумайтесь в контраст, звучащий в двух названиях: «Рейн», встроенный в электростанцию для производства электроэнергии, и «Рейн», о котором говорит произведение искусства, одноименный гимн Ф. Гёльдерлина. Отметим, что и наша: «Волга-Волга – мать родная» встроена своими «детьми» в каскад гидроэлектростанций. Так что некрасовское «Выдь на Волгу, чей стон раздается?…» уже не о бурлаках – это стон российской культуры и природы под гнетом новых чудовищ.
Итак, западноевропейская культура стала современной рациональной цивилизацией; цивилизация породила чудовищного «обитателя» планеты, который развивается по своим за конам, да еще приспосабливает к своим нуждам взрывообразно множащееся человечество. И уже современные «дети Земли» заговаривают о» постчеловеческом «мире, – «мире нформационно-компьютерной.[12]
Но вернемся к «Закату Европы». Не перестаешь поражаться гением Освальда Шпенглера, который увидел – не в обиду будь сказано Владимиру Маяковскому и не менее гениальным провидцам (Марксу, в частности) светлого будущего – «идущее через горы времени, чего не видит никто». В предваряющих 1 том «Капитала» рукописях Маркс говорил о перспективах превращения производительной силы труда на основе технологического применения европейской науки в автоматизированный процесс. Однако и Марксу не пришло бы в голову, что одушевленное, но еще антропоморфное чудовище – Капитал (которое поглощает живой труд «как бы под влиянием охватившей его любовной страсти») может в муках родов нового общества произвести на свет уже не антропоморфное, «постчеловеческое», чудовище – взбесившуюся (в немыслимом и для Ф. М. Достоевского смысле) роботизированную технику, подмявшую под себя человечество, или (еще более немыслимый для Декарта, Канта, Гегеля, Маркса) компьютерно-информационный интеллект, не уступающий по мощности ноосфере В. И. Вернадского и превосходящий определенные возможности человеческого ума».[13]
Провидеть грядущую после заката Европы планетарную технику и глобальные проблемы человечества удалось эмпириомонисту Александру Богданову (Малиновскому) – русскому предтече европейского системного анализа, создавшему в начале XX в. свою «Тектологию» и роман «Красная звезда»[14]. Роман считался фантастическим: в нем была нарисована картина гибели цивилизации из-за истощения природных ресурсов планеты и деградации культуры. Как справедливо отметил в свое время Э. Ильенков, роман «Красная звезда» в золотой фонд научно-фантастической литературы не вошел. Но после знакомства с докладами Римскому клубу видишь, что роман предвосхитил их, а его автор – наравне со Шпенглером – был одним из претеч глобалистики (хотя в «Закате Европы» сам метод европейского позитивизма, одним из течений которого был и эмпириомонизм А. Богданова, истолкован как симптом именно заката высокой европейской культуры).
Так в чем же тайна, загадка исторического метода Шпенглера? Каждый, кто захочет, откроет ее сам. Ключ к тайне – в первой главе книги. Она называется «О смысле чисел». Это краткая история воздействия античной, арабской, западноевропейской, в меньшей степени индийской культуры на развитие математики вплоть до теории гиперкомплексных чисел и теории групп. По стилю эта глава близка к фундаментальному труду Мориса Клайна[15], по содержанию – это уникальное культурологическое введение в методологию Шпенглера.
Известно, как огрубляют представления о человеческой душе ее так называемые научные определения. Но Шпенглер находит такое свойство души, которое не требует специального обозначения. Он называет его «самоосуществлением возможного» в процессе развития души и психики. Духовная жизнь человека, если он наделен «бодрствующим сознанием», разворачивается во времени в определенном «направлении». В итоге в сознании формируется индивидуальная картина мира – по преимуществу либо рациональная, состоящая из понятий, законов и уравнений (вселенная Ньютона или Канта), либо эмоционально-образная, составленная из образов, символов, ярких переживаний (мир Плотина, Данте или Гёте). То же самое и с культурой: есть культура возможная и культура действительная. Возможная культура личности или общества – это лишь идея ее, а действительная культура – это реализация той идеи (поступки и деяния личности либо экономические, политические, идеологические и прочие институты общества).
В таком случае история (как жизнь) есть осуществление возможной культуры, а число (так же как и слово) – это получившее образ и подчиненное человеком самому себе миро воззрение, мирочувствование. Протяженность внешнего, «ставшего», как говорит Шпенглер, мира и отраженного в сознании и душе, выражается в типе математического числа. Направленность во времени самоосуществления живого сознания, человеческой души выражается в типе хронологического числа. Поскольку же существует тонкое различение между протяженностью и направленностью, природа, ставшее, счислима, а история, т. е. разворачивание культуры (идеи существования), вообще не может быть описана, счислима при помощи математических методов.
Итак, мы изложили культурологическую «аксиоматику» Шпенглера. Видимо, ее можно изложить и точнее и лаконичнее. Но она все равно останется аксиологоматикой (назовем ее так), которую принимают либо не принимают. На наш взгляд, в этой аксиологоматике заключена вся интеллектуальная и прогностическая мощь «Заката Европы», вплоть до эскиза математических основ современных энергетических и информационных технологий. Впрочем, эта аксиологоматика неполна без различения «собственного» и «чужого» в сознании «бодрствующего человека», которое обозначается как «Я», «личность», «внутренняя жизнь души». Великие мыслители, пишет Шпенглер, фиксировали это при помощи полунаглядных конструкций: явление и вещь в себе (Кант), мир как воля и представление (Шопенгауэр), «Я» и «Не-Я» (Фихте). Во всем этом, что до сих пор недоступно точному формулированию, коренится суть и признак «собственного» и его антипода – «чужого». И Шпенглер совершенно прав.
Пусть, например, желающие попытаются строго определить, что такое собственность. Очень скоро придется убедиться, что этого сделать невозможно, не определив, что такое субъект собственности. Субъект же ее есть «Я», которого лучшие умы Европы определяли только при помощи чуждого, внешнего ему мира, т. е. присваивали ему знак «Я», обозначая его, ибо психику, душу, сознание и самосознание иначе вообще определить невозможно.
О. Шпенглер приводит многочисленные примеры того, как смысл чисел используется в разных культурах для выражения специфики «мирочувствования» человека конкретной культуры, «души» этой культуры. Следовательно, культура, а значит и история, как саморазвитие культуры, складывается лишь тогда, когда ее субъекты осознают значение актов счисления, измерения, рисования, формирования образов внешнего мира, т. е. эти субъекты выступают в роли главной предпосылки объективной морфологии истории.
Непривычную и неприемлемую для «прогрессистов» мысль об отсутствии во всемирной истории единства как непрерывного прогресса Шпенглер распространяет на науку, искусство, мораль, религию, государство и право, утверждая, что все они имеют свои индивидуальные, неповторимые лицо, сущность, стиль и функции. Отсюда следует, что не существует и одной математики, а есть многие математики. Так, античная математика отражает зрелое античное мирочувствование, в основе которого лежит соотношение величин, мер и форм физических тел, т. е. стереометрия.
Античное число, согласно Шпенглеру, есть мышление об ограниченных для человеческого глаза, осязаемых единицах, главным образом целых и положительных числах, ведь иррациональное число никогда не может быть пространственно ограничено. Потому-то во времена Евклида несоизмеримые античными мерами расстояния соотносились между собой «не как числа», а как величины. И для античной математики были невозможны легко укладывающиеся в наше представление отрицательные числа, наше бесконечное мировое пространство не существовало, и квадратура круга сделалась для античных мыслителей классической проблемой предельности. Если Шпенглер прав, то с помощью различения возможностей античной и западноевропейской математики, создающих совершенно различные образы мира тел и тела мира, т. е. космоса, только и можно представить и противопоставить античную и современную западную культуры, которые в триадной схеме истории рассматривались как непрерывные звенья истории. В противоположность конечному, целостному, телесному числу античности все содержание западного «числового» мышления объединяется в одном классическом феномене, являющимся ключом к трудноусваиваемому нематематиками понятию бесконечности. Это – понятие предела, который есть концепция изменяющегося числа и представляет собой не состояние, а процесс, поведение. Дорическая колонна, т. е. круглый столб, подпирающий архитрав древнегреческого храма, – вот, говорит Шпенглер, образ античного числа (в первую очередь единицы – 1). Это противоположность числу европейской математики, архитектурный образ которого представлен не дорическими храмами, а готическими соборами, воплощающими устремленность души европейской культуры в бесконечность.
Каждая культура порождает не только особый тип числа как измерителя и выразителя тел и пространств, но по-особому понимает и смысл времени, принимая или отрицая историчность как таковую, творя или разрушая самое историческую память о бытии культуры. Так, гибнущая культура XX в. породила математическую теорию катастроф, в которой число трактуется как символ разрушения систем жизнеобеспечения. Так египетская культура создала «жуткие символы воли к длительности во времени» – мумифицированные тела великих фараонов, идущие сквозь время уже четвертое тысячелетие. По Шпенглеру, египетская культура есть воплощение «заботы о будущем», а также неизбежно связанной с этим «заботы о прошедшем». Египетская мумия – это глубокий символ, отличающий египетскую культуру от других культур отрицанием действия времени.
На пороге античной культуры возник труднообъяснимый переход от погребения тел к их сожжению, которое тоже совершалось с пафосом символического действа, как отрицание исторического времени. Равнодушие античного человека ко времени выразилось, в частности, в принятии закона, угрожавшего тяжкими карами за распространение астрономии, который действовал в Афинах в последние годы правления Перикла. Об этом же свидетельствуют, по мнению Шпенглера, и те поразительные факты, что ни у Платона, ни у Аристотеля не было обсерватории и что Аристотель употреблял вневременное, т. е. антиисторическое, понятие развития – «энтелехия». Индийская культура с ее брахманской идеей нирваны с этой точки зрения была столь же ярким выражением равнодушия ко времени. Водяные и солнечные часы бы ли изобретены в Вавилоне и Египте, но лишь одни немцы среди всех народов Запада стали изобретателями механических часов – этого «жуткого символа убегающего времени».
Шпенглер вообще уверен, что для первобытного человека слово «время» вовсе не имело значения. Только великая культура способна «упорядочить» пространство и время, создав соответствующие системы мер и понятий. Так она приходит к идее судьбы, предопределяющей «направленность» психологического времени. И здесь Шпенглер идет против всех, в том числе против Канта и Шопенгауэра, которые, по его мнению, даже не знали, как подступиться к идее времени, вписанного в логику судьбы и жизни, в отличие от времени в логике неживой природы. «Судьба», по Шленглеру, не поддается описанию в понятиях или числах. Идею судьбы может выразить только художник – в портрете, трагедии, музыкальной драме. Значит, время свершения судьбы должно измеряться не математическими, а хронологическими мерами.
Все эти идеи и мысли Шпенглера поражают своей парадоксальностью, и возникает желание спорить, находить противоречия, опровергать. Но на эту реакцию читателя, видимо, и рассчитывал сам автор. Он явно дает понять, что жаждет пробудить душу читателя, заставить его задуматься о собственной судьбе, о самоосуществлении себя.
И в этом смысле О. Шпенглер – великий воспитатель человечества. Недаром Робин Дж. Коллингвуд в своей «Идее истории» творчество Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Маркса рассматривает в разделе «На пороге научной истории», а Шпенглера – в разделе «Научная история», объединяя его с Виндельбандом, Риккертом, Зиммелем, Дильтеем и Мейером, с историками Англии, Франции и Италии. Однако это не помешало Коллингвуду счесть книгу Шпенглера «принципиально неверной». Вместе с тем ясно, что Коллингвуд чрезмерно резок в оценке метода Шпенглера. Так, он отвергает его мысль о равнодушии античной культуры ко времени, ссылаясь на то, «что самое обширное в мире собрание могильных памятников простирается на протяжении многих миль вдоль дорог, отходящих от Рима»[16]. Но, заметим от себя, это не опровергает того, о чем говорил Шпенглер, а именно того, что часы – клепсидры лишь в самом конце расцвета Эллады были введены в Афинах, а еще более позднее новшество у греков – солнечные часы – так и остались малосущественной деталью быта, не оказавшей никакого влияния на их мироощущения.
Если теперь попробовать понять внутренний механизм падения западной культуры, распада ее души, то лучше всего обратиться к ницшевской идее нигилизма. В самом деле, согласно Шпенглеру, всякая культура переходит на стадию цивилизации после соответствующей переоценки всех ценностей, с которой выступают выдающиеся отрицатели этой культуры, т. е. великие нигилисты. По этой причине, считает Шпенглер, буддизм, стоицизм, социализм суть проявления мироощущения людей не цветущей культуры, а времени ее заката, падения, перехода к цивилизации. Косвенным подтверждением правоты Шпенглера в этом вопросе можно считать описание причин заката месопотамской культуры в 1 тыс. до н. э. Г. Франкфортом и его коллегами. Они, разбирая древний памятник культуры – «Пессимистический диалог», демонстрируют, как скептицизм, сомнение и безразличие подтачивают духовную культуру некогда могущественного народа[17].
Пересмотр ценностей с переходом к цивилизации означает перемену точки зрения на мир «с орлиной» (Шпенглер) на «лягушачью» (Ницше), падение с высоты видения мира Эсхилом, Платоном, Данте, Гете, на «кочку зрения» (Горький) обыкновенного потребителя, представителя «структур повседневности» (Фернан Бродель).
Судьба европейской культуры предвосхищена Гете в его великой трагедии, герой которой, Фауст, всю жизнь бывший кабинетным ученым-схоластом, в «новом рождении» становится в конце концов практическим деятелем крупного масштаба. Фаустовские поиски «абсолюта», «философского камня», присущие великим европейцам, завершаются – после мучительной переоценки ценностей – осознанием того, что жизнь есть переплетение «причин и действий», а потому надо действовать. В этом смысле фаустовский человек на цивилизованной стадии развития мира оказывается для Шпенглера «социалистом». Снова парадокс Шпенглера?! Ведь мы привыкли иметь дело с социализмом Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева. С этими именами связывают обычно и идеализацию социализма, и его вырождение, самоуничтожение. Но если социалистическое мирочувствование выводить из европейской культуры и рассматривать в контексте «Заката Запада», то шпенглеровское определение социализма как раз и будет «цивилизационным», а потому предельно широким. Социалистическое мышление, по Шпенглеру, есть развитие выводов из формулы Ф. Бэкона «Знание есть могущество» и из категорического императива Канта, если приложить его к социальной и хозяйственной политике: «Поступай так, как будто принципы твоей деятельности должны стать, при посредстве твоей воли, всеобщими законами природы!»
Не приходилось видеть не только более точного и глубокого определения того, что у нас называлось «реальным социализмом», но и более точного диагноза его болезни: неограниченная воля к власти разрушительна для всего живого, в чем эта воля возникает. Воля к власти в политической форме породила и наш «реальный социализм», она же и разрушила его. Воля к власти в технико-машинной форме разрушает планетарную биосферу. И это – одна и та же воля, составляющая сущность европейского нигилизма, «суть сущего», говоря словами М. Хайдеггера.»
Логическим завершением «Заката Европы» явилась шпенглеровская книга «Человек и техника», и, следовательно, яснее Шпенглера никто не представлял себе суть философии XIX в., главнейшим содержание которой стала концепция воли к власти в ее цивилизационно-интеллектуальном виде – как воля к жизни и как жизненная сила. Эта философия родилась в 1819 г., в книге Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (Die Welt als Wille und Vorstellung). Эту тему, считает Шпенглер, затем развивали Прудон, Бебель, Фейербах, Энгельс, Маркс, Вагнер, Дарвин, Дюринг, Ибсен, Ницше, Стринберг, Вейнингер, Шоу. Тайны мира представлялись им в виде тайны познания, тайны ценностей и тайны формы, волю к открытию которых они продемонстрировали в полной мере.
Книга О. Шпенглера заканчивается описанием симптомов конца западной науки, один из которых «утончение интеллекта». Что это значит? Да то, что наука превращается в чистую игру функциональными числами. Вспомним, что первая глава названа автором «О смысле чисел», и в ней показано, что прасимволом всякой культуры является число. Из этого следует, что воля к чистому числу есть воля духа к открытию тайны. Тайна же состоит в том, что «естествознание обволакивает все более прозрачное сплетение», которое есть внутренняя структура духа, дающая Природе свой Образ.
И этот вывод есть вершина философии Шпенглера и вместе с тем его величайшее прозрение в математизированную сущность современной технологической цивилизации – прозрение, плохо понятое или, лучше сказать, совсем не понятое не только современниками философа, но и страстными адептами нынешнего европейского рационализма. Поэтому, дочитав книгу до конца, понимаешь маржинальный смысл ее подзаголовка – «Образ и действительность». В нем слышится предсказание «постчеловеческого мира». Но эту тему предстоит развивать современной глобалистике.
Теперь стоит сказать о том, что в России были свои предтечи О. Шпенглера. Николай Яковлевич Данилевский за 50 лет до «Заката Европы» написал книгу «Россия и Европа» [18].
Слушатель Царскосельского лицея, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, петрашевец, ученый-географ и путешественник, публицист, автор двухтомного труда «Дарвинизм», Данилевский создал свою теорию культурно-исторических типов. Но эта теория не получила признания ни в России, ни в СССР. Среди критиков Данилевского оказались и великий философ Владимир Соловьев и ответственный редактор журнала «Под знаменем марксизма» А. Деборин (его оценку книги «Россия и Европа» можно прочесть в 20-м томе БСЭ, 1930 г.). Н. Я. Данилевский получил признание через сто с лишним лет и теперь он признанный предшественник Шпенглера, Тойнби и Сорокина, а его вклад в мировую философию истории и культурологию считается неоспоримым. Так, Л. Н. Гумилев считает Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева равновеликими Шпенглеру и Тойнби.
Четвертая глава книги «Россия и Европа» озаглавлена глобальным вопросом: «Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?» и автор отвечает на него так: «народу одряхлевшему» уже ничто не поможет. История свидетельствует, что народы рождаются и, если им это удается, развиваются, но все равно стареют, дряхлеют и умирают, даже независимо от внешних обстоятельств. Поэтому – предвосхищая Шпенглера – Данилевский заключает, что периодизация истории на древнюю, среднюю и новую неудовлетворительна. Рим, Греция, Индия, Египет имели свою древнюю, свою среднюю, свою новую историю, а в жизни культурно-исторических типов можно различить три, четыре или даже семь возрастов.
Данилевский и вводит в историю принцип относительности, в согласии с которым нельзя отдать преимущества ни одной культуре, культуру можно лишь подразделять по историческим типам. В хронологическом порядке таких типов, или самобытных цивилизаций, он выделяет всего несколько (вновь опережая Шпенглера): египетскую, китайскую, ассирийско-вавилоно-финикийскую, халдейскую (или древнесемитскую), индийскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, новосемитскую (или аравийскую), германо-романскую (или европейскую). К ним он причисляет два американских типа культуры: мексиканскую и перуанскую. В этих типах он различает «уединенные» и «культуропреемственные». Но ни один тип культуры, говорит он, не может существовать вечно.
Данилевский сформулировал также пять законов исторического развития культурно-исторических типов: закон «выхода из младенчества», закон необходимости «политической независимости для зарождения типа»; закон возможного влияния, но «непередаваемости начал» от одного типа к другому; закон непоглощаемости этносов политическим целым; закон кратности периодов расцвета и периода истощения типом его жизненных сил.
Главным выводом из этой теории стал следующий: у России два пути – либо всеславянский союз, как непременное условие расцвета самобытной славянской культуры, либо потеря всякого культурно-исторического значения.
Славянский культурно-исторический тип, по Данилевскому, отличают православие, «славянство» и крестьянский надел. У этого культурно-исторического типа он находил четыре основы (религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую), а в других – по одной (в еврейском – религиозную, в греческом – собственно культурную, в римском – политическую). В этих основах Данилевский видел необходимое и достаточное условие расцвета славянства. Потому и заключил он свое исследование гордыми словами: «сим победиши».
Насколько бы наивным ни казались сегодня выводы и надежды Данилевского, ему нельзя отказать в известной исторической проницательности: именно эти идеи после семидесятилетнего испытания славянского этноса классовым подходом и тотальной этатизацией снова овладевают умами и политическими движениями. Может статься, что именно эти идеи смягчат удар и шок от уже неизбежной капитализации России, от мучительной ее демилитаризации, неизбежного отказа от тотального огосударствления, от неизбежной интеграции в мировую цивилизацию, уже захваченную планетарным кризисом, который предвидел О. Шпенглер.
Нельзя не заметить, как разительно противоположны выводы Шпенглера и Данилевского, как пессимистичен один – европеец, как оптимистичен другой – славянин. И слава Богу, что некому и уже незачем вопрошать: «С кем вы, мастера культуры?» Время диктует единственный ответ – «С жизнью и культурой!»
И наконец – несколько слов об отношении к идеям Данилевского и Шпенглера С. Л. Франка и Н. А. Бердяева. И Франк, и Бердяев оценивали их творчество с позиции христианских философов. Франк, в частности, подчеркивал поэтому, что блеск «художественных интуиций Шпенглера» бессилен убедить нас в том, что христианство не было исторически значимым культурообразующим фактором. Разделив его между «магической» и «фаустовской» культурой, причем одну половину» слив с исламом (или со средневековым арабским пантеизмом), а другую растворив в протестантской этике и духе капитализма, Шпенглер, верно, по мнению Франка, изобразивший индийскую, вавилонскую, египетскую и даже китайскую культуру, неправомерно проигнорировал культурно-историческую роль иудейского монотеизма. Гораздо более объективным был в этом смысле Данилевский.
Вместе с тем Франк полностью признавал идею перехода западной культуры в цивилизацию 20. Но, говорил он, эта идея, неслыханная для Запада, нас, русских не поразит своей новизной. Страницы книги Шпенглера, проникнутые «страстной любовью» к истинной духовной культуре Европы, которая уходит в прошлое, и отвращением к современной цивилизации, живо напоминают мысли Киреевского, Достоевского, Константина Леонтьева. Но все пророчившие гибель западной культуры, по мнению Франка, не поняли сути событий: культура не умрет, она переживает кризис и переживет его.
Н. Бердяев ощутил кризис европейской культуры еще до первой мировой войны, что и выразил в книгах «Смысл творчества», «Смысл истории», в статьях «Конец Европы», (Cм.,– Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. «Конец Ренессанса»). Он признавался, что «читал Шпенглера с особенным волнением», но, как и Франк, подчеркивал, что многие русские уже давно чувствовали этот кризис.
Сильное впечатление на Бердяева произвела шпенглеровская идея прасимвола культуры, который определяет единство математики и физики с живописью и музыкой, искусством и религией. Словом, Бердяев вполне мог бы заявить, что Шпенглер – величайший мастер «игры в бисер» – Magister Ludi(!)), если бы Герман Гессе написал свою «Игру в бисер» раньше.
Гениальными назвал Бердяев идею Шпенглера о фазисной однородности буддизма, стоицизма и социализма, рассуждения о математике, искусстве, физике. Но – подобно Франку – считал, что Шпенглер просмотрел роль христианства в судьбе европейской культуры. А это, с точки зрения христианского философа, страшно повредило «Закату Европы». Все это произошло потому, что Шпенглер – «арелигиозная натура». Но ему было дано высказать самые «благородные мысли, которые могли быть высказаны неверующей душой в наше время». И понятно, что Н. Бердяев не прошел мимо сходства идей Шпенглера и Данилевского. Культурно-исторические типы Данилевского, писал он, очень близки к культурам Шпенглера, с той лишь разницей, что Данилевский «лишен огромного интуитивного дара Шпенглера».
Различение культуры и цивилизации Бердяев отнес к самым большим достоинствам книги «Закат Европы», соглашаясь, что философия и искусство существуют лишь в культуре, а в цивилизации они невозможны и не нужны. Культура, – развивал он мысль Шпенглера – органична, цивилизация – механистична, культура опирается на неравенство людей, на их качество как творческих личностей. Цивилизация проникнута стремлением к равенству апеллирует к количеству. Культура – аристократична, цивилизация – демократична. Поэтому многие русские писатели и мыслители неприязненно относились не к самому Западу, а к западной цивилизации. Все русские религиозные мыслители также видели разницу между культурой и цивилизацией. И все они испытывали ужас от сознания близкой гибели культуры и скорого торжества цивилизации, которую отождествляли с мещанством. Всем русским «культурным» людям и капитализм и социализм представлялись одинаково зараженными духом пошлого зла.
Наконец, еще об одном предшественнике Шпенглера – Константине Леонтьеве. Согласно Леонтьеву, всякая культура также переживает несколько фаз развития – зарождение, объединение развитых индивидуальностей, «цветущая сложность», затем дробление и угасание. Для западноевропейской культуры он считал это угасание неотвратимым. Но хотел верить, что «цветущая сложность» еще возможна на Востоке, в России.
История полна парадоксов. Шпенглера почти все названные здесь философы обвиняли в глубоком пессимизме, едва ли не в цинизме. Но сами со временем впадали в тот же грех сомнения и неверия.
Под конец жизни К. Леонтьев потерял веру в Россию и прогресс. Потерял ее и Владимир Соловьев, ощутивший жуткое чувство наступления «царства антихриста». Поздний Маркс усомнился во всеобщности капиталистического пути и потому возложил последние надежды на Россию, на неповторимость ее славянского культурно-исторического лица. Поздний Тойнби, наблюдая нашествие технологии, подчинение человечества искусственной среде, последствия планетарного демографического взрыва, увидел в христианском основании европейской культуры причину нарушения экологического равновесия (за 150 лет до него это же усмотрел, формулируя свой закон народонаселения, Томас Мальтус). Поздний Хайдеггер, поздний Ясперс, поздний Бердяев, поздний Гуссерль, поздний Томас Манн, поздние антиутописты Платонов, Замятин, О. Хаксли, Оруэлл и целое новое поколение современных живописателей планетарного абсурда завершают ряд мыслителей, так или иначе ощущавших закат западной культуры. Этот ряд начинал выстраивать Шпенглер, назвав первым А. Шопенгауэра, а затем и сам стал одним из важнейших его звеньев. Незауряднейший из этого ряда Хайдеггер все же надеялся, что человеку грозит не техника, угроза таится в самом существе человека. «Но где опасность, – писал он, – там вырастает и спасительное». В чем же «спасительное»? – В глубине и настойчивости самого этого «вопрошания» как поиска пути спасения! Хайдеггер вслед за Достоевским верил, что «красота спасет мир». Ницше, Соловьев, Н. Федоров и Тейяр де Шарден уповали на «сверхчеловечество», которое будет превыше наших «добра», «зла», «антихриста» и «технологии». Но это будет уже другая история. Эту историю начинает глобалистика, которая отнюдь не Игра в бисер, но программа воли к жизни, воли к «цветущей сложности» мира.
ВВЕДЕНИЕ
1
В этой книге будет сделана попытка определить историческое будущее. Задача ее заключается в том, чтобы проследить дальнейшие судьбы той культуры, которая сейчас является единственной на земле и проходит период завершения, именно культуры Западной Европы, во всех ее еще не законченных стадиях.
По-видимому, до сего дня еще никому не приходила в голову мысль о возможности разрешить задачу такого огромного охвата, и если мысль об этом и возникала, то не были придуманы средства для ее трактования или они были недостаточно использованы.
Существует ли логика истории? Существует ли превыше всех случайных и не поддающихся учету отдельных событий какое-то, так сказать, метафизическое строение исторического человечества, существенно независимое от очевидных популярных духовно-политических образований внешней поверхности, скорее само вызывающее к жизни эти действительности низшего порядка? Не являются ли великие моменты всемирной истории для видящего глаза постоянно в определенном облике, позволяющем делать выводы? И если так, то где лежат границы для подобных умозаключений? Возможна ли в самой жизни – ведь человеческая история не что иное, как итоги отдельных огромных жизней, и наша обыденная речь находит для них некое «я» или личность, невольно признавая их действующими и мыслящими индивидуумами высшего порядка и называя их «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация», – возможно ли отыскать те ступени, которые необходимо пройти, и притом в порядке, не допускающем исключения? Может быть, и в этом кругу основные понятия всего органического: рождение, смерть, юность, старость, продолжительность жизни – имеют свой строго определенный, до сих пор никем не вскрытый смысл? Короче сказать, не лежат ли в основе всякого исторического процесса черты, присущие индивидуальной жизни?
Падение Запада является, подобно аналогичному ему падению античного мира, отдельным феноменом, ограниченным во времени и пространстве, но вместе с тем это философская тема, заключающая в себе, если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия.
Чтобы уяснить себе, в каких образах протекает угасание западной культуры, необходимо сперва исследовать, что такое культура, в каких отношениях она находится к видимой истории, к жизни, к душе, к природе и к духу, в каких формах она обнаруживается и насколько эти формы – народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и боги, искусства и произведения искусства, науки, права, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – сами являются символом и, как таковые, подлежат толкованию.
2
Средством для понимания мертвых форм служит математический закон. Средство для уразумения живых форм – аналогия. В этом различие между полярностью и периодичностью вселенной.
Всегда существовало сознание, что количество форм исторических явлений ограниченно, что типы эпох, ситуаций и личностей повторяются. Говоря о роли Наполеона, почти всегда припоминали и Цезаря и Александра, причем сопоставление с первым, как мы увидим позднее, было морфологически недопустимо, а со вторым соответствовало действительности. Самому Наполеону его положение представлялось похожим на положение Карла Великого. Конвент говорил о Карфагене, подразумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Сравнивали, далеко не в равной мере основательно, «Флоренцию с Афинами, Будду с Христом, раннее христианство с современным социализмом, римских богачей времен Цезаря с янки. Первый страстный археолог, Петрарка – сама археология есть выражение чувства повторяемости истории – приравнивал себя к Цицерону, а совсем недавний организатор английских южноафриканских колоний, Сесиль Роде, имевший в своей библиотеке нарочно для него сделанные переводы античных биографий цезарей, – к императору Адриану. Для шведского короля Карла XII стало фатальным то обстоятельство, что он с юных лет носил в кармане жизнеописание Александра, написанное Курцием Руфом, и во всем хотел подражать этому завоевателю.
Фридрих Великий в своих политических записках, например в «Considerations»[19], о 1738 г. с полной уверенностью пользуется аналогиями, чтобы определить свое понимание ситуаций мировой политики; так, он сравнивает французов с македонцами под властью Филиппа в противоположность грекам – немцам. «Уже Фермопилы Германии, Эльзас и Лотарингия, в руках Филиппа». Это прекрасная оценка политики кардинала Флери. Дальше мы встречаем сравнение между политикой Габсбургов и Бурбонов и проскрипциями Антония и Октавия.
Все это, однако, оставалось отрывочным и произвольным и имело в большинстве случаев своим источником скорее минутное желание говорить поэтически или остроумно, а не глубокое чувство исторических форм.
Так и у Ранке, этого мастера искусных аналогий, сравнения между Киаксаром и Генрихом I, набегами киммерийцев и мадьяр, лишены морфологического значения; немного менее неудачно сравнение греческих государств-городов с итальянскими республиками Возрождения; напротив, сближение Алкивиада и Наполеона полно глубокой, хотя и случайно высказанной правды. Как и другие, он делал эти сравнения, руководясь плутарховским, т. е. народно-романтическим вкусом, подмечающим только сходство сцен на мировых подмостках, а не строгим рассуждением математика, познающего внутреннее сродство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан увидал бы только различие.
Легко заметить, что в основном выбором картин здесь руководит каприз, а не идея или чувство какой-то необходимости. Техники сравнения еще не существует. Как раз теперь сравнения применяются в огромном количестве, но без всякого плана и связи, и если они оказываются удачными в том глубоком смысле, о котором предстоит говорить, то виною этому бывает счастье, реже инстинкт, но никогда не принцип. Никто еще не подумал о выработке метода. Никто даже издалека не предполагал, что здесь-то и скрыт корень, тот единственный корень, из которого только и может последовать широкое решение проблемы истории.
Сравнения могли бы стать благодатью для исторического мышления, так как они вскрывают органическую структуру совершающегося. Под действием всеобъемляющей идеи техника их должна получить полное развитие и достигнуть степени, не допускающей выбора необходимости и логического мастерства. До сих пор они были проклятием, потому что, будучи вопросом вкуса, они освобождали историка от необходимости вдумываться и видеть в языке исторических форм и в их анализе свою ближайшую и труднейшую задачу, не только до сего дня не разрешенную, но едва ли и понятую.
Они были или очень поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской правительственной прессы, или, что еще хуже, когда отдаленным, в высшей степени сложным и внутренне чуждым для нас явлениям древности давали модные имена, как, например, социализма, импрессионизма, капитализма, клерикализма, или странным образом превратными, как например культ Брута, которому предавались в якобинских клубах, культ этого миллионера и ростовщика, который, в качестве главы древней римской знати и при одобрении патрицианского сената, заколол вождя демократии.
3
Таким образом задача, первоначально имевшая в виду ограниченную проблему современной цивилизации, расширяется до размеров совершенно новой философии, – философии будущего, если вообще еще на метафизически истощенной почве Запада возможна какая-либо философия, – той единственной философии, которая, по крайней мере, есть одна из возможностей последних стадий западноевропейского духа; это будет идея морфологии всемирной истории, мира, как истории, которая, исходя из противоположного принципа по отношению к морфологии природы, бывшей до последнего времени единственной темой философии, охватит еще раз все образы и движения мира в их глубочайшем и последнем значении и в совершенно ином порядке построит из них не общую картину всего познанного, но картину жизни, не ставшего, но становления.
Мир как история, понятый, наблюденный и построенный на основании его противоположности, мира как природы, – вот новый аспект бытия, которого до настоящего времени никогда не применяли, который смутно ощущали, часто угадывали, но не решались проводить со всеми вытекающими из него выводами. Перед нами два различных способа, при помощи которых человек может подчинить себе, пережить свой окружающий мир. Я с полной резкостью отделяю по форме, а не по материалу, органическое представление о мире от механического, совокупность образов от совокупности законов, картину и символ от формулы и системы, однажды действительное от постоянно возможного, цель планомерно строящего воображения от целесообразно разлагающего опыта, или – чтобы назвать уже сейчас своим именем ранее не замеченную и, тем не менее, очень замечательную противоположность – область применения хронологического числа от области применения числа математического.
В таком исследовании, к какому мы приступаем, речь идет не о том, чтобы принимать как таковые легко наблюдаемые явления духовно-политического порядка, приводя их в систему по принципу причины и действия и исследуя их внешнюю рассудочно понимаемую тенденцию, – подобная «прагматическая» обработка истории была бы только частью переряженного естествознания, что и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их противники в недостаточной мере сознают идентичность обоих приемов. Дело не в том, что сами по себе представляют исторические факты любого времени, а в том, что означает или на что указывает их явление. Современные историки полагают, что дело сделано, раз ими использованы религиозные, социальные и даже художественные подробности для «иллюстрации» политического характера эпохи. Но они забывают решающее, так как видимая история только выражение, знак, принявшая формы душевная стихия. Я еще не встречал никого, кто бы серьезно занимался изучением этих проявлений морфологического сродства, не ограничивался бы областью политических фактов и подробно изучил бы основные глубочайшие математические идеи греков, арабов, индусов, западно-европейцев, или смысл их раннего орнамента и древнейших форм архитектуры, метафизики, драмы и лирики, или тенденции и течения в области главных искусств, или, наконец, подробности художественной техники и выбора материала, я не говорю уже о постижении окончательного значения всех таких явлений по отношению к проблеме форм истории. Кому известно, что существует глубокая общность форм между дифференциальным исчислением и династическим государственным принципом эпохи Людовика XIV, между государственным устройством античного полиса и Эвклидовой геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением пространства при помощи железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и экономической системой кредита? Даже реальнейшие факторы политики, при изучении их в этой перспективе, принимают в высшей степени трансцендентальный характер, и мы видим, пожалуй, в первый раз, что такие явления, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника сооружения дорог – все в равной степени воспринимается как символы и, как таковые, подвергается истолкованию.
Здесь приходится признать, что еще не существует специфического исторического рода познавания. То, что этим именем принято называть, заимствует свои методы почти исключительно из той единственной области знания, где методы познания подверглись строгой разработке, а именно из физики. В отдельных явлениях отыскивают связь, причины и следствия, и это называют: заниматься историческим исследованием. Достойно замечания, что философия старого стиля никогда и не воображала возможности другой связи между духом и миром. Кант, устанавливая в своем главном произведении формальные правила познания, принимал в качестве объекта познавательной деятельности одну только природу, и ни он сам, ни кто другой ни обратили на это внимание. Знание у него значит математическое знание. Когда он говорит о прирожденных формах созерцания и о категориях рассудка, то он совсем не думает о совершенно своеобразном познавании исторических явлений, а Шопенгауэр, удерживающий из всех категорий Канта – что достойно замечания – одну только причинность, говорит об истории с полным пренебрежением[20].
То обстоятельство, что кроме необходимости причины и действия – я назову ее логикой пространства, – в жизни существует еще необходимость судьбы – логика времени, – являющаяся фактом глубочайшей внутренней достоверности, который направляет мифологическое, религиозное и художественное мышление и составляет ядро и суть всей истории в противоположность природе, но в то же время не поддается формам познания, исследованным в «Критике чистого разума», – это обстоятельство еще не проникло в область рассудочной формулировки, философия, следуя знаменитому выражению Галилея в «Saggiatore»[21], в великой книге природы «scritta in lingua matematica» – записана на языке математики. Но мы все еще до сегодняшнего дня ждем ответа философа, на каком языке написана история и как ее надлежит читать.
Математика и принцип причинности приводят к систематизации явлений по методу природоведения, хронология и идея судьбы – по методу историческому. Обе системы охватывают весь мир. Только глаз, в котором и через который этот мир получает свое осуществление, в обоих случаях разный.
4
Природа есть образ, в котором человек высокой культуры придает единство и значение непосредственным впечатлениям своих чувств. История – это образ, – при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни и таким способом придать ей углубленную действительность. Способен ли он справиться с этими образами и который из них больше властен над его бодрствующим сознанием – вот в чем основной вопрос всякого человеческого существования.
Из этого вытекают две возможности человеческого миротворчества. Ясно, что они не обязательно являются действительностями. Если мы намерены в дальнейшем заниматься вопросом о смысле всякой истории, то сначала предстоит решить другой вопрос, который ни разу еще не был поставлен. Для кого возможна история? Вопрос кажется парадоксальным. Конечно, для всякого, поскольку всякий является членом и элементом истории. Но следует иметь в виду, что как история, так и природа – и то и другое есть комплекс явлений – предполагает дух, через который и в котором они становятся действительностью. Без субъекта невозможен и объект. Независимо от всяких теорий, которым философы придали тысячу разных формулировок, твердо установлено, что земля и солнце, природа, пространство, вселенная – все это личные переживания, причем их существование в определенном виде зависит от человеческого сознания. Но то же самое справедливо и по отношению к исторической картине мира, к миру становящемуся, а не покоящемуся; и если даже знать, что она такое, все же еще неизвестно, для кого она является существующей. Конечно, не для «человечества». Это наше западноевропейское ощущение, но мы не человечество. Конечно, не только для первобытного человека, но и для человека некоторых высоких культур, не существовало никакой всемирной истории, никакого мира как истории. Мы все знаем, что в нашем детском миропонимании сначала возникают представления о природе и причинности и только много позднее исторические представления, как, например, определенное чувство времени. Слово «даль» получает для нас раньше определенное значение, чем слово «будущее». Что же произойдет, если целая культура, целый высокий душевный мир строится в таком не знающем истории духе? Как должна ему рисоваться действительность? Мир? Жизнь? Если учесть, что в сознании эллина все прожитое, не только свое личное прошлое, но и всякое другое, немедленно превращалось в миф, т. е. природу, во вневременное, неподвижное, неизменяющееся настоящее, в такой мере, что история Александра Великого для античного понимания еще при его жизни начинала сливаться с легендой о Дионисе и что Цезарь в своем происхождении от Венеры не видел ничего противного разуму, то приходится признать, что для нас, западных европейцев с сильно развитым чувством расстояний во времени, почти невозможно вжиться в такой душевный склад, но что, с другой стороны, мы не имеем никакого права, занимаясь проблемой истории, просто игнорировать этот факт.
Значение, какое для отдельного человека имеют дневники, автобиографии, исповеди, имеет для души целой культуры историческое исследование в самом широком значении этого понятия, даже в том случае, если оно посвящено разного рода психологическим изысканиям о чужих народах, временах и нравах. Но античная культура не обладала памятью в этом специфическом значении, не имела никакого исторического органа. Память античного человека – при этом мы, конечно, бесцеремонно присваиваем чуждой нам душе понятие, заимствованное из нашего душевного склада, – представляет собой нечто совсем другое, так как в его сознании не существует прошедшего и будущего в качестве упорядочивающей перспективы, и все оно полно в совершенно непостижимой для нас степени «настоящим», чем так часто восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, особенно в произведениях пластики. Это настоящее в чистом виде, величайший символ которого есть дорическая колонна, действительно есть отрицание времени (направления). Для Геродота и Софокла, а также для Фукидида и какого-нибудь римского консула, прошедшее тотчас же испаряется и превращается в покоящееся вне времени впечатление полярного, не периодического строения, – так как в этом заключается смысл одухотворенного мифотворчества, – в то время как для нашего мироощущения и внутреннего взора оно является периодическим, ясно расчлененным, направленным к одной цели организмом, составленным из столетий и тысячелетий. Вот этот-то фон и дает как античной, так и западноевропейской жизни их специфическую окраску. То, что греки называли «космосом», было картиной мира, не становящегося, а пребывающего. Следовательно, сам грек был человеком, который никогда не становился, а всегда пребывал. Поэтому хотя античный человек очень хорошо знал точную хронологию, календарное летосчисление и, больше того, в сфере вавилонской и египетской культуры имел перед собой живое «ощущение. вечности и ничтожности настоящей минуты, выражающееся в величественных наблюдениях над звездами и точных измерениях громадных промежутков времени, но внутренне он себе ничего из всего этого не усвоил. Если греческие философы при случае и упоминают об этом, они говорят по слуху, а не по опыту. Ни у Платона, ни у Аристотеля, не было обсерватории. В последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием был принят закон, угрожавший каждому, распространявшему астрономические теории, тяжелой формой обвинения, эйсангелией. Это был акт глубочайшей символики, в котором выразилась воля античной души вычеркнуть всякое представление дали из своего миросозерцания.
Поэтому-то эллины – в лице своего Фукидида – только тогда начали размышлять о своей истории, когда она внутренне почти завершилась. Но тот же Фукидид, чьи «методические основные» положения во введении к его книге как будто бы носят очень западноевропейский характер, понимал их в том смысле, что допускал сочинение исторических подробностей, раз это ему казалось подходящим. У него это играет роль художественного принципа, но как раз это мы и называем мифотворчеством. О настоящем понимании значения хронологических чисел также не приходится говорить. В III веке Манефон и Берозий[22] – оба не греки – написали основательные сочинения, основанные на источниках, о Египте и Вавилоне, странах, где понимали толк в астрономии и, следовательно, также и в истории. Но образованные греки и римляне мало об этом заботились и продолжали предпочитать романтические вымыслы какого-нибудь Гекатея или Ктесия.[23]
Поэтому-то вся древняя история до персидских войн, а также структура многих позднейших периодов, является по существу продуктом мифического мышления. История государственного устройства Спарты – Ликург, чья биография рассказывается со всеми подробностями, был, вероятно, незначительным лесным божеством Тайгета[24] – есть выдумка эллинистического времени, а придумывание римской истории периода до Ганнибала еще не совсем затихло во времена Цезаря. То, что литература романов об Александре оказывала сильнейшее влияние на серьезную политическую и религиозную историю, хорошо характеризует античное значение слова история. Никто не думал о том, чтобы отличать содержание этой литературы основным образом от дат, обоснованных актами. Когда в конце республики Варрон задался целью зафиксировать быстро исчезавшую из народной памяти римскую религию, он разделил божества, чье богослужение выполнялось со стороны государства с кропотливой тщательностью, на «di certi»[25] и «di incerti»[26] – на таких, о которых кое-что еще было известно, и на таких, от которых, несмотря на продолжающееся общественное богослужение, оставалось только имя. На самом же деле та религия римского общества его времени – как ее с полным доверием почерпали из римских поэтов не только Гёте, но и Ницше – была в главной своей части произведением эллинистической литературы и почти не имела никакой связи со старым культом, который для всех сделался непонятным.
Моммзен дает вполне точную формулировку западноевропейской точки зрения, называя римских историков – он имел в виду, главным образом, Тацита – людьми, которые говорили о том, о чем надо было умалчивать, и молчали о том, о чем надо было говорить.
Индийская культура со своей (брахманской) идеей нирваны, этим самым ярким выражением полной неисторичности души, какое только можно себе представить, никогда не обладала пониманием «когда» в каком бы то ни было виде. Нет ни индийской астрономии, ни индийского календаря, а значит и никакой индийской истории, если под этим понимать сознание живого развития. О внешнем течении этой культуры, завершившейся в своей органической части до возникновения буддизма, нам известно еще меньше, чем об античной за период времени между XII и VIII веком, без сомнения, также очень богатой великими событиями. Обе сохранились до нас в призрачно-мифическом образе. Только целое тысячелетие спустя после Будды, около 500 г. после Р.Х., возникло на Цейлоне в «Магавансе»[27] нечто отдаленно напоминающее историю.
Сознание индуса было так не исторично устроено, что ему был даже незнаком в качестве закрепленного во времени явления феномен какой-либо книги, написанной отдельным автором. Вместо органического ряда отдельных личных сочинений возникала смутная масса текстов, к которой каждый прибавлял что ему вздумается, причем понятия индивидуальной духовной собственности, развития идеи, умственной эпохи не играли никакой роли. В таком анонимном облике, характерном для всей индийской истории, лежит перед нами индийская философия. Теперь сравним с ней резко очерченную историю западной философии, состоящую из книг и личностей с определенно выраженной физиономией.
Индус забывал все, египтянин не мог ничего забыть. Индийского портретного искусства – этой биографии «in nuce»[28] (в зачатке) – никогда не существовало; египетская пластика почти исключительно только этим и занималась.
В высшей степени исторично предрасположенная египетская душа, стремящаяся с первобытной страстностью к бесконечному, воспринимала весь свой мир в виде прошедшего и будущего, а настоящее, идентичное с бодрствующим сознанием, казалось ей только узкой границей между двумя неизмеримыми пространствами. Египетская культура есть воплощение заботливости – душевного коррелята дали заботливости о будущем,» которая выражалась в выборе гранита и базальта в качестве материала для пластики[29], в высеченных документах, в выработке искусной системы управления и в сети оросительных каналов[30], а также неизбежно связанной с первой заботливости о прошедшем. Египетская мумия – это символ высочайшего значения. Увековечивали тело умершего и равным образом сохраняли длительность его личности, его «ка», при помощи портретных статуй, изготовлявшихся нередко во многих экземплярах, удерживавших связь с этой личностью при помощи очень глубоко понятого сходства. Как известно, в цветущую эпоху греческой пластики портретные статуи определенно не допускались.
Существует глубокая связь между отношением к историческому прошлому и пониманием смерти, выражающимся в погребальных обычаях. Египтянин отрицает уничтожаемость. Античный человек утверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне консервировали даже мумию своей истории, а именно хронологические даты и числа. В то время как, с одной стороны, ничего не сохранилось от досолоновской истории греков, ни одного года, ни одного подлинного имени, никакого определенного события, – что придает единственно известному нам остатку преувеличенное значение, – с другой стороны, мы знаем почти все имена и годы правления египетских царей третьего тысячелетия до Р.Х., а поздние египтяне знали их, конечно, все без исключения. Жуткий символ этой воли к длительности – еще до сего дня лежат в наших музеях тела великих фараонов, сохраняя черты личного облика. На блестяще отполированном гранитном острие пирамиды Аменемхета III[31] еще теперь можно прочесть слова: «Аменемхет видит красоту солнца», и на другой стороне: «Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она соединяется с преисподней». Это – победа над уничтожаемостыо, над настоящим, и не антично в высшей степени.
В противовес могучей группе египетских жизненных символов, на пороге античной культуры, соответственно тому забвению, которое она развертывает над всяким явлением своего внутреннего и внешнего прошлого, стоит сожжение мертвых Микенскому времени было вообще чуждо сакральное предпочтение этого вида погребения перед всеми остальными, применяемыми обыкновенно наряду с ним у первобытных народов. Царские могилы указывают даже на преимущественное значение погребения в могилах. Но в гомеровскую эпоху, так же, как и в ведийскую, обнаружился этот неожиданный, материально необъяснимый переход от погребения к сожжению, которое, согласно свидетельству «Илиады», совершалось с полным пафосом символического действия, знаменующего торжественное уничтожение и отрицание исторической длительности.
С этого момента наступает конец также пластичности индивидуального душевного развития. Как древняя драма не допускает настоящих исторических мотивов, так для нее неприемлема и тема внутреннего развития, и всем известно, как решительно эллинский инстинкт противился вторжению портрета в область изобразительных искусств. До самых времен империи античное искусство знает только один в известном смысле для него естественный мотив, а именно – миф[32]. Даже в идеалистические портреты эллинистической пластики мифичны в такой же мере, как и типические биографии в духе Плутарха. Ни один из великих греков не написал воспоминаний посвященных увековечению перед его духовным взором какой-нибудь пройденной эпохи. Даже Сократ не сказал ничего значительного в нашем смысле о своей внутренней жизни. Спрашивается, возможно ли было вообще в античной душе наличие чего-либо подобного тому, что является предпосылкой для создания Парсифаля[33], Гамлета, Вертера. Мы не видим у Платона никакого сознания развития своего учения. Его отдельные сочинения заключают исключительно формулировку тех различных точек зрения, на которых он стоял в разные эпохи своей жизни. Их генетическая связь никогда не была для него предметом размышления. Единственную – к слову сказать, плоскую – попытку самоанализа, притом почти уже не принадлежащую к античной культуре, мы находим в «Бруте» Цицерона. Но уже в самом начале истории западноевропейской мысли стоит образец глубочайшего самоисследования, Дантова «Vita Nuova»[34]. Уже из одного этого ясно, как мало античного, т. е. относящегося к области настоящего, было в Гёте, который ничего не забывал и чьи произведения, согласно его собственному выражению, были только отрывками одной большой исповеди.
После разрушения Афин персами все произведения древнейшего искусства были выброшены в мусор, из которого мы теперь их извлекаем, и никогда не было слышно, чтобы кто-нибудь в Элладе поинтересовался руинами Микен или Феста. Читали Гомера, но никто не собирался, подобно Шлиману, разрывать троянские холмы. Нужен был миф, а не история. Часть произведений Эсхила и сочинений философов досократиков была утрачена уже в эллинистическую эпоху. Но уже Петрарка собирал древности, монеты и манускрипты со свойственной только этой культуре набожностью и искренностью наблюдений, как человек, исторически чувствующий, стремящийся к отдаленному – он был первый, предпринявший восхождение на одну из альпийских вершин – и в сущности чужой для своего времени. Только из такого сочетания с проблемой времени развивается психология собирателя. Становится понятным, почему культ прошлого, стремившийся увековечить это прошлое, должен был остаться совершенно незнакомым для античного человека, тогда как уже в эпоху великого Тутмоса[35] вся египетская страна превратилась в огромный музей традиций и архитектуры.
Среди народов Запада немцы стали изобретателями механических часов, этого жуткого символа убегающего времени, чей днем и ночью с бесчисленных башен Западной Европы звучащий бой есть, пожалуй, самое мощное выражение того, на что вообще способно историческое мироощущение[36]. Ничего подобного мы не найдем в равнодушных ко времени античных странах и городах. Водяные и солнечные часы были изобретены в Вавилоне и Египте, и только Платон, опять в конце расцвета Эллады, впервые ввел в Афинах клепсидру, и еще позднее были заимствованы солнечные часы как несущественная принадлежность повседневного обихода, причем все это не оказало никакого влияния на античное жизнеощущение.
Здесь следует еще упомянуть соответствующее, очень глубокое и ни разу по достоинству не оцененное различие между античной и западноевропейской математикой. Античное числовое мышление воспринимает вещи как они есть, как величины, без отношения ко времени, чисто в настоящем. Это привело к Эвклидовой геометрии, математической статике и завершению системы учением о конических сечениях. Мы воспринимаем вещи с точки зрения их становления и взаимоотношения, как функции. Это привело к динамике, аналитической геометрии и от нее к дифференциальному счислению[37]. Современная теория функций есть огромный итог всей этой массы идей. Это очень странный, но духовно строго обоснованный факт, что греческая физика, в качестве статики в противоположность динамике, совершенно не знала применения часов и в них не нуждалась, и в то время как мы высчитываем тысячные доли секунды, совершенно игнорировала измерение времени. Энтелехия Аристотеля единственное из всех существующих вневременное – антиисторическое – понятие развития.
Таким образом выясняется наша задача, поскольку жизнь есть осуществление душевно возможного и новое понятие душевно невозможного устанавливает новую точку зрения на вещи. Мы, люди западноевропейской культуры – явления вполне точно ограниченного промежутком времени между 1000 и 2000 годом после Р.Х. – являемся исключением, а не правилом. «Всемирная история» – это наша картина мира, а не принадлежащая «человечеству». Для индуса и эллина не существовало картины становящегося мира как вида и формы созерцания, и вполне возможно, что в будущем, после окончательного угасания западной цивилизации, носителями которой являемся мы, современные люди, никогда не повторится подобная культура и подобный человеческий тип, для которого «всемирная история» есть содержание космического сознания.
Что же такое всемирная история? Разумеется, некоторая духовная возможность, внутренний постулат, некоторое выражение чувства формы. Но как бы определенно ни было чувство, оно далеко от законченной формы, и как бы мы ни чувствовали и ни переживали всю всемирную историю и как бы мы ни были вполне уверены в возможности для нас обозреть весь ее облик, тем не менее в настоящее время нам известны только некоторые ее формы, а не самая форма.
Всякий, кого ни спросить, несомненно, убежден, что он ясно и определенно различает периодическую структуру истории. Иллюзия эта основана на том обстоятельстве, что никто еще серьезно над ней не задумывался и никто не сомневается в своем знании, так как не подозревает, как много здесь еще поводов для сомнения. Действительно, облик всемирной истории есть неисследованное духовное достояние, переходящее даже в кругах специалистов историков нетронутым от поколения к поколению и очень нуждающееся хотя бы в малой доле того скептического к себе отношения, которое, начиная с Галилея, разложило и углубило прирожденную нам картину природы.
«Древний мир – Средние века – Новое время» – вот та невероятно скудная и лишенная смысла схема, чье абсолютное владычество над нашим историческим сознанием постоянно мешало правильному пониманию подлинного места, облика и, главным образом, жизненной длительности той части мира, которая сформировалась на почве Западной Европы со времени возникновения германской империи, а также ее отношений к всемирной истории, т. е. общей истории всего высшего человечества.
Будущим культурам покажется совершенно невероятным, что никогда даже не было подвергнуто сомнению значение этой схемы, с ее наивной прямолинейностью, с ее бессмысленными пропорциями, этой схемы, от столетия к столетию все более и более теряющей всякий смысл и совершенно не допускающей включения новых открывающихся нашему историческому сознанию областей. Самые попытки критики и очень значительные изменения, которым она подверглась под влиянием необходимости, – так, например перенесение начала «Нового времени» с крестовых походов на Ренессанс и, далее, на начало XIX века – доказывают одно: ее до сих пор считают непоколебимой, почти за результат божественного откровения или, по крайней мере, за что-то очевидное, так сказать, за априорную форму исторического созерцания в том смысле, как говорит об этом Кант.
Но эта общепринятая форма не допускала никакого ее углубления, и так как от нее не хотели отказаться, то отказались от возможности действительно понять историческую связь. Ей мы обязаны тем, что большие морфологические проблемы истории совершенно не были обнаружены. Они поддерживала формально рассмотрение истории на том низком уровне, которого бы постыдились во всякой другой науке.
Достаточно указать на то, что эта схема устанавливает чисто внешнее начало и конец там, где в более глубоком смысле нельзя говорить ни о начале, ни о конце. По этой схеме страны Западной Европы[38] являются покоящимся полюсом (математически говоря, точкою на поверхности шара), вокруг которого скромно вращаются мощные тысячелетия истории и далекие огромные культуры. Причем для всего этого нет другого основания, кроме разве того, что мы, авторы этой исторической картины, находимся как раз в этой точке. Это очень своеобразно придуманная планетная система. Один какой-то уголок принимается за центр тяжести исторической системы. Здесь солнце и центр этой системы. Отсюда события истории почерпают настоящий свет. Отсюда устанавливается их значение и перспектива. Но в действительности это голос несдерживаемого никаким скепсисом тщеславия западноевропейского человека, в уме которого развертывается фантом – «всемирная история». Этим объясняется вошедший в привычку огромный оптический обман, благодаря которому исторический материал целых тысячелетий, отделенный известным расстоянием, например, Египет или Китай, принимает миниатюрные размеры, а десятилетия, близкие к зрителю, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, приобретают причуд ливо-громадные размеры. Мы знаем, что это только одна видимость, что, чем выше облако, тем медленнее оно движется, и что медленность движения поезда в далеком ландшафте только видимая, но мы убеждены, что темп ранней индийской, вавилонской и египетской истории был, действительно, медленнее темпа жизни нашего недавнего прошлого. И мы считаем их сущность более скудной, их формы слабее развитыми и более растянутыми именно потому, что не научились учитывать отдаленность, внешнюю и внутреннюю. Нигде с такой ясностью, как здесь, не выступает недостаток умственной свободы и самокритики, так невыгодно отличающий историческую методу от всякой другой.
Конечно, вполне понятно, что для культуры Запада, которая, скажем, начиная с Наполеона, распространяет свои формы, хотя бы и внешне, на весь земной шар, существование Афин, Флоренции и Парижа важнее, чем многого другого. Но возводить это обстоятельство в принцип построения всемирной истории потому только, что мы живем в данной культурной среде, значило бы обладать кругозором провинциала. Это давало бы право китайскому историку со своей стороны составить такой план всемирной истории, в котором обходились бы молчанием, как нечто неважное, крестовые походы и Ренессанс, Цезарь и Фридрих Великий. Практическому политику и критику социальных условий допустимо при оценке других эпох руководиться своим личным вкусом, точно так же как технолог-химик волен практически рассматривать область производных бензола как самую важную главу естествознания и совершенно не интересоваться электродинамикой, но мыслитель обязан устранить все личное из своих комбинаций. Почему XVIII столетие в морфологическом отношении важнее, чем одно из шестидесяти ему предшествовавших? Разве не смешно противопоставлять какое-то «Новое время», охватывающее несколько столетий и притом локализированное почти исключительно в Западной Европе, «Древнему миру», который охватывает столько же тысячелетий и к которому сверх того присчитывают еще в виде прибавления всю массу догреческих культур, не пытаясь глубже расчленить их на отдельные части? Чтобы спасти устаревшую схему, разве не трактовали в качестве прелюдий к античности Египет и Вавилон, завершенная в себе история которых, каждая в отдельности, способна уравновесить так называемую «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны и многое последующее? Разве не относили с несколько смущенной миной сложные комплексы индийской и китайской истории куда-то в примечания, и разве просто не игнорировали великие американские культуры под тем предлогом, что они находятся вне связи (с чем?). Так мыслит негр, разделяющий мир на свою деревню, на свое племя и на «все остальное» и считающий, что луна много меньше облаков и что они ее проглатывают.
Я называю эту привычную для западного европейца схему, согласно которой все высокие культуры совершают свои пути вокруг нас, как предполагаемого центра всего мирового процесса, птоломеевой системой истории и противополагаю ей в качестве Коперникова открытия в области истории, изложенную в настоящей книге и заступающую место прежней схемы, новую систему, согласно которой не только античность и Западная Европа, но также Индия, Вавилон, Китай, Египет, Арабская культура и культура Майя рассматриваются как меняющиеся проявления и выражения единой, находящейся в центре всего жизни, и ни одно из них не занимает преимущественного положения: все это отдельные миры становления, все они имеют одинаковое значение в общей картине истории, притом нередко превышая эллинство величием духовной концепции и мощью подъема.
7
Схема «Древний мир – Средние века – Новое время» передана нам церковью и есть создание гностики, т. е. семитского, в особенности сиро-иудейского мирочувствования в эпоху римской империи.
Внутри тех узких границ, которые являются предпосылкой этой концепции, она имела, несомненно, свои основания. Ни индийская, ни даже египетская история не попадают в круг ее наблюдений. Название «всемирная история» в устах этих мыслителей обозначает единичное, в высшей степени драматическое событие, сценой для которого послужила страна между Элладой и Персией. Здесь получает свое выражение строго дуалистическое мироощущение восточного человека, но не под углом зрения полярности, как противопоставление души и тела, как в современной ему метафизике, а под углом зрения периодичности[39], как катастрофа, как поворотный пункт двух эпох между сотворением мира и его концом, причем оставлялись совершенно вне внимания явления, не фиксированные, с одной стороны, античной литературой, с другой – Библией. В этой картине мира в образе «Древнего мира» и «Нового времени» выступает вполне очевидное в то время противоположение языческого и христианского, античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа, формулируемое в плоскости времени как процесс преодоления одного другим. Исторический переход приобретает религиозные признаки искупления. Конечно, это – построенный на узких и скорее провинциальных взглядах, но логический и законченный в себе аспект, однако вполне связанный с определенной местностью и определенным типом человека и неспособный ни к какому естественному расширению.
Только путем дополнительного прибавления третьей эпохи – нашего «Нового времени» – уже на западноевропейской почве в эту картину проникли элементы движения. Восточное противоположение было покоящейся, замкнутой, пребывающей в равновесии антитезой, с однократным божественным действием посредине. Этот стерилизированный фрагмент истории, воспринятый и усвоенный человеком нового типа, неожиданно получил развитие и продолжение в виде линии, прячем никто не сознавал причудливости такой перемены; линия эта тянулась от Гомера или Адама – возможности в настоящее время обогатились индо-германцами, каменным веком и человеком-обезьяной – через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж, в ту или другую сторону в зависимости от личного вкуса историка, мыслителя или художника, с неограниченной свободой интерпретировавших эту тройственную картину.
Итак, к двум дополняющим друг друга понятиям, язычества и христианства, воспринятым во временной последовательности как исторические эпохи, прибавлено некоторое завершающее третье, «Новое время», которое, со своей стороны, странным образом не допускает дальнейшего применения того же приема и, будучи подвергнуто многократному «растяжению» после крестовых походов, оказалось неспособным к дальнейшему удлинению. Оставалось невысказанное ясно убеждение, что здесь, по ту сторону Древнего мира и Средних веков, начинается что-то заключительное, третье царство, заключавшее в себе в некотором роде исполнение, высшую точку или цель, честь открытия которой всякий, начиная со схоластиков до теперешних социалистов, приписывал исключительно себе. Это было столь же удобное, как и лестное для его авторов проникновение в ход вещей. С полной наивностью здесь были смешаны дух Запада со смыслом вселенной. В дальнейшем ошибка мысли была превращена в метафизическую добродетель трудами мыслителей, которые приняли эту consensu omnium освященную схему и, не подвергая ее серьезной критике, сделали базисом философии, возложив авторство своего «плана мироздания» на Бога. Мистическая троица эпох сама по себе представлялась в высшей степени привлекательной для метафизического вкуса. Гердер называл историю воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, другие еще как-нибудь иначе. Но способность создавать исторические построения подобного рода в настоящее время истощилась.
Идея третьего царства была уже знакома аббату Иоахиму де Флорис (ум. в 1202 г.), связавшему три эпохи с символами Бога Отца, Сына и Святого Духа. Лессинг, неоднократно называвший свое время наследием античности, заимствовал эту идею для своего «Воспитания человеческого рода» (со ступенями детства, юности и возмужалости) из учения мистиков XIV столетия, а Ибсен, основательно развивающий ту же мысль в драме «Император и Галилеянин»[40], в которой непосредственно вторгается гностическое мировоззрение в образе волшебника Максима, ни на шаг не ушел дальше в своей известной стокгольмской речи 1887 г. Связывать со своей личностью некоторую заключительную ступень является, очевидно, потребностью западноевропейского самоощущения.
Но совершенно недопустима подобная манера трактования всемирной истории, когда каждый предоставляет полную волю своему политическому, религиозному или социальному убеждению и придает трем фазам, к которым никто не смеет прикоснуться, направление, непосредственно приводящее к местонахождению самого автора; при этом за абсолютное мерило принимают зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое развитие, просвещение, свободу народов, подчинение природы, научное мировоззрение и тому подобное и оценивают таким образом тысячелетия, доказывая, что они не поняли или не сумели достигнуть нужного, между тем как в действительности они стремились к чему-то другому, чем мы. «В жизни дело идет о жизни, а не о каком-либо результате ее», – это выражение Гете следовало бы противопоставить всем безумным попыткам разгадать тайну исторической формы при помощи программы.
Ту же картину рисуют историки каждого искусства и науки а также политической экономии и философии. Нам изображают историю живописи от египтян (или от пещерного человека) до импрессионизма, музыки – от слепого певца Гомера до Байрейта[41], общественного устройства – от жителей свайных построек до социализма, в форме линейного восхождения с какой-нибудь постоянной, неизменной тенденцией; при этом совершенно упускают из внимания возможность того, что искусства имеют определенно отмеченную жизненную длительность, что они привязаны к определенной стране и определенному человеческому типу в качестве его выражения, что таким образом все эти всеобщие истории не что иное, как внешнее и механическое соединение нескольких отдельных явлений, отдельных искусств, не имеющих между собой ничего общего, кроме имени и некоторых ремесленных технических приемов.
Этот взгляд на вещи не лишен комической стороны. Во всех других областях живой природы мы допускаем право выводить из каждого отдельного явления тот образ, который лежит в основе его существования, будь ли то путем опыта, или интуитивного восприятия внутренней сути. Мы знаем, что жизненные явления животного и растения позволяют делать аналогичные заключения по отношению к родственным видам, что во всем живущем царит таинственный порядок, не имеющий ничего общего с законом, причинностью и числом, и извлекаем из этого морфологические выводы. Только в вопросах, касающихся самого человека, мы без всякого дальнейшего исследования принимаем когда-то давно установленную историческую форму его существования и к этой предвзятой теме подгоняем подходящие и не подходящие факты. Если факты не подходят – тем хуже для них. Мы говорим о них с презрением, как, например, про историю Китая, или даже не удостоиваем их взгляда, как, например, носителей культуры Майя. Они якобы «ничем не участвовали в построении всемирной истории», – выражение в высшей степени забавное.
О каждом отдельном организме мы знаем, что темп, образ и продолжительность его жизни, или каждого отдельного проявления жизни, является чем-то определенным. Никто не будет ожидать от тысячелетнего дуба, что именно теперь должно начаться его подлинное развитие. Никто не ожидает от гусеницы, с каждым днем растущей на его глазах, что этот рост может продолжиться еще несколько лет. Каждый в этом случае с полной уверенностью чувствует определенную границу, и это чувство является не чем иным, как чувством органической формы. Но по отношению к высшему человечеству в смысле будущего царит безграничный тривиальной оптимизм. Здесь замолкает голос всякого психологического и физиологического опыта, и каждый отыскивает в случайном настоящем «возможности» особенно выдающегося линейнообразного «дальнейшего развития» только потому, что он их желает. Здесь находят место для безграничных возможностей – но никогда для естественного конца – и из условий каждого отдельного момента выводят в высшей степени наивно построенное продолжение.
Но у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Человечество» – пустое слово. Стоит только исключить этот фантом из круга проблем исторических форм, и на его месте перед нашими глазами обнаружится неожиданное богатство настоящих форм. Тут необычайное обилие, глубина и разнообразие жизни, скрытые до сих пор фразой, сухой схемой или личными «идеалами». Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на подавляющее количество противоречащих ей фактов, я вижу феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть. Вот краски, свет, движение, каких не открывал еще ни один умственный глаз. Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, страны, как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветки и листья, но нет стареющего человечества. У каждой культуры есть свои собственные возможности, выражения, возникающие, зреющие, вянущие и никогда вновь не повторяющиеся. Есть многочисленные, в самой своей сути друг от друга отличные, пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограниченной жизненной длительностью, каждая замкнутая в себе, подобно тому как у каждого вида растений есть свои собственные цветы и плоды, свой собственный тип роста и смерти. Культуры эти, живые существа высшего порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мировой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. А присяжный историк видит в ней подобие какого-то ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой.
В конце концов влияние комбинации «Древний мир – Средние века – Новое время» в настоящее время изжито.
Какой бы безнадежно узкой и плоской она нам ни представлялась, все же она была единственным имевшимся у нас обобщением, не совсем чуждым философии, и ей обязана некоторыми намеками на философское содержание та литературная обработка материала, которую мы называем всемирной историей; однако крайний предел столетий, которое можно связать при помощи этой схемы, давно уже перейден. При быстром накоплении исторического материала, в особенности лежащего за пределами установившегося распорядка, вся традиционная картина превращается в необозримый хаос. Всякий не совсем слепой историк знает и чувствует это и, только из-за боязни окончательно потонуть, держится за единственную ему известную схему. Под термин «Средние века», пущенный в оборот в 1667 г. в Лейдене профессором Горном[42], принято в настоящее время подводить бесформенно, постоянно расширяющуюся массу, границы которой чисто отрицательно определяются тем материалом, который ни в каком случае не может быть отнесен к двум другим составным частям, если их привести в относительный порядок. Примеры этому мы видим в неопределенности трактования и оценки новоперсидской, арабской и русской истории. В особенности невозможно далее закрывать глаза на то обстоятельство, что так называемая всемирная история при своем начале фактически ограничивается восточной частью средиземноморского бассейна, потом вдруг происходит перемена сцены и место действия переносится в центральную часть Западной Европы, причем за поворотный пункт принимается переселение народов, событие для нас очень важное и потому сильно переоцененное, носящее в действительности чисто местный характер и, как таковое, не имеющее значения, например для арабской культуры.
Гегель с полной наивностью заявил, что он намерен игнорировать те народы, которые не укладываются в его систему истории. Однако это было только честным признанием в методических предпосылках, без которых ни один историк не достигал своей цели. Тот же прием можно проследить во всех исторических сочинениях. То, каким историческим феноменам придавать серьезное историческое значение, каким нет, действительно является в настоящее время вопросом научного такта. Ранке – хороший пример для этого.
8
В настоящее время мы мыслим землю не в целом, а разделенною на части света. Только философам и историкам это остается еще неизвестным. Какое же значение для нас могут иметь мысли и перспективы, выступающие с притязанием на универсальное значение, но чей горизонт не распространяется далее духовной атмосферы западноевропейского человека?
Рассмотрим под этим углом зрения наши лучшие книги.
Когда Платон говорит о человечестве, он имеет в виду эллинов, в противоположность варварам, Это вполне соответствует антиисторичному стилю античной жизни и мышления и, учитывая это, мы придем к правильным результатам. Но Кант, философствуя, например, об этических идеалах, приписывает своим положениям обязательное значение для людей всех видов и всех времен. Он не высказывает это определенно только потому, что это само собой вполне понятно для него самого и для его читателей. В своей «Эстетике» он формулирует принцип искусства не Фидия или Рембрандта, а искусства вообще. Но то, что он устанавливает в качестве необходимых форм мышления, суть только необходимые формы западного мышления. Поверхностного ознакомления с Аристотелем и достигнутыми им совершенно отличными выводами, казалось бы, достаточно, чтобы убедиться, что мы имеем дело с размышлением над самим собой не менее ясного, но по-другому устроенного духа. Русским философам, как, например, Соловьеву, непонятен космический солипсизм[43], лежащий в основе Кантовой «Критики разума» (каждая теория, как бы она ни была абстрактной, есть только выражение определенного мироощущения) и делающий ее самой истинной из всех систем для западноевропейского человека, а для современного китайца или араба с их совершенно иначе устроенным интеллектом учение Канта имеет значение исключительно курьеза.
Вот чего не хватает у западного мыслителя и что как раз ему должно было бы быть присущим: сознания исторически-относительного характера достигнутых им результатов, являющихся выражением только одного определенного существования, знания неизбежной ограниченности значения всякого положения, убеждения, что его «неопровержимые истины» и «вечные убеждения» истинны только для него и вечны только в его аспекте мира, и что его обязанностью является за пределами их искать других истин, высказанных по внутреннему убеждению с такой же определенностью людьми других культур. Это необходимое условие полноты всякой философии будущего. Вот что значит понимать язык форм истории, язык форм живого мира. В них нет неизменного и общеобязательного. Нельзя больше говорить о формах мышления, как такового, о принципе трагического, о задаче государства. Обязательное всеобщее знание есть только ложное заключение от себя к другим.
Еще более сомнительной становится картина, если мы обратимся к мыслителям западноевропейской современности, начиная с Шопенгауэра, у которых центр тяжести философствования переносится из области абстрактно-систематической в практическо-этическую и на место проблемы познания вступает проблема жизни (воли к жизни, к власти, к действию). В данном случае подвергается рассмотрению уже не идеальное отвлечение «человек», как у Канта, но действительный человек, который обитает на земной поверхности в определенную эпоху и в качестве первобытного и культурного человека входит в состав той или иной народности, и то обстоятельство, что формулирование высочайших понятий определяется той же схемой «Древний мир – Средние века – Новое время» и связанными с ней местными ограничениями, становится уже смешным. Однако дело обстоит именно так.
Ознакомимся с историческим горизонтом Ницше. Его понятие декаданса, нигилизма, переоценки ценностей, все эти концепции, глубоко коренящиеся в сущности западной цивилизации и являющиеся прямо решающими для ее анализа, – что было базисом для их формулировки? Римляне и греки, Ренессанс и европейская современность, наряду с этим беглый экскурс в область (плохо понятой) индийской философии, одним словом, Древний мир – Средние века – Новое время. За эти границы, строго говоря, он никогда не переступал, так же как и другие современные мыслители. Но разве это может служить основанием для философии мира» Значит ли это вообще исследовать человеческую историю? И следует ли удивляться, если Ницше, ничего не зная ни о Египте, ни о Вавилоне, ни о России, ни о Китае и переходя от отдельных наблюдений к более широким обобщениям – сюда относятся мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке, – вдруг приступает к суммарным, мнимо-всеобъемлющим построениям, и что построения эти в действительности являются очень провинциальными совершенно произвольными, под конец даже комическими?
Какое же отношение имеет его понятие дионисовского начала к внутренней жизни высоко цивилизованных китайцев времен Конфуция или современного американца? Какое имеет значение тип сверхчеловека для магометанского мира? Или что значат понятия природы и духа, языческого и христианского, античного и современного, в качестве антитез, для душевной жизни индийца или русского? Что имеет общего Толстой, из самых недр своего человеческого сознания отвергающий, как нечто чуждое, весь западный мир идей, со Средними веками, с Данте или Лютером; или японец – с Парсифалем и Заратустрой, или что имеет общего индус с Софоклом? А разве обширнее мир идей Шопенгауэра, Конта, Фейербаха, Хеббеля или Стриндберга? Разве не свойственно всей их психологии, несмотря на космические устремления, чисто западноевропейское значение? Какими комическими покажутся женские проблемы Ибсена, точно так же заявляющие претензию на внимание всего «человечества», если на место знаменитой «Норы», северо-западно-европейской дамы большого города, кругозор которой приблизительно соответствует плате за квартиру от 2 до 6 тысяч марок и протестантскому воспитанию, поставить жену Цезаря, г-жу де Севинье, японку или тирольскую крестьянку. Но у самого Ибсена кругозор жителя большого города из среднего класса вчерашнего и нынешнего дня. Его конфликты, психические предпосылки которых существуют приблизительно с 1850 г. и едва ли переживут 1950 г., уже не являются таковыми для высшего света и для низших слоев населения, не говоря уже о городах с неевропейским населением.
Все это эпизодические и местные, в большинстве случаев даже обусловленные минутными духовными интересами обитателей больших городов западноевропейского типа, а отнюдь не общеисторические и вечные ценности, и, как ни существенны они для поколения Ибсена и Ницше, все же подчинение им других факторов, лежащих вне современных интересов, недооценка таковых или их устранение, были бы полным непониманием смысла термина всемирная история, обозначающего не какой-либо выбор, а совокупность. А как раз это-то и повторяется необыкновенно часто. Все, что до сих пор на Западе говорилось и думалось о проблемах пространства, времени, движения, числа, воли, брака, собственности, трагического, науки, – все оставалось узким и сомнительным, так как старались найти исчерпывающий ответ на вопрос и не понимали, что ответов столько же, сколько и спрашивающих, что философский вопрос есть только скрытое желание получить определенный ответ, уже заключенный в самой постановке вопроса, что великие вопросы какой-либо эпохи следует признать вполне привязанными к определенной минуте, и что, наконец, следует признать целую группу исторически обусловленных решений, и только обзор их – при условии полного отстранения собственных убеждений – вскрывает последние тайны. Для настоящего мыслителя нет абсолютно верных или неверных точек зрения. Недостаточно перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, обращаться к собственному опыту, к внутреннему голосу, к разуму, к мнению предшественников или современников. Так можно узнать то, что является истинным для самого себя, для своего времени, но это еще не все. Явления других культур говорят на другом языке. Для других людей есть другие истины. Для мыслителя они должны иметь значение все или ни одна.
Отсюда становится понятным, чего может достигнуть западноевропейская критика мира в смысле расширения и углубления, и какой огромный, по сравнению с наивным релативизмом Ницше и его поколения, материал подлежит включению в круг исследования, какой тонкости чувства формы, какой степени психологической разработки, какого отказа и независимости от практических интересов, какой неограниченности горизонта необходимо достигнуть прежде, чем будет позволено с полным правом сказать, что мы поняли всемирную историю, т. е. мир как историю.
9
Всем этим произвольным, узким, привнесенным извне, продиктованным личными интересами, насильственно навязанным истории формам я противополагаю действительный, «Коперников», образ мировых событий, таящийся в них и открывающийся только непредубежденному взгляду.
Опять возвращаюсь к Гёте. Что он подразумевает под именем живой природы, как раз соответствует тому, что я называю всемирной историей в широком смысле, т. е. миром как историей. Гёте, в своей художественной деятельности выявлявший жизнь, развитие образов, становление, а не ставшее, как мы видим это на примере «Вильгельма Мейстера» и «Правды и вымысла», ненавидел математику. У него миру как механизму противостоял мир как организм, мертвой природе – живая, закону-образ. Каждая написанная им в качестве естествоиспытателя строка стремится представить образ совершающегося, «чеканных форм в их жизненном развитии». Вживание, наблюдение, сравнение, непосредственная внутренняя уверенность, точная чувственная фантазия – таковы были его средства раскрытия таинств движущихся явлений. И таковы средства исторического исследования вообще. Других, кроме этих, не имеется. Эта божественная прозорливость заставила его вечером после битвы при Вальми у бивуачного огня сказать свое изречение: «Здесь, с сегодняшнего дня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что вы при этом присутствовали». Ни один полководец, ни один дипломат, уже не говоря о философах, никогда так непосредственно не чувствовал свершения истории. Эта глубочайшая оценка, высказанная по поводу исторического события в самый момент его свершения.
И подобно тому, как он наблюдал развитие растительных форм из листа, возникновение позвонка, происхождение геологических напластований, т. е. судьбу природы, а не ее причинную связь, – так и мы приступим к рассмотрению языка форм человеческой истории, ее периодической структуры, дыхания истории во всем изобилии её доступных нашему восприятию подробностей.
В других научных областях принято причислять человека к организмам земной поверхности, и на это имеется полное основание. Строение его тела, его естественные функции, общий доступный восприятию облик – все это делает его составной частью более обширного целого. Однако, несмотря на глубоко почувствованное сродство судьбы растительного мира и судьбы человека – постоянный мотив всякой лирики, – несмотря на сходство человеческой истории с историей любой группы высших живых существ – эту обычную тему бесчисленных сказок, сказаний и басен, – для человека постоянно делают исключение. Вот здесь надо искать сравнений, предоставив миру человеческих культур свободно и глубоко воздействовать на наше воображение, а не втискивая его в предвзятую схему; надо за словами: юность развитие, увядание, бывшими до сего времени, и теперь более, чем когда-либо, выражением субъективной оценки и чисто личного интереса социального, морального, эстетического характера, признать, наконец, значение объективного наименования для органических состояний; надо сопоставить античную культуру, как законченный в себе феномен, как тело и выражение античной души, наряду с египетской, индийской, вавилонской, китайской и западноевропейской культурами, и искать типическое в переменчивых судьбах этих больших индивидуумов, момент необходимого в необузданном изобилии случайностей, – и тогда, наконец, развернется перед нами картина мировой истории, свойственная нам и только нам, как людям Западной Европы.
10
Возвращаясь к нашей более узкой теме, мы должны, исходя из установленной точки зрения на мир, морфологически определить строение современности, точнее говоря, времени между 1800 и 2000 годами. Следует выяснить временное положение этой эпохи внутри всей западной культуры, ее значение, как биографического отрывка, необходимо встречающего в той или иной форме в каждой культуре, а также органическое и символическое значение свойственных ей сочетаний политических, художественных, умственных и социальных форм.
Здесь вскрывается идентичность этого периода с эллинизмом, в особенности идентичность его современной кульминационной точки, отмеченной мировой войной, с моментом перехода от эллинизма к римской эпохе. Так как мы вынуждены прибегать к сравнениям, Рим со своим строгим здравым смыслом, не гениальный, варварский, дисциплинированный, практичный, протестанский, прусский, всегда будет служить нам ключом к пониманию собственного будущего. Греки и римляне – здесь разделение и нашей судьбы в той ее части, которая уже для нас совершилась, и той, которая нам еще предстоит. Давно уже можно и нужно было проследить в «Древнем мире» развитие, представляющее полную параллель нашему западноевропейскому, параллель, отличающуюся в подробностях внешних явлений, но вполне сходную по общему стремлению, направляющему великий организм к завершению. Черта за чертой, начиная с «троянской войны и Крестовых походов, с Гомера и «Песни о Нибелунгах», через дорический и готический стиль, Дионисово религиозное движение и «Ренессанс, через Поликлета и Себастьяна Баха, Афины и Париж, Аристотеля и Канта, Александра и Наполеона, кончая эпохой мирового города и империализма обеих культур, мы обнаружили бы неизменное «alter ego» нашей действительности.
Но само истолкование исторической картины античности, являющееся необходимым предварительным условием для вышеуказанного исследования – как односторонне, как внешне, как предвзято, как узко к нему всегда приступали! Чувствуя себя слишком родственными «древним», мы всегда смотрели на задачу слишком легко. Увлечение неглубоким сходством, вот где лежит опасность, и все исследование древнего мира сделалось ее жертвой. Надо, наконец, преодолеть этот предрассудок, будто античность нам внутренне родственна и мы являемся поэтому ее учениками и продолжателями; на самом деле мы были только ее поклонниками. Понадобилась вся религиозно-философская, художественно-историческая, социально-критическая работа XIX века, не столько чтобы, наконец, научить нас пониманию драм Эсхила, учения Платона, религии Аполлона и Диониса, Афинского государства и цезаризма, – нет, от этого мы еще очень далеки, – но что бы заставить нас, наконец, почувствовать, как неизмеримо далеко и чуждо нам все это, пожалуй, более чуждо, чем мексиканские боги и индийская архитектура.
Наши мнения о греко-римской культуре постоянно колебались между двумя крайностями, причем предвзятая схема «Древний мир – Средние века – Новое время» неизменно оказывала свое влияние на установление перспектив каждой «точки зрения». Одни, в особенности общественные деятели, экономисты, политики, юристы, считают, что «современное человечество» находится в состоянии постоянного прогресса, оценивают его очень высоко и по этой мерке измеряют все прошедшее. Нет ни одной современной партии, которая бы на основании своих принципов «не воздала должное» Клеону, Марию, Фемистоклу, Катилине и Гракхам. Другие, как-то: художники, поэты, филологи и философы, не чувствуя себя дома в упомянутой современности, отыскивают в какой-либо эпохе прошлого такой же абсолютный исходный пункт и, так же догматически основываясь на нем, осуждают современность. Одни видят в греческом мире «зачатки», другие в современности «упадок», в обоих случаях находясь под впечатлением того исторического воззрения, которое сопоставляет оба феномена в линейной последовательности.
В этом противопоставлении нашли свое выражение две души Фауста. Опасность для одной заключается в рассудочной поверхностности. В «конце концов, в руках наших современников ото всего, чем была античная культура, ото всего света античной души не остается ничего, кроме социальных, хозяйственных, правовых, политических, физиологических «фактов». Все остальное принимает характер «вторичных последствий», «рефлексов», «параллельных явлений». В их книгах не найти следа мифической значительности Эсхиловых хоров, колоссальной почвенной силы древнейшей пластики или дорической колонны, пламенности Аполлонова культа, глубины даже римского культа императоров. Другие, главным образом запоздавшие романтики, как, например, три базельских профессора, Баховен, Буркхард и Ницше, становятся жертвами и свидетелями опасности всякой идеологии. Они плутают среди призрачных туманов античности, являющейся не чем иным, как отражением их филологически воспитанных чувствований. Они руководятся остатками античной литературы, единственного, по их оценке, достаточно благородного свидетельства, несмотря на то, что никакая другая культура не была в столь несовершенной мере представлена своими великими писателями[44]. Другие основываются главным образом на прозаических источниках, как-то: на юридических актах, надписях и монетах, с большим ущербом для себя отвергаемых Буркхардтом и Ницше, и сохранившуюся литературу подчиняют свидетельству этих источников, нередко заключающих лишь минимальную долю правды и фактического материала. Вследствие различия критических принципов обе стороны не относились друг к другу серьезно. Насколько мне известно, Ницше и Моммзен ни разу не удостоили друг друга малейшим вниманием.
Но ни один из них не достиг в своих взглядах той высоты, с которой это противоположение обращается в ничто и достижение которой все же было возможно. В этом отмщение за перенесение принципа причинности из естествознания в исторические исследования. Нельзя делать выводы на основании поверхностно подражающего физическому мировоззрению прагматизма, способствующего только затемнению и спутыванию совершенно иначе устроенного языка форм истории.
Имея перед собой задачу углубленного и упорядывающего восприятия всей массы исторического материала, никто не нашел ничего лучшего, как признать один комплекс явлений за начальное, за причину, а остальные сообразно этому трактовать как вторичные, как последствия или результаты. Не только практики, но и романтики прибегли к этому средству, так как собственная логика истории не открылась их ограниченному взгляду, а в то же время потребность обнаружить имманентную необходимость, присутствие которой чувствовалось у всех, была достаточно сильна, если только не становились на точку зрения Шопенгауэра, который вообще с раздражением отвертывался от истории.
11
Будем говорить о материалистическом и идеологическом способе понимать, античность. В первом случае заявляют, что опускание одной из чашек весов имеет своей причиной поднятие другой. Доказывают, что это правило не имеет исключений – конечно, доказательство разительное. Итак, это причины и действия, причем – само собой разумеется – социальные и сексуальные, а также чисто политические явления играют роль причин, а религиозные, умственные и художественные – роль действий (поскольку вообще материалист склонен признавать последние за факты). Идеологи доказывают обратное, а именно, что поднятие одной чашки весов проистекает из опускания другой, и с такой же точностью доказывают это положение. Они углубляются в культы, мистерии, обычаи, в тайны стиха и линии и почти не удостаивают взглядом презренную повседневность, это мучительное последствие земного несовершенства. Ссылаясь постоянно на причинную связь, и те и другие доказывают, что противники не видят или не хотят видеть настоящего соотношения вещей, и кончают тем, что бранят одни других слепыми, поверхностными, глупыми, абсурдными или легкомысленными людьми, смешными чудаками или плоскими филистерами. Идеолог возмущен, если кто-либо серьезно рассуждает о финансовой проблеме у эллинов и говорит не о глубокомысленных изречениях дельфийского оракула, а о широких денежных операциях, которыми занимались жрецы оракула при помощи находившихся у них на хранении сумм. А политик премудро посмеивается над тем, кто с увлечением занимается сакральными формулами и одеждой аттических эфебов вместо того, чтобы писать книгу об античной классовой борьбе, наполненную множеством современных технических словечек.