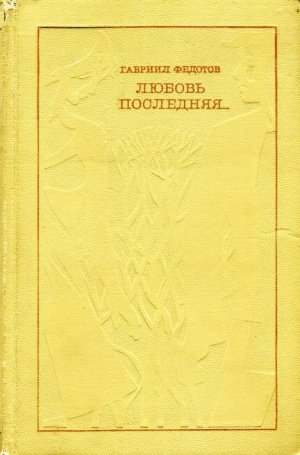
В ТЫЛУ
1
Полковник средних лет, рослый, широкоплечий, с крупным волевым лицом, хорошей военной выправкой, целым набором разноцветных орденских планок и Золотой Звездой Героя говорил о войне.
Его звали Андрей Леонович Бурлаков. Он ехал в область, где пробежало его детство и где произошло все то, о чем он рассказывал.
Война очень рано постучалась в дом колхозного пчеловода Леона Денисовича Бурлакова.
Двадцать четвертого июня он провожал на фронт своего сына Михаила.
Ушел ранней зорькой из родного Ольшанца его первенец, лучший тракторист села.
Ушли первые, а за ними и пошли, и пошли: редкое утро не приносили повестку кому-нибудь из соседей, ближних или дальних. Почти каждый день в том или другом конце села Ольшанец плакали невесты, рыдали молодайки, умывались слезами матери. Бестолково суетились взбудораженные мальчишки. И громко пели под гармошку подвыпившие новобранцы, еще не понимающие, какая их ждет война.
— Пусть поют, — поощрительно кивали головами старики. — Солдат испокон веку с песней живет!
А зеленовато-серые повестки районного военкомата все разносила и разносила по Ольшанцу шустрая девочка-подросток. В конце лета один за одним начали уходить на фронт и пожилые семьянины.
Все чаще ольшанцев провожали не подвыпившие на расставанье друзья, а виснущие со всех сторон ребятишки, да неузнаваемо изменившаяся за одну бессонную ночь жена.
Тут уж как-то сами собой отпали и песни, и гармошки первых традиционных проводов, шумных, но еще сдержанных в проявлениях горя.
Остающиеся с оравой ребятишек женщины не сдерживали себя, как стыдливые молодайки, в беде и плаче: вопили по уходившему на фронт «кормильцу» без смущения, в голос, на всю улицу. А пожилые, уже испытавшие, что такое война, мужики шли трезвые, злые, с каменно сжатыми губами.
С усилием оторвав от себя плачущих ребятишек и рыдающих жен, они матерно ругали Гитлера и долго перекидывались друг с другом короткими и тяжелыми, как свинец, фразами:
— Сводку управился послушать?
— Ага… жмет, проклятый!
— Неужто, опять отходят наши?
— Ты что… или в гражданскую не воевал! Ведь можно, допустим, сегодня и отойти, а назавтра… ка-ак жахнуть! Тут, может, еще тактика?!
Многие из уходивших уже знали, что, поднимаясь в атаку, человек в минуту проживает целую жизнь. Но не было сейчас ничего тяжелее, чем оторвать от себя детей, жену, старых родителей…
Время летело. Ушли на фронт последние забронированные комбайнеры и механизаторы; и еще не убранная техника тут и там сиротливо торчала на полях, точно обиженная земля-кормилица напоминала людям, что ушли от нее лучшие ее сыновья — ее работники.
По утрам ольшанцы жадно приникали к репродуктору. Всем было нужно хоть на время притулиться душой к добрым вестям. Но, прослушав радиосводку, они уходили еще более расстроенные, опечаленные.
— Ну, что? Отходят наши или наступают? — спросит молодайка, опоздавшая послушать сообщения Информбюро.
— Покуда отступают, — мрачно отрежет сивоусый дед. И, завидя в ее глазах слезы, сердито добавит: — Ну, что полыхаешься-то? Не понимаешь еще, баба, что на войне так оно и бывает: то отступают, то наступают! Передали вон и нынче, под конец, что в полном порядке отошли наши на новые укрепленные позиции…
Люди не теряли веры, со дня на день ждали, что немца погонят обратно и, как могли, утешали друг друга.
От фронтовиков вести пока нерадостные. Некоторые подолгу молчали. Но и те, кто присылал в Ольшанец свои треугольником сложенные письма, — больше писали о том, что фронту нужен хлеб, подробно интересовались делами колхоза; или занимали полписьма поклонами и приветами родственникам, хозяйственными советами и тревогой за домашних. О себе же писали скупо, туманно, глухо — о тяжелых непрерывных боях, о раненых односельчанах… И, прочитав такое письмо, женщины подолгу держали его в руках; и за первой бурной радостью, что «жив», тяжко потом вздыхали и ворочались ночами без сна.
Затем одно за другим пришли в Ольшанец несколько извещений об убитых.
На селе после этих «похоронных» стало еще печальнее и суровее. Однако работы в колхозе не прекращались ни на один день, и шли они не только на токах и фермах, по и в поле.
Не сидела праздной и семья Леона Денисовича Бурлакова. Сам он с утра до ночи работал на пасеке. Помощников забрали, и он один готовил пчел к зимовке. Жена его, Анна Герасимовна, не очень старая, но болезненная, хлопотала по хозяйству — как всегда. Рослая и красивая сноха — Любаша — все еще трудилась на стареньком маломощном тракторе в садоводческой бригаде, а бригада эта состояла теперь из двух человек: до садов не доходили руки. Шестнадцатилетний сын, Андрейка, заканчивал на току подработку семенного проса, немного прихваченного обильными, как дождь, последними росами.
Правда, такая расстановка держалась очень недолго и первым порушил ее сам Леон Денисович. Кроме неизбежных хлопот с пчелами, он решил отремонтировать и утеплить колхозные омшаники. Работа была не из легких, этим занималось, обычно, целое звено плотничьей бригады; и, намереваясь своими силами подготовить все три омшаника к зиме, он ежедневно плотничал дотемна. Герасимовна шила на дому трехпалые солдатские рукавицы. А Любашу и Андрейку очень скоро послали в поле — поднимать зябь.
2
Удивительная была та осень. Лист долго зеленел, а потом вдруг подернулся багрянцем, пожелтел и яркий, солнечный изредка падал на сухую землю. Но дунет ветерок — и сыплется обильное червонное разноцветье на еще зеленую лесную траву. А его и так там уже без счета — нет этому золоту в лесу ни конца, ни края. Идешь, а оно под ногами: шур! шур! шур! Только что не звенит…
Прежде чем взвалить на плечи осиновые жерди, Бурлаков снова шуркнул ногой по разномастному ковру из листьев. Послушал. Отметил, что трава еще по-летнему густа, а кое-где даже белеют цветы дрёмы. Присел на пенек и закурил.
В лесу — тишина. Слышно, как жужжат пригретые последним солнцепеком большие полосатые осы, картаво лепечет и наборматывает невдалеке овражный ручеек. Но все эти шорохи осеннего леса так прозрачны, что совсем не мешают ему слышать и осторожный писк птицы, и едва внятное перешептывание нарядно расфуфыренных осинок, чувствовать с детства знакомый аромат дозревающей мяты. На безоблачном белесо-голубом небе неправдоподобно красиво плавятся багряные вершинки кленов — сплошь залитые ярким солнцем. Тени на земле еще по-летнему отчетливы и густы.
Мягкая ласковая тишина загрустившего леса вдруг так зацепила пасечника за душу, что ему даже собственная молодость вспомнилась — бурная, боевая. А следом подкралась и защемила сердце тревога за старшего сына, знакомая неуемная тревога за все это незабываемое, родное и дорогое, что уже несколько месяцев топчется сапогом врага.
Задумавшийся Леон Денисович даже вздрогнул, когда услышал сзади себя треск валежника под чьими-то решительными шагами. Торопливо оглянулся. Держа автомат наизготовку к нему быстро подходил молодой белобрысый солдат. Пасечник успел заметить, что его вспотевшее, облепленное паутиной лицо строго, белесые брови сердито насуплены, густо унизанные колючками и репьешками полы длинноватой шинели подоткнуты за ремень. Сразу было ясно, что солдат провел в лесу не один час.
— Документы! — коротко сказал он, приблизившись вплотную.
Солдат был плотен, но низкоросл, и, когда крупный Бурлаков поднялся с пня, то дуло автомата как раз уперлось ему в пояс.
— Да ты что, сынок, очумел? — невольно подтянул живот Бурлаков. — Какие ж у меня в лесу могут быть документы? А жерди я срубил не самоуправно, а с разрешения… И не для себя лично, а для ремонта колхозного омшаника! Так что ты автомат свой, если заряжен, убери-ка покуда от греха…
— Нет документов?
— Да откуда же им быть?
С виду невозмутимый, но внутренне настороженный, думая, что дело в самовольной порубке, пасечник прямо глядел в лицо солдата и светло улыбался.
Но из-за кустов подошли еще два солдата, а белобрысый, взглянув на левую руку пасечника, принялся еще суровее допрашивать про его изувеченную кисть; и, нетерпеливо поталкивая автоматом, даже высказал предположение, что это случай самострела…
— Совсем рехнулись?! — возмущался Бурлаков. — Рана-то старая и человек я старый!!
Отпустили Леона Денисовича, даже подсобили ему поднять на плечо тяжеленные сырые жерди.
Про случай этот он почему-то долго молчал, даже дома. Но узнав, что Любаше и Андрейке весь сентябрь придется работать в поле и ночами, — не выдержал, рассказал со всеми подробностями.
— Бороду мне, оказывается, пора отпускать дедовскую, — пошутил он под конец. — Чтоб мои полста никого с толку не сбивали. — И, посерьезнев, добавил: — Тебе, Андрейка, надо взять в сельсовете хоть простую справочку с годом рождения. А то плечи у тебя — шире дедовых! Кто поверит, что такому могутному парню только шестнадцать?
— И не подумаю, — запетушился Андрейка. — Все одно я не нынче-завтра утеку добровольцем. Сказал, уйду — значит, уйду! Все равно мне скоро семнадцать и тогда возьмут не в летчики, а в пехоту!!
— Кто — про всякого, а сорока — про Якова! — с невеселой усмешкой отмахнулся Леон Денисович. — На всех хлопчиков самолетов не напасешься.
— Мне нужен только один! — перебил Андрейка.
Бурлаков-старший строго нахмурился, тревожно и испытующе покосился на жену, но промолчал, низко уронив лохматую голову. Любаша вскинула лицо и с любопытством поглядывала то на разошедшегося Андрейку, то на заметно побледневшую свекровь. А Герасимовна с минуту крепилась. Потом лицо ее пошло пятнами, покраснело, сморщилось, она судорожно потянула пальцами кончики головного платка к глазам, заплакала.
— Н-ну, опять все сначала, — поднялся Бурлаков с табурета и, прихватив с лежанки полушубок, хлопнул дверью. Но еще из сеней вернулся и уже тоном приказа сказал: — Справку, Андрейка, возьми с утра! А ты, старая, хватит хлюпать: оставь назавтра… Тебе, Любаша, тоже надо помнить, что, стало быть, всякий люд в поле может шататься: раз уж в нашем лесу ловят — значит есть кого! Гасите свет и укладывайтесь, я лягу в омшанике — там, небось, скорее меня в холодке сон сморит… Что-то я больно плохо сплю?!
— Всегда ты, Андрейка, с полоборота заводишься! — упрекнула Любаша, когда дверь за Бурлаковым-старшим опять закрылась, а расстроенная Герасимовна ушла доплакивать за занавеску. — Как будто и в самом деле возможно всех желающих взять в летчики! Ты все-таки ведешь себя не как настоящий мужчина, а как мальчишка!!
— Тебе легко так рассуждать — ты женщина и тракторист! — обиженно сказал Андрейка. — А я — прицепщик… Уж лучше получить рану в бою, чем быть зарезанным плугом в борозде!
— Тс-с-ссс! — оглянулась на занавеску Любаша. — Ты больше спи перед второй сменой! Как же другие прицепщики ночью работают?
— Те уже привыкли, а я без всякой практики, — упавшим голосом оправдывался он и, чувствуя неубедительность своих слов, безнадежно махнул рукой.
Здесь он был прав. Любаша сдала маломощный старенький трактор и, подчиняясь приказу, пересела на трактор Михаила. И сама недавно уверяла, что этот ничуть не труднее.
У Андрейки совсем иное. Ему пришлось заново осваивать капризную работу прицепщика, учиться на ходу, хотя в глубине души он считал эту должность мальчишеской. Мечтал он теперь, в войну, накануне своего семнадцатилетия, отнюдь не о такой деятельности.
Он знал, что его выпросила к себе в прицепщики Любаша. Слышал, как на этом настаивал отец. Да и сам искренне хотел, чтоб Любе, с которой он по-братски дружил, работалось в поле без страха. Но теперь для Андрейки каждая ночь означала еще и борьбу с наваливающимся сном. Неожиданно выяснилось, что прицепщика ночью здорово укачивает. А заснуть во время работы или даже чуть-чуть задремать опасно.
Впрочем, недовольны были оба: и прицепщик, и тракторист. Любаша тоже изрядно нервничала и по секрету как-то сама призналась Андрейке, что если б не одно особое обстоятельство (о чем сказать пока нельзя!), то она, наверное, тоже подумывала бы сейчас о том, чтобы стать медсестрой или даже зенитчицей. Разве она больная или слабенькая?
Однако пока она была трактористом и всерьез опасалась, что задремавший Андрейка когда-нибудь свалится прямо под острые лемеха плуга. Или сама не выдержит ежедневной тряски. В поле день ото дня становилось холоднее, а каждый гектар нелегко достающейся зяблевой пахоты невольно будил в них новые тревожные сомнения.
3
Война шла и шла. Советские войска все еще не гнали почему-то немцев назад. Больше того: фронт неумолимо приближался — даже через стоявший в стороне от железной дороги Ольшанец, расположенный в глубинке Воронежской области, несколько раз прошли небольшие подразделения солдат. Вид у них был такой, точно они прошагали без сна и отдыха многие километры и теперь стараются избежать неизбежного: вопросов жителей.
А вопросы сыпались — тревожные, нетерпеливые.
Можно ли и нужно ли в такое время — рассуждали Любаша и Андрейка — заниматься подъемом зяби? Они оба думали, порой, что это почти бессмысленное занятие.
Андрейка говорил об этом только дома, а горячая Любаша не утерпела и сказала в правлении колхоза.
— Муж твой весточки подает? — спросил в ответ председатель.
— Редко… А что? — враз затревожилась Любаша. Похолодев, она успела подумать: «Господи! Уж не пришла ли на моего Мишу похоронная?!»
— И, небось, в каждом пишет, как нужен хлеб фронту? — продолжал председатель.
— Писал…
— Вот видишь! — сказал председатель. — Выходит, и муж твой считает, что зябь нам нужна? — И поднял на нее усталые глаза: — Иди и паши́… И чтоб качественно! Сеять весной по этой зябке самой придется!..
Выйдя из правления, Любаша с досадой упрекнула себя за излишнюю стыдливость, за то, что так и не посмела сказать напористому председателю о своей беременности, что ее от тряски тошнит, попросить другую работу. Да и работать в поле осталось уж не так долго — скоро ляжет зима.
Очередная пахота, хоть и дневная, оказалась особенно трудной: погода выдалась холодная и ветреная. Оба вернулись домой по-темному, пропыленные и продрогшие. За ужином Любаша снова невесело сказала:
— Пашем мы с Андрейкой, пашем… Другие тоже изо всех сил стараются… А сеять-то нам весной доведется по этой зяби?
— Это, если так глупо рассуждать, то и мне, значит, омшаники не надо к зиме ухичивать?[1] Пусть все пчелы мерзнут и пропадают? И пасеку, значит, всю нашу, знаменитую, — к чертовой бабушке? — Леон Денисович долго выжидал ответа снохи, потом твердо сказал: — Прошла, давеча, воинская часть… Подстроился я к ним на ходу, поговорил… отходят они. Но отходят на переформирование. А как полностью переформируются — пойдут в наступление. Врага скоро непременно назад погонят…
— Ох, дай господи! — тяжко вздохнула Анна Герасимовна. — Чтобы скорее полная победа пришла, и чтоб Миша быстрее к нам вернулся целым и невредимым!..
— Ну, это ты, мать, уж чересчур заторопилась, — строго оборвал ее Леон Денисович. — Конечно, будем всемерно надеяться, что и Михаил наш останется жив-здоров… Но покуда врага вовсе не спихнут с нашей земли, и тебе надо рукавицы шить, не зевать: зима не за горами…
Слова были сказаны, в сущности, суровые, а после них дышалось как-то легче. Легче дышалось и работалось от подобных слов Бурлакова-старшего не только в семье. И Леон Денисович это отлично знал. Изредка проходившие Ольшанец солдаты были измотаны боями и переходами. Большинство в ответ на укоряющие взгляды и вопросы жителей молча отводили глаза. А те, которые поотчаяннее, позубастей, громко ругались. И не все ольшанские жители решались приставать к ним с расспросами.
Но Леон Денисович смело подходил к солдатам и даже к командирам. Иногда его резко обрывали на полуфразе, требовали предъявить документы, грубо советовали «попробовать самому», даже грозились «привлечь» за «подозрительные» расспросы. Ждавшие в сторонке односельчане не могли слышать подлинного разговора, и Бурлаков возвращался озабоченный, но неизменно бодро докладывал:
— Опять не утерпел: по душам поговорил… Загодя сказал им, конечно, что сам, мол, было время, повоевал за Советскую власть и все такое прочее… Не просто отступают, а на переформирование отходят. Правда, после больших боев. Спешат в распоряжение резерва Главного командования. А там, говорят, собралась та-акая страсть нашего войска и техники, что не нынче-завтра непременно пойдут в самое решительное наступление. Кулак, говорят, для ответного удара собрался там просто громадный!..
— Где — там?
— А дислокация войска самая, что ни на есть наисекретнейшая вещь, — не моргнув глазом, отвечал Бурлаков. — Хорошо, что хоть это нам сказали: доверились, значит, жителям на собственный страх и риск…
И тревожно было собравшиеся женщины и старики расходились по рабочим местам. Некоторые, воспрянув духом, сами пытались потом, как могли, подбадривать других, на разные лады повторяя: «Ну, конечно… Леон Бурлаков правильно говорит: добро, что хоть это сообщение теперь знаем. А обо всех намерениях и планах армии разве ж кто рискнет заикнуться?!»
В Ольшанце не забывали, что Леону Денисовичу в молодости довелось много воевать.
Старики помнили, как забрали его в четырнадцатом году в солдаты. А служил он там больше трех лет не кем попало, а заправским пулеметчиком в Восьмом кавказском полку. Да еще не на германском, а на турецком фронте. Был ли турецкий фронт опаснее или важнее — никто никогда этого не утверждал, но теперь каждый при случае подчеркивал: «Верно, аж на турецком фронте он служил в первую германскую войну!..»
Да и в гражданскую он воевал пулеметчиком и тоже не абы где, а в Первом революционном полку, в пулеметной команде. Затем воевал против Деникина и Мамонтова. Под Ельцом был ранен, но остался в строю. Под Касторной — снова ранен и контужен и на несколько месяцев угодил в госпиталь. Потом поправился и успел повоевать на других фронтах, пока не оторвало ему осколком два пальца на левой руке… Вернулся он в Ольшанец уже в самом конце гражданской. Изрядно на своем веку повоевав, он облюбовал и выбрал себе, «беспалому», самую мирную профессию: пчеловода и пасечника.
Так как же было односельчанам к рассуждениям такого бывалого солдата не прислушиваться?
4
Но однажды Леон Денисович потерял обычное самообладание.
Дело было так. Вскоре после первых ночных заморозков вдруг на сутки зарядил нудный и мелкий осенний дождь. Леон Денисович заторопился убрать ульи в только отремонтированный омшаник. Уже перед вечером надумал перенести туда и все лишние рамки. Шагая с ними к омшанику, он издали увидел, сквозь сетку дождя, небольшую группу солдат. А завернув за угол, вплотную столкнулся еще с одной группой: из трех солдат и сержанта.
Бурлаков приостановился. Поздоровался. Испытующе оглядел солдат с ног до головы и, обращаясь к сержанту, коротко спросил:
— Ну, как там?
— Воюем едрена-матрена! — отводя в сторону глаза, неопределенно отозвался высокий, плечистый сержант, в насквозь промокшей шинели. — Претерпели, отец, уж всякого-якова по горло…
— Ну? — загородил ему Бурлаков дорогу.
— Ты, папаша, заместо своих никчёмных расспросов под дождичком, лучше скажи, где нам можно обсушиться? И чтоб под крышей переночевать?
— Не торопитесь, значит… А на дождь нечего кивать: он спокон веку идет не когда его просят, а когда жнут и косят! Так почему же, ребята, отходите? — тихо, но настойчиво, повторил свой вопрос Леон Денисович. — Как же это… так получается?!
— На переформирование, отец, идем. На соединение с другой частью, — неохотно пояснил сержант.
Бурлакову еще никто из проследовавших через Ольшанец солдат или командиров не говорил об этом «переформировании». Но то, что сержант объяснял отход именно тем словом, которое за последнюю неделю очень часто употреблял и сам он, — утешая односельчан, — почему-то необыкновенно встревожило и рассердило. Сам того не замечая, он даже голос повысил:
— Больно долго, сынки, переформировываетесь! — почти кричал он. — А как же жителям теперь быть? А?! Вашим, говорю, матерям и сестрам, женам да детишкам-то кровным вашим как же? Им-то, спрашиваю, на кого прикажете надеяться?!
— Сюда он нипочем не докатится…
— Да ты что ж, сержант… иль думаешь, я только за один свой Ольшанец душой-то болею?!
— У тебя, значит, душа, а у нас балалайка: не болит и не горит, а лишь бренчит? — уже не сдерживая ярости, оскалил сержант в подобии улыбки крупные белые зубы. — Я вот, к примеру, с боями от самой погранзаставы и уж два раза из окружения выходил. Это — как? И после ранения из строя не ушел… И теперь саму смерть ежеминутно в ладошках нянчу и вот этим рогачиком ее, сволочь железную, каждодневно щупаю! Мины всякие ставлю и снимаю… Потому — род войска такой: сапер! Все мы уж насквозь прокоптились и пороховыми газами провоняли. Но от тебя вот, как от старушки-канунницы, покуда только вощинкой и медком сладко попахивает? Пчелками, стало быть, занимаешься? А ты бы — туда!
— Я еще когда ты был… с горошину, воевал, сынок, по-хорошему, — обозлился за упрек Бурлаков. — В гражданскую еще…
— Ты гражданскую с этой не равняй! В гражданскую танки и самолеты считались штуками, а в эту он, гад, по земле прет дуром целыми танковыми колоннами, и небо тоже гудит от его самолетов. На один прорывной участок тысячами их бросает!..
— Сказали бы, где попросторнее… Да и шли бы уж себе, папаша, по собственным делам, — скороговоркой, но с нескрываемым укором в голосе, порекомендовал молодой, сероглазый солдатик.
Другие два солдата, нахохлившись под дождем, молчали.
Однако Бурлаков уходить не собирался. Он наскоро пояснил, что ему пятьдесят лет и, опустив на землю рамки, даже демонстративно растопырил перед сержантом беспалую руку.
И снова настойчиво повторил свои тревожные вопросы.
Но сержант вдруг начал остервенело совать ему к самому носу свою темную левую ладонь, на которой тоже не хватало пальца.
— Нет, ты все ж скажи мне вот что, — запальчиво упорствовал Бурлаков, отводя прокопченную руку сержанта. — При таком положении ведь скоро он допрет…
— Ах, иди ты… — громко и многоэтажно выругался сержант, перебивая его на полуфразе. — Без тебя душа горит, лучше уж не береди! Понятно?
Бурлаков вернулся на пасеку, в свой летний сарайчик. Сердито смахнул с верстака стружку и, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься и успокоиться, ухватился за работу: ожесточенно шмурыгал рубанком по отсыревшей тесине. А когда сгустились сумерки, Бурлаков вышел наружу и, не обращая внимания на мелко сеявший дождь, выкатил из-под навеса припасенное для стояков бревно. Деловито примерился, прицелился к нему. Умело отбил наугленным шнуром черту: наметил, как надо его обтесывать. И тут же, без передышки, меткими и точными ударами острого плотничьего топора ловко погнал вдоль бревна длинную щепу…
5
С первых чисел октября начали жать землю утреннички. Густо толпились над озимью мутные осенние тучи. Ветер менялся по несколько раз в сутки и гнал их то в одну сторону, то в другую. Но и Андрейке, и Любаше всерьез казалось, что упорнее всего они кружатся над зябью, усердно укутывая ее по ночам белесым покрывалом тумана и изморози. Работать на тракторе без кабины было так холодно, промозглый ветер так быстро прохватывал сквозь ватник, что они порой мечтали уж не о тепле, а о том, чтобы поскорее легла зима: с настоящими морозами, пургой, снегами.
Но теперь, когда работа подходила к концу, им хотелось опередить морозы, чтоб никто из фронтовиков не упрекнул колхоз за неуправку со взметом зяби.
Вот почему и в эту памятную смену они приступили к ночной работе не мешкая. Остался один загон в десять гектаров. Если даже строго по норме — всего на три смены.
Над пашней еще висел густой вечерний туман, а они уже поставили первые вешки, включили обе фары — и переднюю, и ту, что к плугам. Деляна была неровная, и Любаша побаивалась, как бы ночью не осрамиться: не наделать ненароком кривулин.
— Эти колесища со шпорами сами заносят в сторону, — оправдываясь, говорила она нетерпеливому Андрейке. — Если б не война — дождались бы и мы гусеничных тракторов. Легко тянут пятикорпусный плуг и имеют удобную кабину… Ну, ладно, начали: садись побыстрее…
Трактор, потянув за собой трехкорпусный плуг, сразу же надсадно завел свою железную песнь, строго держа курс на освещенную фарой вешку.
В первые часы работы Андрейка внимательно регулировал плуг. А если между лемехами набивалась стерня и старая солома — он уже привычно устранял эту помеху.
В конце загона приподнимал плуг, очищал отполированные лемеха чистиком, заливал в широкую горловину радиатора воду. Загон оказался метров семьсот длиной, и залитая для охлаждения вода выпаривалась из радиатора скоро. Как только круг обошли — так и добавляй! И прицепщик не ждал напоминаний: бодро бежал к стоявшей на конце загона бочке, зачерпывал из нее ведром и, стараясь не расплескать, аккуратно вливал в ненасытную машинную глотку шесть-семь литров ледяной воды.
Ближе к полуночи все это делалось уже с понуканием Любаши. По ее совету, Андрейка брызгал себе в лицо водой, тайком от нее кусал себя за руку и с силой дергал за вихор. Ничего не помогало: сон уже необоримо охватывал его мягкими объятиями. А когда он, все еще сопротивляющийся, пытался дотянуться до стрелы плуга, чтобы отрегулировать сбившуюся глубину, Любаша не выдерживала:
— Замучил ты меня, Андрейка! Я просто дрожу от страха, что ты спросонья угодишь под лемеха… Думаешь всегда так дешево отделаешься, как третьеводни? Хоть одну ночь не клюй носом!..
— Не боись, не чкнусь… Я не дремлю, — вздрогнув от окрика, вяло оправдывался Андрейка. И чтобы подтвердить, что он бодрствует, зная слабость Любаши, даже советовал: — Ты требуй себе весной гусеничный…
— Ведешь себя как мальчишка! — сердито бросала Любаша свой обычный упрек, без труда разгадав его хитрость. — Вместо того, чтоб собраться в комок и не дрыхнуть, опять, как попугай, мои слова повторяешь?
— Ну, почему? Я ж только сказал, что гусеничный лучше…
— Конечно, лучше! — стараясь перекричать гул мотора, вдруг азартно принималась утверждать Любаша, надеясь хоть в споре расшевелить скисающего прицепщика. — Во-первых, там не штурвал, а очень удобный рычаг и вместо одной фары спереди и одной к пашне, как у нашего — по две фары, на обе стороны… Ты слышишь, Андрейка? А на пятикорпусном плуге есть даже сиденье для прицепщика. И чтоб такая сонная тетеря, как ты, не выпала и не свалилась под лемеха — к сиденью сделана особая защелка с крючком! Правда ведь: хорошо, да и только?
— Угу, толково…
— Да ты опять, наказание мое, дремлешь? — уже зло кричала Любаша и тут же со слезами в голосе, умоляла и приказывала: — Андрейка, не спи! Слышишь, сонная рожа? Возьми себя в руки хоть в эту предпоследнюю ночную смену!..
Видя, что парня еще больше разморило, и он уже совсем ненадежен, Любаша в сердцах обругала его и отослала поспать к бочке с водой.
Одной ей стало жутковато. В просветах туч ненадолго выныривал узенький серпик месяца и в его неверном свете Любаша раза два увидела неподалеку силуэт человека. А кто это может бродить в поле, не подходя к работающим?
Отгоняя невольную тревогу, она сколько-то времени работала одна. По-прежнему старалась не искривлять борозду, не делать огрехов, аккуратно проверяла глубину вспашки самодельной линейкой. Но какая пахота без прицепщика? То и дело приходилось останавливать трактор.
Во время очередной остановки в конце загона, она опять сама залила воду в радиатор, но ей показалось, что похрапывающий помощник вздремнул уже достаточно, и она безжалостно его растолкала.
— Вставай, вставай, Андрейка! Соснул немного — и хватит! — тормошила она его. — Я боюсь одна! Трактор кто-то сторонкой обходит… Ты слышишь, соня? А вдруг это кто недобрый?!
— Все может быть, — приподнимаясь и растирая ладонями лицо, сказал очнувшийся Андрейка. — Мы ж теперь почти в прифронтовой полосе очутились и, быть может, это уж диверсанты-парашютисты? А таких надо ловить и обезвреживать…
— Молчал бы уж, ловец, — иронически протянула сразу повеселевшая Любаша. — Если б диверсанты — так они, небось, прыгают с неба вооруженные до зубов, а ты с чем его будешь ловить?
— Хоть с большим нашим гаечным ключом и вот этим чистиком, — не задумываясь, ответил Андрейка.
— Давай-ка лучше не похрапывать, а спорее работать: чтоб и с этим загоном быстрее пошабашить… Диверсанты твои не стали б нас обходить, а наоборот — подкрались бы к тебе сонному — и готово! И я с твоим дурацким сном дождалась бы беды…
— Не боись… Я больше не засну!
— Это я сто раз от тебя слыхала… Защи-итничек! Давай, Андрейка, быстрее поужинаем, да надо наверстывать упущенное.
Андрейка не стал спорить, хотя говоря так с Любашей, он ничего не преувеличивал. Ему давно грезился подвиг. Поимка диверсанта. Короткая схватка с приземлившимся парашютистом. А чаще в его мечтах воздушная атака — подвиг летчика. Ну, а что проку распинаться в этом перед женщиной, да еще родственницей? Чтоб она как-нибудь ненароком проболталась дома?
Любаша присела под передней фарой, развязала увесистый узелок и не без любопытства в него заглянула. Герасимовна опять положила им по куску мяса, и трактористка недовольно поморщилась. Молодого барашка зарезали уже давно, а экономная свекровь присолила полтушки и недели две дает им в поле вареную солонину. Как будто у самой не было детей и не может без лишних слов догадаться, что теперь невестку мутит от одного вида мяса.
Она отдала оба куска баранины помощнику и, нехотя жуя зачерствевшие домашние пшеннички, умышленно глядела в сторону. Тот так энергично раздирал зубами застывшие сухожилия, что Любашу снова начало поташнивать.
— Андре-ейка, — вдруг глухо сказала она и испуганно опустила недоеденный пшенничек на колени: — Накаркали мы с тобой: к нам кто-то идет! Военные…
— Не боись, — бегло взглянув, успокоил ее Андрейка, продолжая хрустеть хрящиком. — Шинели наши.
— Кому надо, тот запросто переоденется…
Из темноты будто вынырнули два солдата с винтовками, и один из них, высокий и сутулый, жмурясь от света фары, требовательно протянул руку к сидевшей ближе Любаше:
— Документы!
— У меня всех документов — брачное удостоверение! — убедившись, что это свои, смело пошутила трактористка, еще глубже нахлобучивая ушанку. И, посмеиваясь, пояснила: — Да и то — на хранении у свекрови… В горке с посудой лежит.
Солдат, не отвечая на шутку, повернулся к Андрею:
— Есть документ?
Андрейка положил мясо и хлеб на натрушенную солому и, расстегнув ватник, стал добывать из кармана комбинезона ту самую справочку, взять которую настоял отец. Сделать это быстро мешала завязанная рука. Несколько дней назад он все-таки слегка «чкнулся» ночью о плуг и поранил себе краешком лемеха правую ладонь. Герасимовна промыла свежий порез настойкой из березовых почек (которая, по ее уверению, помогает от всего!), и ранка действительно подсохла. Но чтоб не загрязнить ее, Любаша перед работой туго забинтовала ему правую кисть полоской чистой белой материи.
И вот теперь, заметив это, сутулый солдат вдруг быстро схватил Андрейку выше забинтованного запястья и, с силой отводя руку в сторону, грозно скомандовал:
— Встать! Руки из карманов!!
Другой солдат, даже в свете фары очень смуглолицый, рывком придвинулся вплотную и молча приставил штык к ватнику прицепщика.
— Да вы хоть скажите: кого ищите-то? — выкрикнула возмущенная Любаша. — Что ж вы так с безвинным парнишкой обращаетесь?!
Но ей не ответили, а сутулый солдат, прощупав карманы комбинезона, еще суровее спросил:
— Где тебя ранило? А ну, развяжи бинт!
— Да царапина это простая, — смущаясь, что Любаша так закрутила ему сущий пустяк, сказал Андрейка и быстро развязал руку. — О плуг это я недавно порезал… — Затем торопливо добыл из кармана удостоверение и, предъявив его солдату, криво улыбаясь от неловкости, растерянно сел на прежнее место.
Справка трижды переходила у солдат из рук в руки. Они поочередно изучали ее в ярком свете фары, испытующе поглядывая то на трактористку, то на прицепщика.
— Ну-ка, встань, — несколько сдержаннее сказал сутулый, не возвращая удостоверения. И когда Андрейка поднялся, — шапкой в темноту, косая сажень в плечах, — сутулый еще раз подозрительно его оглядел с ног до головы и, полуобернувшись к товарищу, вполголоса сказал:
— Будем брать?
— Конечно, лучше проверить…
Не меньше четверти часа воевала с ними горячая Любаша, отчаянно отстаивая своего помощника.
— Не дам! — шумела она на все поле, обеими руками уцепившись за ватник Андрея. — Нечего попусту таскаться ему с вами… Я вот, баба беременная (даже открыла она впопыхах свою тайну), всю осень на тракторе трясусь и ночами мерзну, а вы за здорово живешь нацелились прицепщика забрать?! А как же это пахать без прицепщика? А? Мужья наши воюют, да и то в каждом почти письме наказывают, чтоб колхоз непременно зябку поднимал! Вы, похоже, не знаете, как хлеб нужен фронту? Раз нам палки в колеса вставляете! Понаели брылы толстые, — запальчиво кричала она, хоть и видела, что солдаты скорее худощавы, — да и крутитесь тут, возле чужих баб… Бесстыдники! Не дам я вам уводить прицепщика — хоть стреляйте, а не дам! Нам срочно работать надо… Раз шестнадцать только ему и удостоверение у него законное, с печатью — нечего вам тут больше выверять. Не дам зазря его от машины забирать! Сказала «не дам» — значит и не дам!!
В конце концов солдаты хоть и очень неохотно, но отдали прицепщику его «законное удостоверение, с печатью». Но сам он ни на минуту не сомневался, что будь вместо красивой и горячей Любаши трактористом кто-нибудь еще, не помогла бы никакая печать, и ему бы шагать от машины под конвоем.
Даже в голосах невольно оправдывающихся солдат, уже мявшихся в нерешительности, он чувствовал потом что-то вроде того необъяснимого смущения, какое испытывал и он сам.
— Ты, молодайка, видать чересчур шустрая, но тоже не больно кричи, — строго, но уже примирительно сказал сутулый уходя. — Наша теперешняя патрульная служба тоже не легкая: и опасная она, и просто позарез сейчас нужная! Понятно?
— А на фронте, красавица, мы тоже были: не думай, что с начала войны ходим и документы проверяем! — нашел нужным добавить почти все время молчавший смуглолицый солдат. — Оба мы недавно из госпиталя, сами, считай, из команды выздоравливающих…
Андрейка напряженно прислушивался к удалявшимся шагам солдат, но монотонно тарахтевший трактор, оставленный с незаглушенным мотором, чтобы поужинать при свете фар, сразу же их оборвал. К еде он больше не притрагивался: и недюжинный аппетит его, и сонливость разом будто смахнуло. Он молча поглядывал, как Любаша, все еще сердитая, с раздувающимися ноздрями, не спросив, убирала ужин обратно в узелок. Затем покрутил головой и, коротко усмехнувшись, сказал:
— Ну и ну! Ведь точь-в-точь, как батя рассказывал… Вон, оказывается, какие строгости пошли у нас! Отец еще тогда толковал это как знак, что фронт уже на носу… Но откуда у тебя смелость такая появилась? — снова покрутил он головой… Ты… как клушка на них налетела!
— Да что бы я делала тут одна? Или, по-твоему, мне не страшно в поле? Тут и взаправду скоро на какого-нибудь вражину можно напороться…
— А вот я так давно как раз о таком случае мечтаю, — придвинулся к ней поближе Андрейка. — Просто с самого того часа, как отец про рубку жердей рассказал. Ты только смотри, дома помалкивай: не то мать загодя начнет слезы проливать! Но мне с тех пор — вот честное комсомольское! — стоит остаться одному и закрыть глаза, как тут же представляется все до тонкости… Лесная чащоба. Глухомань. Тишина. Слышу — пробирается кто-то… Вглядываюсь сквозь кусты — крадется он и все время озирается по сторонам. Наставил я на него похожий на пистолет сук: «Стой, вражина! Руки вверх! Ни с места!!»
— В лесу-то, конечно, можно при случае подсидеть, — помедлив, согласилась Любаша. — А вот если совсем на открытом месте?
— Или даже чистое поле, а я один, — снисходительно улыбнулся Андрейка. — Ежусь, как сейчас, от знобкого ветра, кутаюсь в ватник, нахохлился. Но услышал гул самолета и вытянул шею из стеганки, задрал к небу лицо. А там ма-ахонькое белое облачко парашюта… Схоронился я в чернобыльник, лежу не дышу, а с парашютиста, понятно, глаз не спускаю. И еще не коснулся он путем земли, а я к нему с чистиком! Навалился, конечно, внезапно. Короткая схватка и руки его надежно скручены. И пистолет его, и граната — все у меня. «Иди, иди, вражина, не упирайся! — свирепо вдруг выкатил глаза Андрейка. — Там расскажешь, гад, зачем к нам сиганул, а я твою собачью речь не понимаю!!»
— Мальчишка ты еще! — Будто одумавшись, засмеялась Любаша. — Кому надо тот и язык наш выучит… Фантазируешь тут вовсю, а я слушаю, уши развесила… Ты ведь все о сражениях самолетов толковал мне, все хотел бить врага только в воздухе, а теперь уж, выходит, мечтаешь…
Она не договорила и по выражению ее настороженного лица, по вдруг сузившимся, устремленным вдаль глазам было ясно, что она опять кого-то увидела.
— Ты что?
— Гляди, Андрейка: они ведь на лошадях к нам возвращаются! — протянула она руку. — Ну и ночка выдалась…
На этот раз прицепщик даже забыл сказать свое излюбленное «не боись». В зеленоватых лучах фары то появлялись, то исчезали две конские головы: свернув с накатанной дороги, лошади по глубокой и свежей пахоте шли грузным шагом. Он приподнялся, лицо его все больше и больше светлело.
— Так это ж конюха Иняева Федька! — обрадованно сказал прицепщик. — Ей-богу, он! И лошади наши, колхозные… Разве ж ты не угадала? Сам он на плюгавой пегашке, а в поводу зачем-то Гнедого ведет?!
Теперь и Любаша увидела, что на пегой кобыленке, — с очень смешной кличкой Далдониха, — верхом Федька! А заводным порожняком рядом с ним — злой и норовистый Гнедой, на котором, обычно, подвозят трактористам воду. Старик ездовой так обычно и шутил: «На злых воду возят!»
Однако тревога ее не улеглась, а возросла, особенно когда она заметила, что и Гнедой оседлан.
— Это зачем ты к нам? Ночью, да еще пароконный? — испуганно выкрикнула она, едва лошади приблизились. — Неужто с Михаилом моим беда? Да говори ты, ради бога, скорее — не томи!!
— Не пугайся… От Михайлы твоего, наоборот — письмо! Правда, дома оно… — прерывисто сказал Федька, еще не отдышавшись, с разгоревшимся от быстрой езды лицом. — А я вот за ним… Повестка ему срочная!..
— Где она?! — одним рывком поднялся Андрейка и шагнул к низкорослой лошадке.
— За нее Леон Денисович расписался, — ловко соскочил Федька на землю. — Но тебе сейчас скакать: на рассвете уж подвода всем нам будет…
— И тебе?
— Ага… И Сережке Журавлеву, и Колчану, и Седому, и Лешке Зимину, и Митьке Акимову… Всем, кому скоро семнадцать сполнится… Садись, велено, как можно шибче ехать! Потому — можем не поспеть к сроку…
— Где ж ты раньше был?
— Да Нюшка Крокина и повестки по-темному принесла… И вперед сказали — до утра! А потом в сельсовет звонок — приказ, чтоб к утру быть в самом райвоенкомате.
— Ну, как же так, — засуетилась Любаша. — Вы, ребята, как хотите, но я одна здесь не останусь… Ты слышишь, Андрейка? — почти плача говорила она: — Я теперь в одиночку и час в поле боюсь пробыть…
— Глуши мотор, — решительно сказал Андрейка, точно прицепщик и тракторист поменялись местами. Он, как видно, сразу почувствовал себя мужчиной. — Уступим тебе Далдониху, а мы, как-нибудь вдвоем на Гнедом… Не боись!..
— Не больно ловко и этак получится, — мялась в нерешительности Любаша. — Опасаюсь я верхом, ребята…
— Да чего бояться вам? — немедленно подхватил и Федька своим ломким баском. — Далдониха ведь страшно смирная, и все ж вы в настоящем седле будете! Разве при таких условиях упасть можно? А Гнедой хоть и любит, собака, если кто зазевается, за коленки хватать, ну да я его, тигру, знаю: спереди я сам сяду!!
— Вы, небось, шибко поскачете?
— Вдвоем не больно расскачешься, — наспех утешал Любашу Андрейка. — Не боись!..
6
Среди ночи затопили хозяйки печи. Суетливо готовились, чтобы успеть покормить на зорьке, в останный разочек, своего зеленого новобранца горячим борщом, положить ему в холщовый мешок хоть десяток домашних пышек. То тут, то там вился из труб погрузившегося в сон Ольшанца тонкий столбик пахучего синеватого дымка.
Только что отполыхала большая русская печь и в доме Бурлаковых. Раскрасневшаяся, опухшая от слез Герасимовна уставила под затоп незатейливое варево и, выждав, когда перестанут переплясывать по догоревшему хворосту синеватые огоньки, умело загребла жар. Но, закрыв трубу, она уже изнеможенно опустилась на сундук.
— Поторапливайся, Любаша, — сказала она снохе. — Уж больно чересчур красоту им наводишь…
— Сейчас, мама, сейчас, — послушно откликнулась Любаша.
Тоже заплаканная, с высоко подкатанными рукавами на полных смуглых руках, она ловко лепила на покрытой клеенкой столе крутолобые калачики. От слез и горячего дыхания печки скулы ее разрумянились, в глазах светилась ревнивая забота: она все делала с азартом.
— Ну, а ты, старая, чего расселась! — отводя душу, командовал Леон Денисович. — Поставь, покуда печь пуста, хоть чугун воды согреть… Надо ему помыться после поля или нет? Он, небось, наскрозь пропылился!
— Потом поставим, — устало отмахивалась Герасимовна. — Не ори зря и в бабье дело не лезь… Сейчас нам печку нельзя студить.
— Ботинки мне обувать в дорогу или сапоги? — ни к кому особо не обращаясь, спрашивает вдруг Андрейка.
Женщины понуро опускают головы, молчат: ясно, что тут советовать не им, а тому, кто сам бывал в походах — отцу. Бурлаков-старший тоже сколько-то времени молча наблюдает, как разувается сын, долго расшнуровывая скользкие, туго затянувшиеся сыромятные ремешки. Задумчиво берет в руки сброшенные ботинки — тяжелые, грубые, изрядно испачканные черноземом. Долго пробует пальцами толстенную подошву.
— Сапоги наденешь — в сапогах ноги сильнее! — уверенно говорит наконец Леон Денисович. — Только пару портянок непременно ему в запас положи.
И снова изнемогшей Герасимовне нет времени дать волю слезам. Она через силу поднимается, открывает тот самый сундук, на котором сидела. Вынимает новые сапоги. Порывшись, достает небольшой скаток холстинки и с треском рвет от него четыре ровных куска — на две пары новых портянок.
Андрейка уже натянул сапог на правую ногу, энергично топает ею по полу, вопросительно смотрит на отца.
— Что-то очень тесно пальцам? — говорит он. — И в подъеме тоже… будто ссохлись они!..
— Не может этого быть — весной их шили! — стремительно шагает к нему отец и, присев на корточки, с силой давит носок своими заскорузными пальцами. — Тут, говоришь, жмет?
— Ага…
— Д-дааа… Тесная обувка в походе — хуже всего… А ну надевай второй сапог! Давай уж сразу пробуй их по носку и портянке… Не так! Сначала левым концом потуже бери… Вот теперь добро. Обувай и второй!..
Сын топочет обеими ногами. Круто поворачиваясь, проходится короткими шажками взад-вперед. Останавливается. Отлично сшитые сапоги сидят ладно, как влитые, при ходьбе слегка поскрипывают. Новые, ненадеванные, они и должны немножко поскрипывать.
— Командирский сапог! — елозя на корточках по полу, пощупывая то носок, то подъем, тоном знатока говорит отец. — Неужто за такой короткий срок опять нога выросла? Они и работались по весне с запасом… Ну как теперь: обошлись чуток или нет?
— В носках вроде лучше стало, правда, без запаса, впритык, — уже мнется в нерешительности Андрейка, которому ужасно не хочется уходить в своих грузных, как гири, ботинках. А в подъеме все же будто резиновой портянкой обмотал: вроде немножко теснит…
— Они, сынок, обомнутся, — поднимается Леон Денисович с пола. И решительно повторяет: — Надевай их — в сапоге нога сильнее! Просто ты лапищи свои за лето здорово разбил босый и в этих вот кораблях-бутцах… Если обувь чересчур просторная — при долгой ходьбе тоже ить запоешь «зачем я маленький не помер?». Потому что враз ноги собьешь…
— Да разве ему там казенных сапог не выдадут? — не удерживается Герасимовна.
— Ты, мать, о чем не больно понимаешь — помалкивай! — бесцеремонно советует жене Бурлаков-старший. — Конечно, в армейской части ему все выдадут… И обувку выдадут… Сапоги — вряд ли, а ботинки под обмотки непременно получит! Но тебе известно, когда он в часть попадет? Вот то-то и оно… Может, завтра уж сугробы лягут! А нам сапоги его не впрок солить… О чем толковать: сына отдаем, а сапоги его, выходит, жалеем?
— Да ты что, да ты что?! — даже руками всплескивает возмущенная Герасимовна. — Мне разве сапогов жалко? Боюсь я, не обезножил бы Андрейка!..
— Обомнутся, — опять заверяет Леон Денисович. — Давайте ка, однако, собираться поживее: подвода ждать не станет…
Казалось, эти сборы — кропотливые и одновременно суматошные — поглотили в эту ночь энергию, помыслы, внимание семьи Бурлаковых. Они словно нарочно, не сговариваясь, толковали о мелочах и старательно обходили главное: куда Андрейка уйдет сегодня на рассвете. И эти хлопоты порой так живо их захватывали, что даже Анна Герасимовна переставала плакать. Сбитая с толку кажущимся спокойствием домашних, она лишь испытующе поглядывала на увлекшихся приготовлениями мужа и сноху, пытаясь хоть по их деловито нахмуренным лицам установить истинный размер горя.
Но всему приходит конец. Закончились и самые последние приготовления, и необычный сверхранний завтрак семьи. Уже и в вещевом мешке все уложено, проверено, пересчитано. Теперь он лежит наготове, с намертво притороченными лямками — вот он, «сидор», на лавке, бери, новобранец, и неси до Берлина! Остались на столе лишь пустые неубранные тарелки от последней совместной трапезы; да совсем уж, кажется, немного времени до ухода Андрейки из дома. Ах, как хотелось, чтобы ночь эта тянулась и тянулась без конца! Хоть и трудно вот так сидеть, томиться и умышленно говорить не о том, что сверлит душу (а о первом заморозке, о важности сухих портянок), но все одно — пусть время тянется, пусть даже остановится.
И потому будто пушечный выстрел раздалось и тарахтение колес по засохшим грязевым кочкам и, следом, чей-то дробный, но настойчивый стук кнутовищем в оконный наличник.
— Выходим, сейчас выходим! — неестественно громко заорал в ответ Бурлаков-старший.
— Давайте, мама, помогу вам одеться, — быстро подошла к затрясшейся Герасимовне Любаша.
— Погодите, — с неожиданной хрипотцой в голосе сказал Леон Денисович. — Давайте прежде по старорусскому обычаю трошки посидим. Вот так… Сядь и ты, Андрейка, поровнее, чего развалился?!
И не успели они посидеть и минуты, по-положенному, молча, как Герасимовна опять затряслась, заголосила, запричитала.
— Н-ну, видно пошли! — строго сдвинув брови, скомандовал Бурлаков-старший и первый встал. — А то… долгие проводы — лишние слезы, да и подводы ждут.. Постойте! Давайте уж заодно и расцелуемся дома, а не на улице!..
Подошли к сельсовету. Две подводы почти заполнены новобранцами. В поредевшей предрассветной темноте сдержанно гомонили перебегавшие с места на место ольшанцы. Покачиваемый ветром фонарь выхватывал то заплаканное лицо женщины, то озябшую девчонку или подростка. На грядке передней телеги, рассеянно болтая спущенными ногами, сидел Иняев Федька… Кивнув ему, Андрейка бросил свой «сидор» на устланное соломой дно, примостился было и сам рядом с дружком.
Но Любаша, оставив на минутку безутешно рыдавшую свекровь, шепнула что-то Андрейке на ухо, и его как ветром сдуло с телеги. Быстро сдвинув на самую бровь ушанку, застегнув на все крючки ватник, он вмиг будто растворился в темноте. В общей сутолоке его исчезновение не заметил даже отец.
Леон Денисович стоял на крыльце в тесной и немногочисленной мужской группке, словно умышленно отделившейся от исходивших плачем девчонок, баб и старух — со всех сторон облепивших подводы. В эти последние минуты перед отправкой, ему казалось, что Герасимовна — давно поддерживаемая Любашей — кричит больше всех и, не говоря жене ни слова, он без осуждения думал: «К чему это? Если б голошением можно было помочь?»
Прослезился кое-кто и из древних стариков, по второму, а то и по третьему разу провожающих своих племяшей и внуков. Зато остальные, точно им в отместку, нарочито громко балагурили на крыльце, старательно острили и даже шутливо подтрунивали над сидевшими в телегах юнцами:
— Уж эти, орлы, насыпят теперь жару хрицу в самую мотню!
— Во-во! Они еще, вовзят, самого Гитлера замордуют!!
— Намедни слыхал я, братцы, как Федька Иняев отцу завидовал… Просто — и смех, и грех! «Тебе, говорит, хорошо было в гражданскую на кониках скакать да сабелькой помахивать!..»
«И это ни к чему», — опять без осуждения подумал Бурлаков и невольно посмотрел в сторону сына. И только тут заметил, что на телеге его нет. Пошарил взглядом вокруг и, нигде не увидя, торопливо шагнул с крыльца к Любаше.
— Куда Андрейка исчез? — строго и беспокойно опросил сноху.
— Не знаю…
— Кто ж должон знать? Ты ведь в сельсовет, когда я там был, не заходила… — упрекнул он. И, обращаясь к всхлипывающей жене, добавил: — Ну, помолчи ты, старая, хоть трошки! Ведь слова путного не даешь сказать…
— О боже мой! — рассердилась Любаша, измученная виснувшей у нее на руках свекровью. — Да может он просто побежал по своей нужде?
— Я к тому, что подводы сейчас тронутся, — заметно сконфузился Леон Денисович. — И в сельсовете решили — поеду я их сопровождать…
— Да что ж нельзя ему тогда покричать? — не сдавалась Любаша.
А Бурлаков-младший был в это время на ближайшем огороде. Он стоял среди несрезанных будыльев подсолнечника и, держа Нюру Крокину за обе ладони, старался получше рассмотреть и запомнить ее глаза. Так они стояли здесь уже минут пять, и в этом наступающем сереньком и промозглом рассвете по-новому глядели друг на друга. И каждый из них думал: каким бы одним золотым словом разом сказать теперь и о своей неизменной верности, и о своей неизмеримой нежности, и о неизживной тяжести этой нежданной разлуки? Но, как и все очень юные, они меньше всего говорили о любви.
— …Пиши, — горячо шепчет она. — Я прошу тебя, ну, я просто наказываю тебе писать мне ежедневно…
— Мы ж так и договорились! — стискивает он ее руки. — Но если когда и замешкаюсь — не серчай… Слышишь, Нюрец?
— Мне что обидно… сама тебе повестку принесла! — глотая слезы, говорит она. — А вдруг тебя там убьют?
— Твоей повесткой, что ли? — снисходительно улыбается он, чувствуя себя намного сильнее. — Не боись! Я ведь непременно выпрошусь в летчики! Настоящие асы вон по несколько боевылетов в день делают — и ничего…
— А я б тебе и сейчас ничего-ничего не пожалела! — даже жмурится она, медленно поводя из стороны в сторону своей русой непокрытой головой.
— Ни-чего, ни-чего? — переспрашивая, притягивает ее к себе Андрейка. И тоже горячо шепчет: — Не тебе, Нюрец, своим собственным ушам не верю…
— Ей-богу, как есть ничего, — скороговоркой божится она. И, упершись ему в грудь руками, торопливо переводит разговор: — Знаешь еще чего до смерти боюсь? Станешь ты этим самым асом и меня тогда забудешь, небось, навсегда…
— Тю, чудачка! — не находя слов, трясет он ее за плечи. И, помедлив, добавляет: — Зачем опять придумала? Зачем придумала?!
И в это время они оба слышат издалека ауканье Любаши — точь-в-точь такое же, когда вместе ходили в лес по ягоды, по грибы.
На миг испуганно отпускают руки друг друга. Стоят замерев и слушают это знакомое — звонкое и протяжное ауканье.
— Какая ваша Любаша хорошая…
— Ты — лучше!!
Опомнившийся первым, Андрейка вдруг притягивает Нюру — гибкую, тоненькую — одним порывистым объятием и, запрокинув ей лицо, без спроса целует в глаза, нос, губы. Оба целуются первый раз в жизни, торопливо, неумело. Голова ее безвольно откидывается; все больше чувствуя ее зубы, и ощущая на своих губах что-то соленое, он лишь на все лады твердит ее имя:
— Нюша! Нюра! Анюта! Анечка!! Ты знаешь: я ведь тоже для тебя…
— Андрейка, Андрейка, Андрейка… — уже задохнувшись в этих первых горестных поцелуях, испуганно и монотонно повторяет она. — Ты слышишь, Андре-ейка…
Но он уже мчится, что есть духу, к самовольно оставленным подводам. И через несколько минут, забыв, что это уже было, его снова исступленно расцеловывают домашние; опять его лицо обильно смачивается слезами матери и Любаши, а на плече снова лежит твердая рука отца. Уже усевшись на телеге рядом с Иняевым Федькой, он словно со стороны слышит какой-то зачужалый голос отца, обращавшегося теперь ко всем:
— Ну, ребятки! Что вам приказано, все позабирали? Ложку, кружку, харчи на три дня?
— Все, все, — раздается в ответ.
Застоявшиеся лошади дружно берут с места. Продрогший Гнедой и без кнута так зло и норовисто вырывается вперед, что телега с грохотом катится по засохшим колеям, тряско прыгает по окаменевшим кочкам грязи. И сразу же вслед, заглушая даже этот неумолчный стук колес, раздается дружный и отчаянный бабий плач — теперь уже несдерживаемый, в голос, с выкриками, с причитаниями…
Подводы осторожно спустились к пойме, к речке. Долго стояли на покрывшемся прозрачными закраинами берегу, поджидали оледенелый паром. После громоздкой переправы дорога пошла круто в гору, ехали шагом. Этим воспользовался сидевший посредине Леон Денисович, обстоятельно рассказывал о чем-то Иняеву. Смешливый Федька громко хохотал. Несколько раз отец заговаривал и с ним. Андрейка отвечал, но, кажется, больше невпопад, потому что дружок опять смеялся, теперь уже над ним, а отец обиженно умолкал. Правда, помолчав, сам пояснял потом Федьке, что сына так сморило потому, что он несколько ночей не спал — работал в поле.
Андрейку и впрямь совсем невозможно укачала, будто на тракторе, эта тряская телега. Порой он слышал стук колес, хрипловатый бас отца, ломкий смех Федьки, даже говор на задней подводе. Но следом в его ушах, заглушая все, опять напевно и убаюкивающе звенели необычные Нюрины слова: «Ни-ичего, ни-ичего: ну как есть ничего для тебя я, Андрейка, не пожалею!»
И только, когда вдруг разом оборвали телеги свои разболтанные песни у самого райвоенкомата — он очнулся совсем; и очень подивился, что все семнадцать километров пути остались позади.
7
Противотанковый ров тянулся по пологому склону холма от небольшой деревушки Гусыновки до самого леса. Местами он был уже по пояс работающим в нем людям. Где грунт оказался каменистым — лишь едва намечен. А со стороны леса косогор спускался гораздо круче, там вместо рва был пока отрыт только невысокий эскарп.
Множество людей вгрызались в неподатливую мерзлую землю лопатами, ломами, скарпелями[2], кирками… Здесь были и саперы, и нестроевые воинские части, и заводские рабочие, и студенты.
Ольшанцам тоже удалось продержаться этот трудный день рядом. И даже на первый ночлег в летний барак пустующего кирпичного завода они ухитрились попасть вместе. Переволновавшиеся, промерзшие, намахавшиеся за день тяжелым кайлом, они развязали свои «сидоры», пожевали домашних харчей, выпили по кружке кипятку и улеглись на холодные, прикрытые соломой нары.
Устали, а заснуть не могли.
То в одном, то в другом месте шуршала под ворочающимися ребятами солома. Ближайший сосед Бурлакова и тут — Иняев Федька. Он громко вздыхал и снова переворачивался на другой бок, близко хрустя соломой. Андрейка дотянулся, ткнул дружка пальцем в спину:
— Не спишь, кавалерист?
— Отвяжись, летчик! — отозвался тот злым шепотом, не повернув головы.
Андрейка оставил его в покое, долго лежал с открытыми, неподвижными глазами. Этот длинный и трудный день поколебал то, о чем он уверенно — месяцами думал и мечтал дома. Не раз представлялось, как он будет «выпрашиваться» в летчики: вопреки скептическим предупреждениям отца, горячо расскажет в райвоенкомате о своем желании стать настоящим «небесным» асом. «А если на флот? — испытующе осмотрев его и переглянувшись с офицерами, компромиссно предложит военком. — Моряком хочешь быть?» — «Давно стремлюсь в летчики, товарищ военком!.. Очень прошу направить…»
На деле оказалось так, что он и в глаза не видел военкома, даже не был в райвоенкомате. Просто собрали всю молодежь допризывного возраста в нетопленном клубе, что наискось от военкомата — и велели ждать. Часа через полтора приказали выйти и построиться. Военный, заметно приволакивающий ногу, с двумя зелеными матерчатыми кубиками, сделал перекличку по списку и скомандовал посадку в грузовики. А куда их повезут, не смог распытать у прихрамывающего военного и дотошный отец. Сегодня он, кроме строгого писаря — неподступно перегородившего своим столом вход в военкомат, не смог поговорить ни с кем.
Вот так и оказались они сегодня на этом многолюдном строительстве оборонительного рубежа. Ни оружия, ни солдатской книжки, ни торжественной присяги — ничего, о чем давно привык думать Андрейка и чем, как выражался батя, служба крепка. Кто ж он теперь: все еще человек гражданский или уже военный? Хотя отец, подбежавший попрощаться перед посадкой в машины, прямо сказал: «Считайте себя, хлопцы, уж окончательно мобилизованными! И старайтесь держаться вместе!»
Хлопцы и старались. Но с каждым днем держаться рядом было труднее: разрытый рубеж протянулся далеко, а распоряжался зелеными новобранцами не только приволакивающий ногу лейтенант Васенин. Да и работы были, как постепенно выяснилось, не одни земляные. Смышленые ольшанцы, подолбив до кровавых мозолей закаменелой глинки, при случае показывали знания в каком-либо нужном деле, и саперное начальство охотно снимало их с земляных работ.
Уже в первые дни бывший в Ольшанце подручным молотобойца Колчан снова попал на свою работу — помогал наваривать в переносном горне ломавшиеся о каменистую почву кирки и скарпели. Деловитый Седой с утра до вечера стругал новые черенки и насаживал на них, вместо поломанных, тяжелые совковые лопаты.
— Поперла наша братва на выдвижение! — иронически говорил про них языкастый Федька, считающий, что сам он не имеет никаких особых талантов, кроме врожденного таланта конника.
Однако Сереже Журавлеву, Акимову и Лешке Зимину даже язвительный Федька искренне посочувствовал. Их сняли с земли и под командой очкастого здоровяка-студента направили в лес, на распиловку заготовленных там кряжей для надолб. Оказывается, противотанковый ров подойдет к шоссе справа и слева, а перерезать дорогу не будет. Но чтоб и ее надежно закрыть в крайний момент — надо срочно подготовить надолбы из дубовых бревен. Еще бы лучше, конечно, поставить каменные или бетонные надолбы, да нет их, а лес стоит рядом.
Ребята мрачнели, в лес собирались с ругачкой. Между собой говорили, что им и без верзилы студента все дело понятно: метр или полтора наружу, два с половиной или три в землю. Вот тебе и надолба. А под каким углом потом ее врывать на полотне дороги, чтобы прицеливался каждый комель торцом прямо в гусеницу фашистского танка — все равно будут указывать напоследок саперы, а не этот самозванец.
Андрейка понимал — студент лишь предлог. «Уж если мобилизовали нас, так давайте боевое оружие, а не топоры-пилы! Когда же мы попадем под команду строевых офицеров, настоящих фронтовиков, на передний край? Ведь сводки невозможно спокойно слушать!!» — думали ребята. Догадаться об этом Бурлакову было легко потому, что именно так думал и он сам.
Скоро ольшанцы очутились в разрытом котловане по соседству с солдатами и, чем глубже становился противотанковый ров, тем больше с ними перемешивались во время работы. Грунт этого стыкового участка состоял, как нарочно, из крепкого мергеля, поддавался только скарпелю и кувалде. Пожилые, в большинстве уже побывавшие в госпиталях нестроевики не все могли махать полупудовой кувалдой, а зеленые новобранцы охотно ею грелись и все чаще оказывались в добровольных напарниках у бывалых солдат.
Вольно или невольно, разлучились такие дружки, которых, казалось, водой не разольешь. Бурлаков и Иняев работали теперь порознь.
В последние дни Андрейка сработался с солдатом лет сорока пяти со странной фамилией Депутатов. Это был человек крупного сложения, сильный, на широкой груди его посверкивала медаль «За отвагу», но всего два дня небритый — он походил в глазах своего юного напарника на старика. Депутатов ловко применил нехитрое колчановское нововведение, и работать с ним было легко — без страха, что угодишь кувалдой вместо скарпеля по руке. «Изобретение» Колчана, как впрочем и некоторые настоящие, было очень просто и заключалось, по существу, в полуметровой ясеневой палке, срезанной тут же, в лесу. У конца ее делался окованный расщеп, чтоб не полз дальше. А в этот тугой расщеп, иногда просто обмотанный проволокой, плотно вгонялся стальной скарпель, по которому уж с плеча били кувалдой.
Вот и все приспособление. Колчан не скрывал от непосвященных, что оно отличается от обычных держаков деревенских кузнецов разве только длиной палки. Но оно сразу приглянулось и Андрейке и, особенно, раненному в левое предплечье Депутатову. С их легкой руки оно через денек-другой было в ходу у всех «скарпелистов» — везде, где толстым слоем залегал крепкий ломовой мергель.
Сближало их и общее, как выражался Депутатов, «полевое довольствие».
Посланные на рытье противотанкового рва заводские рабочие с питанием перебивались на свой страх и риск, кое-как. Коллективно «отоваривали» по карточкам свой скудный продуктовый и хлебный паек. В общий котел шла и приобретенная в окрестных деревнях картошка, нередко выменянная на личные вещи. У студентов тоже был собственный закоптелый полутораведерный котелок, под которым очередной дежурный бдительно поддерживал огонь небольшого костра. От вскипавшего варева за версту тянуло распаренными бураками. Впрочем, собранную в поле свеклу изобретательные студенты предпочитали величать сладким корнем.
А на участок, где работал Бурлаков, дважды в день подкатывала полевая кухня. Чаще старого типа, двухколесная, на лошадях. Иногда и новенькая, на резиновом ходу, квадратной формы, с вместительным ящиком для продуктов и прицепленная к грузовику.
Старая была кухня или новая, в ней постоянно дымилась пшенная каша.
Тут Андрейка всегда поминал добрым словом батю, решительно выбросившего из походного «сидора» всунутую матерью мисочку и настоявшего взять свой алюминиевый солдатский котелок. Правда, не терялись и те, что по незнанию вымахнули из отчего дома лишь с кружкой и ложкой. Голод не тетка: кто разыскал вместительную жестяную банку из-под свиной тушенки (съеденной саперами), а кто изобретательно обжег на костре и любовно подвесил на самодельной проволочной дужке еще вчера валявшееся зазря ведерко — помятое, а все ж не худое!..
— Проголодаются — догадаются! — поглядывая на расторопных юнцов, одобрительно приговаривал Депутатов.
С хлебом вот было плохо. Мука причиталась по норме, а с печеным хлебом было так перебойно, что попадал он зачастую только немногочисленным тут саперам.
— Ничего, ничего: не теряйся! — утешался сам и утешал в таких случаях Андрейку Депутатов. — Саперов тут кот наплакал, и все они ребята боевые… Им, небось, обидней нашего: строевики, а поскольку второй эшелон — все одно весь харч по второй норме…
— Вот я скоро сбегу отсюда на первую! — не удержался Бурлаков. — Примут там?
— Должны принять… Только оттуда, парень, смотри не драпани!
— Еще чего! — вспыхнул Андрейка. — Не боись! Это почему же так мне говорите?
— Вот потому и говорю, что настоящий солдат ни от чего не бегает… По пословице: ест, что поставят, а делает — что заставят! А там, сынок, иной раз не только волосы на голове, а и сама матушка-землица дыбом встает…
— Ну и что?
— Вот и то! Опять же по пословице: не хвались едучи на рать, а хвались едучи… обратно. Понял?
— А я и не хвастаюсь… Но землю долго рыть не согласен: пусть хоть сегодня посылают на передовую!
— За несогласие на войне полагается штрафной батальон… А рытьем этим и на переднем крае солдат сыт по горло: как к земле прижало — так и окапывается, что ни ноченька — то и ладь, солдат, окопчик в полный профиль… Ну, ладно, не петушись, Бурлаков, зря и не серчай! Лучше налегай повеселее на кашу, потому в ней тоже, как и в непривезенном ржаном хлебе, полно витаминов… Чуешь, аж на зубах хрустят?!
«А что это за батальон?» — даже не улыбнувшись на шутку, хотел спросить Андрейка. Но, встретившись с цепкими глазами солдата, почему-то не спросил. Наклонил голову и, обжигаясь, стал молча есть щедро налитую в котелок жидковатую кашицу-размазницу.
8
Депутатов каким-то чутьем отыскивал в мергеле незаметные глиняные прослойки, вставлял в найденную жилу скарпель, Бурлаков с разворота бабахал по разбитому грибу стальной шляпки, часто отваливая целую глыбу породы.
Они не сразу заметили остановившихся над бровкой лейтенанта Васенина, командовавшего саперами младшего лейтенанта Солодова и молоденькую девушку в штатском — с красивым и, как показалось Андрейке, нагловатым лицом.
— Депутатов, иди сюда! — позвал лейтенант Васенин. — И ты, Бурлаков, тоже вылезай… Да поживее!..
— Слушаю! — на миг выпрямился Депутатов и проворно, как по лестнице, выбрался по сделанным в эскарпе лункам наверх.
Андрейка вытер ладонью лоб, положил кувалду и молча полез следом. Еще не ступив на бровку, заметил, что Депутатов весь напрягся. Видимо опыт бывалого солдата подсказал — речь пойдет не о земляной работе.
— Ты, бойцы говорят, пекарь? — спросил у него Васенин.
— Так, точно! В гражданке был, товарищ лейтенант, мастером первой руки… А вчера, верно, ненароком проговорился об этом…
— Вот командир Солодов и рекомендует нам самим хлеб печь, — усмехнулся Васенин. — А она, — кивнул он на красивую девушку, — говорит, что видела удачную полевую печь и что такую же самоделку можно быстро устроить здесь… Под ее, конечно, руководством, — снова усмехнулся Васенин, видимо не очень веря в эту затею.
— Можно, товарищ лейтенант, попытаться, — сказал и опять замер, как по команде «смирно» Депутатов.
— Вот и попробуй, братец, вместе со своим напарником Бурлаковым, ну и… под командой, конечно, техника!.. Бузун Августина, — повернулся он к девушке, — а дальше, как вас величать? По-батюшке как зовут?
— Августина — и все! — смело ответила девушка. — Фамилия просто не нравится и я ее скоро переменю, а отчество меня оглушает с непривычки. Так что ни по-батюшке, ни по-матушке — не надо!
Васенин и командир саперов невольно улыбнулись, Депутатов как ни в чем не бывало стоял с серьезным лицом, навытяжку. Бурлаков, вопросительно взглянув на его непроницаемое лицо, неожиданно выдвинулся на полшага вперед и, нарушая устав, заговорил без разрешения командира.
— Назначьте меня лучше, товарищ лейтенант, на фронт! — с тревогой и надеждой в зазвеневшем голосе взмолился он. — Ведь это законное требование? А хлебы я, между прочим, сроду не пек… Направьте меня туда, где идут бои! Я ведь не на самолет у вас прошусь, а хочу только одного: чтобы с оружием в руках стоять насмерть…
— Ишь, какой горячий! — улыбнувшись, перебил его малоразговорчивый Солодов. — Тут для тебя тоже фронт и не до конца войны тебе приказ такой, а у времянки будешь.
— Ну и сырые еще, товарищ Васенин, ваши орлы! — рассмеялась девушка.
— Вот так, товарищи бойцы… Начинайте работать! — строго сказал Васенин, не приняв шутку Бузун. И, полуобернувшись к опешившему Бурлакову, на ходу добавил: — А хлебы и я, голубчик, никогда не пек…
Место для печей нашли не сразу, зато очень подходящее и невдалеке от котлована. Через полчаса туда сбросили саперы с грузовика пустую металлическую бочку, маленький помятый лист котельного железа, ворох закоптелого кирпича и несколько коротких ржавых патрубков — Бузун действовала быстро и напористо. А глины и без ее стараний было кругом — хоть отбавляй.
— Теперь парадом командую я! — едва проводив грузовик с саперами, театрально заявила она. — Эту бочку вам предстоит побыстрее распилить пополам, но не поперек, а — вдоль!.. Понятно? Чтоб были два совершенно одинаковых окоренка.
— Слушаю, товарищ воентехник! — будто ненароком присвоил ей звание Депутатов.
— А ты почему молчишь? — прищурилась она на Андрейку. — Совсем отсырел?!
И, странно, это так разозлило Бурлакова, что он не выдержал:
— Не знаю, что вы за шишка на ровном месте, — мрачно огрызнулся он. И так же зло добавил: — Железная бочка — не репа и пряжкой от ремня ее не распилишь… Я все ж, как никак, прицепщиком у опытного тракториста работал. Всяческую технику люблю не меньше вашего.
Теперь он особо остро чувствовал себя обиженным, обманутым, даже опозоренным в самых лучших своих стремлениях и чувствах. И надменно красивая, издевающаяся над ним девушка теперь олицетворяла все это. В душе он уже отчаянно решил: будь, что будет! Как отец приговаривал: чему быть — тому не миновать, хоть и, к примеру, этот самый штрафной батальон.
— Я не шишка, а дипломированный техник-механик, — опять наигранно гордо сказала Августина, словно и не слышала недозволенной дерзости новобранца. — Вот сейчас добуду у саперов две ножовки и погляжу, как ты, прицепщик, распиловку металла понимаешь!
— Не говорит, а вещает, — угрюмо буркнул Андрейка, едва она повернулась спиной.
Депутатов терпеливо выждал, пока она скрылась из вида, и сердито сказал:
— И чего ты, Бурлаков, петушишься с ней и задираешься? Вон и сам Васенин признался, что понятия не имеет, как эту полевую хлебопекарню ладить. А ты, что — обойдешься без техника, сам знаешь?
— Она, думаете, знает? И никакого военного звания эта рыжая девка не имеет — зря вы ей так подобострастно его присвоили. Я же сам сто раз видел, что она вместе со всеми заводскими совковой лопатой наворачивает и еще скандальничает, — с ненавистью вспомнил он ее выпады: — Не Бузун она, а — бузотерша!..
— Не в этом вопрос, а в том, что она над тобой поставлена твоим главным командиром. Ты, однако, Бурлаков, потихоньку к службе привыкай. Пока тут есть к тому полная возможность… Генералы ведь нигде и никогда солдатом не командуют. Будь эта Августина парнем — так у него бы, как техника, не меньше кубаря в петлицах было! А сейчас с кубарем люди уж не двумя нестроевиками, а целой боевой ротой зачастую командуют! Чувствуешь? Поглядел бы ты, кто в госпиталях, да и в медсанбатах распоряжается…
— Бабы?
— И они, — кивнул головой Депутатов. — А как же, если они начсостав? Врач — шпала, фельдшер — кубарь! Но для нашего брата рядового, по совести тебе скажу, не только командира с кубарем, а и просто обыкновенного ефрейтора за глаза достаточно!
— Понятно, — рассмеявшись, сказал Андрейка.
— А что? — засмеялся и Депутатов, довольный, что расшевелил своего помрачневшего напарника. — Гитлер был всего навсего в чине ефрейтора! Знаешь ты это или нет?
— Не-ет…
— Вот то-то и оно, что ты еще, как правильно сказала эта техник Августина, совсем сырой.
Железная бочка оказалась крепким орешком, они распилили ее на две продольных половины только через три дня. Пилили и отдыхали поочередно. Бузун приходилось несколько раз добывать у саперов новые ножовки. У Депутатова левая рука была еще слабой, но правая орудовала ножовкой — дай боже! Не отставал и Андрейка.
Две печки из этих просторных перерезов соорудили быстрее. Выложили по команде Августины солидный кирпичный под — с поддувальцем. С тщанием обложили кладкой на глине и наружную сторону железного свода, чтоб жарче дышал сверху на посаженные хлебы и не выгорал. Приладили к вырезанному в полуднище хайлу плотную заслонку из котельного железа. Отвели патрубками дымы. Надежно присыпали сверху печных сводов толстый слой земли, да так споро и азартно притаптывали его ногами, что издали можно было подумать — танцуют они, пошабашив с работой, «камаринского».
Андрейка ошибся: Августина твердо знала, что предлагает — две полевые времяночки получились добрые.
После первой нормальной выпечки их даже Васенин благодарил. Правда, не в торжественной обстановке, не перед строем, а просто самолично зашел на место.
— Здорово, солдат-пекарь! — сказал он, приблизясь вплотную и точно не замечая, что рядом стоит Бурлаков.
— Здравия желаю! — громко ответил Депутатов.
— Молодцы, теперь и я верю, что будем с хлебом. Времянки оказались замечательные… Садитесь, садитесь, — кивнул обоим Васенин и, морщась, сам торопливо опустился на березовый чурбак. — А чтоб они не испортились, мы немножко обмыли удачу, — с улыбкой договорил он, растирая рукой коленку.
И, странное дело, это домашнее словцо «обмыли» будто разом расковало напрягшегося Депутатова.
— Болит? — заботливо спросил он.
— Мозжит, проклятая…
— Это к погоде. Я уж такое без осечки плечом чую!
— Тоже осколок?
— Пу-у-уля, — протянул Депутатов таким тоном, точно был от пуль заговорен. — И та по дурости… Столкнулся я в окопе с зеленым немцем, вскрикнул он: «мутти!!» Ну и… словом, жалко его стало!..
— А фриц не посочувствовал тебе?
— Не-ет, — виновато улыбнулся Депутатов. — Он, сволочуга, видит я автомат опускаю и враз выстрелил в меня из пистолета! Хорошо еще не в живот бабахнул.
— В плен его взяли?
— После такого подвоха не стали брать, — опять виновато улыбнулся Депутатов. — Рассерчали ребята. Но так бы в плен, конечно, забрали…
Васенин долго и сосредоточенно молчал, потом задумчиво сказал:
— Да, не копили мы впрок ненависти к врагу… Добрый мы народ. И теперь ожесточение накапливается недешево. Многие еще «не рассерчали!..»
— Точно, — согласился Депутатов, — они, фрицы-то эти, еще наплачутся. Ох, как они на нашей земле нагорюются!! Я так понимаю, товарищ лейтенант, что на фашистские злодеяния каждый фронтовик должен…
Но Васенин вдруг сузил глаза, нахмурился, приложил палец к губам: «помолчи, мол, братец: потом доскажешь!..» Настороженно повел ухом, будто прислушиваясь к пению невидимой птицы и, вскинув лицо, долго глядел в мутное осеннее небо.
— Третий раз их разведчик пролетает над нами, — сказал он вставая и ни к кому особо не обращаясь. — Надо сказать, чтоб за воздухом смотрели получше…
После ухода Васенина прибежала Августина, быть может, хотевшая застать его здесь. И разговор пошел совсем в другом направлении.
Депутатов теперь не козырял перед ней, не называл воентехником; обращались они друг к другу проще и нормальнее, но неизменно вежливо, всегда на «вы». А Бурлакова она теперь звала только Андрейкой, то ли подчеркивая, что до полного имени он в ее глазах пока не дорос, то ли утверждая этим, что они, невзирая на стычки и ее показное фамильярничанье, еще могут и даже обязаны быть товарищами. Бурлаков в глубине души тоже считал, что по имени-отчеству и на «вы» зовут только людей вполне уважаемых или тех, кто намного старше. Ей же, оказывается, всего девятнадцать (подумаешь — три года разницы!), а с уважением тоже не вытанцовывалось. И потому, обращаясь к Августине (чего совсем избежать во время работы невозможно!), он упорно сбивался на «ты» и нарочито громко, точно на поверке, произносил ее имя, считая, что оно чудное и странное — вроде прозвища. Или, когда настраивался терпимее, — совсем не называл.
Маленький у них был конфликт, даже глупый, но они будто не замечали этого.
— Ну, как мои подопечные? — первым делом спросила Августина.
— Пекут, — по-своему понял ее Депутатов. — По форме, конечно, не буханки, как в гражданке бы сказали: вид не товарный! Но пропекаются насквозь!
— Вполне хороший хлеб, — улыбнулась она. — Солоноватенький, вкусный…
— Вкус нормальный, — согласился польщенный Депутатов. И, расщедрившись, от себя добавил: — Все солдаты много благодарны вам за эту придумку.
— А ты? — привычно перевела разговор Августина, ткнув пальцем в молчавшего Бурлакова. — Благодарен мне или все еще обижаешься?
— Ничего я не обижаюсь, — тоскливо сказал Андрейка. «Отвяжись, мол, ты от меня ради бога!..»
— А почему тогда не благодаришь?
— Как еще я должен тебя благодарить?
— Не знаешь? — заговорщицки подмигнула она Депутатову. И тут же подставила Бурлакову надутую щеку: — Целуй!
— Нужна ты мне, как прошлогодний снег…
— Ах, так? — сверкнула веселыми зеленоватыми глазами Августина. — Тогда я сама тебя, орясину, поцелую: на правах будущей невесты!..
— У тебя и так всевозможных женихов, небось, богато, — на всякий случай отодвинулся Андрейка: — Раз тебя не целуют, а ты уж губы подставляешь!..
— Дурак ты, — обиженно сказала Августина. — Еще зеленый дурак — «женихов» у меня на языке густо, а на деле — пусто. Было мне когда этим заниматься…
— То дело твое, — не глядя на нее, буркнул Андрейка, — тебе виднее.
Она тоже демонстративно отвернулась к Депутатову:
— Вы думаете легко детдомовской девчонке после семилетки техникум с отличием окончить? У нас полно было двоечников и с десятилеткой… Я даже, если хотите знать, танцевать по-настоящему научилась только за этот год, в заводском клубе — танго и медленный фокстрот…
— Верно. Учиться на отлично по специальности трудно и тем, кто при родителях, — тактично пропустив мимо ушей о танцах, сказал многосемейный Депутатов. — Ну, а если сирота — еще, конечно, тяжельше! Тут уж точно: при таком положении не забалуешься!..
Наверное, это слово «сирота», да еще в устах солдата, нечаянно растревожило в душе Августины что-то давнее. Посерьезнев, она гордо смерила Бурлакова прищуренным взглядом, кивнула Депутатову и ушла.
— А что? — сказал Депутатов, сочувственно поглядев ей вслед. — Хорошие, не набалованные девки часто прикрывают свою любовь показной смелостью и озорством!..
— Ну, это уж вы тоже хватили через край, — недовольно хмыкнул Андрейка. — Вдруг ни к селу, ни к городу: любовь?!
9
Письма Депутатов писал во время общего отдыха. Он и сейчас намеревался заняться именно этим, но, пошарив бумажки у себя по карманам и в вещевом мешке, огорченно покрутил головой. Перевел озабоченный взгляд на Бурлакова. Тот, словно на ковре, растянулся без сапог на хвое, приткнув ноги в шерстяных носках к теплой стене времянки.
После нескольких слякотных дней снова подсушило раскисшую глину морозцем. Сплошная наволочь низких свинцовых туч перемежалась кое-где светлыми окнами. Вместо дождя и мокрого снега, сверху теперь споро сыпалась мелкая крупа; по кочкам хрустко шуршала первая ленивая поземка.
— Хо-орошо страдать у печки, — глядя на развалившегося во весь рост Андрейку, непонятно проговорил Депутатов. И насмешливо добавил: — Ножки в тепленьком местечке! Ни сырости тебе тут, ни остуды — лежи, да думай о чем-нибудь приятном! И ты еще возражал против назначения в помпекаря! А сапоги, неслух, опять сушить поставил?
— Просто скинул я их с ног долой… Там нисколько не жарко…
— Н-нну, студенты похоже, напитались до отвала своим «сладким корнем», — прислушавшись, с улыбкой заметил Депутатов. — Опять горланят свою любимую, без конца и начала, вроде как: «у попа была собака…» Только, стало быть, петь ее на этот мотив им не с руки: не в лад словам получается!
— Нашли время…
— А что? — сказал Депутатов. — На действительной мы тоже, бывало, с песнями и вставали, и ложились… Это уж потом песня, почему-то, осталась в армии без внимания. Но ты бы сходил и послушал… А заодно бы листиком бумажки у студентов разжился! А? Хочу домой письмишко отправить…
— Вот так бы прямо и сказали, — поднялся Андрейка с еловых лап и, взяв с кирпичного приступка сапоги, стал обуваться.
— А чего ты скривился так?
— Потому, что сапоги невозможно жмут, — продолжая морщиться, сказал Андрейка. — И были они, правда, немножко тесноваты, а теперь и вовсе жмут — хоть забрось их и ходи в одних носках.
— Значит, еще вчера засушил! Вот беда-то… И говорил ведь, чтоб не ставил на теплое!
— Но если совсем отсырели?
— Все одно — только нормальная воздушная сушка! Нагольный сапог — не валенок. Ну, ничего, не теряйся… От этой беды есть лекарство — надо их в натуральном деготьке хорошенько побанить! Остается, правда, вопрос: где его тут можно добыть? Не то подсунут тебе мазут или нефтеотходы, тогда сапог вовсе пропал…
— Здесь в мороз льда не достанешь.
— А ты — прямо к Августине! А что? Советую! Она и очень шустрая, и почти местная: одну-единственную банку она тебе, при желании, просто из-под земли выроет… Ей-богу!.. А то ведь если сапог крепко жмет — так это, брат, просто беда, да и только… В тесных или сильно ссохлых сапогах ты слезьми заплачешь…
Андрейка обулся, потопал обеими ногами и, не дослушав, отправился к студентам. Он уже знал разговорчивого Депутатова — если тот не занят и в хорошем настроении — никогда не переслушаешь.
Участок студентов почти примыкал к лесу, и, пробираясь к ним вдоль противотанкового рва верхним склоном, он думал о том, что сам очутился здесь без клочка бумаги. Кажется, уж как старались всей семьей при его сборах ничего не забыть? Ахали, если удавалось вспомнить о какой-нибудь совсем необязательной мелочи, вроде пары запасных крючков к ватнику. И вот, что нужно было положить хоть пару школьных тетрадей, и хоть огрызок химического карандаша — никому невдомек!
Депутатов не ошибся: когда Андрейка подошел к студентам, они еще сидели кружком у дымящегося котла, но уже никто не ел. Напрягая и без того сильные голоса, азартно горланили свою бесконечную:
Коноводил ими студент Ватагин: очкастый здоровяк, знакомый Андрейке еще как бригадир посылаемых в лес ольшанцев. Все сидели, а он один, как и полагается дирижеру, стоял и вдохновенно вздымал над головой кукурузную будыль, и яростно вдруг низвергал ее, и даже сам точно складывался под углом.
— Надолба! К тебе, кажется, пришли!! — вдруг перекрыл все голоса сильный, звучный баритон.
Андрейка хоть и знал, что этого верзилу окрестили «Надолбой», невольно смутился. Сам Надолба, как ни в чем не бывало, оглянулся на окрик и дружелюбно протянул свою большую ладонь.
— У нас такой принцип, — посмеиваясь, пояснил он. — Пой песни, хоть лоб тресни — только есть не проси! А так как я начхоз — я этот тезис, естественно, развиваю… А ты, Бурлаков, с чем ко мне пожаловал? Надеюсь, не за нашей трофейной кукурузой?
— Не боись! — поспешил успокоить его Андрейка. — Мне бы еще разок бумажки для письма…
— Да что у меня: бумажная фабрика?
— В последний раз…
Ватагин медленно извлек из кармана едко-зеленого макинтоша тощую клеенчатую тетрадь и со вздохом ее пролистнул. Андрейка видел, что она густо исписана в столбик, наверное стихами.
— Вот ведь и весь мой НЗ, — сердито показал он чистый сдвоенный лист в середине. — Ты кому собираешься писать: домой или, быть может, ей?
— Ей, честное слово ей! — сообразив, закивал головой покрасневший Андрейка.
— Ну, тогда на, — разделил Надолба свой НЗ по сгибу и царским жестом протянул Андрейке: — Валяй ей на целом тетрадочном листе!..
Крупное лицо студента было теперь таким добрым, что Андрейка невольно протянул руку и за остатком:
— Депутатов тоже очень просил один листок…
— Э-ээ, нет, — быстро отдернув руку, опять сердито сказал Ватагин и, загладив, решительно разорвал остаток еще раз пополам: — Тому хватит четвертушки! Он ведь многосемейный? Ну вот то-то… Напишет хоть только одно: «Жив, здоров! Солдат Петров». И все равно письмом будут зачитываться дома, как поэмой!.. Там главное, чтоб этот Депутатов был жив и здоров…
Поблагодарив за бумагу, Андрейка не спеша пошел назад. И тотчас же за его спиной, вспугнув ворон, словно прорвалось громкоголосое:
«Нашли время выкаблучивать! — опять неодобрительно подумал Бурлаков. — Плетут, абы что… Это, конечно, уж наспех они про своего «начхоза» придумали — пока я с ним говорил? Вот так, наверное, и разыгрывают, и подначивают все время друг друга!..»
У самого леса, где косогор спускался гораздо круче, вместо рва по-прежнему торчал лишь невысокий эскарп. Здесь натолкнулись на совсем уж непробойный камень, и Андрейка знал, что не нынче-завтра саперы поднимут в воздух толом и взрывчаткой это неподатливое местечко.
Он спрыгнул с эскарпа и пошел вдоль противотанкового рва низом. Но внимание снова привлекла небольшая группа студентов. Обирая от скользких волокнистых рыльц подмороженные кукурузные початки, они о чем-то спорили. Бурлаков приостановился, послушал.
— …И все равно, — громко настаивал белокурый кудрявый крепыш. — Очень важно, чтоб весь народ вовремя и без прикрас узнавал о самых ужасных коллизиях войны! На то она и названа: оте-ечестве-енная… Народу надо озлиться! Вдумайся-ка хоть в само слово: ополче-ение! Как это можно ополчиться не разозлясь, не рассвирепев?
— Не согла-асен! — рубил ладонью длинный и черноволосый. — Это может принести моральный урон… Сейчас куда важнее широким планом показывать тех, чье мужество непоколебимо!!
«Коллизии войны… Широким планом… Непоколебимое мужество… Вот ведь как разговаривают!» — с удивлением и уже вполне благожелательно подумал о них Бурлаков.
— А Гитлер этот кончит не лучше, чем две с половиной тысячи лет назад кровавый Кир!! — еще громче закричал кудрявый. — Символично, что он сам и через Геббельса орет, будто имеет дело со скифами…
— Да, он, конечно, захлебнется в крови! — согласился черноволосый. — Весь вопрос: когда?
— А кто был, любопытствую я, этот самый Кир? — глядя кудрявому крепышу в рот, спросил подсевший нестроевик, с некогда золотистой, а теперь грязновато-желтой нашивкой за тяжелое ранение. — И как же, интересуюсь, он пошабашил?
— Кир — это персидский царь, такой же кровожадный захватчик, — охотно пояснил за товарища черноволосый. — Кир этот тоже был любителем чужих земель на востоке… Но скифские племена, наконец, доказали ему, что он — зарясь на Хорезм и Бухару — забрался слишком далеко от Персии… Его отрубленную голову они погрузили в бурдюк, доверху наполненный вражьей кровью. «Ты хотел крови, — приговаривали они. — Пей!!»
Очень хотелось присесть и дослушать, но, представляя нетерпеливое ожидание солдата, Бурлаков быстро пошел низом вдоль противотанкового рва.
Он не сделал и сотни шагов, как за его спиной кто-то протяжно выкрикнул:
— Во-оздух!
— Воздух! Воздух! Ло-жись!! — точно многоголосое эхо, отрывисто пронеслось уже по всей линии рубежа.
В долю секунды он увидел, как сыплются в ров, точно вытряхнутые из мешка, сидевшие на бровке рабочие, студенты, солдаты. И это, вместе с повторными криками, дошло до сознания. Сначала он подумал, что просто дурачится кто-то из студентов. «Какая ж тут угроза налета?»
Но в следующие секунды уже различил в поднявшемся шуме зловещее урчание самолета. Вдруг страшно захотелось его увидеть, и Андрейка на миг задрал к небу лицо.
— Да ложись… тебе говорят! — с силой дернули его сзади за рукав и, матерясь, грубо столкнули, почтя швырнули в противотанковый ров.
Потирая ушибленное колено, он и со дна котлована, чуть-чуть приподнявшись, глянул на небо. И, не успев испугаться, замер. В окно между высокими облаками будто вынырнул из посветлевшей небесной глуби темный силуэт пикировщика. С нарастающим ревом он круто развернулся над опушкой леса, а при выходе из виража от корпуса легко отделились и пошли вниз, одна за другой, две посверкивающие черные капли.
Торопливо ткнулся Андрейка лицом в холодную глину, зажмурил глаза. Но, опережая его, гулко вздрогнула земля, больно стряхнув с бровки комки мерзлой глины; и даже сквозь сомкнутые веки он дважды ощутил заревную вспышку.
«Как? Уже! — сжался он от этой чудовищной внезапности. — Ну хоть сбросил, кажется, над лесом!.. Если не развернется снова…»
Вдоль котлована словно дунул гигант ветром и мусором. Взрывная волна, сотрясая воздух, опять посыпала спину комочками земли и мелкими камешками с бровки. Но заложенные взрывом уши теперь жадно ловили затухающее осиное завывание уходившего самолета — круто взмывшего за облака.
Со стороны леса уже явственно неслись крики и приглушенные стоны раненых, отчетливые и громкие призывы на помощь. Это сразу встряхнуло Бурлакова. Не раздумывая, он вскочил, привычно выбрался по сделанным в эскарпе лункам наверх и, что есть духу, помчался к лесной опушке, готовясь в душе к первому испытанию. Успел тревожно вспомнить недавние слова Депутатова, что на войне самое тяжкое, особенно с непривычки, видеть тяжело раненных.
На знакомом «студенческом» бугре не было ни уютно потрескивающего костра, ни сидящей кружком молодежи. На том месте, где висел на рогульках дымящийся закоптелый котелок — глубокая воронка. Вокруг нее, на разных расстояниях и в разных позах, неудобных и страшных, наполовину заваленные землей, трупы студентов.
Что-то подсказало Бурлакову — должна быть и вторая воронка. Он торопливо огляделся и увидел ее ниже и правее, недалеко от места, где студенты перебирали кукурузные початки и спорили о персидском царе Кире. Боковым зрением увидел на миг, как знакомый ему кудрявый крепыш вдруг поднялся с земли и, прижав к груди окровавленные остатки рук, быстро-быстро бочком пошел в сторону, точно силясь поскорее отбежать. Походка шаткая, неестественная. Так ходят лунатики. Через несколько шагов студент по-пьяному качнулся и снова рухнул на землю.
Дальше Бурлаков помнил все смутно и отрывочно, как бы отдельными кусками. Кто-то из женщин навзрыд плакал. Кто-то из раненых громко стонал и кричал. И чей-то простуженный бас, перекрывая всех, надрывно требовал лопаты и носилки. Гулко топая кирзовыми сапогами по зачугунело утрамбованной земле пробежали запыхавшиеся, пожилые санитары. Невесомо промчалась молоденькая и худенькая девушка — санинструктор. До этого он хоть и видел ее много раз, но она всегда держалась строго, особняком. Солдаты тоже с ней почти не заговаривали — быть может, в душе суеверно надеясь избежать с ней знакомства и в дни боев.
Не сразу узнал Андрейка в истекающем кровью раненом Ватагина, Поспешно завернул полы опаленного макинтоша, не в силах смотреть — обе ноги были оторваны выше колен.
Но Ватагин, видимо, узнал его.
— Запиши, — внятно сказал он и замолчал. Андрейка видел, как все обильнее проступал и поблескивал пот на его бледном высоком лбу и уже боялся, что больше ничего не услышит. Но Ватагин собрался с силами и опять внятно сказал: — Матери пока не надо… А ей сообщи немедленно… Запиши: Школьный переулок, дом 7, квартира 17…
— А город, город? — лихорадочно шаря по карманам карандашный огрызок, хрипло закричал Андрейка.
— Да ты, парень, что? — с неожиданной властностью и энергией оттолкнула Бурлакова от раненого худенькая девушка-санинструктор. — Не видишь, он в шоковом состоянии? Нельзя ему никаких разговоров, не то и перевязать не успею…
— Город наш… областной, — по-прежнему внятно, но с большой расстановкой сказал Ватагин. И еще раз требовательно взглянув на Бурлакова через склонившуюся к ногам девушку, уже смежив глаза, добавил: — Запиши, на память не надейся…
— Эх, сколько студентов побило… Вот ведь теперь переживания у родителей, — сокрушенно сказал возникший рядом Депутатов и торопливо сунул Андрейке ручки носилок.
Андрейка послушно таскал вместе с ним и убитых, и раненых. Два раза становилось совсем невмоготу и, бросив носилки, он уходил. Но, попив заледенелой водички, оба раза возвращался к терпеливо поджидавшему Депутатову и снова принимался за дело.
И еще помнит он, как бросил носилки в третий раз.
— Фамилию, фамилию и имя девушки не спросил?! — вдруг выпустив ручки освободившихся носилок, ошалело выкрикнул он и побежал.
— Какой девушки-то? Бурлаков, постой! — во весь голос орал ему вслед Депутатов, быть может боясь за его рассудок. — Вернись-ка на одну минуту!.. Слышишь, что я говорю, или нет?!
Андрейка не слышал. Через считанные минуты он стоял возле санитарной машины, на которую грузили тяжело раненных, и, теребя за рукав девушку-санинструктора, торопливо спрашивал:
— Разрешите, товарищ сержант, обратиться?
— Ну? — недовольно повернулась занятая медсестра, понимая, конечно, что этот зеленый новобранец думает, что обращается к ней, как и положено, по всей форме. — Опять ты, парень, мне мешаешь!.. В чем дело?
— Фамилию и имя девушки забыл узнать!
— Какой девушки? — переспросила и она. — Раненой в голову?
— Нет, товарищ сержант, — горячился Бурлаков. — Просто знакомой… этого студента Ватагина, что с оторванными ногами… Адрес которой полностью… вы же тогда еще помешали мне записать, — путано, сбивчиво, но смело говорил он. — Закричали, что он в шелковом состоянии…
— Аа-а, — устало сказала медсестра. И строго поправила: — Не в шелковом, чудак ты этакий, а в шоковом… Помню! Теперь у него не узнаешь, — кивнула она на бугор, куда сносили убитых и умерших от ран. — Постарайся найти кого-нибудь из его друзей и спросить, пока не поздно…
Потом — когда все раненые были отправлены, а все убитые похоронены — его и Депутатова благодарил за стойкость и лейтенант Васенин, и командовавший строевыми саперами младший лейтенант Солодов.
Покачивающийся Андрейка слушал их точно спросонья, но никто будто не замечал его чудовищной подавленности. Он пристально смотрел на мешковатого Васенина, на вылинявшие зеленые матерчатые кубики лейтенанта. Когда заговорил Солодов, медленно перевел взгляд на его лицо, на красивые саперные топорики в петлицах ладно сидевшей шинели. И поняв, что младший лейтенант тоже благодарит обоих за то, что прибежали первыми, а ушли последними, подражая Депутатову, громко ответил:
— Служу Советскому Союзу!
Очень хвалил его потом с глазу на глаз и Депутатов.
Но теперь, когда можно было не отвечать, Андрейка отмалчивался. Весь остаток этого дня и вечером из головы не выходили побитые студенты, то и дело возникал перед ним Ватагин, его последний требовательный взгляд, его вспотевший и мертвенно желтеющий лоб. «Погиб парень, так и не сделав ни единого выстрела! — даже скрипнув зубами, вдруг вспоминал он про уже нигде не существующего студенческого начхоза. — Вот ведь что особенно горько и обидно!!»
Андрейка еще не понимал, что он впервые примеривал увиденную смерть к себе и невольно сравнивал судьбу беззащитного под огнем, безоружного человека со своею собственной судьбой. И его все это время тяготило, пугало и обижало именно то, что нет в руках боевого оружия, а работы он не боялся никакой.
И еще Бурлаков, скрипя зубами, думал о том фашистском стервятнике, что поспешно удрал в бездонную глубь и от винтовочных выстрелов. Словом, сработал совсем без риска!
Почему он, совершив свое черное дело, ушел у всех на глазах совершенно безнаказанно? Ушел не темной непроглядной ночью, а средь бела дня, отлично освещенный солнцем!
Вот поэтому-то сегодня снова, после недолгого перерыва, совсем замучила Андрейку старая несносная мысль: все ли он сделал, чтобы любой ценой попасть в летчики? И то ли он делает здесь сейчас, покорно роя землю и даже дисциплинированно заделавшись помпекаря? Куда ж ему теперь надо податься? Быть может, его в состоянии понять лишь летчики? Может, его дорога лежит через аэродром, куда и надо бежать, не страшась наказания? О, если бы ему только попасть на большой военный аэродром! Или хотя бы на обыкновенный полевой! Он бы с таким рвением заносил там поначалу хвосты самолетов, что понимающие люди сразу бы распознали его авиаторскую душу…
Бурлаков снял ушанку, вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб и, пользуясь наступившей темнотой, подставил разгоряченную стриженую голову бодрящему вечернему морозцу. От трудных самоотверженных мыслей, от необоримо охватившего возбуждения стало жарко. Ему опять грезился подвиг.
А ночью он увидел себя во сне асом. Он долго барражировал над оборонным рубежом, охраняя и противотанковый ров, и его строителей. И вдруг увидел черную точку пикировщика. Фашистский стервятник воровски крался к опушке, чтобы разбомбить Ватагина и его товарищей. Но послушный Андрейке «ястребок», круто набрав высоту, перенял пикировщика с черным крестом еще над лесом и, заложив стремительный вираж, мастерски зашел ему в хвост. Испытывая мстительное ликование, Андрейка с невероятной быстротой обрушил свой истребитель сверху вниз на фашиста и короткой пулеметной очередью прицельно рубанул по черным крестам…
Когда его «ястребок», выходя из пике, снова с визгом взмывал свечой вверх — фашистский пикировщик, объятый пламенем и дымом, падал на землю…
10
После налета на строительстве рубежа запретили варку пищи, кипячение воды, костры для обогрева. Заводским рабочим и оставшимся студентам выдали консервы. Прибывавшие на участок солдатские полевые кухни ставили в надежное укрытие, в лесу.
Приказ безжалостно прихлопнул и неплохо отлаженную полевую хлебопекарню. Депутатов отнесся к этому чисто по-солдатски — будто оставлял открытый окоп.
— Правильный приказ, — сказал он Бурлакову. — Полевая пекарня без хорошего жару, а дровяной огонь без большого дыма не бывают! Ориентир это для фашистских самолетов и днем и ночью. А эскарпы, и такие вот рвы фрицы иной раз долбают злее, чем сам передок: проходы для танков нужны…
Выходит, Бурлаков напрасно терзался, что завяз в пекарях навсегда. Он конфузился своего невольного «выдвижения» и не написал об этом ни домой, ни Нюре Крокиной. Страшно боялся, как бы хлопцы ненароком не сообщили в Ольшанец эту новость.
Вот и конец. Теперь он опять, как и все ольшанцы, на прежней землеройной работе. Хрен редьки не слаще. Но пока не прибился к какому-нибудь аэродрому, ничего не попишешь. Депутатову должно быть обиднее, и то делает невозмутимый вид, да только ругается, что младший напарник не уберег их «личный» инструмент.
«При чем тут «личный»? — понимающе усмехался Андрейка. — Ворчит первый денек с отвычки рыть твердокаменную землю. Скарпель и кувалда, хоть и подобранные по руке, не личное оружие! В этом уж и зеленый новобранец не заблудится…»
Однако, чтобы ублажить бурчавшего Депутатова, на другой день, еще по-темному он сбегал к Колчану. И земляк вне очереди наварил ему отличный стальной скарпель, надежно оковал расщеп нового держака. Получилось, пожалуй, удобней прежнего.
Желая поскорее обрадовать Депутатова, возвращался от Колчана быстрым шагом. Не валяется на земле то, что они снова работают вместе: не всегда в напарники попадешь с тем, с кем хочется.
Еще едва развиднело, когда он заметил вдалеке пробиравшиеся целиной две легковых машины. Теперь они стояли, тарахтели неприглушенными моторами недалеко от участка, почти на середине разрытого рубежа. И отчаянная Августина запросто здоровалась за руку с приехавшими дядьками, по виду солидными, похожими на начальников, о чем-то расспрашивала, пока не подбежали, козыряя, Васенин и Солодов.
Бузун неожиданно направилась в сторону Бурлакова, и безотчетное предчувствие несчастья, похожее на то, что охватило позавчера, при виде вынырнувшего из-за облаков пикировщика, заставило его подождать девушку.
Августина подошла и остановилась, даже поздоровалась за руку, будто не помня обиды. Видно было ей не до недавних мелких ссор.
— Получен приказ — наш завод эвакуировать!.. — тревожно сказала она, не дожидаясь расспросов Андрея: — Новый огромный заводище, всего лет десять назад пущенный!..
— Чей приказ? — растерянно переспросил он, чтобы только не молчать.
— Какое имеет значение: чей приказ? Может даже ГКО. Приказ окончательный и сегодня всех заводских рабочих отсюда снимают… У самих теперь будет сплошной аврал!..
— А что это — ГКО?
— Придуриваешься или правда не знаешь? — Государственный Комитет Обороны.
— Так бы и сказала, — уклончиво буркнул он. И бесцеремонно протянув руку со скарпелем, спросил: — Кто это в желтом пальто, пузатый?
— Директор завода. Опусти руку, нехорошо так показывать…
— А рядом?
— Своего командира Васенина не узнаешь?
— Да не, — нетерпеливо поморщился Андрейка. — С другого бока?
— Кораблев. Тоже с нашего завода. Главный инженер… С ним сейчас говорит парторг ЦК Порошин…
— А вон тот плотный? Который сейчас закуривает, в полувоенной форме?
— Дронов.
— Откуда он? Тоже с вашего завода?
— Из области. Секретарь по промышленности…
Андрейка помолчал немного и уже не так смело спросил:
— Ты где ж во время налета была?
— На завод ездила, но позавчера про эвакуацию никто не знал. Ох, как мне жаль побитых студентов… Какие это были товарищи! — слезы быстро покатились по ее лицу. И, глубоко вздохнув, она без перехода продолжала: — Ты, говорят, уж отличился, а я стреляю неважно и гранату кидала в техникуме хуже других… Быстро можно научиться? Как считаешь?
— Зачем это тебе? — покраснев, спросил Августину Бурлаков.
Не откровенничать же было с девчонкой, что и сам он, кроме рогатки, учился в своем Ольшанце стрелять только из плохонького мелкокалиберного ружья, да еще из старого отцовского дробовика. А боевую трехлинейную винтовку довелось в школе лишь разбирать и собирать…
— Затем, что фрицы эти просто зверствуют, — поколебавшись, сказала она. — И вообще такое может случиться, такое я тебе скажу, Андрейка, в спешке этой эвакуации может случиться!..
А где и что может случиться — так ему и не объяснила. Опять вдруг заплакала и убежала, хоть и была, похоже, совсем не из слезливых. Быть может, боялась, что ее не эвакуируют с заводом? Или она имела в виду не себя и тоже подумывала о фронте?
Только успел Бурлаков опробовать новый скарпель и поделиться с Депутатовым услышанной новостью, как передали приказ всем построиться. Впрочем, если бы поголовно всем — так это было бы не удивительно, так было много раз. По построиться приказали лишь всем молодым новобранцам, недавно мобилизованным на строительство рубежа через райвоенкомат. И в самый разгар работ? Даже опыт бывалого солдата не подсказал на этот раз Депутатову, в чем тут дело, и на недоуменный вопрос напарника он лишь многозначительно покрутил головой.
Когда Андрейка выбрался из глубокого котлована на бровку — машин с приезжавшими начальниками не было. Сутулясь и заметнее обычного приволакивая ногу, ходил взад-вперед, поглядывая на недружно подбегавших ребят, лейтенант Васенин. Младший лейтенант Солодов стоял, как всегда, прямой, подтянутый, но на его твердом молодом лице сейчас тоже была озабоченность.
Наконец ребята кое-как построились. Ольшанцы, чуя перемену, постарались стать все вместе, жались плечо к плечу.
Васенин испытующе оглядел ребят: в разномастных пиджачках и кожушках, в ватниках, ушанках, стеганках, в разнокалиберной обуви — они, должно быть, произвели на него, недавно командовавшего боевой ротой, невеселое впечатление. Он строго нахмурился и оглушительно скомандовал:
— Тот из вас, кто когда-нибудь имел дело с машинами, механизмами или вообще работал по металлу — пять шагов вперед!
Разрозненно вышли человек пятнадцать. Из группы ольшанцев не раздумывая шагнули вперед Колчан и успевшие немножко покрутиться возле автомашин Лешка Зимин, Акимов.
— Чего ты, Андрейка, выходи! — благожелательно шипел на ухо Иняев Федька. — Не чуешь, отбирают мастеровитых хлопцев? Небось в автомобильные части или в танкисты! В летчики отсюда все равно не вторкаешься…
— Отвяжись, сам знаю! — сердитым шепотом отбивался от услужливого дружка Андрейка, уже смутно догадываясь в чем дело. — Чего ж сам стоишь?
— Я конник, — коротко пояснил Федька. — Подождем, может скоро еще покличут в кавалерийские части…
— Жди и помалкивай, кавалерист на стальном кайле… Какой я «металлист»? Чего мне вперед вылетать?
Видя, что многие перешептываются и мнутся, Васенин еще раз, уже подробнее, объяснил, кому надо выйти вперед.
— А кто с трактором чуток знаком?
— Выходите, обязательно…
Шагнули через эти неизвестные четыре-пять метров еще человек семь.
Но Васенин, видимо, считал, что и этого мало: он молча, выжидательно и требовательно глядел на шеренгу, хоть его и раздражали непрекращающиеся перешептывания ребят в строю.
— А если опытный прицепщик? — раздался вдруг сбоку звонкий женский голос.
Все невольно обернулись. Васенин недовольно покосился в сторону, готовый обрушиться на непрошеное вмешательство. Но увидев вездесущую Августину, скупо улыбнулся и ответил тоже вопросом:
— Что это еще за прицепщик?
— Не знаете? — искренне удивилась Бузун. Заплаканное лицо от волнения пошло пятнами. — Ну, он плуги регулирует, заправляет горючим трактор, заливает в радиатор воду… Короче говоря, это первый помощник тракториста!..
— А кто тут прицепщик?
— Вот он, — не колеблясь показала Августина на стоявшего с краю Андрейку. — Он мне сам говорил, а теперь, наверное, скромничает…
— Выходи, Бурлаков! — едва приметно усмехнувшись, приказал Васенин.
— Да я ей не это говорил, — попробовал уточнить обстановку покрасневший Андрейка, не двигаясь с места. — Я ведь ей только сказал, при случае, что поработал, мол, немного с опытным трактористом, а прицепщик я без настоящей практики, совсем даже неопытный еще… И курсы не кончал…
— Пять шагов вперед!! — выкрикнул Васенин, рассерженный непривычным для него пререканием в строю. — На передовую просился, а солдатской службы до сих пор не понимаешь?! Ты думаешь, мы сами потом не проверим?
Добровольно вышли еще трое, а всего набралось человек тридцать. Васенин вытащил из планшетки лист бумаги, всех переписал. Возле ребячьих фамилий он аккуратно ставил, со слов опрашиваемых, лаконичные пометки: «ученик кузнеца», «начинающий слесарь», «молотобоец», «тракторист», «прицепщик — курсы не кончал», «немного знаком с автомобилем», «подручный механизатора фермы»…
— Уводишь от нас самый цвет, — без улыбки сказал, заглядывая через плечо, младший лейтенант Солодов.
Бурлаков не понял — пошутил сапер или сказал серьезно. Васенин буркнул в ответ мрачновато:
— Не надолго… Ты ж сам слышал!
— Это еще, как придется, — не согласился Солодов. — Мы тоже здесь на днях заканчиваем…
Дальше все пошло точь-в-точь так, как было недавно возле клуба. С часок подождали транспорта. А когда машины подъехали, Васенин так же сделал перекличку и так же скомандовал посадку в грузовики. И по-прежнему никто из ребят, кроме догадывающегося Бурлакова, не знал, куда их везут теперь вместе с заводскими рабочими…
Похоже было на недавнее даже то, что вместо отца подбежал попрощаться перед самой посадкой Депутатов.
— Ничего, Андрейка, не теряйся, — залпом проговорил он в напутствие свою излюбленную фразу. — На Августину, мой тебе совет, не серчай: это она любя тебя сосватала. А что? Скажешь, по злобе? Ну и интересы родного завода она не забывает, тоже значит крепко любит его…
Бурлакову не хотелось на прощанье вступать с Депутатовым в пререкания, а знакомые слова солдата опять будто сами собой больно взяли за живое.
— Ну, об этом вы уж говорили, — сухо, с озлоблением оборвал он разглагольствования Депутатова. — При чем тут любовь? Ни с того, ни с сего…
— Ладно, Андрейка, толкач муку́ покажет! — примирительно похлопал его по плечу Депутатов. — Ты не петушись! Неизвестно придется ли повидаться…
— Васенин говорил — ненадолго…
— И я не до конца войны буду землю долбить, хоть и не такой, как ты, нетерпеливый… Говоря честно, тоже хочу, чтобы поскорее уж откомиссовали меня в строевики и на фронт. Мне, конечно, не семнадцать, если, к примеру, рано о фронте думаю — могу и еще подождать. Война, похоже, только начинается… Правда, сводки жгут и торопят!.. Вот, может, там и встретимся? А что? Скажешь, такого не бывает?
— Говорят, что бывает, — глухо сказал Андрейка. И, уже заслыша команду «По машинам!», крепко стиснул мозолистую руку солдата: — Ну, пока, счастливо оставаться!..
— Ну, пока, счастливо и тебе воевать!! А война покажет: может еще и самолет свой получишь!..
Проселочная, чуть припудренная снежком дорога вся в заледенелых колеях и выбоинах. Еще недавно разъезженная грязища была тут, наверное, под силу лишь самым мощным грузовикам. А теперь даже переполненные людьми кузова швыряло из стороны в сторону и трясло так, что зубы стучали.
Разговаривать было трудно. Бурлаков молча смотрел на мелькавшие по обеим сторонам одиночные березы, деревни, поля, будки трактористов, небольшие перелески.
Впереди погромыхивали на колдобинах машины с заводскими рабочими, а он был на предпоследнем грузовике и, прижавшись спиной к кабине, время от времени с ненавистью поглядывал на ехавшую в последней машине Августину.
Она сидела на бортовой лавке рядом с лейтенантом и, наверное потому, старалась казаться веселой. Или, быть может, Васенин в самом деле рассказывал ей что-то смешное. Но только и этот ее смех после недавних слез, и ее белозубая улыбка, и это задорное встряхивание светло-золотистой куделью — невольно заставляли теперь Андрейку хмуриться от злости. При всем уважении к Депутатову, он не мог послушать его совета и не злиться на Августину. Простить, что она, как злой рок, опять отодвинула от него и военное обмундирование, и оружие. «Как будто эта рыжая выскочка не видела, что работы на рубеже к самому концу идут! — возмущался он. — Ясно всякому и без Солодова!..»
С проселочной дороги свернули на шоссе. Поехали быстрее, навстречу чаще стали попадаться машины. Через полчаса догнали идущую в сторону фронта большую воинскую часть, и шоферы, прижимая машины к обочине, долго и осторожно, шажком обгоняли ее растянувшиеся порядки, зачехленные орудия, автоприцепы, полевые кухни…
Бурлаков разглядывал уставших от длительного марша солдат, их потные небритые лица, суровое выражение глаз. Никогда не видевший столько войска на марше, он взволновался даже от простой мысли, что каждый из этих шагающих солдат — частица колоссальной организованной силы, которая именуется армией и которую создал народ для своей защиты. Ему казалось, что именно такое укрепляющее и возвышающее душу подчинение воинскому долгу, всесильному и всевластному, было выражено и на лицах солдат, и на скуластом волевом лице вон того командира с двумя красными кубиками в петлицах…
И опять будто сам собой, как и после бомбежки противотанкового рва, возник старый проклятый вопрос: а правильно ли он снова поступает, намереваясь дисциплинированно заделаться теперь… наверное такелажником? На неопределенное время и в воину, в разгар боев? А быть может, именно этот всесильный и всевластный воинский долг и не дает ему права насильно загонять в гроб мысль о подвиге авиатора? Как будто летчик рискует меньше фронтовых солдат или сам он, Андрей Бурлаков, еще не понимает, что ас должен иметь железную решимость схватиться в воздухе с врагом насмерть.
Эта старая мысль мелькнула во время вынужденной остановки. Но вот уж и колонна войск давным давно осталась позади, а мысль мучила Андрейку все настойчивее, все сильнее сверлила в мозгу.
Остаток дороги он уже не мог думать ни о чем другом. С этими трудными мыслями и доехал до завода.
11
Васенину и его ребяткам не пришлось долго ждать. Прибывшее пополнение почти с ходу встретил главный механик завода Ковшов, и через полчаса всех распределили по бригадам.
Еще в начале лета, при переходе на военный заказ, заводу не хватало людей. К осени много молодежи из цехов призвали в армию, и голод на рабочие руки с каждым днем ощущался все тяжелее. Но особенно остро эта нехватка чувствовалась теперь — срочный и одновременно кропотливый демонтаж заводского оборудования пожирал уйму времени даже у самых опытных рабочих. На тяжелые погрузочные и такелажные работы тоже были нужны привычные и сильные мужские руки.
Вот почему и получили все хлопцы, не успев оглянуться, это назначение.
Васенин и механик поколдовали в стороне от ребят, вполголоса посовещались над списком и вызвали почему-то первым Андрейку.
— Пойдешь в бригаду демонтажников! — оглядев Бурлакова с ног до головы, тоном приказа сказал пожилой Ковшов. — Стало быть, пока под полное начало бригадира… Что Коломейцев прикажет — то для тебя и закон. Особенно предупреждаю насчет дисциплины… Поскольку вы мобилизованные и будете на казарменном положении, а завод наш большого оборонного значения — за все, про все отвечаете по всем строгостям военного времени…
— Вплоть до трибунала! — обращаясь уже ко всем, вставил Васенин.
— Вплоть до этого, — подтвердил механик.
«Для начала пугают, а никому, похоже, не страшно? — с любопытством покосившись на ребят, подумал Андрейка. — Не попытаться ли именно отсюда пошукать аэродром? Что ни говори, а попасть под гражданскую команду вряд ли еще доведется?! А ведь с военного-то аэродрома, как и из настоящей армейской части, могут, наверное, потом за особое старание и в краткосрочную летную школу направить!!»
Пока задумавшийся Андрейка так и этак поворачивал и прикидывал в уме свой застарелый вопрос — назначение получили все хлопцы. Медлительный на слова, Ковшов был опытен и скор на решения. С остальными хлопцами разговор был еще круче и короче, под конец он вовсе буркал ребятам лишь фамилии бригадиров. Заглядывая в список, он быстро рассовал всех по разным бригадам.
Немного таинственный в устах Ковшова и уж, бесспорно, грозный и всевластный Коломейцев на самом деле оказался симпатичным парнем лет двадцати трех — на голову ниже Андрейки ростом, зато, пожалуй, еще пошире в плечах. Прямой, твердый взгляд умных серых глаз и открытое лицо сразу вызывали доверие; и в столовой, вечером, случайно попав с ним за один столик, Бурлаков запросто, как давнему знакомому, пожаловался на недюжинный аппетит.
— В воинских частях, хоть и не строевых, кормят куда сытнее, чем у вас, — говорил он тоном бывалого человека, с жадностью дохлебывая жиденький ячневый супец, — Там весь остальной харч хоть и по второй норме, а каши почти хватало… А тут за крупинкой — гоняйся с дубинкой. Съел и обед, и ужин зараз — и голодный.
— В гражданке с питанием сейчас всюду туго, — спокойно рассуждал Коломейцев. — Потому, что вперед надо армию накормить. Но так скудно и у нас впервые. До этого наши орсовцы выкручивались подходяще.
— Почему же перестали?
— У нас за эти сутки все поменялось, — вздохнул Коломейцев и, что-то вспомнив, отстегнул нагрудный карман спецовки. — Говорят, что эвакоштаб дал команду беречь продукты для эшелонов. Может, что и так — теперь ничему удивляться не приходится. На наш завод, бывало, недели по две оформляли: фотографировали анфас и в профиль… А сегодня я тебе мигом пропуск со швеллерком выправил! Разница? На, полюбуйся, да не потеряй! Запомни номер, пропуск остается в проходной…
— Что же эта печатка-швеллерок означает? — рассматривая свой пропуск, с пометкой «мобилизованный», не удержался Андрейка.
— Много означала… Допуск на заводскую территорию и в третий механический цех. А вот будет ли она что означать дальше — никто не скажет. Станки из цеха вытаскиваем к подъездным путям… Говорят, ломать не строить — душа не ноет… Нет, брат, — ноет, да еще как ноет-то. Сердце кровью обливается… Ну, пошли, пожалуй, спать, — первым встал он из-за стола, — если, конечно, ночью снова тревоги не будет… А то мы и так заужинались с тобой дольше всех.
В непроницаемой темноте добрели до одноэтажного корпуса, где на казарменном положении находилась вся бригада Коломейцева. В тамбуре нащупали дверную скобу и вошли в оборудованное нарами, густо заселенное помещение. Даже в проходах стояли топчаны. Несколько человек лежали сверху неразобранных постелей: курили, читали газеты. Многие, укрывшись одеялами, спали. По этой необычной общежитейской тишине чувствовалось, что люди за долгий рабочий день смертельно устали и, не сговариваясь, порешили отдыхать молча.
Окна были тщательно закрыты светонепроницаемыми шторами из плотной темной бумаги.
Андрейка подошел к своему топчану, повесил на торчавший из стены гвоздь ушанку и ватник. Молча стоял, рассеянно ероша отросшие волосы. Вдруг ярко представил, что и Любаша, и мать, и Нюрок — наверняка теперь толкуют, вопреки запретам отца, о том, как тяжко страдает их Андрейка на войне. И у всех трех с этим страшным словом связано представление о мерзлых окопах, походах, жутких штыковых атаках, рвущихся бомбах… А он вот сейчас отвернет новое грубошерстное одеяло и заберется в такую же чистую, теплую постель, в какой спят и они…
— Чего Бурлаков задумался? Поужинал и ложись — набирайся сил без всякой критики и самокритики! — точно угадав ход его мыслей, вполголоса посоветовал раздевающийся рядом Коломейцев. — С рассветом заставлю вкалывать не за страх, а за совесть. Отсыпайся, покуда тепло, светло и пули не кусают… Словом, пока не подошел твой черед лежать на снегу, в обнимку с винтовкой. А черед этот сам нас найдет…
Андрейка хотел возразить, но бригадир уже нырнул в постель и натянул одеяло на голову.
«Да, война, наверное, только начинается! — уже лежа, думал Андрейка. — Не зря же и отец, и Васенин, и Солодов, и теперь вот Коломейцев, точно сговорившись, твердят об этом? Да и кто может считать ее у конца, или даже у середины, если немцы захватили столько городов? Правда, вот такой, как Коломейцев, имеет, пожалуй, право ждать «свой черед», потому что уже приносит фронту немалую пользу. А потом, если не окажется со своим заводом где-нибудь на Урале, сам он выберет себе род оружия по душе и отправится на передовую. Такие, небось, сами выбирают, — умеют и знают, как это сделать, не то что мы, ольшанцы-новобранцы…»
Андрейка силился сейчас же додумать и свой вопрос до конца, а глаза сами собой слипались, мысли расплывались и ничего путного не придумывалось. Спать опять хотелось необоримо, просто храпеть бы, не просыпаясь, целые сутки!
Но получилось так, что и совсем немножко вздремнуть не пришлось — хлопнула дверь, и в казарму кто-то шумно вошел. И потому, как разом зашелестели свертываемые газеты, заскрипели нары, одним броском вскочил на ноги Коломейцев, — Андрейка понял, что это не возвращение «заужинавшегося» собригадника и тоже откинул с лица одеяло.
Посредине прохода стояли дежурный по казарме и Кораблев. Одет главный инженер теперь в замасленную стеганку. Но у Андрейки цепкая на лица память — узнал.
— Сколько вас здесь? — громко и властно спросил Кораблев. — Где бригадир?
— У меня уж не бригада, а вроде рабочего полка… Целых семьдесят человек! — выдвинувшись вперед, смущаясь, что в одном белье, полушутливо ответил Коломейцев.
— Вот и хорошо, — не принял шутку Кораблев. — По семь человек на вагон — нормально. Нужно срочно ваш станочный парк у подъездных путей погрузить в вагоны! Знаю, что здорово устали, но кроме некому, а дело не терпит… Срок погрузки поджат до предела и вообще сейчас с железной дорогой рядиться не с руки! Мы можем твердить им только одно: давайте, составляйте, формируйте нам, товарищи железнодорожники, как можно больше эшелонов — ни одного вагона зря не задержим! Ясно?
— Ясно, Юрий Михайлович! — коротко сказал Коломейцев и, присев на койку, молча стал натягивать шерстяные носки.
И люди без лишних слов поняли, что погрузка теперь состоится при любых обстоятельствах: десятки рук торопливо потянулись к одежде. Тех немногих, кто еще додремывал, осторожно, но настойчиво расшевеливали соседи.
— У вас что же… и радио здесь нет? — спросил Кораблев.
— Тут проводка в порядке, а репродуктор утром заглох, — охотно пояснил дежуривший молодой парень. — Мы его отдали исправить…
— Надо срочно исправить, — нахмурился Кораблев. — Как же это можно без радио? — И, порядочно помолчав, вдруг совсем другим голосом сказал: — Вязьму наши войска оставили… Сейчас только об этом сообщили, в вечерней сводке…
Пожилой рабочий на крайнем топчане, не спуская глаз с главинжа, сокрушенно покрутил головой.
Кораблев с минуту молча понаблюдал за сборами бригады и, кивнув всем, ушел. Уже двое суток он замещал начальника штаба эвакуации завода, и его ждали десятки самых неотложных дел. А лишний раз агитировать бригаду Коломейцева — это ему сразу стало ясно — не было необходимости: здесь люди сами отлично понимали и свой долг, и сложившуюся обстановку. Если бы так — везде.
Одевались дружно и молча: позвякивая пряжками поясных ремней, потопывая сапогами. И только когда кто-то насмешливо пробасил: «А Горнов и Пронькин сидя досыпают!» — Коломейцев коротко и сдержанно поторопил:
— Давайте-ка, кто там спросонья, повеселей!
Андрейка хотел спросить: надолго ли эта погрузка, не маловато ли будет семи человек на вагон? Сколько ночных налетов было на завод? И, главное, как же теперь придется работать завтра: в первую смену или, быть может, во вторую?
Но, взглянув на бригадира, не спросил. Не передумал, по-прежнему хотел — но не посмел. Добродушного и разговорчивого Коломейцева будто подменили. Рядом был совсем другой человек — подтянутый, немногословный, властный.
«Не зря, видать, толковал главный механик Ковшов о командном заводском составе, — вздохнув и поплотнее запахиваясь, застегивая на все крючки ватник, подумал Андрейка. — Отсюда будет не так просто, как показалось давеча, попытаться махнуть на военный аэродром!.. Ну, хоть не сунули меня впопыхах абы куда: народец тут, похоже, подобрался и деловой, и толковый — не трепачи!..»
12
Невеселую картину представлял третий механический цех…
Целые десять лет в нем, как и во всем заводе, кипела жизнь, созидательная работа.
Еще совсем недавно, при переходе на военный заказ, цех щедро пополнялся оборудованием.
И вот теперь, когда все это уже в полную мощь работало на фронт, люди всеми способами и силами разбирали, разрушали: во что бы это ни стало надо успеть демонтировать то, что сами усердно монтировали месяц, год, несколько лет назад. А начальник цеха Холодов — осунувшийся, небритый, давно ночующий в своем цеховом кабинете — подходил то к одной бригаде, то к другой и, отдав нужные распоряжения, неизменно добавлял:
— Поторапливайтесь, товарищи! Кто хочет помочь фронту — не может станки оставить врагу! Он и так берет нас только техникой, не будь этого — давно бы остановили и погнали назад…
Бригада Коломейцева разбилась на тройки, развернулась своеобразными «расчетами» на центральном пролете; и здесь ее опустошительная деятельность сразу бросалась в глаза, печаля и радуя пустыми разворошенными фундаментами.
Андрейке еще до приезда на завод выпал жребий работать вместе с Горновым и Пронькиным. Третьего демонтажника накануне убило осколком при погрузке эшелона. Уцелевший «расчет» из двух станочников, плохо между собой ладивших, просил бригадира с кем-нибудь их объединить. Неумолимый Коломейцев решительно отказал. «Нечего пятерым около одного станка лбами стукаться, — сказал он. — Работайте, покуда, вдвоем, а подвернется кто — опять дам третьего!»
Появился Бурлаков, и теперь они втроем, как и все остальные, делали свое скорбное дело.
Громоздкие станки торопливо разбирали, как выражался Горнов: «раздевали донага». Крупные детали быстро метили кернышками. Мелкие и отдельные узлы спешно укладывали в грубо сколоченные ящики. А тяжеленные «голые» станины и небольшие станки, навалившись гурьбой, выкатывали к подъездным путям целиком. Особо точные и чувствительные обертывали толем, наспех обшивали тесинами. Все остальные лишь густо смазывали тавотом — надеясь, что крытый пульмановский вагон сохранит их в пути от непогоды.
Сейчас разрешал это и главный механик Ковшов, всегда относившийся с особой рачительностью к оборудованию.
Бешеная работа валила с ног тех, кто послабее. Да и Андрейку, наделенного от природы недюжинной силой, нередко выматывала к концу смены до изнеможения. Казалось, что он так устает не только от физической нагрузки. Даже ему, вроде не кровно связанному с этим заводом, не уходившему корнями в его традицию — было подчас до слез горько и трудно глядеть на эту картину вынужденного разорения давно и любовно отлаженного производства.
Бурлаков не удивлялся, когда замечал, что в глазах то одного, то другого нет-нет, да и сверкнет ненароком, в потай от близких товарищей, пощипывающая веки предательская влага.
Впрочем, такое не ускользало и от совсем уж не наблюдательного Пронькина.
— Ты чего это, мужик? Никак слезу пустил? — насмешливо и растерянно спросил он у напарника, когда принялись они «раздевать» огромный карусельный станок.
— Работай, знай, не выдумывай!
— А чего отверткой тычешь мимо риски винта?
— Соринка в глаз попала, — пробовал спокойно оправдаться перед «старшим» Горнов. Но не выдержал, взорвался: — Чего, чего — сосунок! Я на этом станке десять лет работал!!
— Понимаю, — усмехнулся обидевшийся Пронькин. И верный себе добавил: — Значит, за то, что этот карусельный столько лет от тебя плакал, теперь и ты решил пролить слезу над ним?
— Тьфу! — даже плюнул Горнов. — От тебя, как в старину говаривали: ни перстом, ни крестом не отобьешься! Как от черта!.. И когда это, жду — не дождусь, Коломейцев нас поставит порознь… Ведь как его просил!..
— Теперь, похоже, нас с тобой только фриц разлучит, только смерть одна, — подмигивал Пронькин Андрейке, никогда не встревавшему в их спор.
По возрасту Горнов годился бы своему насмешливому напарнику в отцы и потому не хотел, как сам не раз заявлял, потакать ему и давать поблажки. Но у двадцатилетнего Пронькина, поступившего прошлой осенью в вечерний техникум, был выше разряд. Вот и нашла коса на камень. Тем более что Коломейцев старшим в каждой тройке упорно и ревниво считал того, у кого хоть на один разряд выше квалификация.
Бурлаков, на правах новичка, придерживался в этих стычках строгого нейтралитета. В душе он считал, что оба станочника, очень разные по характеру, лишь невольно срывают друг на друге накипевшую горечь и злость.
Особенно расходились они в мнениях по поводу воздушных тревог, которые все учащались.
— Бросай, Горнов, гаечный ключ! — ехидно советовал толстогубый и лобастый Пронькин своему узкоплечему сухонькому напарнику, едва доносился до них нарастающий вой заводской сирены. — Да беги порезвей — не то в щелях места не достанется.
— И побегу! — сердито топорща подстриженные усы, полуобертывался на миг Горнов, торопливо рассовывая инструмент. Уже на ходу, запыхавшись, он выкрикивал: — Щели эти и газоубежища… и приказ хорониться люди поумнее тебя придумали! Тут ты мне не старшой и не указчик!..
На заводе существовал приказ, подписанный директором и начальником штаба ПВО. В нем говорилось, что при объявлении воздушной тревоги надо выключить оборудование и идти в заранее указанные укрытия. В цехах висели глазастые афиши-распоряжения, кому где укрываться, а в каждом переходе и коридоре посверкивали яркой краской или даже светились огромные стрелы с такими, примерно, надписями: «Вправо и вниз — бомбоубежище формовочного отделения», «Здесь выход к щелям четвертого пролета», «Под эстакадой во время налета не стоять»…
Августина ничего тогда не сказала об этом; но теперь Бурлаков знал, что на завод недели две совершаются налеты, и в каждом цехе есть жертвы. Выходя из дома или казармы утром, теперь никто на заводе не мог утверждать, что вечером обязательно встретит семью, товарищей. Ложась спать, никто твердо не знал, проснется ли он утром жив-здоров. И все же той лихорадочной беготни, какая, говорят, была вначале всюду, — теперь уже нет. Один за другим, рабочие во время дневных тревог перестали уходить в укрытия, продолжали работать. Начальники всех рангов, сами не покидавшие цехов, глядя сквозь пальцы на строптивых мужчин, энергично прогоняли с рабочих мест подростков и женщин: из отделов, с конвейеров, станочниц, работниц ОТК, формовщиц.
Однако и женщины все чаще отсиживались во время тревоги где-нибудь под станиной, чтобы не попасть, ненароком, как работницы сборочного цеха, под пулеметный обстрел. Правда те, что помоложе, последнее время убегали из цехов, едва заслышат вой сирены. Но не в бомбоубежища и не в щели. За стоявшими поодаль, на берегу небольшой, речки, корпусами электростанции — открытое поле, принадлежавшее заводу и на официальном языке именуемое «площадью золоудаления». Отчаянные заводские девчата пережидали угрозу там на воле, под открытым небом — уверяя всех, что так и гораздо безопаснее, и все решительно видно. Для их способа «хорониться» всего только и требовалось — быстро, как стометровку, пробежаться назад при отбое.
Теперь Андрейка это наблюдал своими глазами. Он не брался судить и раскладывать по полочкам, какую тут долю занимает самоотверженность и чувство долга, мужество и бесстрашие, а какую — риск и азартный расчет на счастливый исход. Но он знал, какой огромный перелом в сознании многих рабочих вызвал приказ об эвакуации завода.
Он уже видел полузасыпанные бомбежкой щели деревообделочного цеха, которые с непонятной суеверной осторожностью никто не решился восстановить; уже пощупал своими руками срезанный фугаской угол промкорпуса, под которым, говорят, находилось самое большое на заводе бомбоубежище.
13
С заводских подъездных путей уходило в сутки по несколько эшелонов. От зарядивших погрузочных авралов не освобождался ни один участок, кроме пока еще действующей электростанции.
Грузили и днем, и ночью, всегда с неизбежным риском, нередко с бо́льшими жертвами, нежели в цехах.
Очередная ночная погрузка, не миновавшая бригаду Коломейцева, едва не кончилась трагически для Андрейки.
Железная дорога вдруг подала вместо товарных вагонов балластные платформы. Фронт неумолимо приближался и отказываться от них было бы безумием. Но неугомонный Ковшов сумел добиться от штаба по эвакуации распоряжения прикрыть дорогостоящее оборудование от непогоды — «всем, чем только возможно!» И потому из заводских складов и кладовых демонтажники тащили прямо к путям рубероид и пергамин. Над каждой груженой платформой спешно сооружалась своего рода мягкая крыша. Задержку это, разумеется, вызывало немалую.
Эшелон был смешанный. Помимо двадцати платформ, в нем были четыре вагона-теплушки для матерей с маленькими детьми.
Половину платформ погрузили нормально: при полной темноте, присвечивая лишь электрофонариками с засиненными стеклами.
Небо было в сплошной наволоче туч.
Управились погрузиться и в теплушки. Для женщин и детей открыли северные ворота — совсем рядом с подъездными путями. В темноте долго проходили мимо работающих те, кто сегодня покидал заводской поселок. Матери несли детей на плечах, вели спотыкающихся малышей за руки. Рядом шли провожающие, до отказа навьюченные ребячьими постелями, узлами, позвякивающими кастрюлями и чайниками.
Но скоро ветер разогнал тучи и на небе выплыла яркая луна. Тревожно поглядывая на очищающийся горизонт, нервничал начальник эшелона; рабочие заторопились еще больше. Погода явно становилась летной.
— При таком фонаре выйдет эта погрузочка боком! — раздался с вагона ворчливый голос Горнова.
— Да ты хоть не каркай! — сказал Пронькин.
— Я не ворон, — сердился Горнов. — Еще числишься комсомольцем… Словно не знаешь: сейчас завод с самолета — как на ладошке!
— Ты летал?
— Не летал. А вон на той шестидесятиметровой водонапорной башне слесарил и, что такое вышина, знаю. Да ты, умник, взгляни на него сейчас хоть с вагона!
— Сто раз смотрел, — отрезал Пронькин.
Андрейка внимательно огляделся по сторонам. Старый рабочий говорил правду: все было, как на ладони. Большие заводские корпуса и днем не прятались. Раскрашенные защитными пятнами и полосами они все равно имели внушительный вид. Но лунный свет выделял их резче, делал громаднее. Плотно «задраенные» изнутри окна цехов, забрызганные снаружи побелкой, местами теперь — омытые дождями и обитые ветром — тревожно поблескивали стеклом. Ориентирами торчали высоченные заводские трубы и подпиравшая само небо водонапорная башня…
Горнов хоть и ворчал, что он не ворон, а все же накаркал. Раздался тревожный сигнал сирены, и ее пронзительный надсадный вой басово подхватил заводской гудок. Разноголосый дуэт, от которого мороз бежал по коже, длился никак не меньше двух-трех минут, показавшихся Бурлакову целой вечностью.
А когда наконец он смолк, было слышно, как кричат и плачут в теплушках перепуганные дети, и гулко топают сапогами рабочие, стремглав мчась из поселка в отряды ПВО.
К головным вагонам-теплушкам уже бежали запыхавшиеся Кораблев, парторг Порошин и опередивший их высокий военный. Он кричал и распоряжался прямо на ходу. Не успели еще коломейцы снять погрузочные тросы и тали, как лязгнули буфера отцепленных платформ. Паровоз, будто обрадовавшись, коротко взревел и, выбрасывая ватные клубы дыма, с грохотом покатил вместе с теплушками.
На тормозной площадке заднего вагона стоял начальник эшелона и, сложив ладони рупором, кричал, что скоро вернется.
Семьдесят три человека разом вздохнули с облегчением.
— Кто вон тот, высокий, в военной форме? — не утерпев, спросил Андрейка у Коломейцева.
— Тренин. Начальник нашего штаба ПВО.
Все трое подошли и поздоровались с бригадой.
— Почему вы, товарищи, не в укрытиях? — спросил Кораблев.
— По тем же соображениям, Юрий Михайлович, что и вы, — за всех ответил бригадир.
Рабочие засмеялись. Кораблев поглядел на них и невольно улыбнулся.
— Нам во время тревоги и положено быть на территории завода, — охотно пояснил Тренин. — Устава ПВО мы не нарушаем!
— А можно, товарищи начальники, с вопросом к вам обратиться? — вдруг спросил Горнов.
Коломейцев с опаской покосился на выступившего вперед карусельщика.
— Пожалуйста, — сказал Порошин.
— Вот мы все грузим и грузим оборудование, — покашляв, издали начал карусельщик. — А не время и самим нам в теплушки погружаться? Не оказаться бы и нашей бригаде, ненароком, в окружении? Попадем, как кур во щип, в этот самый фрицевский «котел»!!
Кораблев, точно прося слова, поднял руку.
— Вперед я отвечу, — тронув его за плечо, сказал Порошин. — Буду, товарищи, говорить коротко, потому что общая тяжелая обстановка на фронтах вам известна из сводок… Но сейчас условия для полной эвакуации завода даже лучше, чем были, скажем, вчера и позавчера: именно в этом районе наши войска закрепились и не только остановили немцев, но и заметно их потеснили. А насчет дальнейшего порядка с эшелонами скажет главный инженер: он сейчас замещает начальника штаба эвакуации завода.
Находившиеся поодаль рабочие, стараясь не шуметь, придвинулись ближе.
— Хорошо, — кивнул Кораблев. — Но порядок остается прежним! Командный состав покинет завод после всех. Ясно?
— А рядовой?
— Рабочие, как вам известно, едут вслед оборудованию или его сопровождают. Какой цех раньше заканчивает демонтаж — тот раньше и уезжает. К примеру, первый и второй механические цехи, уже полностью отбыли. Ясно? Вопросы есть? Впрочем, все это вы уже знаете…
— Как гражданское поселковое население?
— Кого вы под этим понимаете? На заводе военных нет — все гражданские… Три детсада и часть многодетных матерей уже отправлены. Вплотную подготовлены к эвакуации школы… Все наши ясли, как вам известно, выехали в первую очередь — с мягким инвентарем, детьми, матерями и даже нянями!.. Больше нет вопросов?
— Есть…
— Выкладывайте живее: отбоя ведь не было!
— Об этом и вопрос… Будет, что ли, в этот раз налет или нет? — под общий смех выкрикнул кто-то из молодых.
— Думаю, что обойдется, — невольно поглядев на небо, сказал Кораблев. — А вот товарищ Тренин считает, что до отбоя всем надо быть в укрытии.
— Да, да, товарищи, давайте! — подтвердил Тренин. — Помитинговали на морозце пяток минут и хватит — погрейтесь немножко в укрытиях.
Порошин приблизился к вагону вплотную и придирчиво ощупал хваленую «крышу». Уже втроем они внимательно оглядели все погруженные платформы и опять заторопились в цехи: каждого ждали неотложные дела. Спать им приходилось урывками — по три-четыре часа в сутки.
— Как, ребята, у всех прояснилось? — поинтересовался Коломейцев, едва они отошли. — По совести сказать, стыдно мне кой за кого стало, как проявились эти узко бригадные болельщики. Чтоб потом не было никаких нареканий, еще раз во всеуслышание объявляю: кто считает, что в щелях и подвалах безопаснее — могут, конечно, туда идти.
— Возможно, тревога не надолго?
— Гудок и сирена погромче объявили, все слышали, — заметил Пронькин. — Но сегодня даже Горнов проявляет сознательность и храбрость — не бежит в свою персональную щель.
— Нет, я иду, — упрямо сказал Горнов. — Война, конечно, эвакуация, а на погрузке этих железок все же людей губить не годится!..
— Нам тоже сподручнее покурить в тепле, — поднялись со своих мест несколько рабочих.
И тут же в щели и бомбоубежища из бригады ушло человек двадцать — кто молча, кто старательно прикрываясь шутками и прибаутками.
— Ну, а мы будем загорать? — спросил Пронькин. — Может отбоя этого теперь до утра не дадут? А днем, может, опять налет за налетом?
— Давайте грузить, — подал голос Бурлаков. — В щели эти меня на аркане не затянешь — я видел какой глубины воронки бывают!..
— Верно, хлопцы — не узнаешь, где найдешь, а где потеряешь, — веско сказал пожилой рабочий. — Давайте начинать, а то новый паровоз пришлют и опять у нас — десять платформ порожняком стоят!
Поддержали и все сопровождающие эшелон. Коломейцев словно только этого и ждал.
— Грузить, так грузить, — поднялся он на ноги. — Тем более что остались здесь одни добровольцы. Остерегаться, конечно, надо, но и совесть иметь надо. Бери, Бурлаков, человек шесть покрепче и давай на катках вон тот трансформатор поближе к путям. Бросили, без соображения, за сто метров! Мы его сейчас автокраном в два счета на середину платформы посадим. А вы, ребята, по-прежнему все по своим вагонам!..
Полдюжины рослых здоровяков подвели под тяжелый трансформатор деревянные катки. Но только хотел Бурлаков дать команду начинать подвижку, как ему смутно послышался характерный прерывистый рокот немецкого самолета. Будто мигнули освещенные луной стекла цехов, дрогнула мерзлая земля и дважды — раз за разом! — прогромыхали за стоявшим поодаль промкорпусом оглушительные взрывы фугасок: немцы бомбили завод.
За северными воротами часто-часто забили зенитки, открыли стрельбу установленные на крышах пулеметы. Яростная скороговорка зенитных орудий и пулеметные очереди не дали Андрейке разобрать, что кричал ему в самое ухо сосед. Но, взглянув по направлению его вытянутой руки, он понял, что на многострадальный сборочный цех опять сбросили зажигательные бомбы. Он увидел, что рубероидная кровля двухэтажного корпуса местами горит, а по ней, озаренные отбликами огня, снуют безоружные заводские рабочие — запасшиеся лишь песком, водой и специальными щипцами для сбрасывания на землю мелких «зажигалок».
И тут же он с ужасом увидел вынырнувший из-за водонапорной башни силуэт самолета. Спикировав, стервятник прорвался через заградительный огонь и, развернувшись, поливая из пулеметов выскочивших из цеха сборщиц, устремился прямо на эшелон…
— Прячьтесь под вагоны! — надрывно кричали рабочие обреченной семерке. — Скорее, быстрее сюда!!
Шесть человек молча поднялись и дружно рванули с места. Андрейка не двинулся, точно оцепенел. Он слишком хорошо запомнил поразившую его чудовищную внезапность, чтобы надеяться пробежать эти сто метров до вагонов. Зная, что в его распоряжении всего несколько секунд, он лихорадочно шарил глазами какое-либо укрытие поближе. И вдруг увидел сзади себя полуоткрытый бетонный приямок. Одним броском, ободрав ватник, он ввалился в заиндевелую каменную яму с маслянистой жижей на дне. Его сковал ужас — чудовищный оглупляющий рев и огромный самолет были уже над головой. Судорожным рывком он инстинктивно захлопнул люк и тотчас услышал, как проливным градом стегнули по зазвеневшему чугуну пули.
Когда гул самолета затих, Андрейка поднял люк, выбрался из приямка. Первое, что он увидел, — распростертые на перетоптанном со снегом песке фигуры четырех убитых. Только двум из шести бежавших удалось спастись. Раненые были и среди работниц-сборщиц; и среди тех недогадливых, к счастью очень немногих, грузчиков, кто впопыхах спрятался под порожние, пробиваемые пулями платформы.
Но главные потери оказались не здесь. Одна из двух разорвавшихся за корпусом фугасных бомб угодила в щели работавшего в ночь инструментального цеха… В этих недавно отрытых крепленых щелях находилась бо́льшая половина ушедших в укрытия из бригады Коломейцева.
Андрейка снова таскал на носилках убитых и раненых, всю ночь догружал оставшиеся вагоны. Вернувшийся на попутной машине начальник эшелона молил поторапливаться. Теперь бригада знала, что четыре теплушки с плачущими детьми и женщинами стоят рядом на беззащитном глухом полустанке, и машинист ждет окончания погрузки, чтобы забрать платформы. Никакого другого паровоза не будет, потому что его нет. А если и окажется — дадут под новый эшелон.
До утра было еще два налета. Однако бригада с горем пополам догрузила эшелон и на рассвете он в полном составе отправился куда-то за Урал.
Только в эту ночь по-настоящему понял Андрейка, что такое мужество безоружного человека.
14
После очередного аврала Бурлаков еле доплелся до места.
Все пришли в казарму, изнемогая от усталости, повалились на койки и уснули мертвым сном.
А он долго потирал онемевшие ступни ладонями и думал, как быть. Недавнее купанье в мазутной жиже не пошло сапогам впрок: немножко было разносившиеся, они опять ссохлись и теперь жмут с утроенной силой. Куда он годен без сапог, когда у двора ноябрь, метели и сугробы?
Не успел заснуть, как опять очнулся от шума. В проходе стояла Августина и своевластно требовала человека из бригады. Коломейцев отчаянно сопротивлялся, не отдавал. Потрясая бумагами, она напористо спрашивала:
— Это последнее слово?
— Да, да, — твердил бригадир: — Люди проработали без сна всю ночь!
Но она уже заметила, что Бурлаков проснулся и, как ни в чем не бывало, шагнула к нему.
— Здравствуй, Андрейка! — сказала, будто сто раз его здесь видела. — Есть возможность познакомиться с заводом. Хочешь? Ты ж технику любишь!
— У него пропуск лишь на территорию и в третий механический, — позевывая, вставил Коломейцев.
— Неважно! Я разовый мигом выправлю… Пойдешь? Можешь выручить?
— Пойду, — к изумлению бригадира, сказал Бурлаков.
— Тогда я жду тебя снаружи…
— Уу-ух, — нарочито глубоко вздохнул ей вслед Коломейцев. — До чего трудно искать родных среди чужих!
Августина хлопнула дверью. Бурлаков торопливо одевался. Те немногие, кого разбудил разговор, молча натянули на головы одеяла.
— Ты спросонья или от радости про ссохлые свои скороходы не забыл? — не выдержал Коломейцев. — На строительстве рубежа, что ли, с ней познакомился?
— Ага, — кивнул Бурлаков. — Про сапоги эти, проклятые, и во сне помнишь… А вы разве Августину знаете?
— Кто ее не знает? — усмехнулся Коломейцев. — Работает техником в отделе главного механика, снует по всем цехам — у всех на виду… Короче сказать: повезло тебе. Так ей можешь и передать!..
Андрейка с трудом дошел до промкорпуса и, надеясь на передышку, остановился возле разрушенного угла.
— Много здесь народа пропало? — кивнул он на кирпично-бетонное крошево и покореженные балки подвала.
— Говорят, полно, — вздохнула Августина. И озабоченно добавила: — Давай все же поторапливаться: задание срочное!
— Сказать легко, а вот как сделать? — поморщился Андрейка. — Согласие дал, а идти ей-богу не могу.
Он коротко объяснил, в чем дело. Только чуть-чуть пообстоятельнее поведал о советах Депутатова.
Без долгих расспросов она повела его в противоположную сторону.
— У нас в цехе ширпотреба насчет спецобуви хоть шаром покати, но ремонт, кажется, еще делают, — на ходу говорила она.
Через несколько минут ее энергичными хлопотами «сверхсрочный заказ» был принят. Пожилой усатый дядька забрал для осмотра обувь. И обнадеженный Андрейка, сидя в застекленной клетушке в одних носках, с нетерпением ждал первого заключения: лицо усатого было непроницаемо.
— Это не сапоги малы, — скосил в его сторону глаза усач, — это нога велика!
Сказав это, он засмеялся, засучил рукава на могучих руках и с усердием принялся за сапоги: размачивал, растягивал, разминал, разбивал их на колодке сапожным молотком… Достал из шкафа банку с дымчатым маслом, яростно их «пробанил», сапоги переливались, как муаровые.
— Это ведь не деготь? — осторожно побеспокоился Андрейка.
— Нет. Это оле-о-нафт! — прищелкнул языком усач. — Получай — бесплатно!..
Бурлаков надел сапоги: ногам было просторно, хоть сейчас обувайся, как наказывал отец — по портянке.
— Толково! Спасибо!
— Носи на здоровье!! — вытирая руки, удовлетворенно гаркнул веселый усатый дядька и подмигнул уходившему Андрейке.
Августина ждала у входа. Иронически оглядев «муаровые» сапоги, с усмешкой сказала:
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Пока он старался, и я тебе пропуск выправила с шестеренкой. Подумай только: во все цехи и даже на ТЭЦ! Совсем по другому завод стал охраняться…
— Если б и не дали — так потому, что мне спать надо, — сказал довольный удачей Андрейка. — Что ж я диверсант, что ли, какой?
— Ничего ты еще в заводских делах не смыслишь…
Его так и подмывало без всяких проволочек и обиняков выкрикнуть ей: «А зачем же тогда, смышленая, вылетела со своим «прицепщиком»?!» Вместо этого негромко спросил:
— Как ты меня нашла?
— Вот так и нашла, — задорно тряхнула она золотой куделью. — Нужно — вот и разыскала! Кто бы мне сейчас люки открывал и тяжелые моторы переворачивал? А главное — мне срочно нужен сейчас рыцарь без страха и упрека для хождения по нашим техническим подземельям. — И озорно добавила: — Такой рыцарь, чтоб не лез лапать, а и помогал и охранял надежно и бескорыстно. Были на заводе и такие, да теперь все на фронте… Но у меня ведь нигде ни брата, ни свата. Я в самом деле, к сожалению, понимаю, что нелегко искать родню среди чужих. Правдой — не задразнишь!
Она стала вдруг очень серьезной.
По дороге Августина рассказала, что ей приказано сличить натуру и списки еще не вывезенного цехового оборудования. И в первую очередь — уточнить номера, паспортные данные намеченного к эвакуации оборудования электростанции, которая тоже цех и собственность завода, хоть и снабжала энергией всю окрестность.
— У нас не просто электростанция, а теплоэлектроцентраль, — говорила она. — Работает сегодня последний день. Завтра начнут демонтировать…
— Впотьмах будем сидеть?
— Запустят тот агрегатик, что работал, когда ТЭЦ строилась, — горько сказала она, — а тепла теперь в казарме не жди: завтра все паропроводы застынут…
И когда он сам увидел эту теплоэлектроцентраль, тоскливо сжалось сердце. До сих пор он знал одну Ольшанскую: натужно выхлопывающий движок «Орел», да устало жужжавшее старенькое динамо неизвестной марки…
Как завороженный глядел он на гигантский вертикальный паровой котел, хоть знакомо в нем — одно название. Перед глазами совсем неведомое, высотой с многоэтажный дом, сооружение: со множеством сложнейших приборов и устройств, с целой системой металлических промежуточных площадок, лесенок, переходов… И сколько тут рядом всяческого вспомогательного оборудования. Недаром все это большое и высоченное помещение, в свою очередь, называлось котельным цехом ТЭЦ. Государство в государстве!
А турбинный цех? Пораженный его светлым простором, чистотой и малолюдством, он издали, но с острым вниманием, поглядывал на бесшумно работавший турбогенератор, возвышающийся посредине выстланного цветной плиткой зала. Пока Августина возилась со своими списками, видел, как подошел к нему мужчина в белом халате, приставил трубку к блестящему кожуху машины. Спокойно и, казалось, от всего отрешенно, точно жрец, слушал — словно и не бушевала рядом война и ничто не угрожало этому мощному турбогенератору. Трубка формой была точь-в-точь как у Ольшанского фельдшера — только побольше.
— Зачем тут врач?! — неожиданно даже для себя, выпалил удивленный Бурлаков.
— Тише ты, чудак, — зашипела на него усмехнувшаяся Августина. — Это дежурный инженер, турбинист…
Зашикала, замахала своими ведомостями, точно уж в этом святая святых непосвященным и говорить-то нормально нельзя!
Депутатов был прав: знала она, видимо, немало. Между делом толково рассказала о назначении хитроумной топливной галереи, где течет день и ночь, на широкой ленте транспортера, размолотый уголек. С гордостью пояснила, что на ТЭЦ сжигается совсем бросовый уголь: что на вот таких оглушительных шаровых мельницах он доводится до угольной «пудры» и вдувается в топку особыми форсунками, а горит во взвешенном состоянии и полностью догорает в самой верхушке котла…
Побывали они и внутри невысокой береговой насосной станции. Снаружи она, рядом с тридцатиметровым главным корпусом, выглядела просто карлицей. Но оказалось, что служебные этажи ее, с механизмами и оборудованием, уходят глубоко в землю. А в самом низу станции есть устройство для забора речной воды насосами через особые окна-затворы с решетками и сетками…
— Сердце разорвется на части, — сказала она, когда, наконец, с делом было покончено и они заторопились в завод.
— Не боись, — ответил Андрейка, но и сам уходил отсюда с навалившейся на душу тяжестью.
Заводские цехи, хоть и очень внушительные, но все же такие простые снаружи, поразили его своей умной слаженностью внутри.
Их недавняя напряженная и полнокровная жизнь сейчас больше угадывалась: почти все были остановлены. И многое из того, что представлялось возможным погрузить и увезти — уже было эвакуировано.
В термическом цехе рабочие сосредоточенно «раздевали» последние калильные печи: снимали приборы, арматуру.
В инструментальном цехе проходы загромождены наспех сбитыми из нестроганых тесин коробами: и наглухо заколоченными, и еще пустыми. А не занятые упаковкой инструментальщики с усталыми лицами пилили новые тесины, торопливо сбивали ящики. Разворошенным выглядел литейный цех: новые электропечи стояли голые, сложная вентиляция была лишена наиболее ценной арматуры, наготове лежали демонтированные конвейеры. С огромных мостовых кранов литейщики снимали тележки, моторы, разливочные ковши, тросы, крюки… То есть тоже все, что представлялось возможным погрузить и увезти.
В первом и втором механическом цехах — пустые фундаменты. Оживленным оказался лишь последний пролет. Приходили и уходили рабочие, торопливо подтаскивающие металл. Вспыхивали и дрожали яркие сполохи. Автогенщики тут, прямо на цементном полу, сваривали из старых рельсов и двутавровых балок противотанковые ежи. Слесари, потея от напряжения, лихорадочно шмурыгали ножовками: распиливали снятые звенья узкоколейки на колья под колючую проволоку. Работа шла бодро: ежи, рогатки и колья не успевали забирать, и они грозно топорщились вдоль перехода.
Неожиданно Андрейка увидел: Лешка Зимин и Акимов таскали на грузовик многопудовые ежи, а Колчан уже орудовал автогенным аппаратом. Руководил работой сам Васенин.
Похудевший лейтенант заговорил с Августиной. Улыбаясь, сострил, что она «подцепила в адъютанты прицепщика». Вскинув брови, подивился, что долго нет ответа на какое-то письмо.
Бурлакова он будто не заметил, хоть тот и поздоровался с ним во всеуслышанье, как и полагается здороваться с командиром.
— Адъютант у меня временный и по совместительству, а письма теперь вообще идут очень долго! — оправдывалась кумачово зардевшаяся Бузун. Торопливо перевела разговор: — Чем вы тут занимаетесь?
— Роем на «золоудалении» противотанковый ров и окопы, — уже суше пояснил Васенин.
Он молча козырнул и, сильно прихрамывая, заспешил за Лешкой Зиминым и Акимовым к грузовику с ежами. Не оглянувшись, сел в кабину и уехал.
— Почему он так? — невольно затревожился Андрейка. — Поздоровался с ним, как и положено, а он даже не ответил?
— Шут его знает, может приревновал, как «адъютанта», — расхохоталась Августина. И, посмеиваясь, рассказала: — Вспомнил лейтенант, на целых пяти страницах, что до тридцати трех лет не умудрился полюбить и жениться… Нечего сказать: выбрал, наконец, подходящее время для объяснений, да еще, кажется, обижается! А что я ему, старику, отвечу? Просто не представляю, как он узнал мой адрес… И зачем это сто раз называть в письме не просто Августиной, а какой-то «Тиной» и даже «милой Тиночкой»? Словом, не имя придумал, а тихий ужас: «Ти-ина»! Бр-ррр…
Бурлаков впервые в жизни сам ощутил что-то похожее на ревность.
— А еще оспаривала, что у тебя женихов не богато? — сказал он. — И еще Депутатов поверил тогда тебе…
— Как будто я ему письмо посылала?! Вот, если я тебе хоть на семи листах накатаю, ты будешь виноват? А?!
Андрейка промолчал.
Они проработали весь одиннадцатичасовой военный рабочий день, но все равно сделали лишь половину задания. И едва державшаяся на ногах Августина, выйдя из проходной, устало говорила, что Кораблев оказался со своим сверхсроком просто торопыгой. А ее непосредственный начальник Ковшов, как всегда, прав: сразу он сказал, что работы тут на добрых два дня.
15
На другой день Бузун опять пришлось воевать с непокладистым Коломейцевым — не хотел отдавать Андрейку на целую смену.
С трудом охлопотала она себе помощника, при посредничестве Ковшова, со ссылками на то, что осталось самое трудное: действующие цехи и все подземное заводское хозяйство.
Бурлаков думал, что запальчивая Августина говорила это бригадиру просто так, для пущей важности. Но к его немалому удивлению, два цеха и в самом деле еще работали: сборочный и автоматный.
Правда, в глубину сборочного цеха его не пустили, невзирая на пропуск с шестеренкой. Лишь из дверей он видел анфиладу светлых отсеков с убегающей вдаль перспективой нескольких конвейеров, густо облепленных с обеих сторон сборщицами. Да с удивлением понаблюдал минут десять сквозь стеклянную переборку, с каким тщанием и бросающейся в глаза осторожностью упаковывали и увязывали девушки небольшие изделия.
— Чего они с этими штучками цацкаются, как с хрустальными? — спросил он, когда Августина вышла к нему.
— С ними и надо осторожнее, чем с любым хрусталем. Ты разве не знаешь, что это? Но, если нет — то и говорить нельзя…
— Не боись, — усмехнулся Андрейка. — На теплоэлектроцентрали все насквозь поясняла, а про эти фитюльки нельзя?!
— Впрочем, цех дорабатывает последние смены, — махнула она рукой. — Это ж готовые взрыватели!
— А вдруг зазевается какая и уронит?
— Потому тебя и не пустили, — сощурилась она: — заглядится какая-нибудь, а кончится бедой! Вот в автоматном девчат нет и тебе — пожалуйста! А сюда по соображениям техники безопасности нельзя было…
Августина говорила хоть и шутливо, но, видимо, правду. По крайней мере в автоматном цехе вахтер только взглянул на всемогущую печать с шестеренкой и, слова не сказав, пропустил.
Бузун торопилась тут, как нигде. В цехе висел сизоватый липкий туман, тускло горели большие электролампы без плафонов. Пахло перегретым железом и маслом — жарко и душно. Огромные цеховые окна сверху донизу плотно заделаны фанерой. И в этом наглухо замаскированном аду без дневного света и воздуха мерно пульсировали ряды станков-автоматов: неутомимых, могучих, сплошь промасленных, будто потных от усердия.
Быстро прошла за колонны Августина; мимо ушей тек размеренный шум станков, неумолчное позвякивание укладываемых заготовок и деталей. Андрейка весь был — зрение: автомат глотал стальной прут и выбрасывал готовые изделия. Делал это непрерывно, безостановочно, почти без участия станочника, потому, наверное, что придуман был человеком на совесть.
— Или никогда не видал? — подошел к Бурлакову чернявый паренек лет двадцати.
— Не-ет, — признался Андрейка: — Чудеса, да и только! Но работать тут по одиннадцать часов, небось, тяжко? Угоришь?
— Нам на это обычно отвечают, что в окопах еще тяжелее! — сказал парень. — А если спросишь любого заводского автоматчика, то он не меньше двух-трех раз сбега́л отсюда в военкомат, просился в армию! Видишь руки какие?
— Что с ними?
— Пио-дер-мия, — спокойно, по слогам ответил парень. От перегретого масла это… Попроси любого сдернуть рубаху — то же самое! Мы тут в масле, как фитили: насквозь пропитались.
— Да ты б насчет армии-то прямо к директору! — как умел, зондировал Андрейка обстановку.
— Чудак ты, как я погляжу, — снисходительно ухмыльнулся парень, — сразу видно, что на заводе без году неделя… Думаешь не ходил?
— И что ж он?
— Ни-че-го… Если, говорит, ты по-настоящему хочешь помочь Родине, если ты патриот, то твое место в этой Отечественной войне именно у нас в автоматном цехе. Ты, дескать, со своими станками-автоматами куда больше фашистов изведешь, чем с боевой трехлинейной винтовкой или даже с новеньким боевым автоматом ППШ! Да еще кто, мол, тебе его сразу даст? Их, вроде, покуда нехватка. Пришлось ему сказать, что я стремлюсь в автомобильные или механизированные части… Я ведь и с мотоциклом отлично управляюсь!
— Ну? — с жгучей заинтересованностью поторопил Бурлаков.
— Ну и опять: «Ступай, Зуйков: иди и работай с чистой совестью, с утроенной энергией!» Понимаешь, кричит, какую деталь делаешь?
— А на что военком! — загорячился Андрейка.
— Да у завода с ним контакт, — засмеялся недогадливости собеседника парень. — Брони-то наши кто подписывает? Он! Вот как кто из цеха с высоким разрядом заявится — похвалит военком за намерение, и сразу назад… «Молодец, мол, а покуда валяй обратно к станку и хорошенько жми на свою технику, активнее помогай фронту! Потребуешься — позовем!»
— Никакой, значит, разницы?
— О том и речь, что отвечают они в один голос. Это уж нашими ребятами сто раз проверено. Но я в армию все равно — уйду! — с неожиданной силой заключил парень. — Видел, кто за северными воротами в зенитчиках? Я не хочу, чтоб потом каждая такая девка тылом в нос тыкала! Ей потом про гнойнички эти масляные и высокий разряд неинтересно будет слушать… Думаю покрепче попроситься у заводского парторга ЦК, у самого Порошина!
— Тот разве может помочь?
— Он все может… Если, понятно, захочет и тоже не скомандует: за Урал со своими станками-автоматами, комсомолец Зуйков, готовьсь!! Боюсь, не уперся бы и он в мою незаменимую деталь…
— А какую ты деталь делаешь?
— А что?
— И знаешь, куда идет?
— Вот, чудак, ей-богу, — опять снисходительно улыбнулся парень. — Конечно знаю, как и все, что на взрыватель. Иначе бы из-за нее третья девчачья «Сборка Г» не психовала до последнего дня…
Неожиданно появившаяся Августина услышала конец разговора, осуждающе покрутила головой.
— Ты, я вижу, Зуйков, похож на засекреченного болтуна? Слыхал про такого? — ехидно поинтересовалась она.
— Он же не посторонний, а свой, заводской! — смущенно оправдывался Зуйков. — Я гляжу, вошел вместе с тобой, в руках у вас еще какие-то листы бумаги…
— Я, получается, только на погрузках свой! — огрызнулся Бурлаков. — Когда над вашим сверхсекретным оборудованием надо животы надрывать под бомбежкой!!
Но этим он, видимо, лишь усугубил положение. Зуйков пожал плечами и, виновато взглянув на Бузун, заторопился к своим автоматам.
Два или три перехода они миновали молча. Затем Андрейка не удержался и обидчиво спросил:
— Тебе, стало быть, про взрыватели можно было мне сказать, а Зуйкову даже и про детали к ним нельзя? Сразу, значит, нужно было и огвоздить и разыграть?
Ему сделалось еще обиднее от мысли, что интересная беседа с этим чернявым пареньком была так грубо оборвана. Казалось, что он кое-что уже намотал себе на ус и только не вовремя возвратившаяся Августина помешала довести нужный разговор до конца.
— Ничуть я его не «гвоздила», а одернула — правильно, — помедлив, сказала Августина. — В другой раз окажется умнее и будет держать язык за зубами. А номера или литеры цехов, тем более сборочных, нельзя разглашать!
— А как же прикажешь тогда называть, скажем, наш третий механический?
— Очень просто: цех, где начальником товарищ Холодов, — не сдавалась Августина. — И это совсем иное дело: ваш цех тоже имеет совершенно другой литер, а под третьим номером вообще на заводе никакого цеха нет… Это просто называют его так — как говорят, например: вторая формовка, седьмая сушильная камера…
Бурлаков понял — хитрая Августина юлит, и прекратил расспросы.
А ей было совсем невдомек, с какой стороны наносился ему удар и травма. Он и до разговора с Зуйковым наблюдал, что за северными воротами в зенитчиках полно девчат.
— Ну, хватит об этом, — помолчав, сказала Августина. — Нам еще предстоит и наругаться, и налазиться в наших технических подземельях, а срок почти истекает…
Он считал, что с ними давным-давно покончено, что речь тогда шла лишь о подземных этажах береговой насосной станции. Оказалось, что под многими цехами имеются просторные вентиляционные камеры — тоже с моторами и ценным оборудованием, которые было бы преступлением оставить немцам.
Вот тут только и понял он по-настоящему, для чего это технику понадобился «адъютант». Открывал люки и тяжеленные металлические двери, нянчил моторы и приставные лестницы. Нетерпеливая Августина, экономя время, подводила его к входному отверстию небольшого тоннеля:
— Рискнем, что ли: тут всего сотня-полторы метров?
— Давай, если не боишься заплутаться, — осторожно соглашался он.
Он был все еще угрюм: недавний разговор с таким же невезучим Зуйковым взбудоражил и невольно заставил вспомнить все «чаяния и отчаяния», начиная с отъезда из Ольшанца. Но таинственные блуждания по подземному заводскому хозяйству, о котором он и не подозревал, постепенно расшевелили его. Только раз попался освещенный отопительный тоннель, где они смогли идти рядом и во весь рост. Чаще он пробирался за Августиной, согнувшись пополам, низкими тоннелями и коллекторами, с заизолированными трубами и кабелями, видя впереди ее слабо мерцающий фонарик. И, сам того не замечая, он постепенно разговорился.
Невозможно было в такой обстановке работать молча. Теперь он вслух опасался, что самонадеянная Бузун забредет туда — откуда и не выбраться; громко радовался, когда видел впереди горевшие лампочки очередной вентиляционной камеры.
Правда, он пробовал протестовать.
— Ну, в эту дыру, спасибо — я не лезу! — иной раз решительно говорил он. — Тут надо мне не пополам складываться, а в три погибели.
— Тогда стой и жди меня здесь, — немедленно находила решение Августина. — Не выбираться же наверх и кружить снова здорова по пролетам и цехам из-за несчастных семидесяти метров?!
Иногда Андрейка, уже терзаясь раскаянием, напряженно ждал скользнувшую в неизвестность Августину. Тогда даже минуты проходили томительно. Но чаще, устыдясь, что бросает девушку одну, снова двигался следом, осторожно ощупывая теплую плюшевую пыль на плотной изоляции труб.
Наконец они попали в большую, центральную камеру — с общей площадью никак не меньше ста метров. Работы в ней оказалось порядочно, потому что в отпечатанном машинисткой листе обнаружилась путаница, пришлось описывать все оборудование камеры заново.
Андрейка с любопытством шарил глазами по камере. Перевел взгляд на Августину — ждал команды лезть смотреть номера моторов; и впервые беспристрастно отметил, что она очень хороша собой.
Она стояла сейчас, прислонясь спиной к колонне, неровно освещенная сверху лампочкой, и, уставшая, намаявшаяся, сосредоточенно делала пометки в блокноте. Ее непокорные золотистые волосы совсем выбились из-под берета. Гулявший по камере сквознячок то высоко вздымал их, то совсем опускал на лоб.
Облокотясь на перильца из тонких прутков, отдыхая, он задумчиво засмотрелся на эту игру света и тени на ее лице.
— Ты что молчишь и надулся, как мышь на крупу? — почувствовав пристальный взгляд, неожиданно повернулась к нему Августина.
— И не собираюсь дуться, — примирительно сказал он. — Наговариваешь ни с того ни с сего…
— Сапоги теперь совсем не жмут?
— Совершенно… Просто, как другие надел, — с улыбкой потопал он ногами.
— И даже спасиба мне, невежа, не сказал!
Он вспомнил веселое подтрунивание Депутатова и мрачные косые взгляды Васенина, шагнул к Августине, крепко повернул ее за плечи и поцеловал.
Губы у нее были твердые, сердито сжатые. Опущенные глаза глядели на стиснутый в руке блокнот.
16
Обязанности по противовоздушной обороне на заводе имели все. Только самых пожилых штаб ПВО освобождал от дежурства на крышах цехов.
Бригаду Коломейцева, как многочисленную и боевую, Тренин в интересах дела поперемешал в своих штабных списках с работниками двух отделов, и дежурить Андрейке на литейном цехе выпало вместе с Бузун.
— Тебе везет, — узнав об этом, сказал бригадир: — то под землей свидание, то над землей… Сам подстроить сумел или она?
— Больно нужно было подстраивать, — отмахнулся Андрейка. — Если берут завидки, идите вы или давайте замену. Я и вчера, и позавчера тоже почти не спал. Днем в цехе до седьмого пота намахаешься, ночью то погрузки, то тревоги, а теперь вот еще дежурить на крыше. Так можно и разорваться.
— Нет, уж теперь хоть плачь, хоть пляши, а на крыше литейки шесть часов отсиди, — сказал бригадир. — За эти замены перед самым дежурством Тренин по головке не гладит. Твои часы — с восьми до двух ночи, а на работу к семи. Успеешь еще и сладкие сны посмотреть.
Бурлаков хоть и отмахивался, но в душе против неожиданного совпадения не возражал, даже был рад ему.
Он теперь понимал, что Бузун, которой знакома всякая лестница, каждый лаз, давно и по праву здесь своя. А сам он, всего несколько дней назад не сумевший самостоятельно выбраться из последней вентиляционной камеры, не знавший, в какую сторону податься, пока еще, кажется, по-настоящему заводским считаться не может.
Он, конечно, обманывал себя, объясняя так свою радость. К Августине тянуло его другое. Но когда он пытался разобраться в этом — вспоминал Нюшу Крокину и чувствовал, что кругом виноват. Он хотел докопаться до причин своей вины, но не мог и невольно отступался от больного вопроса.
Андрейка захватил два противогаза и пошел за Августиной.
Погода была мерзкая. В кромешной темноте по поселку посвистывал пронизывающий ветер, порой лицо больно стегал сухой колючий снег. Правда, ночь обещала обойтись без воздушных тревог, но предстоящая вахта на крыше обоим не улыбалась. Недавний поцелуй их не поссорил, но еще и не сблизил. Разговор не клеился.
Недалеко от проходной Бурлаков заметил на третьем этаже ближайшего дома ярко светившееся окно и без слов показал на него Августине.
Она остановилась, нагнулась и, найдя обледенелый ком, как пружина, выпрямилась, по-мальчишески ловко запустила его в перекрещенное бумажными полосами окно.
— С ума, что ли, спятила? — схватил ее за руку Андрейка.
Зазвенело и посыпалось разбитое стекло. Вот-вот должен был разыграться скандал.
Но к окну даже никто не подошел, а свет в нем моментально погас.
— Пока еще не спятила, — заверила Августина. — Этих растяп только так и учить! Тренин именно это и рекомендовал.
— Разве можно. Не лето. Замерзнет теперь твой нарушитель. А нового стекла ему не достать.
— Ничего, — жестко сказала она. — Забьет завтра одну шипку фанеркой, а в следующий раз не завалится спать, не проверив выключатель и не зашторив окно. Думаешь он эту… ледяшку не предпочтет трибуналу?
На обширной крыше целого корпуса, со многими перепадами, метровыми выступами брандмауэров, различной высоты пристроями, Бузун без труда разыскала нужную деревянную площадочку с перильцами. Она делалась под пулемет, который здесь не установили. Для дежурства место было подходящее: и с подветренной стороны, и открытое. С восточной стороны, удобно прикрывая от непогоды, тянулся по коньку крыши сплошь застекленный световой фонарь, возвышаясь метра на полтора.
— Толково, — присаживаясь на край площадочки рядом с Бузун, одобрил Андрейка. — Я бы один тут заплутался! Не зря твой завидущий Коломейцев соврал, что эти два дежурства не сами, мол, столкнулись, а охлопотаны.
— А ты, значит, решил, что это совпадение просто с неба свалилось? Или думаешь, что согласилась бы с Горновым дежурить? Еще как пришлось хлопотать-то, даже к Тренину бегала… Я всегда боюсь на этих крышах! На земле, вроде, не очень трусиха, как и все, а вот как заберусь сюда — так просто ничего с собой не могу поделать: дрожу и зубы от страха стучат, точно я одна-единственная мишень для самолетов.
— Не боись. В такую погоду какие ж самолеты? — поспешил успокоить ее польщенный Андрейка. И перевел разговор: — А что-то нашего директора нигде не видно?
— Так он слег в постель, болеет.
— Нашел время, пузан, хворать…
Августина сердито стукнула его по руке:
— Не смей так говорить! Ты разве не знаешь, что он сердечник?
Он, конечно, ничего такого не знал. И она рассказала, что директор очень тяжело воспринял приказ об остановке и эвакуации завода; что он и теперь, совсем больной, руководит штабом эвакуации завода, и дома у него частенько заседает весь заводской комсостав. Попутно она упомянула, что и Тренин работает сутками без сна, на пределе, что, попав с самого начала войны политработником на фронт, он вскоре был тяжело контужен и оттого теперь, порой, вспыльчив, как взрывчатка…
— Ты знаешь, что он был комиссаром? Заметил, у него на рукавах еще сохранились звездочки? — заподозрив в его равнодушном внимании неладное, спросила Бузун. — Да ты никак дремлешь? Замерзнешь! Ну-ка пойдем проверим песок и воду… И, кстати, поглядим в сторону Гусыновки: Васенин сказал, что солодовский противотанковый рубеж бомбят, а в район Гусыновки дважды прорывались немецкие разведчики на мотоциклетах… Спать я тебе на дежурстве все равно не разрешу: не забывай, что я ИТР — тоже, значит, начальство.
Песок в ящиках оказался сыпучий, как летом — молодцы, просушили! Вода в двух громадных утепленных войлоком бочках с крышками подмерзла нетолстой коркой. Андрейка пробил ее кулаком, хотя несколько пар специальных щипцов для «зажигалок» лежали на месте.
Они постояли сколько-то времени у самой парапетной решетки, напряженно всматривались в сторону Гусыновки. Но нигде ни вспышки, ни зарева: туман снегопада смешался с ночным мраком — не видно ни зги; и, проверив утепленный шланг водопровода, почти ощупью вернулись на свою площадочку.
— Андрейка, мне страшно здесь! — торопливо сказала она. — Послушай: ведь это самолеты гудят?
Бурлаков поднял голову. Сдернул ушанку.
— Это наши с бомбежки возвращаются, — уверенно сказал он. — Если б так немецкие зашумели — тут давно бы целое светопредставление шло!
— Именно светопредставление, — с облегчением вздохнула Августина. — И стоит этой музыке начаться, как сразу до тоски чувствуешь, что безумно хочется жить, дышать, работать, любить… В общем: жить! — повторила она. — У тебя, Андрейка, не бывает так?
— Ну почему не бывает, — снисходительно отозвался он. — И опять нахлобучил треух, сбросив холодные брезентовые рукавицы, поглубже засунул кисти стынувших рук в рукава и принял прежнюю позу.
Ему казалось, что он не успел как следует уснуть, когда снова почувствовал торопливые тумаки в бок.
Он непонимающе глядел на лицо Августины: прежде неразличимое, оно теперь светлелось в сизом полумраке и казалось не таким знакомым. На ее лице застыл ужас.
Медленно спускалась над рекой осветительная ракета. В ее мертвенно-бледном свете ясно обозначились все заводские сооружения: силуэт теплоэлектроцентрали, все соседние корпуса, заводские трубы, водонапорная башня, раскинувшийся за оградой большой многоэтажный рабочий поселок.
— Не боись, — торопливо сказал Андрейка, чувствуя, что она дрожит. — Наверное опять, как и позапрошлую ночь, самолет-разведчик люстру нам подвесил!
— Зн-на-аю я, — ответила она, вызванивая зубами. — И сама по-онимаю, что когда разведчики скроются, появятся бомбардировщики. А ты еще говорил, в эту ночь не полетят! Почему ж наши зенитчики бездействуют?
— Я, что ли, ими командую? — не удержался он.
Его уже тяготило и злило собственное бездействие; и, как всегда во время налетов, он сейчас мысленно клял и фрицев, и Гитлера, и так дурно сложившиеся обстоятельства, помешавшие ему вступить в авиацию. Вместо этого воюй вот теперь на крыше мокрым мочальным квачом с зажигалками.
Впереди, еще далеко за рекой, возник и полого лег луч прожектора. Рассекая тьму, он поднялся и, тревожно шаря по небу, осветил тучи. Справа и слева тоже замахали по черному небу яркие мечи и, разрубая темень, поднялись, задрожали, грозно скрестились в зените. Завыла сирена. Хриплой низкой октавой, будто спросонок, заревел среди ночи заводской гудок. Разом ударили, озаряясь огневыми вспышками, орудия зенитных батарей — и те, что за северными воротами, и вокруг завода и за рекой. Яростно застучали на крышах пулеметы. Особо тревожно захлебывались два на соседнем корпусе, взмывали ввысь Пулеметные трассы. Скрещенные щупальцы прожекторов, вздрагивая, скользили по небу и вместе с ними передвигались, точно конвоируя, кучно грудившиеся ватные клубочки частых зенитных разрывов. Но стоило ярким мечам чуть соскользнуть — и зенитные разрывы вспыхивали высоко в небе уже не крошечные, не белые, а большие и грозные, исчерна-багровые.
— Не боись! — крикнул он Августине. — Сквозь такой заградительный огонь не прорвутся!!
«Однако она права: музыка жуткая! — тут же угнетенно и озлобленно подумал он. — Сиди под ней на этой самой крыше и безоружный, и беспомощный — действительно, точно голый вылез!..»
До двух часов ночи налет возобновлялся трижды. Но сильный зенитный огонь всякий раз отгонял стервятников, и к концу дежурства неожиданно дали отбой воздушной тревоги.
Довольный Бурлаков проводил Августину до крыльца и, помогая снять с плеча противогаз, сказал:
— Ну вот и все дежурство… А ты уверяла, что добром не кончится!
— Выходит, я еще счастливая… Правда, с вашим Горновым я бы и до удачного окончания не дожила: умерла бы со страха! — откровенно призналась она. — И сегодня, конечно, я здорово перетряслась, но в общем отделалась намного легче, чем в прошлый раз…
— Помогло и то, что погода все же не больно летная, — уклончиво сказал Андрейка.
Ему хотелось постоять с продрогшей Августиной около крылечка еще; но и сам он намерзся, намаялся, веки слипались и, забрав противогаз, пожелав ей спокойной ночи, почти бегом ринулся в казарму досыпать оставшееся ему время.
17
Технический персонал теплоэлектроцентрали на заводе назывался: эксплуатационники.
Они ревностно содержали машины и агрегаты, непредвиденная остановка и разборка рядового мотора или насоса считалась у них уж ЧП. Обычно все устройства первой и второй очереди — большие и малые — останавливались лишь на плановый профилактический ремонт, по строго разработанному графику.
Страшным делом показалась им эта вынужденная остановка. Причем не первой или второй очереди порознь, а — разом всей теплоэлектроцентрали. Ужасной работой представился им и повальный демонтаж оборудования и полное разорение целой системы сложных паропроводов…
Но грозные обстоятельства и приказы торопили.
Теперь эти машинисты, монтеры, механики, техники и инженеры, привыкшие лишь искусно эксплуатировать и опекать свою красавицу ТЭЦ, с отчаянной решимостью начали ее спасать. На такелажные и погрузочные работы в помощь им Кораблев немедленно бросил, по определению Ковшова, «самую ударную и боевитую» бригаду.
Коломейцы было дружно запротестовали. Горнов громче всех закричал, что не дело бригады тягать чужие трубы, если в родном третьем механическом еще стоят свои станки.
Но в бригаду прибежал запыхавшийся Порошин и разъяснил, что эти большого диаметра стальные цельнотянутые трубы для высоких давлений пара изготовлены на уже утерянных южных заводах, и теперь для страны — огромный дефицит.
Вволю насмотревшийся на священнодействие эксплуатационников при демонтаже паровых котлов и двух мощных турбогенераторов, сам наворочавшийся с трубами и оборудованием до радужных кругов перед глазами, Бурлаков первым устало притащился из столовой в опустевшую казарму.
Чувствовал себя голодным и злым. На ужин была тарелка жиденькой темноватой похлебки из кормовой чечевицы и две ложки противно-сладкого пюре с горьковатой зеленой половинкой соленого помидора.
Апатично взял с подушки записку. Коломейцев напоминал, что завтра с четырех утра надо дежурить в корнечистке. «Не вздумай спросонья орать, что не так давно, мол, дежурил на крыше! — предусмотрительно писал бригадир на тот случай, если не застанет его бодрствующим. — Словом, пресное с кислым не мешай! Это твое дежурство подошло законно. А что довольно скоро — тебе даже на пользу: почти разом от всех повинностей освободишься, а заодно и в столовой завтра основательно подзаправишься. По себе сужу и понимаю, что больно отощал…»
— Завтраками бабка сучку годувала — пока та не сдохла! — сердито откинув бригадирское послание, проворчал Бурлаков. — А вот ты скажи, как быть не жрамши сегодня… Я ведь эту похлебку в одну затяжку через край выпил!
Поднимая с пола брошенную записку, он просто так, без всякой надежды заглянул под дощатое изголовье топчана. Не каждый ведь день бывают чудеса! Но и сегодня белел большой газетный сверток. Развернув, он снова увидел пяток увесистых, хорошо протомленных сахарных свекол. Он хоть и называл этот даровой харч от смущения «студенческим силосом», а в душе радовался и ему.
После двух килограммов этого «студенческого силоса» или «мармелада», почувствовал себя сытым и таким добрым к догадливой Августине, что впору было бежать ей это сказать. Глаза уже сами собой слипались от сытости и усталости.
«В окопах еще тяжелее, — натягивая на голову одеяло, подумал он, — там после вахты на топчане с матрацем не развалишься».
Только и успел подумать.
Но уже безжалостно будил Коломейцев — идти в столовую. Не на почетное контролерское дежурство. Нет. Таких через администрацию не добивались. Столовой просто-напросто был нужен кухонный мужик.
И Бурлаков часа три, с присущей ему добросовестностью и усердием, таскал из подвала и пустеющего овощехранилища кошелки с репчатым луком, чувалы с бураком и картофелем, увесистые окоренки с квашеной капустой. С последним полубочонком плохо засоленных сине-зеленых помидоров, ходко идущих теперь и в суп и на второе, он ввалился, кажется, не вовремя: четыре круглотелые тетки, чистившие до этого картошку, откровенно загораживали подолами сумки. Даже неискушенному в таких делах Бурлакову все стало ясно.
Кормили в столовой все хуже и хуже. И чем плоше «отоваривали» по карточкам талончики «жиры и мясо», чем невесомее делалось второе из сладкого подмороженного картофеля и солоновато-кислого незрелого помидорчика, чем жиже и прозрачнее готовился борщок из квашеной капусты, тем гуще закручивались разговоры о разбазаривании продуктов поварами, стряпухами и раздатчиками.
— Ты чего это уставился, как баран на новые ворота? — проследив его взгляд, врастяжку сказала полная черноволосая тетка.
— А что мне еще делать?
— Вот бери нож, полчувала картошки, садись в посудомойке и чисть! ТЭЦ стоит и корнечистку не велено включать и на минуту…
«Вот ведь как тут сердитые тетеньки эти раздобрели», — с осуждением подумал он, неохотно принимаясь за новое нудное поручение. Он вспомнил и ольшанских колхозниц, и исхудавших заводских работниц. Среди тех и других встречались ему и уставшие, и изможденные, И понурые — казалось гнетет их такое горе, которое уж непоправимо.
Он неумело ошкурил одну картофелину, вторую, третью… десятую; и сделал для себя непреложный вывод, что это «бабское» занятие — самое что ни на есть сильное, необоримое и быстро действующее снотворное. Он изо всех сил пытался встряхиваться, добросовестно бодрился, но мелкая картошка по-прежнему рябила и плыла перед глазами, а сам то и дело вздрагивал: поминутно ронял на гремучий жестяной лист звонко стукавшийся нож.
Когда измучившийся Андрейка совсем отчаялся справиться с собой и хотел опять выпрашиваться на живую «мужскую» работенку грузчика чувалов, в посудомойку шумно ворвался запыхавшийся Пронькин:
— Брось, Бурлаков, эти кожурки к чертовой бабушке! И по-военному, на носках к секретарю замначштаба эвакуации завода!..
— Почему ж это по-военному? — насторожился сразу протрезвевший от сонливости Андрейка.
— Потому, что Тренин тоже не пешка в штабе эвакуации и наверное это он сосватал тебе назначение в эшелон, — сказал Пронькин, и его широкое круглое лицо расплылось в улыбке еще шире. — Или позабыл и сам, что мобилизованный? Да ты что так ошалело на меня воззрился-то? Бери, говорю, живее, у секретаря главинжа свое удостоверение и валяй себе с богом за Урал!!
— А еще из бригады кто едет?
— Кроме господа-то? — засмеялся Пронькин. — Сам Сережа Коломейцев! Вот, может, он тебя и просватал?
— Ты-то едешь?
— Меня покуда сосватали на вридзамзавбригадой, — верный самому себе скаламбурил он. И досказал, уже серьезно: — Ну, я побежал, занят… Не забудь — промедление сейчас смерти подобно: чтоб к секретарше этой летел, как на крыльях, одним мигом!
Бурлаков думал, хорошо бы перенестись туда мгновенно, чтобы не опоздать это ужасное решение опротестовать. Он еще не мог отвыкнуть от своих планов заделаться асом, хоть и видел теперь, что цель очень дальняя, осуществление ее полностью зависит только от того, сумеет ли он попасть в действующую армию. Это назначение в эшелон — гроб его планам! Да ведь он не так и родом оружия дорожит, как дорожит возможностью принести наивысшую пользу. Несмотря на нетерпеливое ожидание завершения демонтажа и погрузок, он не был готов к такому непредвиденному концу и настойчиво, торопливо искал сейчас выход из создавшегося положения.
Ему и самому хотелось мелькнуть к этой секретарше птицей, потому что совершенно невозможно даже и подумать о согласии, а не пришлось без помех и просто по-людски добежать.
Едва успел припустившийся Андрейка пересечь половину заводской территории, объявили воздушную тревогу и чересчур ретивый дежурный штаба ПВО почти насильно спровадил его в ближайшее бомбоубежище.
Правда, получилось, что вовремя: раздались приглушенные, почти слитные взрывы. Человек сорок точно по команде вперили глаза в потолок.
— Это не на завод — за рекой упали, — тоном знатока сказал один из рабочих. — А сюда, к примеру, если прямым попаданием хоть четвертьтонная — только щепки полетят от нашего бомбоубежища!
— Хватит и ста, или даже пятидесятикилограммовой, — немедленно поправил его другой. — Вместо такого частокола организовали бы, не мудря, на территории рассредоточенные полевые блиндажи: этак в два-три наката! Верно: как бывший сапер говорю! А такое «усиление» перекрытия что, — безнадежно махнул он рукой: — в случае чего — братская могила…
Андрейка невольно поднял глаза: под перекрытием подвала вдоль и поперек, точно путевые рельсы, пролегали двутавровые балки усиления, подпертые доброй сотней бревенчатых стоек — наставленных на каждом шагу. Но чувства надежности и безопасности ничто здесь не вызывало; и он с тоской думал, что это душное глухое убежище и впрямь будет «в случае чего» — погостом.
К счастью, тревога оказалась короткой, и через двадцать минут после отбоя он стоял перед седоватой секретаршей с накрашенными губами.
Она тоже прибежала из укрытия, на лице еще играл нездоровый румянец, но отнеслась к торопливому посетителю даже с интересом.
— Вот ведь как повезло вам, молодой человек! — возбужденно тараторила она, вынимая из ящика стола отпечатанное на машинке удостоверение и раскрыв разносную книгу. — А моего племянника опять оттеснили… Снова оттерли, а ведь он заочник, на втором курсе…
— Мне везет, как утопленнику! — сразу сорвался, перебивая ее, Андрейка. — Просто, как заклятие: я хочу в действующую армию, а меня то в землерои, то в помпекаря, то в демонтажники, то в грузчики… От кого ж хоть теперь это назначение в эшелон зависит?
Секретарша остренько взглянула на него, молча закрыла «разноску», суетливо выбралась из-за стола и, обойдя его, засеменила с удостоверением в руках к кабинету.
— Я сейчас доложу! — шепнула она, уже берясь за дверную ручку.
Она вернулась и опять полушепотом, тоном заговорщицы посоветовала:
— Пройдите, молодой человек, и поговорите с ним смело, как здесь! Он прямых и настойчивых любит…
В сдвоенных, как тамбур, дверях кабинета Андрейка столкнулся с Горновым, который, кажется, не узнал его — был чем-то расстроен. Кораблев говорил по телефону и из отрывочных его фраз можно было понять, что где-то вне завода погибло при бомбежке много людей. Его крупное волевое лицо выглядело усталым, возле углов рта пролегли жесткие складки.
— Ты чего это мудришь, не хочешь удостоверение брать? — положив на рычажки трубку, строго спросил он. — Почему отказываешься вагон с ценным оборудованием сопровождать?
— Потому, что думаю в действующую армию, на фронт, — упрямо повторил Бурлаков.
— А тут не фронт?! — крикнул Кораблев знакомую Андрейке фразу. — Мы давно на переднем крае… Час назад двадцать семь человек на участке золоудаления головы свои сложили — на важных оборонных работах погибли! И кроме этих… разве мало наших заводских рабочих пали смертью храбрых прямо у станков под пулеметным огнем и бомбежками? Я не оговорился: именно так о них надо сказать! А потом час за часом, день за днем, опять зачастую ценою собственной крови, а нередко и жизни спасали станки и все другое заводское оборудование?! А ты, значит, считаешь это маловажным?
Бурлаков горько усмехнулся:
— Я тоже, кажется, грузил предостаточно.
— Знаем! А чего так криво усмехаешься? Выходит, считаешь, наряду с самыми отсталыми, что не стоит спасать такой ценой эти «железки»? Вот только перед тобой разговаривал я с одним из таких — точно в душу он мне наплевал… Пожилой уже, а совершенно ему невдомек, что спасают люди не «железки», а — железную силу страны!.. Ту — без которой не выстоять!!
— Что вы, — торопливо вставил Бурлаков. — Я теперь это понимаю. И сам я не по всякой тревоге в убежище бегал!.. Но если б я был кадровый заводской рабочий и делал, например, такую важную деталь? А то ведь я просто мобилизованный… Никакого тут ущерба завод не претерпит.
Кораблев чуть заметно усмехнулся, а складки в углах губ заложились еще глубже.
— Мы тебе большее доверяем: сохранить Родине то, на чем куется очень грозное оружие, — сказал он. — А оружие сейчас — Победа! С эшелоном, конечно, тоже может всяко случиться: и задержки, и бомбежки, и перегрузки вагонов… Но ничего: справишься… Уж коль попал на завод — так помогай до конца! Не зря ж тебя со всех сторон мне хвалили. Да и сам я в свое время повоевал и теперь, вроде, неплохо разбираюсь, с кем можно идти в разведку, а с кем и на печи ненадежно… Забирай, Бурлаков, без долгих разговоров удостоверение и поторопись валенки в дорогу получить… И помни, что для мобилизованного любой приказ ГКО — боевой приказ!!
Андрейка выскочил от грозного замначштаба красный, как из бани. Даже лейтенант Васенин, со своими недавними косыми взглядами, показался ему теперь более уступчивым и покладистым. Растерявшийся, он, только выйдя наружу, подумал, что не взял ли его напористый замначштаба этим высоким приказом на пушку и, лишь сейчас, вынув из кармана стеганки, пробежал глазами свое удостоверение. Но нет, все было непоправимо солидно: отпечатанное на плотной бумаге жирными синими буквами, с большим штампом в углу и скрепляющей три размашистых подписи глазастой круглой печатью внизу, оно и начиналось весьма внушительно: «Согласно приказу ГКО оборудование номерного завода направляется…» Торопливыми мелкими шажками к нему подбежал ревниво поджидавший Горнов и озабоченно спросил:
— Ну?
— Еду, — так же коротко ответил ему Андрейка, пряча в ватник удостоверение.
— Понятно, — обиженно топорща подстриженные усы, сказал Горнов. — Чего уж там, известно! Ты вот молодой, и нервы нетронутые, селянские — и уже отправляешься! А мне, как отрезал: поедешь, говорит, когда вся бригада поедет. Ему, вишь, железки эти всего важнее: не все, мол, еще в вашем цехе машинные ошкурки пособраны…
«А ведь, разбирая свой карусельный даже прослезился», — с удивлением вспомнил Андрейка, расставшись с Горновым. И, странно, этот в сущности неприятный разговор быстро попал в орбиту его торопливых думок. То обстоятельство, что кроме забракованного племянника секретарши есть еще на его вагон конкретный живой охотник — повернуло мысль о неизбежности поездки, и он поддался новому ходу обнадеживающих соображений.
«Валенки эти, дорожные, пока получать не буду, — думал он. — Поговорю сейчас сначала с Васениным, а потом и с самим Порошиным можно потолковать… Не на свадьбу отпрашиваюсь! А может, Лешка Зимин или хоть Акимов полюбовно вызовутся? Все одно они автомобилисты-то липовые… В конце концов хватит мне отираться в тылу хлебным токарем. Фриц прет так» что душа горит. Радиосводку слушаешь, а руки сами просят ППШ!»
Однако через пять минут от новых его соображений решительно ничего не осталось. Потому, что встретил Бузун и она поделилась с ним такими новостями, от которых все его в спешке построенные надежды развеялись в прах.
Она остановилась около него сильно заплаканная. В глазах ее были слезы и тревога.
— Ужас! — сказала она. — На площадке золоудаления, на рытье рва и окопов, почти все бомбежкой побиты. Васенин тоже насмерть… — Голос у нее сразу сорвался, она всхлипнула и досказала полушепотом: — И твои дружки… Акимов и Зимин тоже убиты наповал.
— Ты сама видела?
— Всех видела, а теперь жалею, что ходила смотреть, — плакала она. — А ты туда не ходи — их уже увезли…
— Як парторгу ЦК Порошину шел…
И Андрейка даже сообщил, зачем ему понадобился Порошин. Он не смог сказать ей, что шел именно к Васенину и ребятам-землякам.
Августина торопливо вытерла глаза и, проглотив слезы, зло спросила:
— Один думал?! Да ты что: маленький или умом рехнулся? Да ведь Порошин сам твердит, что эвакуация оборонной техники вопрос жизни и смерти! Зуйков-то как в армию рвался? Просто гремел, как жесть на ветру, а сунулся с этим к Порошину — и теперь отправляется, точно миленький, со своими станками-автоматами на восток! Кажется, десятый у него вагон, моим соседом поедет… А твой двенадцатый, у Коломейцева тринадцатый… Он, чудак, даже хотел с Зуйковым меняться, но Холодов запретил: говорит в документах будет путаница… У тебя тоже в удостоверении указано, что сопровождаешь двенадцатый вагон!..
— Ты разве едешь?
— А ты считаешь, что техник ни в эшелоне с оборудованием, ни за Уралом не нужен? Еду, конечно… Я только во сне увижу, что попала к гитлеровцам в плен — и то в жар кинет. Я даже пистолета в руках не держала… Я ж совсем необученная! Васенин хоть и говорил, что, дескать, в крайнем случае, тут каждый цех пригоден для упорных баррикадных боев… Здесь, мол, любой бетонный приямок — отличное пулеметное гнездо! Но ему можно так рассуждать об уличных боях, он обучен и хорошо владе…
Она вспомнила, что Васенин уж нигде теперь не существует, осеклась в своей тревожной скороговорке на полуслове и опять заплакала.
Подавленный, он ничего не ответил ей. Не обронил своего излюбленного: не боись.
Первой совладала с собой все же Августина. Она отерла лицо рукой и деловито сказала:
— Не валяй, Андрейка, дурака: не ломись головой в стенку… На твоем ведь документе и подпись парторга ЦК Порошина! И ты вообразил, что он теперь от своей подписи враз откажется? Он и от слов своих ни за что на свете не откажется! Лучше пойдем на склад получать валенки, пока не закрыли. Кроме того, у меня нет зимнего пальто и мне, как ИТР, обещали выдать полушубок… Или ты боишься, что в валенках будешь не боевито выглядеть?
— Ничего я не боюсь, — тоскливо протянул он, снова дивясь проворности и энергии Августины.
Она настойчиво повлекла его в склад и обескураженный Андрейка шел туда угрюмо и понуро, как в тумане. «Кто ж все-таки сосватал меня в этот эшелон? — опять подумал он. — Кто больше виноват, что я по сю пору и не обучен, и без воинской формы, и без оружия, и почти голодный?»
Больше всего винил он в дурно складывающихся обстоятельствах Васенина и вот теперь, с его смертью, вдруг почувствовал себя совсем одиноким, никуда не приблудившимся. И вспомнив утверждение Депутатова, что «нет в войну худшего, чем оказаться, хоть на время, ничейным и бесхозным», торопливо проверил в кармане свое удостоверение.
На двенадцатый вагон-платформу грузили шаровые мельницы, насосы, но большую часть его отвели под станки-автоматы.
Бурлаков был доволен, что на его громадном открытом четырехосном «пульмане» покатит на восток и то, на чем непосредственно куется оружие. Это в его глазах крепче оправдывало неизбежность и необходимость поездки.
Но в душе он сожалел, что главное оборудование теплоэлектроцентрали не подпало под начальство Холодова.
Эксплуатационники опять проработали всю ночь напролет. Они, оказывается, успели закончить демонтаж основных агрегатов и к утру погрузили не только два разобранных паровых котла и оба турбогенератора, но и автоматизированные устройства топливоподачи; и даже догрузили остатки тех труб, о которых так хлопотал Порошин.
Все это, как узнал теперь Бурлаков, благополучно отбыло с территории завода еще на рассвете. Строгий приказ ничего не оставлять врагу, эксплуатационники выполняли, как и все на заводе: не щадя себя.
Когда «пульман» Бурлакова догружали, он тоже, по своему обыкновению, трудился изо всех сил. Но торопясь от вагона за грузом, он уж заметно припадал на ноги и сдержанно морщился от боли: сапоги опять немилосердно жали ступни.
Пробегавшая мимо Бузун — ее вагон тоже заканчивали — немедленно это заметила и приостановилась:
— Ты чего это, Андрейка, снова вроде хромаешь на обе ноги? Или устал, а от устали конь о четырех ногах и то спотыкается? — озабоченно пошутила она. — Неужели этот усатый дядька, который мазал твои сапоги дегтем, не помог тебе навсегда избавиться хоть от этой несносной напасти?!
— Если б дегтем! — помрачнел Андрейка. — А то каким-то олеонафтом. Я, наверное, потому и хожу опять как в колодках, что он тут усердствовал не по разуму… Не зря, видать, Депутатов специально предупреждал, что если подсунут вместо чистого дегтя мазут или другие какие нефтеотходы — тогда и вовсе слезами заплачешь! Боюсь вовсе б не пропали теперь сапоги!..
— Ничего, Андрейка, не расстраивайся так, — заторопилась утешить его Августина. — Мы по дороге непременно что-нибудь придумаем: или уж самого разнастоящего дегтя добудем, или — вернее всего — поменяем взятые из склада валенки на подходящий тебе размер… Потерпи немного… вот честное комсомольское я тебе в дороге все быстро устрою!!
Августину кто-то громко позвал и, проговорив это, она снова помчалась к своему соседнему одиннадцатому вагону.
А его опять с прежней силой заняла другая, гораздо большая, впрочем уже давно тревожившая мысль: как же это их эшелон будет обходиться в пути без теплушки? Семнадцать четырехосных «пульмановских» платформ для оборудования и ни единой крыши для людей? Быть может, с паровозом что-либо подадут?
Покончив с погрузкой своего вагона, он решился спросить Холодова, что это затевают плотники на первой платформе? Но приблизясь к ней и сам понял, что делают небольшой тепляк. Оказалось, что начальник эшелона был озабочен тем же и заметно нервничал, когда у плотников получалась хоть минутная заминка.
Подошел Порошин и, узнав о чем речь, немедленно подтвердил, что железнодорожники окончательно заявили — ни теплушки, ни даже простого крытого товарного вагона к этому эшелону не будет: их нет! А как появятся — немедленно будет сформирован очередной эшелон для рабочих и их семей.
— Они там толкуют, что все равно, дескать, сопровождающим нельзя оставлять груженые платформы беспризорными и на час, — добавил Порошин. — Иначе, мол, вместо ваших моторов, на восток может уехать чья-то картошка или сундук…
— Да об этом и наши пишут, — мрачно согласился Холодов.
— Вот ты, говорят, из породы умельцев? — вдруг положил Порошин руку на плечо Андрейки. — Так ты бы, чем попусту глазеть, взял сам топор, да и сбил бы себе маленький теплячок: в этот разве все уместитесь? А заодно бы и соседке помог будашечку сделать… Ведь не в Крым едете, в Сибирь! А что три плотника успеют кроме сделать? — подадут паровоз, и конец! Или, думаешь, тебе и на открытой платформе будет жарко?
Плотничьему-то делу он и впрямь не плохо поднаторел от отца. На самом конце двенадцатой платформы скоро вырос ладный тесный теплячок, с войлочной прокладкой и квадратиками стеклышек на все четыре стороны.
Завиду́щий Коломейцев лишь руками развел:
— Ты что это, прицепщик, не полевой вагончик для зимовья трактористов устроил? — пошутил он.
— А тебе б хотелось на обухе рожь молотить? — огрызнулся запарившийся Бурлаков на бывшего бригадира. — Или что б я до Урала, а то и дальше зябликов ловил в темном фанерном скворечнике?
Коломейцев посмеялся, а потом и он, и Зуйков засучили рукава и сбили себе такие же. Намного хуже, конечно, но — похожие, как подобные параллелепипеды.
На другой день утром, за несколько часов до отхода эшелона, Бурлаков делал самое трудное в своей жизни: хоронил своего первого командира и друзей недавнего босоногого детства, своих земляков-ольшанцев.
Они еще с вечера условились с Августиной принять в этом скорбном деле посильное участие. И на рассвете она аккуратно заявилась, но едва державшаяся на ногах от бессонницы. Ее заплаканные глаза смотрели строго, лицо за ночь осунулось и казалось напряженным.
Мертвый Васенин не выходил у нее всю ночь из головы, она теперь не простит себе «ответа молчанием» на его почти предсмертное письмо… Эта мысль заслонила у нее сейчас все остальное, даже предстоящую отправку эшелона. В конце концов она разрыдалась и, сказав, что остаться не в силах, — ушла.
А «нетронутые, селянские» нервы Бурлакова ничего, выдержали.
Тренин распорядился было похоронить всех семерых побитых новобранцев по-фронтовому: без гробов и в братской могиле.
Но Бурлаков добился разрешения похоронить своих земляков в такой же «смертной сряде», как и убитых заводских рабочих.
Вдвоем с Колчаном сбили из наспех поструганных тесин гробы, выкопали глубокие могилы.
Труднее оказалось сообщить о смерти ребят родителям.
Андрейка долго грыз в задумчивости карандаш, размышляя, как же о таком написать. Он не забыл слова бывалого Депутатова, что с фронта всем родителям сообщают о погибших сынах «пал смертью храбрых», если даже засыпало кого в окопе сонным. Но ведь то с фронта, а они погибли на рытье противотанкового рва, не имея в руках боевого оружия, не сделав ни единого выстрела.
Смущало его и то, что письмо это потом непременно будет читаться многими односельчанами, быть может, вслух в сельсовете. И потому очень не хотелось Бурлакову упоминать тут про эту самую… землеройную работу.
Однако вспомнив, как отзывался об убитых Кораблев, как высоко вообще ценил он стойкость и мужество павших под пулеметным огнем и бомбежками заводских рабочих и работниц — Андрейка, уже не колеблясь, приписал:
«Алексей Зимин и Дмитрий Акимов геройски погибли на важных оборонных работах! — И, еще подумав, добавил: — Сложили свои головы, спасая бок о бок с презирающими опасность безоружными рабочими оборонную технику и станки, на которых куется оружие! А оружие и хлеб сейчас — это Победа! Потому, что с голыми руками или, к примеру, с чистиком и гаечным ключом даже и одного вооруженного до зубов фрица не свалишь. Но всем нам еще предстоит остановить злобного врага, и, повернув его вспять, беспощадно гнать и громить всю гитлеровскую армию! И окончательно добить напавших фашистов в их же логове!!»
«Вот теперь пусть хоть и в сельсовете читают», — подумал он.
18
Эшелон под начальством Холодова продвигался в пути очень медленно. В первый день он не столько двигался, сколько ждал.
Еще недавно Бурлакову казалось, стоит поживее произвести демонтаж, порискованнее — не чересчур отсиживаясь в щелях — завершить отгрузку, и оборудование — на востоке!
Оказалось, что поездка с такими же ценными эвакуационными грузами — с техническим оборудованием, станками, зерном, сельскохозяйственными машинами — шли на восток один за другим; с тормозной площадки в хвоста идущего эшелона почти всегда был виден дымивший по пятам паровоз следующего.
Так же спешно эвакуировались другие промышленные предприятия, элеваторы, шахты, МТС, склады.
Грузопоток был так велик, а особый военный график так решительно пропускал в первую очередь встречные поезда с войсками и воинскими грузами, что уж никто не удивлялся частым остановкам и долгим ожиданиям.
Эшелон Холодова и на второй день продвигался в пути очень медленно. На некоторых перегонах пешеход мог быстрее добраться до ближайшей станции, чем люди, сопровождавшие эшелон. Тогда их обгоняли бредущие по обочинам беженцы. Молча шагали с узлами и палками притомившиеся деды. Плакали, ругались женщины, волочившие санки с закутанными ребятишками, с трудом катившие оледенелые самодельные тележки с домашним скарбом. Иные, обессилев, останавливались на отдых табором: сообща, сложив из камней примитивный очажок, варили пищу, грелись у костров.
Порой по тянувшейся возле насыпи грунтовой дороге проходила в том же направлении воинская часть со своими забрызганными подмерзшей грязью, продымленными обозами, помятыми полевыми кухнями, опаленными в боях танками с развороченными башнями…
А навстречу этому потоку мчались на запад скоростные литерные поезда с войсками и военной техникой. Эшелоны с солдатами перемежались с составами зачехленных орудий, самолетов, танков, полевых кухонь, ящиков с боеприпасами и другим воинским снаряжением.
На заводе Бурлаков сто раз слышал, что главное — миновать две-три большие станции, которые нередко подвергаются налетам и днем и ночью. Теперь он знал, что эшелоны бомбят и в пути. По обеим сторонам насыпи то в одном, то в другом месте еще валялись неубранные остовы разбитых и обгорелых вагонов. Лежали на боках и спинах, страшные в своей мертвой бесполезности, поверженные под откос паровозы. Бурлаков, еще не добравшись до крупных железнодорожных узлов, понимал, как важно миновать и забитый составами беспомощный полустанок или разъезд. На узловой хоть есть надежда, что стервятников отгонит удачный зенитный огонь. А чем от них спасешься, если они налетят в пути или на степном разъезде?
Именно на таких уязвимых глухих станциях, полустанках и разъездах по многу раз в день томились люди Холодова. И на второй день эшелон больше ждал в сторонке, чем продвигался вперед: строгий военный график опять то и дело переключался на полное использование двухпутки. И тогда можно было видеть необычную тревожную картину: уже по обеим стальным колеям мчались на запад скоростные воинские эшелоны, внеочередные литерные поезда с военными людьми и боевой техникой.
Несмотря на частые и затяжные остановки, Холодов запретил любые отлучки. Питались лишь тем, что везли.
Теперь Бурлаков оценил дальновидность штаба эвакуации завода, зарезервировавшего немного продуктов для эшелонов с рабочими и их семьями.
Правда, такой неофициальный паек становился скуднее, холодовцам выдали всего-навсего по мешку картофеля на троих. Но в группе Бурлакова (одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый вагоны) с одной подмерзшей буханочкой хлеба был только он. Местные оказались с кое-какими домашними запасами. Бузун погрузила целых два мешка сахарной свеклы. Сергей Коломейцев — почти полпуда плохо вызревшего гороха.
Вполне оценил теперь Бурлаков и вовремя данный совет Порошина насчет «будашечки». Плотники в самом деле едва управились закончить небольшой теплячок на первой платформе и, кроме Холодова, в него одновременно могли втиснуться не больше трети сопровождающих эшелон людей.
Самодельную клетушку на ходу пронизывало, мерзли ноги в проклятых тесных сапогах. Но, по сравнению со многими, он ехал, пожалуй, сносно. И если б валенки не лежали рядом на фанерной полочке, а были, как и полагается, на ногах — он бы, наверное, чувствовал себя в этой каморке даже уютно. Беда в том, что на заводском складе не нашлось ни одной пары по ноге. И взял он валеные сапоги только потому, что разбитной кладовщик клялся и божился, будто это самый ходовой размер и можно будет запросто обменяться с кем-либо в дороге. Кладовщика тогда поддержала Августина, а вот теперь попробуй: поменяйся! Хоть размер валенок и в самом деле порядочный.
Бурлаков сейчас уж думал, что не надо гневить судьбу. Народ, сопровождавший «эвакогрузы», ехал всяко: кто как сумел и успел.
Он видел и зябко притулившихся к ящикам и машинам, и глубоко забравшихся под заиндевелый брезентовый полог, и сидящих просто сверху оборудования, неподвижно подставив себя морозу и ветру. Несколько человек «ловили зябликов», с головой накрывшись рогожными кулями и мягкими полосатыми матрацами.
Особенно холодно было по ночам. Тощий соломенный матрац и одеяло простывали насквозь.
И на вторую ночь эшелон поставили в тупичке небольшой и черной, как сама ночь, станции. С наступлением темноты все на железной дороге подчинялось режиму светомаскировки. Правила работы в ночное время при маскировочном свете были так освоены, что и действующие станции погружались в обманчивую кромешную темноту.
Холодов еще раз наказал никому не отлучаться от вагонов, а сам, как всегда на остановках, побежал к местному железнодорожному начальству доказывать важность груза и требовать немедленной отправки своего эшелона. Телеграмм, убедившись в их бесполезности, он теперь не давал.
Гудел пронизывающий ноябрьский ветер, морозный туман смешался на станции с ночным мраком — не видно ни зги. То и дело слышен перестук колес проносившихся в сторону фронта воинских эшелонов. Отправила станция несколько составов и на восток. А эшелон Холодова все стоял, начальника все не было.
Пришел он уставший, продрогший от стужи, охрипший от ругани. Но, отдышавшись, бодро сказал:
— Совсем уж нежданно с ребятишками и женой повидался… И со многими заводскими — инструментальщики наши поехали! Мы все ворчим и ругаемся, а на восток поезда пропускаются тоже с разбором. Есть указание давать предпочтение людским эшелонам… При мне отправили четыре поезда с рабочими и их семьями. Два — наши, заводские…
— А нас скоро отправят? — спросил Коломейцев.
— Да обещали по возможности не задерживать, — ответил Холодов бодрым голосом.
Он так и не обмолвился ни словом о других новостях, всего час назад услышанных на этой станции. Путейцы рассказали ему, что бомбят уже не только прифронтовые железные дороги, но и сравнительно отдаленные, такие как Пензенская, Казанская, Горьковская…
Поняв, что под суконным одеялом не угреться, Бурлаков быстро вскочил со своего узенького топчана и, как был, в ватнике, минут пять в бешеном темпе приседал и выбрасывал руки.
Заглянул сквозь стеклянный квадратик в одну сторону, в другую. Поезд по-прежнему стоял в тупике. Чуть брезжил ленивый ноябрьский рассвет. Мороз усилился: хруст шагов у вагона даже отдался, как эхо, внутри его заиндевелой каморки.
Рывком отклеив прихваченную морозом дверь, вошла Августина, неся большой чайник с кипятком и полный котелок дымящейся картошки. Поставив все это на фанерный столик, взглянула на Бурлакова и руками всплеснула:
— Ведь ты посинел, Андрейка! Замерз?
— Просто окоченел, — кривя непослушные губы, признался он. — И руки, как грабли, видишь?
Поощряемый Порошиным, он успел тогда сбить и на одиннадцатой платформе такую же каморку. Но войлок попался под руку не строительный, а настоящий. Хватило его, правда, на узенькую клетушку, крошечного пристенного столика негде было приколотить. Получилась «будашечка» на треть меньше, но во много раз теплее. Помогал там Бузун и примус. А главное — надежно спасал новенький, добротный полушубок-маломерка, выданный на заводском складе.
— Переодевайся поживее! — прикрикнула она, торопливо расстегивая крючки своего беленького полушубочка. — Разве так можно? За едой я и в твоей стеганке не замерзну!
— Не надо, — с трудом шевеля замерзшими губами, остановил ее Бурлаков, не дав снять полушубок. — Думаешь я его на себя напялю? Сразу расползется по всем швам… Как на Пугачеве заячий тулупчик! Помнишь?
— Все помню, — упрямо сказала Августина. — Я даже помню, кто мне отдельное купе сбивал… Согрейся хоть так, — она плотно запахнула его теплыми овчинными полами, но вдруг густо покраснела от смущения.
И в этой минутной стыдливой беспомощности она показалась Бурлакову милой, доброй, доверчивой и необыкновенно красивой, он сгреб ее в свою могучую охапку и стал молча целовать.
Августина испуганно мотала головой, но он, склонившись, целовал ее в щеки, лоб, нос, глаза. Пока его неживые, холодные губы не начали гореть, а ее — робко отвечать. Они бы, наверное, стояли и целовались еще, хотя она, задыхаясь, шептала, что убежит без завтрака. Но звонкий хруст шагов у вагона заставил их быстро отпрянуть друг от друга.
Опять гулко отлепилась дверь, снова посыпался в углах иней и в будку осторожно протиснулся Коломейцев:
— Не помешал? Не опоздал?
— Хотели без тебя за стол садиться, — поправляя волосы, сказала Августина. — Доставай, Андрейка, из-под топчана наши ящики-кресла!
— Молодец, — неопределенно похвалил Сергей, окинув взглядом и ее, и послушно нагнувшегося Бурлакова, и аппетитно дымящуюся картошку. — Нигде не теряешься!
— А если б я терялась, так ты бы, Сережа, завтракал в обед, — постаралась она дружелюбно придать его словам лишь одно значение. И со вздохом добавила: — Господи, даже утреннюю радиосводку негде послушать!
— Холодов слушал, — угрюмо сказал Коломейцев: — Ожесточенные оборонительные бои в районе Москвы…
Едва они успели съесть картошку и выпить по кружке кипятку с подмерзшим присоленным хлебом, — буфера лязгнули, состав несколько раз дернулся.
— Ого! Как долго ни стояли, а все же, кажется, поехали, — поднялся на ноги Коломейцев. И, выйдя из будки, ревниво крикнул: — Давай, Августина, по коням!..
Бузун то ли не управилась соскочить за ним следом, то ли помешкала немножко умышленно, но момент был упущен, поезд тронулся.
Прыгать с высокой пульмановской платформы на ходу — остаться без ног.
— А шут с ним, — сказала она с грудным смехом. Не важно, где сидеть, важно, что мы едем! Ничего моим станкам и транспортерам на ходу и без меня не поделается…
— Скоро опять остановимся, — в тон ей сказал Бурлаков. — А покуда кипяток не остыл — можно греться…
Он не ошибся: всего с полчаса ехали без всяких задержек, довольно бодрым ходом. Среди чистого поля поезд резко сбавил скорость и через несколько сот метров стал пробираться совсем шажком, точно по ненадежному мосту.
Андрейка взглянул сквозь чистые квадратики стеклышек в одну сторону, в другую и, толкнув дверь, не говоря ни слова, метнулся из каморки. Напуганная его поспешностью, Августина торопливо выскочила за ним.
То, что они увидели, заставило их остановиться у борта вагона, как вкопанным, молча замереть. Место, где они проезжали, было усеяно посверкивающими белой жестью консервными банками, а все поле вокруг густо и далеко-далеко припудрено цементом. По обеим сторонам насыпи валялись сгрудившиеся, покореженные вагоны. Видно, оба поезда попали под бомбежку в момент сближения: два паровоза лежали под противоположными откосами почти друг против друга, тревожно задрав к небу огромные колеса. Участок свежего пути, по которому шажком пробирался эшелон, ярко желтел новыми шпалами. Разрушенная бомбежкой двухпутка была исправлена, но восстановительный отряд и специальная воинская часть еще работали: железнодорожники и солдаты резали автогеном сгрудившиеся металлические остовы товарных пульманов, разбирали и по кускам оттаскивали их от железнодорожного полотна тягачами и даже танками.
Бузун взглянула на часы — было ровно девять. Вот, оказывается, что означали глухие, далекие, но очень сильные взрывы, разбудившие ее в четыре утра!
Она заметно присмирела.
Осторожно миновав восстановленный участок — поезд дальше помчался под уклон, точно радуясь надежному простоту, совсем как скорый пассажирский. Он летел вперед так, словно стремился теперь наверстать все упущенное время. А это — невольно бодрило.
К тому же выглянуло солнышко, от него сразу посветлело не только в небе, а и на душе Августины. И как ждущего своей очереди больного не всегда накануне пугает трагический исход в операционной, а иногда, вопреки здравому смыслу, даже позволяет ему надеяться, что вероятный «процент смертности» у хирурга уже исчерпан… так и Бузун вдруг показалось, что все самое страшное на этом участке железнодорожного пути уже случилось, осталось позади и ей лишь долго будет вспоминаться потом это необычное жуткое поле — усеянное жестяными консервными банками, густо присыпанное вокруг цементом.
Они снова вошли в каморку, получше закрыли покоробившуюся дверь, и ожившая Августина опять обрела дар речи.
— Выходит, я еще счастливая! — говорила она возбужденно, невольно придвигаясь к промерзшему Андрейке. — Помнишь страшное дежурство на крыше? Уж на что, кажется, было опасно? А ведь обошлось! Как-нибудь пронесет и здесь… Что же ты своей Нюше… так больше ничего и не написал? Ну и выдумал ты тоже имечко, вроде «Тины» — куда лучше звать Нюра или Аня!..
— С самого дежурства на литейке молчу и, стало быть, никак не называю…
— Во-от бесстыдник, — укоризненно, нараспев сказала она, но в зеленоватых глазах мелькнули радостные искорки. — И совесть тебя не мучает?
— Сперва очень даже мучила, а потом вроде меньше, особенно, когда ты рядом…
— И не врешь, Андрейка?
Вместо ответа, он дотянулся — сминая нестойкий упор девичьих рук — до ее лица и, придерживая за плечи, крепко целовал. И она, задыхаясь, отвечала ему поцелуем.
— Сейчас вот и вовсе меня совесть не мучает, — прикрывая неловкость, сказал он.
— Нюша еще школьница, подросток, — смущенно, но охотно поддержала его Августина. — В таком ребячьем возрасте еще не может возникнуть любовь. Когда мне было пятнадцать, я была убеждена, что по-настоящему влюблена в преподавателя черчения… Это на первом курсе техникума было…
— Поначалу еще надо войну закончить, — мрачно сказал он. — Покуда идет такая война, и с самой разнастоящей любовью повременить можно…
Августина не знала, что он моложе на целых два года, но безошибочным женским чутьем поняла, как попала впросак со своим неосторожным разглагольствованием насчет «ребячьего» возраста и, стремясь перевести разговор, торопливо спросила:
— Ноги, Андрейка, так ничуть и не согрелись?
— Хоть отруби, — невольно скривился он. — Наверное совсем сгубил сапоги этот олеонафт! Моим ногам даже «внутрькипятковое отопление» не впрок… И жмут, проклятые, прямо беда!!
— Сделай побольше энергичных маховых движений ногой… Вот так! Не сгибай в колене! — учила она и старательно показывала ему, как это надо делать. — Нам физрук только так советовал… Ну?
— Да вроде ничего вредного физрук этот вам не советовал, — с ревнивой крестьянской осторожностью заметил Андрейка. — Вроде и правда чуток на пользу…
— Вот видишь! Потерпи лишь пока мы зону налетов не проскочим… А там я и тебя в тепленькие валеночки обую, — не завидуй! Не веришь? А ты знаешь, какая я насчет лотерей, выигрышей и мен-перемен счастливая? Еще в детдоме, бывало, все просто поражались! Я и в семейной жизни буду очень счастливая! — вдруг заявила она, то ли забыв о намерении переменить разговор, то ли нарочно к нему возвращаясь, чтоб исправить свою досадную оплошность. — И знаешь почему?
— Нет, конечно…
— Потому, что герой моего романа не модный хлыщ — пусть хоть от его неотразимости посойдут с ума все на свете девчонки!. Мой муж будет молодой, широкоплечий, сильный, высокий, энергичный, и хоть очень и очень простой, но отнюдь не простецкий или простоватый, а вполне «лобастый», то есть и деловой, и с характером, и со здравым смыслом… Вот только за такого я и выйду!
Продолжая поочередно, но уже недозволенно медленно крутить ногами, Андрейка слушал ее сорочью болтовню с замороженной на лице улыбкой, полураскрыв рот, как слушают очень впечатлительные дети свои самые любимые сказки.
Но потом вдруг нахмурился и, совсем перестав крутить ногой, с сожалением попросил:
— Подожди, Августина, минуточку! Сейчас ты все свое доскажешь… Очень даже любопытно — дай мне секунду послушать другое.
— Перестук колес? — не удержалась разошедшаяся Августина.
— Постой ты! — строже сказал он и сосредоточенно повел ухом.
У Бурлакова был очень тонкий охотничий слух — чему постоянно дивился на охоте даже отец. И сейчас ему показалось, что сквозь неумолчный шум поезда, сквозь поминутное щелканье колес на сносившихся проседающих стыках и звонкий девичий голос он уловил тонкое осиное завывание самолета. Чтобы убедиться, сдернул ушанку, но поезд все же так громыхал, это могло ему и просто показаться.
Не успокоившись, он встал, толкнул дверь носком сапога и, как был, без шапки, вышел на платформу и лишь с минуту постоял там, вскинул лицо кверху.
— Не ошибся, — сообщил он вернувшись, не закрыв дверь и не сев опять на топчан рядом с девушкой, а останавливаясь против нее. — Кружится над эшелоном проклятый разведчик.
— А может это наш?
— Ихний, фрицевский… Разве еще не слышишь, визжит прерывисто?
— Так я и знала, — подавленно сказала Августина, хотя недавно утверждала совсем другое. — Вперед эти маленькие стрекозы-разведчики… А следом двухмоторные с черными крестами бомбардировщики…
Бурлаков сверху вниз взглянул на понуро сникшую девушку, и еще неизведанная жалость болью толкнулась под сердцем. Обычно свежее и розовощекое лицо ее как подменили. А всегда яркие округлые ее губы стали серыми и словно привяли. Вся она в этот миг была такой беспомощной и растерянной, что в порыве нежной жалости ему вдруг и самому захотелось назвать ее не Августиной, а потеплее, поласковее: хоть и этой Тиной или даже Тиночкой!
— Не боись, Тинок! — сказал он. — Это ведь всегда всем так кажется, что главнее их цели у него нет… А он, проклятый, летает высоко и ему сверху черт те куда видно!! Он, может, совсем другое, как ястреб, высматривает, а на наш эшелон и внимания-то никакого не…
Бурлаков не договорил: поезд вдруг так резко затормозил, что, сброшенный этим с ног, он невольно уперся протянутыми руками в грудь девушки и, не удержавшись, все равно крепко стукнулся лбом о тесовую стенку.
Августина раскрыла рот и что-то сердито проговорила. Но он не расслышал ни одного слова: близкий страшный удар впереди, сотрясая землю и воздух, сразу оглушил его. А притормозивший было поезд резко дернулся вперед, Андрейка опять не устоял на ногах. Теперь он, ломая хрупкий фанерный столик, ударился о тесовую стенку спиной и затылком. На пол со звоном полетели чайник и котелок. Следом опять громыхнул тяжелый и страшный удар — уже сзади поезда.
— Живее выбрасывайся наружу! — изо всех сил крикнул приподнимающийся Бурлаков. — Прыгай по ходу! И — беги!! Напротив лес!..
— А ты? А Холодов не заругается?! — быстро вскочив на ноги, пролепетала побелевшая Августина, сдергивая неизвестно зачем с гвоздя «сидор», а с полочки — валенки. И уже стоя на открытой платформе, торопливо добавила: — Вон и Зуйков побежал и даже Коломейцев…
Паровоз снова неожиданно «тормознул». Бурлаков с силой схватил ее под мышки и одним рывком опустил на землю. Следом соскочил и сам. И в это время поезд совсем остановился (как потом он увидел — перед глубокой воронкой), а паровоз вдруг басово заревел на все поле страшной хрипатой октавой, точно тоскливо взывал о помощи и защите.
Августина было на миг подняла голову. В небе висели два пикировщика. Оба пока держались высоко, но их прерывистое урчание все равно было слышно даже сквозь истошный неумолчный рев паровоза.
Андрейка сильным рывком повернул ее за плечи в сторону леса, решительно подтолкнул в спину:
— Жми, Тинка, за Коломейцевым, как рвут стометровку!! — проорал он ей в самое ухо отчаянным голосом. — Да не оглядывайся ты!.. Споткнешься со всего маху и разобьешься! Не боись!! Я не отстану!..
И они в самом деле сколько-то секунд бежали к лесу, стараясь не упустить из вида Коломейцева, не оглядываясь, точно в дурном сне или в страшной сказке, запрещающей это делать под страхом смерти. Не оглядывались, несмотря на то или, быть может, именно потому, что сзади подстегивал и рев моторов, и пронзительный нарастающий визг часто падающих бомб, и их чудовищные взрывы…
То, что показалось из вагона лесом — на самом деле было жиденьким перелеском и, стремясь выбрать кусты погуще, он все кричал Августине, чтоб она бежала за Коломейцевым дальше. И лишь когда упругая, как резина, воздушная волна от близкого взрыва, догнав, толкнула его в спину, а мимо просвистели осколки — он опомнился и крикнул ей высоким срывающимся голосом:
— Ложись! Ло-жись!!
Августина изнеможенно опустилась на снежок возле голых кустов лещины. А Бурлакову — которому казалось, что он сжег на морозе в этом безумном крике и беге свои легкие! — пришлось плюхнуться в совсем открытой небольшой воронке метрах в десяти от кустов. Но, вспомнив утверждение Депутатова, что в воронку никогда и ни за что второй снаряд не попадает, — он поднялся и нашел в себе силы быстро поменяться с покорной Августиной местами. И даже подобрал у кустов брошенные ею «сидор» и валенки, хоть и удивленно при этом подумал: «Вот ведь какая заботливая, чудачка! Да когда же она успела их выхватить?!»
До железнодорожной насыпи было не меньше ста пятидесяти метров и, почти успокоившись за скрывшуюся в воронке девушку, он с болью и ужасом глядел на ожесточенно терзаемый эшелон. С ним расправлялись уже не два, а четыре самолета. Видимо убедившись, что на нем нет даже зенитных пулеметов, они поочередно сбрасывали фугаски и, низко спикировав — так низко, что на их распластанных крыльях Андрейка отчетливо видел черные кресты, — с оглушительным воем строчили из пулеметов. Он видел, как бомба прямым попаданием, высоко вздымая столбы земли и щепок, угодила в самую середину эшелона, как ужасно вздыбились и полезли в обе стороны друг на друга, точно пустые спичечные коробки, огромные четырехосные «пульманы», тяжело нагруженные оборудованием… Видел, как один за другим выскочили из паровозной кабины два человека… Но именно в этот момент, стреляя из пулеметов вдоль эшелона, пронесся истребитель и оба, взмахнув руками, упали. Паровоз и угольный тендер окутались паром и дымом. Как факел вспыхнул тепляк на первой платформе. А бомбардировщики все еще сбрасывали свой смертоносный груз, все еще пикировали. Они гвоздили, молотили и жгли остановившийся беззащитный эшелон совершенно безнаказанно и, видимо, потому мстительно, остервенело и ожесточенно, словно на нем находилась решительно вся оборонная мощь терзаемой ими страны…
И если некоторые вагоны и закутавшийся дымом паровоз и угольный тендер еще стояли на рельсах, так это просто потому, что стервятники все же торопились, и бомбы их ложились не кучно, а зачастую и вовсе не прицельно, вразброс…
Одна из таких разорвалась даже сзади Бурлакова и так близко, что сверху на него посыпалась земля и больно ударил по голове комель вырванного с корнем куста. Так больно, что он, кажется, хоть и не потерял сознания, а на миг вроде забылся… Однако слышал и близкий рев спикировавшего самолета, и его яростную стрельбу из пулеметов, и даже успел, как сквозь туман, подумать: «Ох, не задело бы Коломейцева! Он ведь где-то там, сзади меня!..» За Августину он и в этот миг был почти спокоен…
19
Бурлаков медленно открыл глаза (ему казалось, что он прижмурил их совершенно сознательно и всего лишь на один миг: чтоб не засорило землей!).
На насыпи по-прежнему стояли, окутанные паром и дымом, тендер и паровоз. Но уже ни одного вагона на рельсах не было (он не знал, что и самих рельсов не было). Разбитые, обгорелые и покореженные все семнадцать вагонов-«пульманов» валялись под откосом, многие кверху колесами. И самолетов нигде ни одного — не видно и не слышно. Только едва различимо тарахтит мотором, метрах в ста от паровоза, большая дрезина с красным крестом на кузове, похожая на заводской автобус. Да бегают, мельтешатся около уничтоженного эшелона люди в синих и белых халатах.
Андрейка рывком вскочил на ноги и опять на миг зажмурился: в голове разом так зазвенело и загудело, точно в ней включили моторы…
— Августина, поднимайся! — крикнул он, приближаясь к ней шагом, стараясь переждать этот внезапно возникший перезвон в голове и ушах; и, увидя ничком лежавшую девушку, сказал: — Не боись! Кончилась бомбежка!!
Она не откликнулась, не встала, не подняла головы и, предчувствуя недоброе, он спотыкаясь добежал до воронки: стараясь не сделать больно, одним осторожным рывком перевернул девушку на спину. И, вздрогнув, на миг отпрянул: Августина глядела на него остекленевшими от ужаса глазами — уже начавшими тускнеть, уже мертвыми.
Он низко уронил голову на подплывший кровью беленький овчинный полушубок. В голове его еще не укладывалось, что Августина перестала существовать, и именно сейчас.
А когда, наконец, это полностью дошло до сознания, он не закричал, не зарыдал на все поле, а лишь негромко, со всхлипом, застонал, заскулил тоскливо и тихо, без слез, по-щенячьи. И счастье еще его, что он сам себя в этот миг не слышал.
Опять он не помнил, сколько это длилось: несколько секунд или несколько минут? Подняв страшно посеревшее лицо с совершенно сухими, одичалыми глазами, он увидел над собой без стеснения плачущего Сергея.
Обгоняя своего напарника, подбежал запыхавшийся санитар, волоча носилки. Но увидел — и здесь его помощь бесполезна. Однако спрыгнул в воронку, с профессиональным проворством сдернул с убитой окровавленный полушубок и, заглянув на спину, на миг приложил ухо к груди.
— Вместо меня ее убило, — сдавленным голосом сказал Бурлаков.
— Эх, какую деваху загубили!! Да, где тут остаться ей живой, — не поняв, согласился санитар. И, показан продырявленный полушубок, добавил: — Вон ведь как ее пулеметной очередью стегануло: через всю спину! Вы, может, ребята, сами ее и приберете? Лопаты вон на бугре… Ведь мы тоже не могильщики, нам еще надо вокруг поискать живых! А?
Санитара громко позвал к обнаруженному раненому напарник; и он, так и не дождавшись ответа, волоча носилки убежал.
Бурлаков и Коломейцев все глядели на немигающе уставленные вверх остекленевшие глаза Августины, точно ждали чуда.
— Сережа, а Сережа? — хриплым шепотом сказал вдруг Андрейка, никогда до этого так его не звавший. — Давай мы ее сами похороним?!
Коломейцев согласно кивнул и, придерживая одной рукой голову, а ладонью другой размазывая катившиеся слезы, торопливо пошел к бугру за лопатами.
Но и с лопатами в руках, они все еще медлили.
— Холодно будет ей так, в одном свитере, — зябко передернув плечами, мрачно сказал Сергей.
— Это верно, — немедленно согласился Андрейка, точно ей и в самом деле могло теперь быть холодно. — И лицо, конечно, надо прикрыть…
Они расстелили полушубок мехом наверх на самом дне воронки; и на одну его полу, совсем слипшуюся от крови, бережно опустили Августину, а другой, сухой и чистой — навсегда закрыли лицо.
С минуту молча постояли друг перед другом: вопреки обычаю, каждый из них не хотел первым сбросить землю на служивший гробом белый полушубок. Ох, до чего же обоим трудно было бросить в эту безвременную могилу по первой лопате начавшей подмерзать глины!
Потом, не сговариваясь, заспешили, в молчаливом исступлении заработали тяжелыми совковыми лопатами. В их душах уже возник страшный вопрос: что же дальше?
Закопав свою Августину, они торопливо обежали из конца в конец то, что четверть часа назад было поездом. Ни начальника эшелона, ни одного живого человека из сопровождающих! Возле накренившегося угольного тендера полуприкрытые брезентом трупы паровозной бригады. Два мрачных дядьки в синих халатах поверх ватников сносили в глубокую воронку все, что осталось от попавших под разрывы фугасок. Из настежь открытой дверцы санитарной дрезины вырывался наружу одиночный вопль, — наверное, кому-то обрабатывали рану и было, бедняге, совсем невмоготу…
Стараясь не слушать этот жуткий нечеловеческий крик, Коломейцев и Бурлаков невольно поискали глазами свои вагоны, но в железном хаосе по обеим сторонам откосов их уж не узнать. Правда, Андрейка увидел в ямке закатившийся стальной мячик от «внутренностей» шаровой угледробилки и машинально поднял его. «Значит, эта вот зарывшаяся в землю, обгорелая и покореженная груда металлолома — все, что осталось от моего вагона с пропитанными маслом станками-автоматами, транспортерными лентами углеподачи и шаровыми мельницами, — решил он. — Ведь кроме шаровых мельниц ни у кого, кажется, не было?»
«Нет, не мой это вагон! — тут же растерянно перерешил он, заметив, что перемешанный с песком снег обильно здесь пропитан кровью. — Это, стало быть, десятый, а Зуйков, выходит, погиб прямо у своего вагона?!»
Уже знакомые им санитары бегом вынесли из кустарника еще одного раненого. Он лежал на носилках, протяжно постанывая, с закрытыми глазами, с залитым кровью лицом. Но оба сразу опознали в нем Зуйкова и, громко окликая товарища, побежали рядом с носилками.
«Значит, не Зуйков погиб возле вагона, — обрадованно, но лихорадочно, как сквозь туман, думал Андрейка, стараясь не отстать от санитаров. — Жив он, а сейчас без сознания… Верно, ведь мы сами с Августиной видели, как он бежал в лес впереди Коломейцева!..»
Они бы, наверное, дошли за санитарами до самой дрезины, но их властно остановила незнакомая дородная женщина в белом халате поверх пальто — от чего она казалась еще внушительнее, маститее.
— Вы, ребята, самостоятельно до станции доберетесь? — загородив дорогу, спросила она. — Не зацепило вас, не поранило?
— Мы оба на ногах! — громко ответил Коломейцев, держась левой рукой за голову. — Меня лишь встряхнуло, а он целехонький… Но ведь и ранило, конечно, много наших?
— Вместо меня девушку убило, — торопливо вставил Бурлаков. — Августину…
— Нет, раненых мало, — испытующе посмотрев на уцелевших хлопцев, сказала женщина. — Вот с этим, — кивнула она на носилки, — трое…
— И убитых совсем немного?
— Да откуда ж — много-то? Если б, не приведи бог, напасть такая на настоящий людской эшелон или, скажем, на целый санитарный поезд… — помолчала женщина. — Они ведь и санитарные составы бомбят. А вас и всего было — горстка!..
Возмущенный профессиональным спокойствием женщины, вроде даже не посчитавшей их эшелон за «людской», Коломейцев почти с неприязнью рассматривал ее массивный подбородок, с наспех подстриженными кустиками седой щетины на многочисленных родинках. Угрюмо сказал:
— Ничего себе: горстка! С поездной бригадой — двадцать один человек!! А начальника эшелона в санитарной машине нет? Кто это кричит? Можно пройти к этому товарищу?
— Вы, ребята, идите сейчас прямо на станцию, — опять властно распорядилась женщина. Эшелона все равно теперь нет, а начальника, своего там и найдете. Так и он наказывал… Если по дороге, упрямец, не свалился вместе с хлопчиком… Вот, значит, получается: вас двое, их, можно сказать, полтора, да трое тяжелораненых в дрезине. Всех остальных уж, похоже, недосчитаетесь.
— Начальник наш не раненый?
— О том и речь, что обоих зацепило. Вроде не тяжело, но лучше б им было остаться у нас… Начальник ваш упрямец, службист, торопыга и больше ничего: побежал на станцию акт составлять, беспокойная душа, — усмехнулась она. — Идите туда и вы, тут всего-навсего километра три. А здесь делать нечего — без вас управимся.
Коломейцев больше ничего не стал расспрашивать у женщины. Врач она была, фельдшер или просто опытная медсестра — он не знал. Она ему не понравилась. «Мало по ее мнению у нас жертв! — с неприязнью отметил он. — И раненого Холодова на свою тупую критику взяла!..» Молча повернулся и споро зашагал в сторону станции, словно боялся свалиться на полпути или торопился подобрать на дороге раненого Холодова. Прихрамывающий Бурлаков с трудом за ним поспевал.
— Ты чего отстаешь? — сердито оглядывался Сергей. — Убедился, кажется, что оборудования уже нет?!
— Сапоги, проклятые, — виновато бормотал Андрейка. — Жмут — спасу нет!
— Снова они, — непонятно усмехался все более бледневший Коломейцев. — А меня, похоже, контузило… Меня ведь аж приподняло и оземь вдарило!..
— Слушай, Сережа: давай хоть на минуту присядем, — взмолился Андрейка. — Я хоть портянки смотаю… Все, может, чуток полегчает…
— Ну, ну, давай, — опять непонятно усмехнулся Коломейцев. — А хуже нам от этого сиденья не станет? Ишь ты какой… хозяйственный, и «сидор» выхватил и даже валенки!
Андрейка с удивлением ощупал за спиной тощий вещевой мешок, покосился на туго связанные бечевкой, зажатые под мышкой валенки. Оправдываясь, негромко буркнул:
— Августина выхватила… — И, переобувшись, точно новость сообщая, сказал: — А сама вместо меня погибла… В яме теперь лежит… В мерзлой земле зарыта, в могиле…
— Ну, пошли, рассиживаться некогда, — сердито вскочил на ноги Сергей: — Заладил, точно сорока, как будто ему известно, кто в эшелоне за кого умер! — И торопливо перевел разговор: — Я вот дивлюсь, как это мигом санитарная дрезина на месте оказалась? Еще воронки дымятся, налет не кончился, а она уж, с родинками-то, тут как тут! Или я здесь путаю, потому что порядочно времени без сознания был?
— Все верно! — подтвердил Андрейка. — Значит, ринулась со станции, когда эшелон еще бомбили…
Они подивились еще больше, когда навстречу промчался особый состав с путеукладочной машиной, тяжелым планировщиком, балластером, готовыми шпально-рельсовыми звеньями и даже с песком и гравием…
На двух последних платформах тесно, один к другому, сидели железнодорожники из восстановительного отряда и солдаты специальной воинской части. На усталых лицах одинаковое сурово-уверенное выражение, как и на запомнившемся дородном лице пожилой медички с санитарной дрезины, точно всех их роднило и ровняло общее чувство полнейшей физической и душевной готовности к предстоящему трудному делу.
Сойдя с железнодорожного полотна на обочину, за кювет, Бурлаков и Коломейцев с уважением и завистью проводили глазами эти платформы с техникой и людьми, видя в них частицу хорошо продуманной, не дремлющей и организованной силы. Глядели им вслед с горькой мыслью, что сами выбиты из колеи.
Они снова перебрались на полотно и молча продолжали свой путь на станцию, все прибавляя шагу. Андрейка для удобства засунул валенки в вещевой мешок и, хоть связанные голенища их торчали над затянутой вздержкой, — идти стало, размахивая уже обеими руками, вроде полегче.
20
Станция оказалась большой и заметно разрушенной. Еще на окраине они поняли, что ее часто бомбят, увидели, что многочисленные вокзальные пути забиты составами.
По присыпанным шлаком оледенелым шпалам выбрались на крытую платформу. Верх ее наполовину сорван, покрашенные «под серебро» столбы свернуты, а в торце перрона зияла глубокая, полузалитая подмерзшей водой воронка.
Не зная, куда направиться, на минуту приостановились. Подошел солдат с автоматом:
— Документы!
Андрейка подал заводское удостоверение, почти уверенный, что этим дело не кончится. Но, видимо, уже начальная строка: «Согласно приказу ГКО…», удовлетворила хмурившегося солдата и, молча вернув документ, он требовательно протянул руку к Коломейцеву.
Придирчиво перечитал военный билет и форменное «Удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации».
— Это, стало быть, и есть бронь?! — на свет проверил он узенькую полоску напечатанного в типографии удостоверения, с крупными красными цифрами посредине. И иронически спросил: — Тоню-усинькая, а, значит, ничего, загораживает?
— Кого как, — мрачно сказал Коломейцев. — Меня вот… — Он вдруг позеленел, его стошнило и, отерев платком бескровные губы, с усилием договорил: — Меня вот от контузии не загородила… И еще семнадцати моим товарищам, час назад, ни от пуль, ни от осколков не помогла… А если вообще-то по заводу — сотни погибли прямо у станков под пулеметным огнем и бомбежками! Или при погрузочных авралах, спасая оборонную технику… Понятно?
Автоматчик кивнул головой и, ободренные, они коротко объяснили свое положение и даже попытались было выяснить, к кому лучше им обратиться. Но солдат еще короче напомнил им, что он патруль и, перехватив шедшего мимо с чайником в руках полного пожилого железнодорожника, потребовал у него документы.
Ребята остановили бегущую по перрону невысокую молодую женщину, медсестру или санинструктора, одетую в полувоенную форму, с подвешенным через плечо противогазом и сумкою с красным крестом. Они загородили ей дорогу и в два голоса принялись расспрашивать.
— Не знаю, не знаю, ребята, — пытаясь их обойти, устало и однообразно твердила женщина. — Обратитесь к станционному начальству, если сумеете до него добраться, а я ничем вам помочь не могу… За двенадцать часов дежурства столько побывало на станции раненых с различных эшелонов, что где ж мне их всех в памяти удержать? Пропустите, ребята, я буквально с ног валюсь…
— Где нам теперь Холодова искать?! — отступив в сторону, обращаясь уже к Коломейцеву, горестно сказал Андрейка. — Вот попали в переплет, так попали: совсем бесхозные и неприкаянные…
— К начальнику станции обратитесь! — опять машинально, на ходу проговорила женщина. — Но, видно, в голосе Андрейки было такое, что пробилось и сквозь ее непомерную усталость, снова заставя медсестру приостановиться: — Как, как, говоришь, фамилия-то?
— Холодов! Хо-ло-дов! — дважды повторил Андрейка.
— Ну вот: бывает же так! — слабо улыбнулась медсестра. — Надо же… Ведь и моя девичья фамилия: Холодова! Муж погиб в первые дни войны, но три брата еще воюют — тоже Холодовы… Перевязывала я вашего начальника, а раздумалась, каюсь, о родных своих братьях… Вот и запомнила!..
— Где его можно увидеть? — обрадованно перебил Коломейцев.
— А он вам, значит, очень нужен? — наивно спросила она и огорченно покачала головой. — Опоздали, ребята, всего минут на десять: крови он много потерял, просто на ногах не держится, и после перевязки посадили мы его в санитарный поезд… Уехал он!..
— Ку-уда? — уже недоверчиво спросил Коломейцев. — Вы лично сами в поезд его сажали? С ним еще кто-либо был?
— Как это: куда? — озадаченно переспросила медсестра. Ясно, куда санитарные поезда с ранеными направляют: на восток, в тыл. Точнее мне известно только то, что через Пензу… А был при нем низкорослый такой парнишка, лет восемнадцати…
— Сами сажали и его?
— Да вы что, ребята, или мне не верите, сомневаетесь? Я даже помню — обоим достались продольные полки и еще ваш Холодов пошутил… Спросил, через сколько, мол, времени можно вторично плеврит схлопотать? — скороговоркой дотараторила она и, боясь, что ее задержат расспросами, торопливо ушла.
— Про плеврит натачала верно, — тяжело перевел дух Коломейцев. — Плевритом он недавно переболел… И хлопец, конечно, наш! А вот что теперь дальше делать?
— Верно она сказала о поезде, — одышливо пробасил рядом пожилой железнодорожник (оказывается, все слышал). Запрятав в бумажник проверенные документы, переждав пока патруль удалился, он неторопливо договорил: — Большой санитарный состав ушел двадцать минут назад! Но потолковать с начальником станции вам, хлопцы, не мешает… Конечно, добраться теперь до него не просто… В кабинете-то он если и сидит, то по горло занятый, туда к нему не пробьешься.
— Как же его поймать? — волновался Коломейцев.
— Да он только пробежал вон за ту водокачку: там ремонтируют приемо-отправочные пути, дело первостепенной важности… Значит, и он там! Сейчас я вас провожу, наш эшелон как раз в той стороне парковых путей на приколе стоит, только кипяточку наберу…
Но набрать кипяточку ему не пришлось. Сверху, наверное с башни водокачки, надрывно завыла сирена, на окраинах станции ее истово продублировали гудками паровозы. Некоторые из находившихся на путях коротко взревели, эшелоны пришли в движение. Но большинство составов стояли неподвижно, иные без паровозов, из вагонов их торопливо выбрасывались люди…
— Давайте-ка переждем и мы эти страсти-мордасти покуда, хоть возле вон того пакгауза, вон где девочка присела, — быстро оценив обстановку, предложил железнодорожник. И легонечко подталкивая замявшихся ребят, отрывисто им говорил: — Идемте, идемте: там и стена, как крепостная, и контрофорсы толстые, надежные… И крытый бетонный водосток рядом… Я уж в нем раз отсиживался!
После короткой перебежки по шпалам и рельсам, они молча плюхнулись на деревянный настил у складской стены, рядом с девочкой.
— Ишь какая — умница! — отдышавшись, похвалил соседку словоохотливый железнодорожник. — Школьница еще, но как быстро и верно сумела выбрать подходящее место: за спиной — стена, по бокам — надежные ребра-стенки контрофорсов… А иная и взрослая женщина — станет под навес из гофрированного железа и полагает, что в укрытии!..
— Я учительница, — покраснев, сказала худенькая, черноглазая девушка, смущенно теребя большие смоляные косы. — И сижу на станции сутки: пора немножко ориентироваться!
— Тогда — простите! Уж очень вы юно выглядите! — охотно извинился железнодорожник. И со старомодной галантностью, живо протягивая руку, добавил: — Я даже вторые сутки эту станцию изучаю… И поскольку уж судьба свела, давайте знакомиться по-настоящему: Николай Степанович Грунюушкин!..
Фамилию свою он произнес протяжно, нажимая на «у», ласково и тоже охотно. А учительница, с улыбкой и готовностью пожав протянутую руку, себя не назвала: то ли от смущения просто забыла назвать, то ли не сочла нужным.
Через несколько минут дотошный путеец уже знал о ребятах все самое главное; и теперь, используя эти считанные минуты затишья, охотно рассказывал о себе. Самолетов вначале не было слышно совсем. Потом они гудели так высоко, что невольно казались не очень страшными, а зенитки тоже пока молчали.
— Я ведь старый железнодорожный волк, — говорил он. — Я, хлопцы, еще в гражданскую основательно и попотел, и претерпел и в Подремах этих самых, и в Гаремах! Белыми был ранен и дважды контужен… Под Кирсановом набожный «зеленый» бандит Антонов «присудил» к расстрелу за то, что нательного креста на мне не было… Случайность спасла, а четверых из нашего Гарема так и расстрелял! Простите, что не оговорился сразу, — повернулся он к учительнице, сообразив, что слушают его не одни хлопцы: — Но разговор не о тех гаремах, о которых вы, наверное, читали в исторических романах, а сейчас недоумеваете…
— Нет, я знаю о тех Гаремах, о которых говорите вы. У путейцев это — Головной аварийно-ремонтный поезд! — опять густо покраснев, заверила учительница. — Я из семьи железнодорожника, отец о них частенько вспоминал… Он и сейчас на транспорте работает, в Пензе… Я туда и пробираюсь.
— А я вот тоже добираюсь до места, где из нашего эшелона бывалых железнодорожников опять сформируют Гарем, — сказал Грунюшкин. — Оно и не легкое это в моих годах дело, сердце пошаливает, да и старых специалистов фронт требует. Иначе фрица этого не повалишь!
— Верно, это тоже передний край, — вставил снова позеленевший Коломейцев. — Как и у нас было на заводе…
— Да, о подвигах и жертвах наших железнодорожников потом поэмы и песни сложат! — осторожно покосился Грунюшкин на учительницу, опасаясь не выразился ли чересчур выспренно и ходульно, хоть и знал — здесь трудно преувеличить. — Работают не щадя живота… Недаром указом «О введении военного положения на всех железных дорогах» они всюду поставлены рядом с солдатами.
— Теперь им достается, — поддержала учительница.
— А вы смотрите, ребята, что сейчас происходит? — продолжал Грунюшкин. — За каждую магистраль, за каждую стальную коммуникацию, за каждую узловую станцию и даже какую-нибудь сортировочную горку идет бой! Уже перерезаны Московско-Курская, Московско-Донбасская, Октябрьская дороги… Враг уж, небось, ликует, что транспорт наш дезорганизован! Но Москва-то ведь все равно связана с районами страны через Горьковскую, Рязанскую, Ярославскую и Казанскую магистрали? А что днем фашистской авиации удается разрушить — то ночью железнодорожники и железнодорожные войска восстанавливают… И воинские эшелоны простаивают после налетов считанные часы!
— А саму Москву немцы не возьмут? — негромко спросил Бурлаков.
— Нет, не возьмут Белокаменную! — уверенно сказал Грунюшкин, хоть и снова опасливо покосился на примолкшую учительницу. — Побегут от нее, как бежали французы… Не разглашаю военного секрета, потому что фриц и сам это наблюдает с воздуха, но сейчас с Урала и Сибири железнодорожники московской сети принимают такое огромное количество эшелонов с войсками и боевой техникой, что весь секрет остается тут лишь в том, как они это, безымянные герои, выдерживают? Читали в газетах, как машинист с перебитыми ногами довел воинский эшелон до места назначения? А у другого машиниста убило кочегара и, чтоб не задержать поездку, к топке стала жена? А про израненную девушку-стрелочницу читали? Озверел фриц и свирепствует!..
— Уничтожать этих подлых гитлеровских фрицев надо! — неожиданно громко выкрикнул Коломейцев. — Израненная девушка, убитая девушка, зарытая девушка… Дожили!!
Коломейцев закашлялся, его опять стошнило.
Глядя, как заботливо склонилась над Коломейцевым учительница, совсем по-матерински поддерживая ему лоб, Грунюшкин покачал головой:
— Раз рвота — не простая контузия, но и сотрясение мозга, — убежденно сказал он. — Я еще в Гражданскую на такие осложнения нагляделся… Сгоряча-то человек вскочит и идет, от других не отстает, но потом — вот такая картина! Кончится воздушная тревога — надо ему в станционный приемный покой…
— Какой покой?! — вскинув позеленевшее лицо, опять выкрикнул Коломейцев. — Говорю, бить их, гадов, надо нещадно и плакать не велеть! На земле и в воздухе без никакой пересменки бить, насмерть!!
Он с ненавистью выкрикнул что-то еще, но обрывок его фразы беззвучно исчез во внезапных оглушительных ударах. Взрывы поближе и более отдаленные раздались почти слитно и с такой силой, что с верха полуразрушенной складской стены посыпалась кирпичная труха.
— Станцию бомбят? — встрепенулся Бурлаков.
— Да, сортировочную горку хотят доконать… Понимают ее значение! — вскочил на ноги Грунюшкин. — Дело принимает серьезный оборот, давайте-ка поживее в водосток! При прямом попадании тяжелой фугаски, как говорится, в животе и смерти бог волен, а от осколочных обязан и сам уберечься…
— Нет уж, благодарю, — отмахнулась и опять густо покраснела учительница: — Туда я не полезу! Этот ваш водосток видела… От двух бомбежек здесь спасалась, отсижусь и третью…
Грунюшкин тревожно взглянул на небо, рассмотрел в вышине повисшие самолеты. За водокачкой, наконец, ударили зенитные батареи и, стараясь перекричать отдаленную скороговорку их орудий, он стал еще горячее убеждать и торопить девушку.
Но к учительнице неожиданно присоединился Коломейцев, решительно заявив, что и он ни в какие вонючие водостоки и земляные щели не полезет — он не крот.
— Ну, друг, тебе это совсем не к лицу… Не желторотый птенец, чтоб из-за дерева не видеть леса! Если вы такие чистоплюи — забирайтесь в водосток с того края! — догадавшись в чем дело, настаивал сердобольный Грунюшкин. — С той стороны гораздо чище…
Отдышавшийся Коломейцев неожиданно согласился и даже сам принялся уговаривать учительницу.
Удовлетворенный Грунюшкин, не теряя времени, ухватил замявшегося было Андрейку за рукав и почти силой повлек его к недалекому водостоку. Метров через сорок они спрыгнули в полуосыпавшийся котлован незавершенной стройки и, пробежав по оледенелому дну шагов пятнадцать, низко пригнулись, гуськом нырнули в темневший прямоугольник бетонной горловины.
— Ничего, ничего, это ведь только с краю, — подбадривал железнодорожник невольно упиравшегося Андрейку, продолжая тянуть его за руку в глубь коллектора. — Люди не мухи, а обе вокзальные уборные начисто смахнуло, говорят, прямым попаданием еще неделю назад…
Согнувшись почти пополам, они прошли по душному, низкому тоннелю метров десять и присели на кем-то затащенную сюда старую шпалу. Андрейка бегло огляделся: заиндевелые бетонные стенки водостока перекрыты металлическими ребристыми плитами. И, главное, это сборное стальное покрытие соединялось не просто, а в «четверть»: ни осколки, ни пули никак не могли попасть внутрь и через стыки. Только местами через них все же пробивался робкий изломанный луч, перемежая сгустившиеся здесь сумерки слабыми проблесками света. Заброшенный водосток строился, как видно, в сложных условиях действующей станции отдельными «очередями» и затем соединялся. Этот участок тянулся всего метров на шестьдесят и, приглядевшись, Андрейка различил мутноватое пятно света у противоположного конца.
— Наверное, наши упрямцы с того бока зашли, — сказал он, заметив, что пятно это вдруг закрылось.
— Счастливы они, бузотеры, что еще время терпит, — сердито сказал отдувавшийся Грунюшкин. — А то могло бы, как градом, накрыть осколочными! Фугасных-то к самолету подвешивается несколько штук, а мелких осколочных — целые кассеты…
Словно в ответ ему, тяжелые и страшные удары потрясли мерзлую землю, хоть и были новые взрывы, кажется, не ближе. Даже внутри водостока воздух сотрясался от этой жестокой отдаленной бомбежки, яростной стрельбы зениток и истошного рева паровозных гудков. За всеобщим грохотом и гулом самолетов не было слышно, но, судя по гулким бомбовым ударам, налет был не малый и они, наверное, висели теперь над злополучной сортировочной горкой просто черной тучей. Так по крайней мере думалось замершему Андрейке.
— Даже не дают себе труда пикировать! — выждав паузу, гневливо выкрикнул железнодорожник. — Бомбят, похоже, прямо с вышины и горизонтального полета: станция не маленькая, куда, мол, никуда, а все равно попадем!..
Видно, и добряка Грунюшкина одолевал сейчас нестерпимый гнев.
Он осторожно погладил левую сторону груди ладонью, расстегнув крючки верхней одежды, морщась, добыл из внутреннего кармана тужурки металлическую коробочку и, вынув из нее большую белую таблетку, бережно положил ее в рот, под язык.
И вдруг уж совсем близко захлопали вокруг не очень громкие, но необычно частые взрывы мелких осколочных бомб. Наверное, и впрямь фашистские стервятники, опасаясь зенитного огня, совершенно бесприцельно и с очень большой высоты освобождали над станцией свои кассеты: вытряхивали эту двух- и трехкилограммовую мелочь, как из мешка. Минут пять осколки щелкали и звенели о стальную плиту неразборчиво и слитно, точно град.
Едва удавалось различить отдельный стук о металлическое перекрытие водостока самых крупных осколков: клюнув непробойную сталь, они со злым визгом и воем отлетали прочь. Пока не раздался близкий бомбовый удар крупной фугаски и весь водосток затрясло, точно это был брезентовый пожарный шланг; с плит перекрытия посыпалась окалина.
Вблизи что-то горело: и без того смрадный воздух тоннеля наполнялся дымом и гарью. Входное отверстие совсем заволокло густо взметнувшейся известковой пылью, едкой и непроницаемой: должно быть, бомба прямым попаданием угодила в старые руины.
Эту взбудораженную смесь из воздуха, пыли, дыма, зловония и гари с трудом вдыхал семнадцатилетний здоровяк Бурлаков. А Грунюшкин и вовсе через силу глотал широко открытым ртом: дышал шумно, с напряжением, тяжко. Покашляв, он посветил себе зажигалкой (в тоннеле стало темно, как ночью) и снова достал из маленькой коробочки белую таблетку.
— Сердце, — коротко пояснил он. И прерывисто, одышливо добавил: — Ну и денек опять выдался… Такой и молодого не красит: у иного преждевременно инеем на висках пробрызнет… Ну, а кто и был с седым зазимком — держись за сердце! Впрочем, тебе это, покуда, непонятно: за семью печатями еще…
— Нет, я тоже знаю: у меня мать сердечница, — сказал Андрейка. И уж совершенно непроизвольно у него следом вырвалось: — Не боись!
Должно быть, это «не боись» в устах зеленого новобранца — бездумно брошенное прошедшему огни, воды и медные трубы ветерану — не на шутку обидело железнодорожника. Он больше ничего не сказал, хотя спохватившийся, Андрейка несколько раз пробовал с ним заговаривать.
Андрейку слегка поташнивало — то ли от голодушки, то ли от дурного воздуха, то ли от контузии… Разговаривать, когда кругом гремит и звенит, было ему трудно и тоже не хотелось. Подмерзший комель вырванного с корнем куста ударил его, наверное, покрепче, чем показалось сгоряча: при сильном шуме больно не только говорить, а даже думать. Нахохлившийся Бурлаков упрямо молчал, с каменным терпением ожидая окончания налета. И лишь сообразив, что бомбежка, пожалуй, окончена, а непрекращающийся шум и звон только в ушах и голове, снова заговорил с железнодорожником:
— Николай Степаныч, а Николай Степаныч! — с искательными нотками в голосе позвал он. — Вы, ненароком, не задремали? Как эта станция называется? Сто раз собирался узнать, да все забывал… Может, пора из этой вонючей трубы выбираться? Вроде, малость стихло…
Не получив ответа, он торопливо и грубовато дернул привалившегося к стенке железнодорожника за руку: она мотнулась бессильная и холодная.
Озаренный жуткой догадкой, чувствуя холодок решимости, он схватил грузного железнодорожника за плечи и, стремительно пятясь, одним махом проволок его к выходу. Но едва свет коснулся головы, испуганно отпустил плечи. Лицо Грунюшкина было пепельно-восковым, мертвые серые губы закушены, закрытые глаза плотно прижмурены, точно от нестерпимо яркого света. Тело его было совершенно холодным: видно, просидел он бездыханным не менее полчаса.
21
Дальше Андрейка помнил все как во сне. Вопреки недавним своим предположениям, что «упрямцы» тоже зашли в водосток, он опрометью бросился к стене пакгауза.
Крупная бомба и впрямь угодила в его южное, еще прежде разрушенное крыло, и теперь снег далеко вокруг, даже на соседних крышах, был густо усыпан разметанным взрывом кирпичным крошевом.
Но прочная северная торцовая стена длиннющего Г-образного склада, с толстыми контрфорсами по бокам, стояла по-прежнему, около нее Андрейка еще издали с ужасом заметил две темные, неподвижно распростертые человеческие фигуры. Тоже — на прежнем месте!
Преодолев последние заваленные метры в несколько скачков, он как вкопанный остановился над двумя изуродованными телами. Учительницу он признал только по светлому клетчатому пальто: лежала она ничком, осколок попал в голову. Вытянувшийся Коломейцев напряженно прижимался к грязному снегу обеими лопатками, точно положенный в неравной борьбе навзничь. Лицо его, с полуприкрытыми глазами, было густо припудрено бурой пылью, и Андрейке на миг показалось, что широченная грудь Сергея еще дышит.
Он опустился на колени, торопливо, обрывая крючки, расстегнул будто исщипанный ватник — тело друга в самом деле хранило слабый остаток тепла, но сердце уже не билось: весь он был буквально иссечен и изрешечен осколками.
Андрейка с трудом поднялся на сразу ослабевшие ноги и, мертвея от жалости и ужаса, несколько секунд, покачиваясь, молча постоял над учительницей и боевым товарищем, даже забыв сдернуть треух. И, дрогнув, вдруг сорвался с места, спотыкаясь побежал к центру вокзала: захлестнутый невыносимой этой жалостью, бессильной, свирепой ненавистью, подгоняемый страхом. Точно трижды пережитое им сегодня — в перелеске над Августиной, а здесь над Грунюшкиным и Коломейцевым — выпустило, наконец, на волю и этот еще неизведанный страх: мучительный, постыдный, не управляемый…
Только позже он горестно сожалел, что не похоронил, достойно, как положено другу, Сергея Коломейцева. Сокрушался, что недостойно оставил в таком неподходящем месте и грузное тело добряка-Грунюшкина, по сути дела спасшего ему жизнь.
Но это — потом.
А в первый момент одна-единственная сложная мысль, задавив и оттеснив все другие, полностью овладела его контуженной головой: скорее, как можно быстрее выбраться с этой злополучной станции, где совсем зря, без единого выстрела, гибнут такие мужественные люди, как Сергей и Николай Степанович! И, выбравшись за зону налетов, снова заявиться в военкомат: попросить, потребовать, наконец, самое грозное оружие и бить этих фашистов, как говорил Коломейцев, без всякой пересменки и до смерти!
Вокзал во многих местах дымился, отбоя воздушной тревоги еще не было. Но железнодорожники уже то здесь, то там — действуя стремительно, как на пожаре, — отвинчивали и сменяли покореженный рельс, лихорадочно исправляли сбитый стрелочный перевод или флюгарку, по одному и группами в два-три человека хлопотали около поврежденного подвижного состава…
Миновав начисто стертую кубовую, где Грунюшкин собирался «набрать кипяточку», Бурлаков пробежал мимо горевших вагонов (их тушили люди в армейских ушанках и брезентовых робах). Не задерживаясь, промчался мимо по-полевому развернувшего работу перевязочного пункта, с короткой очередью легкораненых у полуразрушенного крыльца и вездесущими санитарами. Слышал, как кто-то, уже положенный на носилки, пронзительно закричал. И без оглядки, обогнув зиявшую прямо среди парковых путей воронку, инстинктивно свернул туда, откуда явственно доносился самый обычный для любой станции звук стрелочного рожка: требовательного, настойчивого, но, как всегда, делового и мирного… Точно ничего вокруг и не случилось!
Многочисленные станционные пути по-прежнему были забиты замершими составами, но сквозь прогалы и просветы напряженное внимание его привлек длинный товарный поезд, несколько раз дернувшийся взад и вперед.
Пробравшись между неподвижными товарными вагонами, Андрейка увидел, что почти весь он состоит из металлических полувагонов. Такие посудины, наверное, приспособленные для сыпучих материалов, подавались на завод и под эвакуируемый инструмент, и под мелкое оборудование: он запомнил, что рабочие называли их «хопперы», а запросто — корытами… К составу был прицеплен пыхтевший паровоз, машинист негромкими отрывистыми гудками переговаривался с рожком стрелочника…
— Интересуюсь: куда эти спальные вагон-салоны отправляются? — раздался за спиной хрипатый, насмешливый басок. — На восток или на запад?
Бурлаков обернулся: его в упор сверлил колючими глазами, требовательно ожидая ответа, подозрительный тип. Ему уже попадались на разъездах и станциях растерянные и ожесточившиеся, и просто выбитые войной из седла бездомные, оборванные и голодные люди… Но такого он видел впервые. Тип был в измызганной летней пилотке, в самодельных суконных наушниках, а из обоих карманов армейской шинели — такой грязной, что теперь она больше походила на черную «ремесленную», — торчало по бутылке.
— На восток, — чтоб только скорее отвязаться, буркнул Андрейка, со злостью глядя на оттопыренные карманы шинели.
— Доноровская! — перехватив его взгляд, подмигнул тип. И опять насмешливо проговорил: — Имелись у нас шансы распить ее за компанию… Но, увы: не по пути нам! Я тороплюсь Дон форсировать…
Из-под вагона — с увесистой масленкой и легоньким молоточком в руках — вынырнул железнодорожник, и подозрительного собеседника точно ветром сдунуло.
— Много в войну дерьма всякого повсплывало, — посмотрев ему вслед, сказал железнодорожник, очевидно совмещавший должности смазчика и осмотрщика. — Ты, парень, около таких поосторожнее… Валенки не продаешь? Впрочем, вижу сам: домой в подарок везешь? Откуда едешь?
— С номерного завода… Я оборудование там грузил… Для эвакуации…
— Понятно, понятно… Завербованный?
— Завербованный, завербованный, — обрадовался выручающему слову Андрейка, довольный, что железнодорожник не настаивает на подробностях и не ставит его на одну доску с шмыгнувшим за вагон типом. — А куда этот поезд идет?
— До самой Таловой весь состав проследует… Подходит маршрут?
«Теперь, когда с эшелоном уж совсем покончено, не все ли равно? Лишь бы отсюда сейчас убраться… Не зря же говорил Грунюшкин, что все районы страны даже с Москвой надежно связаны?» — мелькнуло в голове Бурлакова. А вслух он, помолчав, смущенно сказал:
— Еще бы… Очень даже знакомая станция… С нее остается только на Калачеевский пересесть — и считай, что дома. Правда, еще пехтурой километров пятьдесят: потому как наш Ольшанец в большой глубинке…
— Вот и езжай на здоровье… Благо на пехтуру билет не приобретать, да и тут без него обойдется, — подняв крючком крышку буксы и заливая масло, благожелательно говорил железнодорожник. — Повидай родителей… А то ведь сейчас время какое: сегодня человек жив, а завтра, может — пар вон!..
И едва железнодорожник снова нырнул под очередной вагон на ту сторону, как тип словно из-под земли вырос:
— Такой маршрутец и меня устраивает… — хитро подмигнул он. — Какой же это: восток? Вы этот спальный вагон облюбовали или следующий?
— В любом и на двух места хватит, — не подумав, бросил Андрейка; поезд уже трогался…
— Э-ээ, не-ет! — засмеялся тип. И уже перебирая ногами, прицеливаясь к следующему вагону, хрипло выкрикнул: — Забарабать двух зайцев в одном хоппере — больно жирно!..
Андрейка, стиснув зубы, промолчал, у него была одна мысль: «Только бы прочь с этой злополучной станции…» Догнав «свой» вагон, ухватился обеими руками за борт, несколько секунд повисел. Собравшись с силами, подтянулся и, перевалив послушное тело, бесшумно плюхнулся на металлическое пологое дно хрустко промерзшего вагона-порожняка.
Зачихал от взметнувшейся черной пыли, закашлялся…
Потом освоился. Когда оставшаяся на дне вагона угольная мелочь от тряски перемещалась — менял положение и он. Став на четвереньки, не спеша выбирал место почище. Прежде чем лечь — сметал пыль рукавом стеганки подальше от лица… Не белоручкой рос! Когда невыносимо замерзал — вскакивал на ноги и минут пять в бешеном темпе приседал и выбрасывал руки. Если чувствовал, что после этого сильнее обычного гудело и звенело в голове, точно в ней включали моторы, заглушавшие даже перестук вагонных колес, а ноги по-прежнему леденели — ложился на спину и старался сделать ими побольше энергичных движений… С щемящей сердце тоской и болью вспоминал Августину…
Боясь, как бы к Таловой не остаться без ног, несколько раз переобувался, с опаской потирая ладонями окоченевшие ступни, получше перематывал портянки… Глотая голодную слюну, вдруг зримо представил те подмерзшие буханочки солдатского солоноватого хлеба, обладателем которых был он совсем недавно — утром этого длинного и жуткого дня. Мучимый голодом, вывернул свой вещевой мешок и, собрав в черную от угля ладонь осколки сухариков и хлебные крошки, осторожно подул на них, высыпал в рот…
Мороз крепчал с каждым часом и долго оставаться без движения было невозможно. Все сильнее давал о себе знать голод, мешавший даже подремать, хоть и это было на железе, ветру и морозе не безопасно…
На одной из «полевых» остановок подозрительный сосед, забыв свое нарочитое, насмешливое «вы», кричал:
— Завербованный! Завербо-ованный! — лезь сюда, пока поезд стоит: доноровской погреешься… Обмоем встречу…
— На черта ты мне сдался с обмывкой этой и с новой встречей, — негромко буркал Андрейка, не двигаясь с места.
Но хрипатый сосед не унимался и через несколько минут снова раздавался его надрывный зов:
— За-авер-бова-анный! Что ты там, щенок, заглох? Дрыхнешь, что ли молокосос? Перебирайся, покуда совсем не окочурился…
— Сам ты, матерый кобель, смотри не окочурься, — под нос себе говорил Бурлаков. — Налакаешься доноровской, задрыхнешь — вот и будешь готов, не проснешься.
Не дозвавшись, ошалевший от водки сосед со всей силы запустил в вагон пустую бутылку. Блеснув, как граната в воздухе, она звонко стукнулась о железо и разлетелась вдребезги.
— Вот привязался, синерожий пьяница… Убить, сволочь, мог, — со злостью, сквозь зубы процедил Бурлаков, по-прежнему не откликаясь. И торопливо перебрался к задней торцовой стенке вагона.
Оказавшись ближе, невольно слушал пьяные выкрики и грязную ругань соседа; слышал, как он, прокашлявшись, вдруг натужно заорал своим хрипатым голосом:
По ходу поезда, от длительной тряски, возле задней стенки вагона скопилась почти вся угольная мелочь, сидеть тут приходилось в пыли. Но Андрейка помнил, что у дикого соседа есть вторая бутылка, и свое неподходящее место так и не сменил до конца пути.
Тем более что по мере приближения к Таловой его все сильнее охватывала тревога. А завидев замелькавшие знакомые дальние подступы к ней, он и вовсе забыл о подозрительном соседе: сердце опять защемило от проклятой злополучной бесхозности, от многих старых и новых горьких думок: «Ну вот… до Таловой добрался, а что дальше? Какой маршрут отсюда избрать? Не к матери же, в самом деле, заявляться теперь на блины, как говорил железнодорожник, хоть отсюда и недалеко… Да еще не бомбят ли и эту станцию?»
Закоченев, он с трудом выбросился из остановившегося хоппера и едва удержался на ногах: так они замерзли, затекли от неподвижного сидения, одеревенели в тесных сапогах. Опасливо покосившись на соседний вагон, неторопливо огляделся. Разминая ноги, прошелся вдоль состава.
В морозном воздухе заметно серело, станционные строения выглядели, как в тумане. А наискось от него, еще хорошо видимая, шла бурная посадка в куцый товарно-пассажирский поезд. И прямо против этого поезда пританцовывала, греясь, озябшая девочка лет тринадцати, чем-то похожая на Нюшу Крокину. Прижимая к груди укутанный в ветошь чугунок, она привычно выкрикивала высоким пронзительным голосом: «Ко-ому ка-артошки? Горячая и рассыпчатая!»
Голодный Андрейка торопливо доковылял до нее, и, истратив весь свой капитал, бережно переложил драгоценную покупку из дымящегося чугунка прямо в шапку. За свои заветные сорок рублей (еще недавно — это были деньги!) он купил всего четыре картофелины: по десять рублей за штуку.
Подставив морозу стриженую голову, он с жадностью ел картошку и невольно дивился тому, как отчаянно «берется на абордаж» — и мужчинами, и женщинами — этот местный товаро-пассажирский, с каким непонятным ожесточением и даже самоотверженностью сдерживают их, наверное безбилетных, охрипшие от крика проводницы.
— Куда этот поезд идет? — без особого интереса спросил он у сильно обросшего дядьки, с толсто замотанной рукой на перевязи.
— В Калач…
— Да неужто и туда так трудно уехать?
— Просто отрубили они мне все возможности! — сразу же озлился расстроенный дядька. — Потому, что порядка здесь вовсе нет… А ходит он теперь, когда бог пошлет, и — видишь? — всего три пассажирских вагона!..
«Ему-то, конечно, могут еще сильнее раненую руку разбередить, а я бы, если б только можно было домой, запросто сел! — дожевывая последнюю картофелину, подумал Андрейка. И вдруг в голове его тревожно мелькнуло: — А что я буду делать здесь без копейки денег, без довольствия, без хлебных карточек, да еще в этих треклятых ссохлых скороходах и весь вываленный в угле? Может, и в самом деле гнать прямо до Ольшанца? Хоть харч себе из дома на самый первый случай прихвачу, помоюсь и, главное, переобуюсь?!»
Не зная, на что решиться, он собрал из ушанки крошки картофеля и снова огляделся по сторонам. Глаза его совсем нечаянно зацепились за маячившую знакомую фигуру в летней пилотке и суконных наушниках: сидя верхом на борту хоппера, бывший сосед что-то требовательно кричал ему, жестикулируя руками.
«Вот привяжется и здесь этот ужасный тип — и, чего доброго, в самом деле могут посчитать, что я с ним вместе, в одной компании…» — подумал Бурлаков.
И, странно, это сразу как бы перевесило и столкнуло его с места. Нахлобучив обеими руками, как перед дракой, шапку, Андрейка уже не раздумывая ринулся к находившемуся перед ним вагону.
Поезд тронулся, когда он крепко ухватился обеими руками за поручни и вскочил на подножку.
Взбешенная проводница, с жестким, сразу же исказившимся лицом остервенело толкала его с верхней ступеньки в грудь, не заботясь о том, что он может не выдержать и, опрокинувшись навзничь, удариться затылком об лед. Но Андрейка собрал в комок всю свою недюжинную силу, напрягая до предела мускулы, подтянулся на руках и втиснулся в переполненный тамбур вместе с проводницей.
— Вот, буйвол, немытый, — грубо кричала она. — Да что ж ты, чертов лошак, всю меня углем-то так изгваздал? Пропусти, чумазый дьявол, в вагон!!
— Проходите, пожалуйста, если вы такая сильная, — вежливо прохрипел ей в ответ задохнувшийся Андрейка. — Не я вас задерживаю…
До самого Калача, битых пять часов, простоял стиснутый Андрейка в тамбуре, дыша кому-то в макушку и чувствуя чье-то влажное дыхание на своей шее.
А когда наконец вывалился на онемевших ногах в Калаче из тамбура, то сразу понял, что в этих проклятых сапогах ни за что не пройти почти пятьдесят километров до дома.
Однако, узнав, что попутных подвод или машин в сторону Ольшанца теперь нет и не предвидится, все равно «взял курс» к дому и, пошатываясь и прихрамывая, побрел в темноте по заснеженной дороге на транзитную Меловатку… А что ему оставалось делать?
И хоть крепко сомневался Андрейка, удастся ли пройти — не разуваясь до носков — и эти немногие километры до Меловатки, он уже зримо видел и находившуюся далеко за ней маленькую, по-ночному прикорнувшую Семеновку. Мысленно представлял себе, как будет проходить затем большую уснувшую Журавку, с ее злейшими собаками, всегда провожающими целым скопом за околицу… Как он, еще в начале пути, из первого подходящего плетня выломает себе надежную палку и будет ею отбиваться от особо лютых деревенских псов, а заодно и опираться… Все, может, чуток полегче будет идти.
Только о доме, домашних, о встрече с односельчанами он сейчас изо всех сил старался не думать вовсе.
До Ольшанца Андрейка добрался уже на рассвете. Да и то лишь потому, что в Меловатке, несмотря на поздний час, счастливый случай помог ему обменять свои добротные аккуратные валенки на старые и огромные — грубо подшитые двойным войлоком, с опаленными голенищами.
А вечером, за плотно занавешенными окнами, трепетно вздрагивал в доме Бурлаковых огонек дотапливаемой русской печи.
Выждав, пока хворост догорел, опухшая от слез Герасимовна привычно-умело загребла жар, закрыла трубу и, не удержавшись, со слезами и стоном уронила, точно новость сообщила:
— Только на рассвете Любашу с Нюркой проводили и по-темному — сызнова большие проводы…
— Ладно, мать, слыхали, — твердо остановил ее причитания Леон Денисович. — Давай-ка лучше я сам хоть чугуняк этот с водой вытягну… Она, небось, давно согрелась!..
Опять, как и месяц с лишним назад, шли в доме Бурлаковых кропотливые и, одновременно, суматошные сборы. С той лишь разницей, что помогать хватавшейся за сердце Герасимовне теперь было некому, а на лавке лежали не один вещевой мешок, а — два. И в обоих «сидорах» все уложено, проверено и пересчитано самим Леоном Денисовичем.
Андрейка увидел, что и отец куда-то собирается, но еще не знал надолго ли и как далеко. Все время думал, как лучше об этом спросить, но вслух еще никак не спросилось. А расспрашивать мать и вовсе не решался: на ее осунувшемся заплаканном лице и без того словно заморозилось до предела растерянное, испуганное и виноватое выражение. Да и сам он в своих отношениях с матерью чувствовал теперь, особенно рядом с отцом, непонятную скованность: неведомую еще и неиспытанную им никогда.
Мать порой приостанавливалась около него, замирала, как вкопанная, растерянно жевала губами — точно собираясь с мыслями, хотела вспомнить и сказать очень важное. Но так ничего и не промолвив, вдруг опять срывалась с места, снова хлопотала и суетилась молча.
Больше всех говорил, рассуждал и командовал, как всегда, Леон Денисович. Отец и сын поменялись сапогами и глядя, как Андрейка обувается в простецкие старые кирзовые, Бурлаков-старший негромко покрикивал:
— Не так! Ведь сколько разов тебе объяснял, что вперед надо левым углом потуже брать! И через одно это, промежду прочим, можно обезножить… Вот теперь — хорошо. Обувай таким же манером и второй!..
— Ты сам хорошенько мои пробуй, — наученный горьким опытом, сдержанно советовал Андрейка. — Может, и тебе будут потом жать?
Леон Денисович еще раз подтянул, по очереди, густо смазанные дегтем голенища, снова потопал обеими ногами и, не утерпев, сказал тоном знатока:
— Чего ж это будут жать? В самую они мне пору: не велики и не малы… Просто лапища у тебя почти на полвершка больше отцовской вымахала, а эти, кирзовые, были ж мне страшно просторны! Ошмурыгал ты, конечно, свои, как зря, не ухожены они были, а так, если по форме, чего лучшего еще желать: командирский сапог!..
Постепенно закончились все дорожные приготовления сына и отца. Торопливо, но очень плотно, поели они в останный разочек не важенный[3] домашний харч, если ие считать сунутых в «сидоры» пышек, выпеченных еще Любашей, да прибереженных «на случай» Анной Герасимовной двух небольших кусков старого, уже тронутого ржавчиной сала.
Вот, наконец, и оделись они, застегнули на все крючки ватники, поправили друг у друга за плечами «сидоры» и, с шапками в руках, по старорусскому обычаю присели на минуточку перед дорогой. И плачущая Анна Герасимовна послушно и покорно опустилась на краешек табурета. Ее блеклое морщинистое лицо было мокро от слез. Она не вытирала их, но и не голосила, не причитала по своему обыкновению: то ли потому, что уже не было на это сил, то ли теперь суеверно страшилась выкрикивать по живым в голос, будто по покойникам. Ведь не даром подметили бабы с цепкой памятью: кто, мол, дюжей всех нажимал при проводах на крик, те и похоронные первыми получили!
— Н-ну все — в добрый час! — первым поднялся Леон Денисович. — А то долгие проводы — лишние слезы, да и без того мы припозднились… Целуй, Андрейка, мать покрепче и выходи без шума во двор…
Сын горячо расцеловал мать, а она, едва держась на ногах, изнемогая, обливаясь слезами, трясясь каждой морщинкой лица, с укором и испугом подняла свои опухшие глаза на шагнувшего к ней мужа:
— И ты, значит, Леон Денисович, не раздумался: навовсе уходишь?
— Как это: навовсе? — заставил себя улыбнуться Бурлаков-старший. — Непременно, мать, вернемся к тебе, все трое, живые и здравые! Только не плачь… Ты ж сама, старая, может, не хуже меня понимаешь, что в Ольшанце мне дольше оставаться никак нельзя? Никому, конечно, под немцем жизни нету, ну а мне и вовсе это не к лицу и не с руки… Ты ж знаешь, сколько я за Советскую власть повоевал… Вот и не плачь! Боже упаси тебя тут по нам, живым и здравым, плакать!.. Говорю, все одно — не в армию, так в партизаны бы мне скоро подаваться…
— Да, может, еще Ольшанец они не возьмут… Ты бы, Денисыч, хоть трошки обождал… может, разом… — она хотела сказать, что, может быть, и она бы собралась. Уж очень ей жутко показалось остаться одной, но слова будто застряли в горле.
Она сделала спотыкающиеся полшага и, вся трясясь, молча уткнула сморщившееся мокрое лицо в стеганку Леона Денисовича.
Эх, и трудное это расставанье, когда, прожив полвека своего вместе, люди не знают, увидятся ли они вновь!
— Ты, мать, лучше не плачь… Самое это для тебя теперь главное — не плакать! Не то еще опять свалишься… Все равно ведь, говорят, до пятидесяти пяти всех начисто мобилизуют! Только угодишь тогда абы куда, а я все ж воевал, не кем зря — в пулеметной команде… Ей-богу, мне, еще месяц назад, сам военком по секретности сказал, что, мол, готовься, Леон: до пятидесяти пяти годков будем, говорит, брать! Потому война эта — Отечественная… А мне еще до этих лет порядочно, да и здоровьицем, хоть и чуток беспалого, бог не обидел… — приводя, как ему казалось, напоследок наиболее веские и понятные доводы в свое оправдание, бодрился Бурлаков-старший.
Но голос его подозрительно вздрагивал.
Андрейке все стало ясно: и то, что отец тоже идет в армию, и сколько было у него об этом трудных разговоров с плачущей матерью, и что отца теперь уж никто не сможет разубедить: никакая сила не сумеет заставить его изменить это твердое решение.
Поглядев еще с минуту, как прощаются отец и мать, чувствуя, что и его веки уже пощипывает предательская влага, Бурлаков-младший молча вышел из дома.
«На меня, бывало, за одну мечту о самолете постоянно шумел, — смахнув непрошено навернувшиеся слезы, тепло подумал он об отце. — А сам, выходит, тоже норовит… только в пулеметчики попасть? Ему, вишь, как старому вояке… получается, можно самому и род оружия избирать?!»
Во дворе он подождал отца и уже вдвоем — по той же проторенной в снегу тропинке, по которой утром пришел в Ольшанец, — они молча направились огородами в неизвестное.
Только за околицей Леон Денисович заговорил, да и то о предмете, с проводами как будто ничего общего не имеющем.
— Припозднились мы, однако, — взглянув на морозно сверкающую луну, сказал он. И, словно продолжая все время ведущийся разговор, задумчиво уронил: — Да-а… По такому вот яркому месяцу очень способно на волков охотиться… Помнишь, какого матерого мы в позапрошлом году приволокли?
— Мне мать жалко, — не поддержав его намерения, сказал Андрейка.
— А мне, думаешь, нет? — сердито наддал шагу отец. — Да много толковать об этом тоже — без толку… Слезами делу не поможешь… Ты свое заводское удостоверение, что давеча мне показывал, выбросил или с собой несешь?
— Захватил… Я его никогда не выброшу…
— Да я разве заставляю выбрасывать? Речь о том, чтоб понадежнее и поближе положить то, что заставил я тебя осенью взять в сельсовете, с годом рождения…
— Не боись, я его надежно запрятал, — торопливо ответил Андрейка. — А в утренней радиосводке, что сегодня передали? Про Москву было сообщение?
— Было, — умерив шаг, чтоб не так громко скрипел под сапогами снег, сказал Бурлаков-старший. — Седьмого числа, по случаю праздника Октября, прошел на Красной площади военный парад — как всегда! Правда, с той лишь разницей, что колонны пехоты и танков направились потом прямо в бой… Потому, что в районе Москвы покуда еще идут ожесточенные оборонительные бои… Но враг там остановлен намертво и, по всему видать, не нынче-завтра должны наши войска перейти в контрнаступление. Я так предполагаю, что еще в ноябре погонят собаку бешеную назад!! А там и мы с тобой, глядишь, трошки подсобим, — без улыбки добавил Леон Денисович. — Конечно, двое — это только две капли в море, да ведь и вел армия набирается таким манером — по одному! Вот, значит, в какой-то армейский миллион и мы с тобой уже, считай, входим добровольцами…
Отец все это проговорил негромко, но в его голосе была такая сила надежды, что Андрейке снова захотелось получше перед ним оправдаться. Вспомнив, что так и не поведал ему всего-всего пережитого, он принялся торопливо рассказывать отцу о своей работе на заводе, о бесконечных погрузочных авралах под пулеметным огнем и бомбежками, о целых караванах спасенной оборонной техники на железных дорогах… И, главное, о мужестве заводских рабочих и железнодорожников — людей совершенно безоружных.
— В ноябре непременно погонят собаку бешеную назад, — внимательно выслушав сына, еще категоричнее повторил Бурлаков-старший. — Потому, что под немцем нам жизни нету.
Теперь в словах Леона Денисовича была не только неизживная надежда. Столько чувствовалось в нем самом душевной силы и незыблемой веры в победный исход войны, что и воспрянувший духом Андрейка совершенно определенно подумал: «Верно отец говорит: война эта продлится, конечно, порядочно: может, два, может, даже два с половиной года! Но мы этих нечеловечески жестоких, озверелых, уже со злорадной упоенностью свирепствующих фрицев в конце концов победим!!»
На спуске к скованной льдом речке отец приостановился, с особой остротой посмотрел вокруг, задержал свой прощальный взгляд, на еще видневшемся при лунном свете родном Ольшанце.
И, споро зашагав под горку к завьюженной пойме, уже сам испытывая потребность оправдаться, будто продолжая все время ведущийся разговор, раздумчиво сказал:
— Ну к что ж, что они безоружные — рабочие и железнодорожники… Крепко понимают, что надо быть мужественными! Конечно, как ты рассказывал, нелегко: и бомбежки эти, и ночные погрузки, и голодновато… Семья уже эвакуировалась, а он еще на заводе… Или наоборот: семья покуда остается, а сам едет с эшелоном… Но как же теперь сделаешь по-другому? Если идет — Отечественная война! Значит, они понимают, что в войну мужчина обязан от женщины отличаться… Если встает вопрос: он или семья? Стало быть, надо сказать ему — семья. А семья или государство? Тут, конечно, приходится сказать — государство. Так, значит, они и делают… И получается, Андрейка, что ты на меня уж почти напрасно… вроде как обижаешься за мать. Тебе она, понятно, родная мать, но и мне ведь не чужая тетка: полвека своего прожили вместе, двух сыно́в с ней вырастили… Однако в войну у мужиков всегда так: вперед — Родина, затем — семья, потом — сам…
Андрейка ничего ему не возразил, дорога после речки пошла трудная, и они стали взбираться на скользкую крутую гору противоположного берега.
ТАРАС ХАРИТОНОВ
1
Комната была на четыре человека. Четыре приземистые, узкие, но вполне добротные железные кровати (из тех, правда, что именуются просто койками) стояли вдоль стен, плотно прижимаясь спинками к тумбочкам. Посредине ничем не заставленный проход, а стол и табуреты расположились у наружной стены, под небольшой литографией Чигорина: все жильцы этой комнаты считались начинающими, но подающими надежды шахматистами и не так давно страстно переживали свое первое увлечение шахматами. Еще с зимы уцелел в комнате приколотый кнопками выше портрета своеобразный лозунг — на узкой полосе чертежной бумаги было старательно выведено тушью:
«Шахматы — это не просто игра: они стоят на грани между наукой и искусством!»
И, кроме портрета Чигорина, если не считать лозунга, красивого графина с водой да изящного ящичка-репродуктора, не было в комнате решительно никаких украшений. Койки стояли, однообразно застланные серыми одеялами, непокрытый стол и схожие, как близнецы, тумбочки одинаково холодновато поблескивали масляной окраской под дуб; и хотя, бережно спрятанными, лежало, может быть, немало красивых фотографий и книг, догадаться об этом было трудно: только над одной из коек была настенная книжная полочка, на которой стояло несколько томиков. Комната казалась больше, чем она была на самом деле, производила впечатление пустоватой, не очень обжитой. Этим и отличаются, как известно, все «ребячьи» общежития от домовито-уютных общежитий девушек — с их цветами, шторками, «думочками», затейливыми ковриками и целыми созвездиями из открыток и фотографий на стенах.
А здесь все домоводство было охотно передоверено уборщице Коновой, и немудрящая обстановка этой обычной комнаты общежития, казалось, навсегда заняла свои места. Обитатели комнаты хотя и не часто, но все же менялись. Однако новичок обычно безропотно занимал освободившуюся койку, где бы она ни стояла, и единственная его забота заключалась в том, чтобы выучиться быстро заправлять ее, «как у всех». Только этого и добивалась от него строгая Конова.
— Я тебя ни красоту здесь, как у девчат, наводить, ни фикусов разводить не заставляю, не твоего это понятия дело, — ворчала порой Конова на новичка. — А вот при всех и наперед упреждаю: ежели еще ошметок таких хоть разок принесешь или, боже упаси, заберешься с эдакими сапожищами на одеяло… — От одного такого предположения у нее сразу же перехватывало дыхание, и она взволнованно добавляла: — Тогда, ей-богу, вот этой тряпкой сам поработаешь! Ей-богу! Не погляжу, что ты забойщик или крепильщик.
Но, несмотря на то, что в мужском общежитии явно не хотели сбиваться на девичье украшательство жилья, комната эта сама по себе была очень неплохая: сухая, зимой теплая, летом прохладная. Была бы она вовсе хорошей, если бы не портило ее смещенное к углу окно. Это несколько лет назад при ремонте общежития вздумалось дотошному коменданту перестроить большие восьмиместные комнаты на четырехкоечные — вот и стала случайная перегородка почти к стеклу.
Впрочем, для Тараса Харитонова, койка которого приходилась изголовьем к окну, такая асимметрия была даже удобной: стоило только несколько приподняться, и он уже видел не только какая на улице погода, но и крайние домики поселка, и стройный силуэт копра у самого горизонта, и большой, почти всегда курящийся вдалеке, точно вулкан, террикон шахты «Новая». До затуманенно синевшей узкой кромки леса местность простиралась ровная, открытая: видно было далеко! Лишь в ненастные дни исчезали эти дали, и тогда оставался маячить перед окном старый, потемневший циркуль копра «Соседки».
Койка Тараса стояла так, что даже лежа, не поднимая головы, он видел, как крутятся на вершине копра огромные желобчатые шкивы подъемной машины и быстро бегут то вверх, то вниз натянутые струной прочные тросы.
Порой, правда, окно-экран закрывалось совсем: так бывало зимой, в самую лютую стужу, когда оледенелые стекла точно нехотя пропускали свет. Так случалось иногда на недолгое время в сильный туман или когда вдруг разыграется и разбушуется на улице сердитый буран.
Тарас был в этой комнате старожилом и успел так привыкнуть к своему месту и к этому окну-экрану в углу, что предложи ему перейти в другую комнату, может быть, лучшую, с окном посредине, он не очень заторопился бы. Во всяком случае, один бы он не ушел, наверное. Другое, конечно, дело со своим, например, давнишним приятелем и земляком Василием Кожуховым. Да и то было б жаль: ребятки в комнате подобрались как по заказу, очень и очень подходящие: шахматисты, пьянками не увлекаются, все крепильщики, почти одногодки и все члены его бригады! А главное, характеры у ребят, если не считать Василия, хорошие — с такими товарищами расстаться не легко. Тарасу, как и всем подолгу живавшим в общежитиях, предельно ясен был смысл лаконичной пословицы: «Не купи дом — купи соседа». Соседями по койке у него были отличные парни, так зачем же из такой комнаты, из такой дружной компании было куда-то переходить! И если б Тарасу сказал кто-нибудь еще вчера, что он с сегодняшнего дня начнет хлопотать именно об этом, он только рассмеялся бы.
Однако в воскресенье утром, когда он вернулся из ночной смены, первой мыслью было сходить к коменданту и хорошенько попросить, чтоб тот куда-нибудь его поскорее перевел: «Все равно куда, только сегодня же…»
Он как-то по-новому оглядел комнату, в которой прожил почти три года, и с невеселой усмешкой отметил, что держаться-то особенно не за что. Впервые Тарасу комната не приглянулась, почему-то подумалось, что жить в ней всю жизнь трудно, и мелькнувшую было вначале догадку, что совсем ведь не обязательно уходить именно ему, бригадиру, он тут же отбросил. После того, что выяснилось сегодня, разом рвались привычные отношения и с другом детства и с любимой девушкой, а на смену этому не пришло еще ничего. И Тарас поспешно уцепился, как утопающий за соломинку, за свое намерение немедленно переселиться, точно и комната и прижавшееся к углу окно слишком много знали о его самых сокровенных юношеских мечтах и он хотел как можно скорее избавить себя даже от немых свидетелей своего призрачного счастья. Тарасу было всего девятнадцать лет, но если бы кто-то очень близкий попросил его в этот миг коротко рассказать о случившемся, то он бы мог совершенно искренне признаться, что жизнь не удалась. Таким большим и непоправимым казалось ему все случившееся сегодня: самых близких потерял в это утро Тарас; а родных у него, воспитанника детдома, не было.
Когда Тарас несколько дней назад вернулся из отпуска, оказалось, что два других жильца комнаты только-только уехали в отпуск; и сама мысль, что он теперь почти месяц будет частенько оставаться один на один с торжествующим Василием и вольно или невольно, рано или поздно будет втянут им в разговор о случившемся, была несносна. Он, конечно, знал, что счастье окрыляет всех без исключения, но очень хорошо знал, как опьяняюще оно действует на его бывшего дружка, каким хвастливым и задиристым делает его даже простая, быстро проходящая удача.
«Посплю часика два-три, а потом непременно разыщу коменданта и сегодня же постараюсь перебраться», — решил Тарас.
Обычно, поднявшись на-гора́ из ночной смены, Тарас шел мыться, потом плотно завтракал в столовой и часа четыре спал крепким непробудным сном. Добрая шахтерская баня размаривала больше, чем вся смена, мышцы обмякали, и, придя домой, улегшись под своим окном, он сколько-то времени всеми силами сопротивлялся сну, чтобы как можно дольше помечтать. Любил Тарас мечтать. Эх, и славно ему под этим оконышком мечталось, когда, отработав смену под землей, попадал он в свою светлую сухую комнату и была на нем уже не жесткая брезентовая шахтерка, а мягкая рубашка; и не хотелось пошевелить рукой, чтобы взять с тумбочки книгу, а только хотелось подольше удержать перед глазами милый облик Поли, представить ее блестящие темные глаза… Но ни читать, ни мечтать после ночной смены долго никогда не приходилось: всегда так внезапно и неудержимо наваливался крепкий молодой сон, что Тарас нередко даже не успевал согнать счастливую улыбку со своего обветренного лица. Так с нею и просыпался.
А сегодня спать не хотелось, читать тоже, а мечтать, как ему всерьез казалось, теперь уже было не о чем. Он все же нехотя разделся и, улегшись, стал смотреть в окно.
На самую вершину седого терриконика медленно ползли вагонетки, издали казавшиеся букашками. Светило солнце, небо было в прозрачных облаках, где-то совсем рядом гулко били в футбольный мяч, по-воскресному неистовствовали громкоговорители, с высокой эстакады деловито-буднично прогромыхивали мелькавшие время от времени вагончики с углем, а с улицы то и дело доносились взрывы веселого девичьего смеха. Все было как обычно, но без той радости, что почти два года как бы окрашивала все это в какие-то особенно живые и яркие тона.
Тарасу даже вспомнилось, какими угрюмо-мрачными показались ему эти места по приезде в сравнении с его маленьким, родным, утопающим в зелени городком. Да и позже, после окончания ФЗО, он еще лелеял мысль, что скоро отсюда уедет совсем, не без основания полагая, что крепильщик — тот же плотник. Он все собирался на какую-либо новостройку: сердце его еще замирало от сдерживаемого страха перед каждым спуском в шахту, и он долго не мог освоиться с мыслью, что крепильщик всегда работает «под землею». Потом познакомился с Полей, как-то незаметно за это время возмужал, перестал бояться шахты, обжился и уже ничуть не удивлялся, когда кто-либо из старых шахтеров называл «Соседку» родной. Он и сам теперь с гордостью называл себя шахтером и считал «Соседку» родной и только порой бегло сожалел, что его в свое время так ловко обманули в ФЗО: при приеме заверяли, что крепильщик — чуть ли не центральная фигура, без которой никому ни вздохнуть, ни охнуть, а на поверку оказалось, что погоду в шахте делают забойщики и те, в чьих руках угольные комбайны. Промахнулся, считал он, по молодости и неопытности, но дело всегда казалось поправимым.
Эта старая, почти ребячья обида шевельнулась было на миг в душе Тараса, но он тут же вдруг вспомнил, с какой радостью воспринял свое назначение в бригадиры.
— Самый молодой бригадир крепильщиков на шахте «Соседка» Тарас Харитонов! — шутливо-важно представился он в тот вечер, подавая руку Поле.
Но теперь-то он знал, что именно в этом и вмещалась почти вся радость; в глубине души Тарас считал свое выдвижение преждевременным, и командовать над товарищами ему совсем не хотелось. Кроме того, ему порой представлялось, что поводом к этому выдвижению был просто случай.
Тарас уже не глядел в окно, а беспокойно ворочался на койке. Без спроса всплывали в памяти первый лихорадящий спуск под землю, первое настоящее свидание без насмешливых девчат и глазастых товарищей. Потом вдруг вспомнилось, как провожала их мать Василия и уже на станции, отирая слезы, строго наказывала: «Будьте братьями — и все! Чтоб никогда друг дружку там не обижали… Слышите?!» А он тогда и впрямь плохо слушал и еще меньше понимал, зачем нужен этот наказ: он все конфузливо оглядывался по сторонам, стараясь определить, многие ли из ехавших с ним ребят видели, как его, взрослого, почти шестнадцатилетнего, расцеловала в щеки, лоб и губы, измазав своими солеными слезами, эта женщина. «Правда, Васильку пришлось претерпеть куда побольше, — думалось тогда, — но ему она мать, а мне-то чужая, просто детдомовская сторожиха…» И вот теперь первое житейское испытание, свалившееся на Тараса так неожиданно, снова показалось ему таким большим, настолько непереносимым, что впору было писать письмо и просить эту добрейшую старушку образумить своего Василька.
Проснулся Тарас от грубовато-дружеского поталкивания в плечо и, еще не повернув головы, знал, кто его таким способом может будить. Он быстро, точно по тревоге, вскочил, сел на койку и с минуту молча смотрел прямо в глаза Кожухову.
— Ты что уставился, соня, пошли-ка обедать, — примирительно предложил Василий. Он явно пытался быть и добродушным и серьезным, а губы его против воли растягивались в неуместную улыбку.
— Вот что, друг, — нажимая на последнее слово, негромко начал Тарас, — из комнаты этой уйду я, сегодня же постараюсь это сделать… А уж из бригады, пожалуйста, перепросись в другую ты… Не дело мне ото всех из-за одного тебя уходить. Может, хоть на это совести у тебя хватит?
— Что ж, мы не можем по-прежнему вместе работать?
— Лучше порознь.
— Почему?
— Наша работа какая?
— Ну… ответственная, под землей… — начал перечислять Василий, с удивлением поглядывая на товарища: еще десять минут назад он был убежден, что его покладистый друг Тараска сегодня же пойдет на примирение.
— И опасная она тоже, — перебил его Тарас. — Случись теперь что с тобой или со мной в лаве, и разговор может получиться нехороший… Все ж знают или узнают завтра, какие мы с тобой стали крепкие «друзья», — Тарас невесело усмехнулся.
— Ах, вон ты куда гнешь, тихоня, — зло засмеялся Василий. — Значит, сам за себя боишься, как бы вместо старомодной дуэли своего соперника в лаве не завалил?
— Ду-ура-ак! Ду-ура-ак! — бешено заорал Тарас, и даже глаза его побелели от гнева. Он перевел дух и сказал уже спокойнее: — А наша работа действительно требует… почти как под цирковым куполом… полного взаимного доверия да и взаимной выручки обязательно…
— Но у тебя оно не полное? — уже держась за дверную ручку, полуобернувшись, поинтересовался Василий, сердито кося черным глазом.
— Вот сейчас в самую точку попал, ни вот столько, — показал Тарас кончик мизинца, — теперь совсем тебе не верю!
Василий изо всех сил хлопнул дверью и ушел, а Тарас еще долго сидел на койке и, свесив босые ноги, сжигал папиросу за папиросой. Обида и гнев, охватившие его, точно опустошили и одновременно отрезвили. Горе, правда, не казалось меньше — оно лишь повернулось какой-то другой, более реальной стороной, и мысли стали более конкретными. Думал сейчас Тарас уже не о своей «испорченной жизни», а о том, что совершенно глупо оставил он утром пачку писем в чужих руках, так непростительно смутился и даже растерялся от некрасивого поступка других. «А надо бы, конечно, немедленно забрать все свое, а ее записки к Василию, разумеется, оставить у Симакина…» Даже в краску теперь бросало при одной мысли о том, что его письма к Поле, где были все нежные слова, какие он только знал и какие всегда вырывались у него от всего сердца, из глубины души, сегодня, может быть, гуляют по всему поселку.
Подчиняясь ходу мыслей, Тарас решительно выдвинул из-под койки чемодан и достал Полины письма. С минуту он глядел на этот всегда очень дорогой для него сверток, не зная, как с ним быть: выйти в коридор и сжечь в топке «титана» или молча вернуть все это Поле? Еще доставая письма, он твердо сказал себе: «Просматривать не буду». А через минуту, повернув дверной ключ, брал одно письмо за другим и, не прочитывая целиком, сразу находил в каждом особенно взволновавшие или порадовавшие места.
«…Ты, Тарас, быстро отказываешься верить в верность друзей. Нет, Тарас, я не принадлежу к тем, кто пытается возомнить о себе что-то, и уж, конечно, не способна на вероломство. Так что впредь этого, пожалуйста, не выдумывай…»
— Вранье с курсов, — мрачно усмехнувшись, проговорил он вслух и, поставя согнутый листок на тумбочку, поднес к нему зажженную спичку.
«…Тарас! Так, право же, очень нечестно: требовать искренности от других и не быть искренним самому. Почему ты не написал о своем премировании и что был на вечеринке в нашем «девичнике»? Весело было? Заниматься по-прежнему приходится очень много, потому и пишу редко. Только один раз выступала в самодеятельности, исполняла твою любимую польку, говорят, неплохо. Учиться здесь очень интересно, и на это уходит все время. Завтра пойдем в театр на «Беспокойное счастье». Пиши, Тарас, не считая моих писем, потому что без твоих писем очень, очень скучно…»
— Тоже ложь, — бурчал он и, подождав, пока легкий ветерок из распахнутого окна сдунет остатки невесомого пепла с тумбочки, принимался за следующее письмо.
Все письма были сложены в определенном порядке, вероятно по датам их получения, но он выхватывал из пачки наугад, какое придется, и, пробежав глазами всего несколько строк иногда из средины или даже конца, сжигал. Так он быстро расправился с добрым десятком, пока не подвернулось письмо, надолго оставшееся в его руках.
«…Жду твоего письма, очень жду; жду, когда не жду от других (девочек!). Тарас, я, безусловно, за такую дружбу, за которую ты!
- Друзья мои, прекрасен наш союз!
- Он, как душа, неразделим и вечен.
И это даже не то, что бы я хотела сказать, но больше я не знаю, как сказать тебе об этом. Вот, немножко ревнивый Тарас, и все мои «сердечные дела», как ты выразился в своем письме. А на Октябрьскую я приеду обязательно. Встретишь? Приехать думаю числа четвертого ноября. Настроение уже чемоданное. В общем, приеду как твой гость. Хорошо? Скорее выздоравливай от своих ранений и больше никогда не болей…»
Начинал перечитывать Тарас с сердитой решимостью проститься со своей мечтой. И, читая, отмечал, что, кажется, немножко протрезвел, уже не понимая, почему его всегда приводили в восторг эти будничные и, сразу видно, неискренние строки. И тем не менее, прочитав это письмо, ему вдруг снова неудержимо захотелось непременно все уладить: во что бы то ни стало! Изнемогавший от тоски Тарас почти с ужасом почувствовал, что пойдет на любое примирение с Полей, даже на унижение, потому что любит ее больше прежнего. Поля действительно приезжала тогда на праздники, и эта неделя была самой счастливой в его жизни. Они часами бродили, взявшись за руки, стараясь избегать шумных мест, и там, в тишине, за седым терриконом, он тогда поцеловал Полю. «Все Василий, все Василий, все он!..» — мысленно повторял Тарас одно и то же, хоть и отлично понимал, что дело не в одном Василии.
Так он и сидел с письмом в руках, отдавшись своему горю, пока в пустом по-воскресному коридоре не послышались приближающиеся голоса и топот ног.
2
Роман его начался года полтора назад и совсем просто. Ремонтируя крепь в тесном и темном вентиляционном штреке, Тарас слегка рассек себе топором палец. По совету старого шахтера он присыпал ранку свежей угольной пылью и, не поднимаясь на-гора́, доработал смену. Однако палец разболелся так сильно, что целых две недели пришлось протомиться от вынужденного бездействия. Особенно тяжелы были первые дни: боль порой охватывала всю руку и даже плечо, а палец начинал мучительно «токать». Когда это постреливание становилось трудно переносимым, Тарас вскакивал с койки и бегал по опустевшей комнате взад-вперед, безостановочно нянча правой рукой левую. Потом, кривясь от боли, заботливо отставляя забинтованную кисть, снова ложился на кровать.
Именно так было в то памятное осеннее утро. Погода стояла слякотная, сырая; мелкий спорый дождь сеял не переставая, и от него сразу помрачнело все, что было видно из окна, точно дождь вымыл все краски из давно знакомого пейзажа, но в изобилии оставил серую и черную. По стеклам медленно струились мутные потоки.
Набегавшись под утро по коридору, Тарас осторожно повалился спиной на койку и, стиснув зубы, молча ждал ухода неугомонных ребят на работу: он плохо спал ночь, его измучила боль и потому раздражала даже их обычная утренняя суетня. Когда и в коридоре поредел торопливый топот опаздывающих, мечущихся из сушилки в умывалку, а двери перестали хлопать, Тарас пристроил поудобнее левую руку к стене, на подушку, а в правую взял книгу. Читать было неловко. Прежде чем перевернуть страницу, приходилось класть книгу, но повесть его заинтересовала еще раньше, и, главное, это хоть несколько отвлекало от боли.
Он не прочитал и десяти страниц, как в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошли комендант и какая-то девушка в почерневшем от дождя плаще. В одной руке она держала сумку с инструментом и мотки ярких разноцветных проводов, а в другой — целую связку небольших изящных ящичков.
— Ты, Харитонов, никуда не думаешь топать? — вместо приветствия спросил комендант.
— В два часа на перевязку мне, — поморщился Тарас.
— О, еще не скоро, — обрадовался комендант. — Тогда кладите все на этот вот стол и можете не беспокоиться: все останется в исправности, — заверил он девушку. — Харитонов у нас парень сознательный… А насчет ключей — с Коновой: она и откроет и закроет. Договорились?
Комендант ушел, а девушка, сбросив плащ, начала раскладывать свое хозяйство. Видя, что Тарас перестал читать и молча наблюдает, она, не прекращая работу, спросила:
— В шахте руку себе повредили?
— А то где ж…
— Ушибли или порезали?
— Палец топором зацепил.
— То-опо-ором, — сочувственно округлив глаза, пропела девушка.
Больше говорить было не о чем. Девушка ловкими быстрыми движениями перетерла сухой паклей забрызганные дождем репродукторы и один, с белой чайкой на матерчатом квадратике, поставила на уже подготовленную раньше полочку. Пока она крепила к стене розетку, Тарас успел рассмотреть ее лицо: оно было нежным, матовым, без румянца на щеках, с темным пушком над верхней губой и тоже еще хранило, точно росу, дождевые брызги. Черные глаза были широко открыты, опушены мохнатыми, загибающимися на концах ресницами и глядели прямо, чуть-чуть удивленно. Она несколько раз смело перехватывала его взгляд, а Тарас каждый раз торопливо отводил глаза, делая вид, что продолжает читать: впервые в жизни почувствовал он, как от девичьего взгляда вдруг часто и коротко застучало его сердце. Про свой больной палец он забыл.
— Вы, случайно, не немой? — спросила девушка, посмеиваясь.
Видимо, ей было очень неприятно его молчаливое рассматривание.
— Что вы!.. — смутился Тарас. — Рука очень сильно болит, ноготь вон вчера сняли.
— Нарывала?
— Ну да…
— А-а, — сказала девушка. Затем критически оглядела проводку, сделанную из таких же, как у нее, цветных шнуров, и, не обращаясь к Тарасу, добавила: — Сейчас будем слушать…
Однако ящичек-репродуктор по-прежнему молчал. Недовольно нахмурив черные брови, девушка снова отвинтила розетку и, вынув обнаженные, зачищенные до блеска концы проводов, попробовала их языком.
— Да вы что! — испуганно поразился Тарас и даже вскочил на ноги.
— Что ж поделаешь, если наушники контрольные по молодости забыла, — спокойно пояснила она. — Не подключили еще, оказывается, вас в сеть-то, — со вздохом облегчения добавила она, улыбаясь, — а я уж тоже чуточку струсила… Думала, что опять репродуктор подсунули мне неисправный. Ну, ничего, денек потерпите, а то в такой дождь на мокрый столб-то лезть…
— И больше… и больше подождем! — громко вырвалось у Тараса.
Девушка засмеялась и, прихватив под мышку один репродуктор, забрав в руки моток провода и инструмент, вышла из комнаты. Тарас слышал, как она договаривалась с Коновой о том, чтобы та никуда не отлучалась и какие комнаты придется открывать.
Первым естественным стремлением после ее ухода было причесать растрепанные волосы, оправить койку, застегнуть ворот рубахи, может быть даже заглянуть в зеркало; но что-то мужское, упрямое внутренне запротестовало в нем изо всех сил, и он остался как был. Только, прежде чем снова лечь на койку, невольно пересчитал глазами оставшиеся ящички и от всей души пожалел, что их немного. Он все еще держал книгу в руке, хотя не читал, а думал, как хорошо бы с такой девушкой познакомиться, подружиться, и даже прикинул, что скажет ей, если она скоро появится здесь. Но когда минут через пятнадцать она опять стояла возле стола, была совсем рядом, сразу забыл, что приготовил сказать, а девушка-монтер быстро взяла нужное и ушла. Она заходила несколько раз, и Тарасу всякий раз казалось, будто в комнате становится праздничнее, а на улице светлее, и он даже заглядывал после в окно, чтобы убедиться, не посинело ли и впрямь свинцовое небо.
«Молчу действительно как пень, — хмурился он, — еще, чего доброго, правда, подумает, что жил в лесу, молился колесу, ничего не читал и робею перед девчатами… Разве нельзя, в самом деле, разговориться… ну хоть вот про эту книгу, шахматы, да мало ли про что!» Он сердился, но надежду по-настоящему познакомиться не терял. Потом снова слышался звонкий топот ее каблучков по коридору (очень отличающийся от шаркающей походки Коновой), легкий стук в дверь; он с готовностью выкрикивал «Можно!», но когда она входила, вместо непринужденных фраз, только-только мелькавших в голове, по-прежнему лишь с трудом вытягивал из себя отрывочные вопросы: «В шахту спускались?» — «Что вы, я такая трусиха…» — «А в шахматы играете?» — «Пробовала… у меня от них голова болит». — «Эту книгу читали?» — «Какую?» — «Вот: «На краю Ойкумены». — «Не помню что-то, кажется, нет…» — уже с досадой и раздражением мысленно перебрал он все эти «вопросы и ответы», снова оставшись один.
— Тьфу!.. Разговариваю не как товарищ, а точно экзаменатор, или анкету заполняю, — злился Тарас на самого себя.
Ему уже казалось, что девушка отвечает все время сдержанно, немножко, конечно, иронически (да и как же иначе!), но умно, тонко, а он совсем без разбору «бухает», точно топором.
И только когда девушка вернулась за последним ящичком, он, взглянув ей в лицо, вдруг понял, что тему для настоящего душевного разговора незачем извлекать откуда-то из глубины, если она давно лежит на поверхности.
— Как же вы, отчаянная, не побоялись оба провода на язык-то пробовать? Ведь если бы сеть не оказалась обесточенной, вас бы могло убить! — сказал он растроганно, в полной уверенности, что теперь-то она обязательно догадается обо всем сама.
— Если бы да кабы, — непонятно повторила девушка. — Так это ж сла-або-оточие! Радио, телефон… — Ей явно не хотелось продолжать дальше, однако у двери она обернулась, поискала что-то глазами и, увидев низко над столом электророзетку, строго добавила: — Смотрите, ребята, не вздумайте включить репродуктор в электросеть! Смо-отрите! — и ушла.
Опешив от неудачи, Тарас растерянно глядел на разбросанные по столу инструменты и куски проводов. Он был уверен, что девушка пришлет за ними Конову, ни за что теперь не пожелает заглянуть в его комнату еще раз, и искренне удивился, когда та как ни в чем не бывало зашла сама. С довольной улыбкой хорошо поработавшего человека, она уложила свое хозяйство в сумку, аккуратно убрала со стола все обрезки провода, надела плащ и, дружелюбно поглядывая на Тараса, сказала на прощание:
— Ох, до чего же у вас, ребята, в общежитии противно! Окна и стены голые, все раскидано, комнаты прокурены. Просто глядеть тошно: так плохо, так неуютно вы живете!
— Одинаково со всеми! — рассердился почему-то Тарас.
— Да где ж одинаково? — засмеялась она. — Вы попробуйте зайдите в седьмое общежитие, ну, хоть, скажем, в нашу одиннадцатую комнату, а потом уж и утверждайте так…
— Попробуйте… Главное: попробуйте! — вдруг придрался к слову Тарас. — Зайти, когда дома нет? Так, что ли, приглашаете в гости? Похоже это на вас… «Приходите — самоварчик поставим, уйдете — чайку попьем…» Слышали, наверное, побаску про такое гостеприимство? — грубо выговаривал он. И в то же время он очень боялся, что девушка хлопнет дверью и уйдет.
— Тогда вот что, — медленно заливаясь краской, твердо сказала она, — приходите к нам в гости вечером, когда мы все дома… Самоварчика, правда, у нас нет, но приглашаю искренне. Нет, серьезно, забирайте товарищей и приходите: один-то вы, я знаю, не надумаете… Хорошо?
— Ладно, я приду, — помедлив, пообещал Тарас и уже без всякой неприязни снова очень смущенно распрощался с девушкой.
Так состоялось их первое, не очень обнадежившее Тараса знакомство.
С неделю Тарас, как тайну, хранил это от всех. В гости не шел, но думать о приглашении, на которое он, конечно, явно и грубо напросился, все же не переставал. Девушка-монтер так ему понравилась, что он уже ревновал ее к каким-то неведомым ему радистам, с которыми она, вероятно, общается по работе.
Только через неделю рассказал о ней Василию: он любил своего веселого, находчивого, никогда не унывающего друга, но, зная, что тот большой мастер разыгрывать, сделал это не без колебания. Кроме того, впервые принимались во внимание более счастливая внешность друга и его куда большая опытность в «ухажерских» делах.
Все опасения оказались напрасными. Василий отнесся к услышанному с пониманием, совершенно серьезно, по-товарищески, только не утерпел и сдержанно подивился вкусу Тараса.
— Видел я ее, должно быть, еще на той неделе, когда они проводку делали… Чернявенькая такая, большеглазая, быстрая, с усиками… Эта?
Тарас утвердительно кивнул головой.
— Ничего себе, смазливенькая, только уж больно суховатая и цыганистая, — с улыбкой добавил он, потому что и сам был жуково-черен и жилисто-худ. — Парень-то, как говорится, чуть лучше черта — и уж красавец, а девушка все же симпатичнее, если она немножко меня побелее и потолще. Тогда с ней работала напарница… — припомнил Василий. — Вот, Тараска, девушка! Полная, чистенькая, светловолосая, глаза голубые, вроде задумчивые такие… И зовут ту, я узнал, очень красиво: Рита! А эту — Палагея!..
Василий всего на полтора года старше Тараса, но в сердечных делах гораздо его опытнее или по крайней мере старался так изображать себя перед товарищами. Правда, он пользовался бесспорным вниманием у девчат, но обращался с ними почти всегда небрежно, а гордился и хвастался не этим. Однажды в летнюю пору Тарас с удивлением обнаружил, что у его дружка нет больше отличных новеньких ручных часиков. Часы себе они покупали вместе, тщательно их выбирали в Ювелирторге, еще дольше до этого договаривались о предстоящей покупке. И вдруг Василий через несколько дней немножко смущенно справляется о времени. «Ты что ж свои-то… продал или потерял?» — забеспокоился Тарас. Но Василий загадочно улыбнулся и, задумчиво потрогав пальцем белевшее пятнышко на месте часов, сказал, играя своими цыгановатыми глазами: «Не маленький, чтоб терять… И что купил, не продаю, не спекулянт, — хорошим людям так дарю: взял вот да и подарил их одной дамэ! Я не жадный…» Он так и сказал «дамэ», произнеся это подчеркнуто, со значением. А когда заинтригованный Тарас пристал с расспросами, долго отшучивался, потом уступил и рассказал столь невероятно запутанную и одновременно фантастическую любовную историю (главным героем которой, конечно, был он), что Тарас только рукой махнул, сразу решив, что ему друг врет. Другой раз он обратил внимание Тараса на молодую, очень миловидную, но преждевременно располневшую официантку и под большим секретом поведал, что та в него безумно влюблена. Официантка поступила недавно, и Тарас внимательно пригляделся к озабоченно бегавшей по залу женщине: в шелковой форменной кофточке, с накрахмаленной кружевной наколкой на голове, она показалась ему настолько недоступно-гордой и красивой, что он тут же, не колеблясь, посоветовал другу морочить голову своими «романами» кому-либо другому. Но Василий только ухмыльнулся своей широкой нагловатой улыбкой, обнажив крупные белокипенные зубы, и многозначительно сказал: «Эх, теляче, теляче… Ладно, Тараска, завтра мы вместе подсядем на ее рядок, когда народ перемежится». На другой день они нарочно опоздали, выбора блюд уже не было, за столиком, да и во всем ряду, их было двое, меню лежало почти все исчерканное, и тем не менее пообедали прекрасно. Василий победоносно посмеивался, похлопывал себя по животу, друга по плечу, все спрашивая: «Ну, уверился теперь? Убедился, как меня кормила: точно контролера! Танцевать тебе надо учиться, молодой человек…» Тарас тогда наполовину поверил Василию, но его «успехам» никогда не завидовал и всегда возмущался и до ссор спорил с ним, называя дружка под горячую руку «ушкарем» и пошляком, если тот опять заводил при нем грубовато-шутливый и развязный разговор о всех девчатах подряд. Это было единственным пунктом, правда очень немаловажным, в котором они никак не могли сойтись взглядами.
Поэтому и теперь, выслушав друга, Тарас невольно нахмурился. И в этот раз не терпелось резко возразить ему, но то, что девушка-монтер Василию не приглянулась, очень порадовало Тараса, и он ограничился лишь коротким замечанием:
— Человек — не лошадь, чтоб судить о нем по масти или упитанности… Тем более не годится так говорить о девушке. Может, иная с лица некрасивая, а душа у ней прекрасная, и наоборот.
— А вдруг у твоей чернявой и душа балалайка? — захохотал Василий.
— Если окажется плохим человеком, на аркане в другой раз туда не затянешь! — сдержанно заверил Тарас.
Сердиться ему не хотелось. Напротив, он внутренне торжествовал и с удивлением отмечал: «Да что ж это, Василек: ослеп, что ли, ты, в самом деле, бедняга? И хорошо, что ты, дружище, ослеп на этот случай». Юная, нежная красота и обаяние девушки-монтера казались ему совершенно бесспорными, а что касается других парней — на здоровье: пусть себе считают, что она «цыганистая»; и пусть хоть никто, кроме него, Тараса, и никогда не будет понимать, какая она. Очень даже это хорошо!
Разговор закончился мирно. Василий, считавший себя знатоком девичьих сердец, сразу же начал настойчиво советовать не откладывать дела в долгий ящик, а собираться немедленно. «Эх, Тараска, Тараска, ведь и так ты целую неделю проворонил!» — искренне сокрушался он. Намерение Тараса заявиться всем составом комнаты он высмеял и решительно отверг как преждевременное. Зато тут же предложил на выбор любой из своих галстуков и великодушно уступал даже свою новенькую велюровую шляпу, которую никогда не рисковал оставлять на вешалке, а, предварительно завернув в газету, каждый раз клал в тумбочку. Василий первым в общежитии обзавелся шляпой, но надевал ее только под выходной костюм, носил умело, да и шляпа очень шла к его высокому росту и худощавым, но крупным чертам лица. Первое время товарищи дружно над ним трунили, но он, не обижаясь, начинал с невозмутимым видом утверждать, что шляпа — это и есть самый демократичный и, мало того, истинно русский, так сказать, национальный головной убор в отличие от кепи, которое, напротив, заграничного происхождения и заимствовано в свое время как дань подражания и моды. Получалось, что модничает не он, а они, на чьих головах кепки; и, может быть, поэтому ребята как-то постепенно отстали, перестали донимать его шляпой, быстро нашлось даже несколько последователей. А сам Василий, если его останавливали товарищи где-либо на дороге и, например, звали в кино или сад, как ни в чем не бывало говорил: «Одну минуту, погодите… Сейчас, только шляпу надену, а то мне неловко так идти».
Тем не менее Тарас, услышав о шляпе, даже руками замахал и наотрез отказался ее надеть.
— Зря ты меня, Тараска, в таком случае не слушаешься, — вздохнул Василий и покачал головой так, как это делают взрослые, исчерпав в разговоре с каким-либо несмышленышем все свои доводы. — Надень, говорю, сейчас шляпу и походи с полчаса по центру поселка, чтоб самому к вечеру обтерпеться. Ты, может, думаешь, я не привыкал, а сразу почувствовал, будто в шляпе родился? Хожу, бывало, по улицам, а мне так и кажется, что на мою шляпу весь народ глядит, — понизив голос, доверительно признался Василий. — Зашел, помню, цветов попросить во двор к десятнику Улитину, собака залаяла, а мне представляется, будто и она не на меня, а на шляпу мою брешет.
Тарас, конечно, не мог не почувствовать за такой неожиданной откровенностью искренней доброжелательности, полного сочувствия, грубоватой мужской заботы, даже скрытого обещания всегдашней и всяческой поддержки, но все же насчет шляпы предпочел остаться при своем мнении.
— Эх, теляче, теляче, — выпятив подбородок, сказал Василий свою излюбленную в бесконечных спорах с дружком резюмирующую фразу, показывая этим, что убеждать его больше не намерен. — Ну, гляди, потом на меня не пеняй: в седьмом общежитии все девчата задавалистые! Там, брат, полно этих: монтеров, радисток, телефонисток, морзисток… Танцевал я почти со всеми… Одну зимой напросился проводить и чуть ноги в полуботинках не отморозил: часа два, как сорока, тачала, что уже давно всей комнатой влюблены в знаменитого Бондарчука… Слышишь, Тараска, куда хватают, а ты хочешь к ним чуть не с топором ввалиться? Неужели ты не понимаешь, что на первых порах хорошее впечатление надо произвести и в картузишке твоем идти к ним вульгарно? Ну?!
Однако и этот окончательный довод остался без результата, и друзья сошлись на том, что Тарас, носивший еще сатиновые косоворотки, наденет выходной костюм Василия, его лучшую зефировую рубашку, галстук и… обойдется совсем без головного убора. «Так даже в Москве принято сейчас ходить», — успокоившись, заключил Василий.
Разыскав одиннадцатую комнату, осторожно постучались в дверь, за которой слышались звонкие девичьи голоса. Ждать почему-то пришлось порядочно, стук повторять несколько раз, и, несмотря на то, что на дворе была прохладная погода, Тарас даже вспотел.
Он был ростом с Василия, но гораздо его плотнее, и теперь выходной однобортный пиджак друга врезался под мышками, а его модные узковатые полуботинки немилосердно жали ноги. А тут еще в коридоре испортили настроение три хохотушки, набиравшие из «титана» кипяток. Увидев идущих приятелей, они подтолкнули друг друга, пошептались, перемигнулись и, едва те прошли, разглядывая по пути номера комнат, прыснули от смеха.
— Женихи наши… — слышал Тарас брошенное прямо вслед.
— Какие это женихи: оба уже старики!
Василий не обратил на это ни малейшего внимания, а Тарасу сразу показалось, что это определенный и недвусмысленный намек на его неполные восемнадцать лет. Кроме того, он знал, что лицо у него немного скуластое, серые глаза расставлены слишком широко (в детдоме его за это дразнили сычом), бесцветные и прямые пепельные волосы никогда не лежат как полагается, а нос, пожалуй, и впрямь чересчур велик. Не зря на недавнем медосмотре врач, отпускавший, правда, подобные комплименты направо и налево, обращаясь к юной хорошенькой медсестре, сидевшей за списком, сказал: «Этот неладно скроен, да зато прочно сшит». Затем фамильярно потрепал его по голому плечу, покачал обеими руками, точно проверяя, крепко ли он утвердился на ногах, и вдруг игриво заметил: «А нос-то у тебя, дружок, ведь на двух рос! А? Почему же достался одному?»
Все это промелькнуло в голове Тараса, пока они стояли у дверей одиннадцатой комнаты, и он уже с особой надеждой рассчитывал теперь на находчивость и выручку Василия: собственная смелость совсем покинула его, и, если бы не друг, он бы непременно убежал назад, тем более что дверь все не открывалась, хоть из комнаты уже несколько раз слышалось торопливое: «Сейчас, сейчас…»
На шахте «Соседка», как, впрочем, и на любой другой шахте, заводе, фабрике, были свои собственные неписаные обычаи и традиции. В какой-то мере они касались и производства и личной жизни, потому что даже в каждом отдельном случае размежевать это решительно невозможно. Так, например, квартиры в новостроящихся домах на шахте «Соседка» давались лучшим производственникам, но только семейным, а все одиночки — парни и девушки — жили в общежитиях; и если какой-либо молодой крепильщик или забойщик вдруг начинал спешно «поднимать квартирный вопрос», то ему совершенно закономерно задавался тогда примерно такой встречный вопрос: «Да ты когда намерен свадьбу-то справлять?» И уж в зависимости от названного срока нередко разрешался и квартирный вопрос будущего молодожена.
На «Соседке» посещать девушкам ребячьи общежития считалось чем-то вроде признака самого плохого тона, а на шахте «Новая» в этом не усматривалось ничего особенного. На шахте «Новая» существовали «холостяцкие» дома, то есть в большой квартире давалось по комнате молодым производственникам, и они жили там совершенно самостоятельно, без ежедневной комендантской опеки, сами заботились об обстановке, постельном белье, по собственной инициативе обзаводились утюгами, радиолами, чайниками, цветами, картинами, электроплитками… Особенно удачно получалось такое хозяйничанье у девушек… А на «Соседке» из такой попытки ничего не получилось, и в нескольких домах спешно сделали перепланировку под общежития.
Зато шахта «Соседка» всегда славилась своими благоустроенными молодежными общежитиями. Их приводили в пример на горняцких конференциях, собраниях, в шахтоуправлениях, фотографировали, описывали в местной газете, особенно подчеркивая образцовый порядок седьмого женского общежития.
И тем не менее Тарас (никогда до этого не заходивший не только в хваленое седьмое, но и в какое-либо другое общежитие девчат) просто онемел от изумления, когда дверь, наконец, открылась и они вошли. Даже бывалый Василий на миг растерялся, но, разумеется, быстро справился с собой и, галантно отставив шляпу в поднятой руке, преувеличенно развязно сказал:
— Здра-авствуйте!.. Пришли вот, незваные, в гости. Впрочем, если верить ему, — кивнул он в сторону Тараса, от смущения готового провалиться сквозь землю, — приглашение заходить было и, говорят, искреннее…
— Здравствуйте!..
— Конечно, искреннее!
— Как раз к чаю… — перебивая друг друга, одновременно заговорили девушки.
Их было четверо — весь состав комнаты. На столике едва заметным парком дымился зеркально ясный чайник. Стаканы, налитые умело заваренным чаем (не мутным, общежитейским, а янтарно-прозрачным, аппетитным), были в красивых подстаканниках, каждый с отдельной ложечкой. В вазочке — варенье, на тарелке — аккуратно порезанная булка…
«Чаевничают, видать, со вкусом, не так, как мы», — успел подумать наблюдательный Тарас, сразу вспомнив свои «казенные» жестяные кружки и вечно куда-то исчезающую единственную ложечку, которую, что греха таить, подчас приходится заменять… зубной щеткой. Он понял, что девушка-монтер в оценке их и своего общежития ничего не преувеличивала.
— Проходите, проходите…
— Садитесь, пожалуйста!
— Хорошим гостям мы всегда рады, — любезно заверила одна из хозяек комнаты, тоненькая в талии, завитая шатенка.
Но полуботинки, надетые специально для шика без калош, были чуть-чуть в грязи, и ноги как-то сами не становились на новенькую, в нежно-радужных тонах, веселую полосатую дорожку. Присесть прямо на койку а мужском общежитии считалось проще простого и было так же принято, как, скажем, на скамейку в сквере. А здесь постели были застланы светлыми цветными одеялами различного рисунка (сразу видно, что не «казенные»), да и сами кровати так старательно убраны и украшены искусно расшитыми воздушными завесками и ажурными подзораавда, повскоми, что Тарас уже невольно опасался, как бы их ненароком не зацепить. Девушки, прчили со своих табуретов и продолжали любезно и настойчиво предлагать садиться, но какой же хоть чуть-чуть уважающий себя парень так поступит! Это отлично понимал и совсем неопытный в «ухажерстве» Тарас.
Наконец все уладилось: табуретов принесли из других комнат столько, что всем хватило, и от них в комнате сразу стало тесно. По-настоящему перезнакомились. Девушек звали: Поля, Рита, Зоя и Лида. Начали пить чай.
Через десять минут Василий уже чувствовал себя как дома: шутливо просил класть побольше сахару, наливать погорячее, непринужденно хвалил «заварку» и особенно варенье, узнав, что его готовили сами девчата, все время каламбурил, несколько раз рассмеивая до слез, видимо, очень смешливых Зою и Лиду. А Тарас больше молчал, так и не преодолев своего смущения. Он с благодарностью поглядывал на Полю, которая вела себя с ним просто, дружелюбно, а когда он особенно надолго умолкал, смело перебивала безостановочно говорившего Василия и первая обращалась к нему, Тарасу, с каким-либо вопросом.
Почти все время молчала и какая-то медлительная, застенчивая или мечтательная Рита.
Тарас остался очень доволен вечером. Уже дома, когда он улегся, ему все представлялось лицо Поли. Он теперь твердо знал, что это самое прекрасное из всех виденных им лиц; и, закрыв глаза, он его тотчас же видел, и, будто наяву, слышался ее низкий, бархатистый голос: «Пей, пожалуйста, Тарас, чай ведь совсем остынет!», «Почему так мало варенья положил: неужели ты, Тарас, в самом деле не любишь сладкое?!» И человеком она — теперь Тарас в этом тоже нисколько не сомневался — была замечательным. Василия она называла на «вы», а его, как старого знакомого, на «ты» — и это льстило и казалось ему неспроста; и то, что она была так внимательна, тоже неспроста. Даже профессия ее необыкновенно нравилась Тарасу. Никогда не знавший тепла семейной ласки, совсем не помнивший мать, Тарас теперь весь был преисполнен благодарности к Поле за ее необыкновенно-душевное отношение, внимание. Это тоже, конечно, неспроста.
А Василий жадно сжигал папиросу за папиросой и все чертыхался.
— В шахте не кури, да еще там пришлось почти целый вечер слюнки глотать… «В фо-орточку ча-адите себе на здоровье!» — возмущенно передразнивал он Полю, потому что именно она решительно запротестовала, когда он вздумал закурить сигарету, от дыма которой девчата сразу же закашлялись. — Подумаешь, какие гигиенисты на шахте завелись! Понацепляли разные тюлевые занавески и теперь сами боятся по комнате пройти. Рабы вещей! Видел задавалистых, сам люблю при случае пофасонить, а таких еще, как твоя Па-ла-гея, ей-богу, не встречал. Только одна там и есть нормальная — Ритка… Ты как хочешь, а я больше туда не ходок…
— А плохо, что ли, что дымить там и на пол плевать нельзя? — сдержанно, но очень сердито отзывался Тарас.
Он злился на Василия совсем не за то, что тот называл Полю «Па-ла-геей», величал «усатой»; он сразу заметил, что она ему снова не приглянулась, и это по-прежнему лишь порадовало Тараса. Но ему уже было обидно, что друг столь не чутко, еще ничего не зная, не понимая, вторгается в то сокровенное и дорогое, что тайно затеплилось в его душе. Кроме того, Тарас опасался, что Василий и впрямь сдержит свою угрозу и дальнейшие посещения уютной девичьей комнатки оборвутся; он знал, что без решительной поддержки своего дружка заявляться ему в седьмое общежитие пока рискованно: можно сразу все испортить своей проклятой, непобедимой застенчивостью и неуклюжестью. И все-таки фраза «твоя Па-ла-гея» даже в устах не очень-то разборчивого на выражения Василия звучала почти как музыка. «А я не отказываюсь: моя, — мысленно соглашался он с разошедшимся дружком, — и никогда по собственному желанию ни за что от этого не откажусь…»
Однако угроза Василия, что его нога не ступит больше в седьмое общежитие, оказалась совершенно пустой. Через несколько дней он сам заторопил Тараса, и, тщательно принарядившись, друзья снова отправились в гости. Потом ходили всю зиму, заявлялись уже «целиком комнатой», то есть вчетвером; нередко всей компанией ходили в кино или на постановку в шахтерский клуб, но чаще засиживались до общежитейского отбоя в гостеприимной одиннадцатой комнатке. Играли в домино, колечко и, может быть, в гораздо более древнюю игру, чем седой терриконик шахты «Соседка», — в почту.
Получив написанное милым круглым почерком «письмо» без подписи, всего из нескольких слов, вроде совета: «Не надо так смущаться девушек!» — Тарас краснел и с сильно бьющимся сердцем писал в ответ: «Не множественное число, а единственное!!!» Он ставил три восклицательных знака и жирно, даже ломая карандаш, подчеркивал последнее слово. В этих недомолвках и волнующих загадках, все же дающих ему возможность как-то показать свое отношение к Поле и хоть по выражению ее лица знать, как она на это смотрит, и заключалась для Тараса вся прелесть игры в почту. Если же она, прочитав подобную «загадку», с улыбкой встречала взгляд Тараса, а смуглое лицо ее даже немного розовело, он чувствовал себя по-настоящему счастливым и веселым. Когда же ему попадались «чужие», тонко нацарапанные фривольные записочки примерно такого содержания: «Я и моя подруга мечтаем танцевать с вами!» — он, невольно бросив искоса взгляд на кудрявую Зою, торопливо, но уже бездумно, не волнуясь, не надавливая карандашом, отвечал: «На здоровье». И только потом, с улыбкой поздней догадки, прочитав знакомое, решительно-размашистое: «Слова — вода!» — соображал, кому это адресовалось. Тоненькая Зоя и смешливая Лида заметно выделяли Василия из всех — это совсем не было секретом. Как-то ребята пришли втроем, без Василия, и Тарас видел, что обе подружки совершенно откровенно и, главное, одинаково сильно опечалились его отсутствием, а Поля и Рита только переглянулись, понимающе посмеиваясь.
Лида и Зоя были очень дружны, всегда поддерживали друг друга в спорах, полностью сходились во вкусах; года два назад вместе надумали записаться в кружок пения, одинаково пристрастились к художественным вышивкам, и над кроватями их висели совершенно неотличимые собственного рукоделия коврики. Обе тоненькие, шатенки, густо завитые, они в своих одноцветных платьях совсем казались сестрами-близнецами. Тарасу они в первые дни почему-то упорно напоминали модных «журнальных барышень». Потом он начал замечать, с какими неподдельно сияющими лицами встречают обе приход Василия, который в комнату входил всегда первым. Его смелость, находчивость, новенькая шляпа, дорогой галстук, отлично сшитый выходной костюм, независимый вид, грубовато-веселая манера разговаривать — громко, небрежно, никого не слушая, — видимо, все это вызывало в них радостное смущение. Только по просьбе Василия они соглашались исполнять дуэтом «коронные свои номера», с которыми уже выступали на вечерах самодеятельности. Это были популярные «Нелюдимо наше море», «Что мне жить и тужить, одинокой», «Метелица», а потом также отлично пели вдвоем и «Прекрасную маркизу», и «Пло-оток то-онет и не тонет», и многочисленные песенки из кинофильмов.
Если Василий пропускал вечер или два (это случалось нередко — он вдруг увлекся волейболом), они потом обязательно наперебой принимались допытываться у него, почему он отсутствовал, где проводил вечер, с кем, весело ли и так далее, пока не выносящий опеки Василий не снимал со стены гитару и, аккомпанируя себе, не начинал дразнить их, напевая нарочито плаксивым голосом, насмешливо играя глазами:
Потом, поочередно поглядывая то на Зою, то на Лиду, брал несколько бурных аккордов и, ловко перейдя на плясовой мотив, заканчивал это «объяснение» всегда одинаково бойким речитативом:
При последних словах он громко хлопал по струнам ладонью, словно подчеркивая, что это шутливое «музыкальное» объяснение тоже вполне исчерпано. И хоть проделывалось так уже не один раз, виновницы всегда ужасно смущались, а Василий хохотал на все общежитие. Смеялись, правда, все, кроме Поли: она почти всегда в подобных случаях пыталась оставаться серьезной, хотя Тарас видел, что и ей смешно. Вообще между Василием и Полей чувствовалась какая-то натянутость: не было еще той товарищеской простоты, которая постепенно сложилась у всех остальных в обращении друг с другом. Они мало разговаривали, упорно не переходили на дружеское «ты» и оба не отказывались при любом подходящем случае от взаимного обмена каким-нибудь мимолетным, но тонким и колючим замечанием. Наблюдая эту вежливую холодную отчужденность, Тарас не сомневался, что они друг другу явно несимпатичны, и по человеческой слабости, а главное, по молодости и неопытности очень этому радовался, тем более, что Поля продолжала оказывать Тарасу свое несколько покровительственное внимание.
Зато, как явно огорчался и, по выражению Василия, «скисал» Тарас, когда не оказывалось в одиннадцатой комнатке Поли. Молчал он тогда больше обычного, домино и игра в «почту» сразу теряли для него всякую прелесть, и он первый начинал собираться домой. Это тоже, разумеется, не оставалось незамеченным, так как Поля, не занимавшаяся ни музыкой, ни вышиванием, частенько свое свободное время проводила на всевозможных тренировках в шахтерском спортзале, увлекаясь художественной гимнастикой, легкоатлетикой, волейболом, любила и потанцевать. Тогда откровенно помрачневшего Тараса изо всех сил старалась разговорить обычно застенчивая Рита. Тарасу почему-то всегда казалось, что делает она это лишь по просьбе Поли. Именно в такие «пустые» вечера он начал учить ее играть в шахматы. Рита, правда, очень просила об этом, а оказалась до удивления понятливой, неприятно забегала вперед, и ему сразу стало ясно, что ученица может играть самостоятельно, без его уроков, отчего, конечно, интереса не прибавилось. Но шахматы требовали сосредоточенности, за ними было удобно молчать, и это его устраивало.
А в следующий вечер Поля оказывалась дома, по-старому уделяла ему свое неизменное, немножко покровительственное внимание, и все делалось для Тараса интереснее, теплее, значительнее, а возвращаться в свое общежитие снова совсем не хотелось.
Потом Поля уехала на курсы. Тарас писал ей по два-три письма в неделю, и переписка эта, а особенно ее кратковременные приезды, окончательно сдружили их. У него образовалась порядочная стопка ее писем-ответов, которыми он очень дорожил. А когда Поля по окончании курсов вернулась, Тарас встречал ее на станции, нес довольно увесистый курсантский багаж, и радости его не было в тот вечер меры: если бы это было возможно, то он нес бы с вокзала на руках и Полю. Ему казалось, что Поля отсутствовала не одну зиму, а целую вечность. Зато впереди все, все радовало Тараса: и май с осыпающимся вишневым цветом, и то, что Поля снова живет на «Соседке», и очень короткие, незаметно переходящие в ночь весенние вечера.
Однако буквально через полторы недели шахта «Соседка» послала на зональные соревнования по волейболу женскую и мужскую сборные команды. В первую, как лучшая волейболистка, заслуженно вошла Поля, а во вторую чисто случайно, взамен неожиданно выбывшего по болезни игрока, попал в самый последний момент Василий. Тарас уже не терзался полуребячьей ревностью к предстоящим встречам любимой девушки с новыми для нее людьми. Видя, как радуется поездке Поля, порадовался даже сам. Да и время-то, на какое уезжала Поля, — один месяц! — было совсем небольшим.
Но когда до срока возвращения волейболистов остались уже считанные дни, его неожиданно вызвали в шахтместком, и председатель торжественно объявил, что наконец-то может вручить ему давно присужденную премию — путевку в Гагры.
Еще до перевода в бригадиры, зимой, Тараса, как отличного молодого крепильщика, премировали какой-то неопределенной поездкой на юг — теперь он успел про эту премию совсем забыть. Тарас начал было усиленно отказываться, но сразу нахмурившийся предшахтместкома разобиделся, сказал, что Харитонов не умеет ценить заботы о шахтерах, ни за что ни про что назвал его «индивидуалистом», ударившимся в глупую амбицию. Тарас смутился, даже извинился перед напористым председателем и… сказал, что поедет.
Чтобы путевка не оказалась просроченной, выезжать пришлось в тот же день. Он ехал очень неохотно, а Поле оставил обширную записку, в которой признавался, что если б не эта премия, от которой, может быть, отказываться и в самом деле как-то неловко, он не променял бы всего-навсего одну прогулку с ней вокруг террикона на поездку… хоть на Луну!
Но когда поезд вырвался на простор из темного туапсинского тоннеля и перед изумленным взором Тараса вдруг встала чудесная лазурная стена, оказавшаяся тут же совсем не стеной, а далеко раскинувшимся безбрежным синим морем, отливающим на солнце то бирюзою, то ультрамарином, он тут же вспомнил бесцеремонный довод сердитого предшахтместкома: «Море ведь синее-пресинее, дуралей, увидишь!» И тут же пожалел, что моря не видит Поля. И все двадцать четыре дня, любуясь невиданными горами, зелеными веретенами кипарисов, пляжами, наблюдая бег морской волны, он сокрушался: «Ах, как жаль, что нет рядом Поли!»
Он писал ей письма уже не два-три раза в неделю, а ежедневно и по нескольку раз в день бегал на почту спрашивать ответов до востребования. И каждый раз девушка с накрашенными губами, услышав фамилию Харитонов, с усмешкой заглядывала в почти пустой ящичек (на эту букву алфавита писем много никогда не было) и с уже знакомой иронией в голосе неизменно отвечала одно и то же: «Вам все еще пишут!»
«Все еще пишут…» — невольно мысленно повторял Тарас осточертевшую фразу и, огорченный, в печальном раздумье отходил от оконышка. «Но ведь прошло уже семь дней, а адрес ей известен!.. Не может же аккуратная Поля просто так столько времени отмалчиваться, да еще отлично зная, как он ждет ее писем? Не случилось ли там чего-либо непредвиденного?..» Потом прошло десять, пятнадцать, двадцать дней, а письма все еще не было ни одного. Тарас дал Поле обширнейшую телеграмму с оплаченным ответом, где говорил, что очень обеспокоен непонятным упорным молчанием, боится, не произошло ли что на шахте. Ответа не было. Не выдержав, он дал такую же тревожную телеграмму Василию и немедленно получил ответ:
«На шахте полный порядок тчк Привет всей бригады зпт напрасно паникуешь
Твой друг Василек».
— Зря только вы беспокоились так, — сказала ему на почте та же девушка с ярко накрашенными губами; и в голосе ее на этот раз звучала не ирония, а нотка сочувствия.
Тарас набил подарками для Поли полный чемодан и, проклиная и облагодетельствовавшего его предшахтместкома, и премию, и чудесный «Гагрипш», и даже равнодушное ко всему море, на попутной автомашине доехал до Адлера и самолетом отправился домой.
С большим нетерпением и еще неизведанной смутной тревогой заявился Тарас на родную «Соседку». Однако в течение этих нескольких дней он так и не сумел поговорить с Полей, хотя и видел ее издалека: она явно и очень старательно уклонялась от встреч с ним. Лиды к Зои не было (они где-то отдыхали), а молчаливая и какая-то особенно грустная Рита много раз, становясь спиной к прикрытой двери своей комнаты, говорила ему, что Поля пошла неизвестно куда, а вернется не знает когда. Пространно извинялась, что в комнате не убрано и потому пригласить не может, и краснела при этом так, точно Тарас в чем-то уличал ее. Рита, видимо, отлично понимала, что Тарас ее объяснениям уже не верит, и это ее мучило: врать она не была мастерица.
Так прошло дня три, пока сегодня гардеробщик Симакин не разрубил для Тараса разом и окончательно эту мучительную и неприятную загадку.
Когда Тарас после ночной смены с обычным наслаждением «отбанил» угольную пыль и уже оделся, Симакин вдруг поманил его пальцем и, хитро ухмыляясь, показал пачку разномастных записок.
— Твои, что ль?
Тарас взглянул, быстро-быстро перебрал пальцами сложенные в четвертушки листки и, с трудом сохраняя внешнее спокойствие, хрипловато спросил:
— Откуда это у вас?
— Вот вместе с этими подобрал, — потряс Симакин пачкой потоньше, — должно быть, Кожухов Василий все твои секреты ненароком уронил. Однако не горюй, урон не больно велик: одни-то, стало быть, твои к ней, а другие письма… ее к нему?! — мелко засмеялся он. — Бывает, в жизни все бывает… Ты парень хороший, но только не сумел вот остаться перед ней самим собою, чересчур много ты, дружок, намеков ей наговорил про преданную свою любовь, больно горячо душу ей свою изливаешь…
— Не говорите о том, чего совсем не понимаете! — не вытерпев, грубо оборвал Симакина Тарас.
— То есть как же это я не понимаю?! — не столько обиделся, сколько изумился Симакин. — Ты, сынок, что ж думаешь, эту самую любовь только вы сейчас выдумали, молодые? А до вас никогда ее и не было? А?!
Потрясенный Тарас, для которого уже все казалось ясным, молча отстранил рукой письма и хотел уйти. Но задетый за живое Симакин насильно усадил его на лавку и, упрямо протягивая ему письма Поли, уже настойчиво требовал:
— А ты почитай, почита-ай-ка попристальнее их!.. Ты еще сам, если хочешь знать, в таких сурьезных и деликатных делах, как женская любовь, смыслишь вроде новорожденного! Ты, может, думаешь, любят по заслугам? Ошибаешься, дружок… Она вон сама отлично понимает, что ты не в пример лучше Васьки и относишься к ней много благожелательнее; а тут же, стрекоза, признается ему, что с тобой, дескать, только дружила, но по-настоящему полюбила не тебя, а его! И все твои нежные слова — ему! Что? Понял? Ты читай, читай их все, — твердил разошедшийся Симакин, подсовывая Тарасу письма, — это тебе полезно…
3
После обеда Тарас с полчаса разыскивал коменданта, все еще не теряя надежды немедленно перебраться в другую комнату, но в конце концов ему удалось лишь выяснить, что коменданта повидать сегодня мудрено: он, оказывается, с утра уехал на озерцо рыбалить.
Вернулся в общежитие Тарас таким усталым, точно в бесплодных поисках коменданта обошел не несколько соседних бараков, а отшагал десятки километров: теперь отпадало и то единственное занятие, которое казалось ему нужным, даже обязательным в его сегодняшнем положении, за которое он так горячо было принялся. И только когда сел на свою койку, понял, что в этой уже опостылевшей комнате делать ему тоже нечего. С полчаса он сидел в непривычной тишине, размышляя, чем лучше заняться, чтобы отвлечься от неприятных дум. Но идти на стадион (где с утра разыгрывалось первенство по легкоатлетике и было, конечно, многолюдно, шумно, весело) показалось ему поздно: «к шапочному разбору…» А делать что-либо будничное, обычное почему-то сегодня не хотелось. Не тянула к себе даже полочка с книгами, недавно устроенная Тарасом над своей койкой, точь-в-точь так, как у Поли: стоило поднять руку над изголовьем — и, пожалуйста, бери любую.
Оставшись наедине, Тарас снова попробовал разобраться в происшедшем, хотя и не раз уже за сегодняшний день давал себе слово не ломать зря голову: вернуть старое невозможно. Правда, беспокоившие его только что думы постепенно приняли несколько иное направление: не было, как утром, не находящего себе исхода возмущения, на душе у него теперь было тихо и тоскливо. Снова и снова припоминались непрошеные наставления захмелевшего Симакина: «Раз не полюбила, выбрасывай, парень, поскорее, прямо в экстренном пожарном порядке ее из головы… Ахами, охами, вздохами да попреками тут не пособишь: уйди, скажет, разнелюбый, — и все! Начни хоть плакать, биться головой о стенку, стань перед ней на колени — хуже опротивеешь: потому настоящая любовь не милостыня, из одной жалости ею не одаряют… Ваське-то вон твоему, как к деньгам деньги, так она и валит, а тебя вот покуда стороной обошла! А ты не хнычь, старайся, работай, смейся — она, любовь-то эта, в одно прекрасное время и тебя заметит. Непременно! Чем ты для нее хуже ерника Васьки? Ничем. Вот на этом мнении пока и укрепись…»
Однако укрепиться в этом мнении Тарасу пока не удавалось. Он откинулся спиной на койку и думал о том, что существуют, выходит, как бы две любви: одна любовь — взаимная — приносит радость, счастье, другая любовь — неразделенная — только мучения. И еще думал о том, что одним счастье любить и быть любимым дается почему-то совсем даром, видимо еще при рождении, вместе с курчавой, как у Василия шевелюрой или очень красивыми, как у Поли, глазами; а другим, таким, как он, выпадают, видно, лишь вот такие мучительные деньки да сомнительные советы и утешения Симакина «укрепляться» потверже при подобных неудачах. «Правда, про любовь много противоречивого и в книгах», — подумал Тарас.
За последние месяцы, по рекомендации Поли, он с жадностью проглотил не один роман, и там, конечно, тоже не всегда все обходилось гладко; и в книгах обстоятельно рассказывается, что в жизни нередко перепадает всякое, а герои бывают счастливы и неудачливы, радуются и огорчаются. Но, читая с удовольствием о всяких осложнениях любви, он верил им до сегодняшнего дня как бы наполовину; главы и страницы, где говорилось о радости нерушимой дружбы и о счастье верной любви, почти всегда производили на него впечатление абсолютной правдивости, достоверности, бесспорности — это, думалось ему, сама жизнь, такие чувства были ему близки и понятны. Его быстро развивающийся читательский вкус всегда подкупали места, не лишенные теплоты и искренности чувств. Потом он обменивался своим впечатлением о прочитанном с Полей, и оба радовались, что их взгляды совпадают, что и дружбу и любовь они понимают одинаково.
— Дружба, Тарас, это прежде всего искренность, уважение, верность, — не раз говорила ему она во время таких обсуждений.
— И любовь, Поля, прежде всего верность, искренность, уважение, — всегда шутливо перетасовывал Тарас. — Верность я выдвигаю и в дружбе и в любви на самое первое место!
А Поля хоть и весело посмеивалась над этим его неизменным добавлением и уточнением, но тут же целиком с ним соглашалась.
Те места книги, где узы дружбы и любви вдруг не выдерживали испытания временем, начиналась размолвка, героиня изменяла, а герой страдал, интересовали Тараса только с одной стороны: правда это или вымысел? Возможно такое неожиданное вероломство в жизни, или это только в книге? Чтобы проверить свои выводы, он обращал на такое место внимание Поли, откровенно делился с ней своим недоумением. «Значит, она по-настоящему и не любила?» — совершенно искренне спрашивал в таких случаях Тарас.
А Поля, как правило, тоже не была в восторге от таких поворотов, говорила, что и ей эта ситуация показалась маложизненной, не очень убедительной. Поговорив так с Полей или получив от нее обширнейшее письмо с такими мыслями о прочитанном, Тарас сразу же успокаивался, долго ходил довольный всем — и начитанностью Поли, и ее умом, и ее взглядами на дружбу, любовь, жизнь, и даже тем местом книги, которое вначале, как потом ему становилось ясно, немного неприятно его насторожило.
Но теперь в точности такую же «ситуацию» он не в кино смотрит и не в романе о ней вычитывает, а все это происходит с ним. Как ни старался Тарас объективно разобраться в происшедшем, а хладнокровно сказать: «Ну что ж, значит, и не любила», — он не мог. И снова возвращался к мысли о том, что во всем случившемся больше всех виноват Василий, невольно поминал недобрым словом так бездумно «облагодетельствовавшего» его председателя шахтместкома, потом некстати подвернувшиеся зональные соревнования по волейболу. А когда опять пытался построить из мелких случайностей хотя какую-то закономерность, уже смутно догадываясь, что жизнь гораздо многограннее, чем он до сих пор предполагал, из этого почему-то ничего утешительного не вытекало, ничего не получалось, кроме разве уже знакомого ему недовольства собой.
Одолеваемый такими думами, Тарас метался по комнате и ворочался на койке до тех пор, пока не заснул тяжелым, беспокойным сном, неловко уткнувшись лицом в грубошерстное одеяло. Но и во сне не пришло облегчение. Приснилось ему, будто Поля постучала в его окно (так она иногда делала, чтобы не заходить в «ребячье» общежитие), и потом они вместе, взявшись за руки, пошли на стадион. Там было солнечно, многолюдно, неутомимо бегали по зеленому ковру «свои» и «чужие» футболисты, их яркие майки то перемешивались, точно маки на грядке, в самой середине поля, то молниеносно перегруппировывались и снова рассыпались по его краям. Щедро, бурно рукоплескал стадион успеху каждого игрока. А всегда справедливая Поля на этот раз требовала, чтобы он аплодировал только одному курчавому игроку, и очень сердилась, когда он пытался выкрикнуть что-либо ободряющее другим.
Тарас проснулся весь в поту, а на душе сразу же стало еще тяжелее: действительность была хуже этого неприятного сновидения. От одной мысли, что он мог бы провести этот погожий летний день, как большой праздник, Тарас чувствовал себя так, будто кто наяву поглаживал по его сердцу колючей Полиной варежкой. Сразу вспомнилось: зимой не раз шутливо примерял он эти крошечные, затейливо связанные варежки; Поля всегда пугалась, что он их растянет на своей огромной ладони, а потом, когда убеждалась, что он осторожно надевал варежку только на кончики пальцев, смеялась.
Без стука, не спрашивая разрешения, как хозяйка, в комнату вошла Конова. Сегодня она лишь дневалила у ключей и потому одета была по-праздничному. Просторная, длинная, не забранная в юбку кофточка топорщилась, точно слегка накрахмаленная: ситец был совершенно нов. Голову ее покрывал не расхожий темный платок, а безупречно белый, с кремовыми глазками. В натруженных руках, видимо не умевших оставаться без дела, она бережно держала большой клубок и какое-то затейливое вязанье. Перехватив невольный взгляд Тараса, рассматривающего необыкновенно длинные спицы с сургучными шариками-головками на одном конце, Конова сказала:
— Что удивился так? Мастеровому человеку без дела не сидится! Старухи-то — небось слышал? — любят агитировать, будто по праздникам работать грешно, а я так понимаю, что трудиться никогда не грех, хоть и сама давным-давно старуха… Ты что это, сокол, сегодня квелый-то такой? Заглядываю раз, приоткрываю дверь в другой, в третий, а он все лежит кверху макушкой и даже не хочет, аккуратист мой самый главный, пыльные сапожищи-то свои скинуть! Шел бы вон на футболистов смотреть. Гляди-ка, опять народ на стадион потек: и девчонки бегут туда, и парни, и семейные… А ты нынче, право, вроде сурка: никак все не отоспишься!
— Голова что-то болит, — нехотя пояснил Тарас, когда дольше молчать под пристальным взглядом Коновой стало неловко. — Работаем на крепеже новой проходки, штрек не успевает как следует после подрыва проветриваться — вот, наверное, немножко и угорел, голова разболелась…
— На воздухе-то скорее она пройдет, — усмехнулась Конова, — на народе и думки твои лучше передумаются; одному-то сейчас тебе с ними домоседить только му́ка, а на людях они враз переменятся и перемелются — глядишь, и с пользой мука будет! Потом сам поймешь, что верно советую…
«И она со своими непрошеными вразумлениями, — с вдруг подступившей тоской и неприязнью догадался Тарас — Так и знал, что теперь по всему поселку раззвонит этот несносный Симакин про мои дела… Ну, зачем оставил у него свои письма? Возмутился, фыркнул и убежал, удивил, называется, кого-то». А вслух Тарас раздраженно напомнил:
— Объяснил ведь уже вам, что голова болит?
— А у него, выходит, не очень? — кивнула она на неразобранную койку Василия. — И все остальные твои бригадники… тоже никто, по-моему, не прикладывались?
— Зачем им ложиться, если пересменка у нас, а сегодня праздник.
— Стало быть, с утра вам завтра в шахту?
— С утра.
— Значит, управишься и ты выспаться!
— Говорю ведь понятно, — почти выкрикнул Тарас, — русским языком сказано вам, что голова трещит? Ну… может, не от газа, а болит…
Но Конову этот запальчивый окрик нисколько не испугал и не смутил. Она подвинула к себе табурет, не спеша расправила наутюженную юбку, села и снова упрямо повторила:
— И я понятно тебе толкую, не по-французски, иди-ка, сокол, на мяч этот… между «Соседкой» и шахтой «Новая», проветрись, отвлекись малость. Одного ведь добра тебе хочу, как круглому сироте, а ты и выслушать-то старую греховодницу толком не желаешь, шумишь зря, — неожиданно засмеялась она.
Тарас никогда не видел ее смеющейся и очень подивился, как сразу подобрело, будто обмякло ее сухое лицо. Несмотря на старость, был у нее «темперамент бойца», и постоянно она с кем-либо грозно «воевала»: бранила ребят за нанесенную ногами грязь, сердито учила новичков заправлять, «как у всех», свои койки, ополчалась на «трубокуров», заметя брошенный мимо пепельницы окурок, а завидев коменданта, непременно останавливала его и, хотя пять раз на дню, немедленно начинала требовать от него «каких полагается» тряпок, дополнительных скребков и приобретения проволочных матов, не уставала попрекать его давно обещанными, но все еще не купленными дорожками, шторками, даже фикусами. В другом месте на нее, пожалуй, сердились бы за это, может быть, даже не стали бы терпеть, но здесь, на шахте, как нигде, умели ценить труд. А Конова вечно была в заботах и хлопотах: прибирала, вытирала пыль, мыла полы, кипятила «титан». Лицо у нее было в крупных морщинах, а выражение его всегда серьезное, строгое, почти суровое. И теперь, освещенное вдруг этой неожиданной улыбкой, оно как бы мелькнуло на миг перед взором Тараса своей несомненной былой красотой — далекой-далекой и тоже, видимо, строгой, что называется, иконописной.
«Ну и греховодница!..» — невольно внутренне усмехнулся Тарас и тут же подумал, что к такому почти аскетическому лицу и в молодости-то, наверное, было не очень легко приложить это веселенькое словцо. И снова та романтическая страничка из биографии старой уборщицы, какой, видимо, в минуту внутреннего умягчения поделилась она с Полей, в которой души не чаяла, а девушка под строгим секретом рассказала в один из самых памятных вечеров Тарасу, показалась ему неправдоподобной, недостоверной, не существовавшей никогда.
— Нечего так на меня глядеть, я не медведь, — уверенно и твердо сказала Конова, видимо не сомневаясь, что она верно проникла в ход мыслей Тараса. — Небось думаешь сейчас, что Конова ваша так старухой и родилась, никогда не была молодой? Была: и молодая была и, люди добрые сказывали, красивая — вроде твоей Поли… Да вот беда: красота-то нашей сестре не всегда впрок!..
— Про Полю теперь нечего говорить, — сухо отрезал Тарас.
— Кому нечего, тот пусть и не говорит, молчит, — не смутилась Конова, — а мне ее, бедняжку, даже очень жалко: совсем ведь девчонка, в людях не разбирается!.. Подозвала ее после твоего отъезда, говорю: «Окончательно ты ведь перестала над головой своей думать: всего через один месяц Тарас вернется, а ты, похоже, собралась менять кукушку на ястреба или уже сменяла?» — «Думала, отвечает, а теперь уж бросила — все равно без толку, в голове какое-то а-ла-ла… Да и, добавляет, бесполезно: сами знаете — сердцу не закажешь!» Вот, похоже, одно это «ала-ла-ла» и получится у них. Не сберег ты, сирота, свою бедную горлинку от этого сокола-сапсана… А девица-то какая: умница, скромница и собой красавица, и, главное, золотой она души девка!
— Не может быть, чтоб она сюда заходила. Не верю я вам! — вскочил с места Тарас.
— Я, пока ты в отпуске-то своем разгуливал, никуда ведь не уезжала, — ответила Конова.
Тарас сел, снова встал; скулы его постепенно покрывались плитами неровного румянца. Молчала теперь и Конова, молчала и даже сердито отвернулась от него. Она словно только сейчас вспомнила, что держит вязанье, и длинные спицы быстро замелькали в ее умелых руках. Тарас постоял несколько минут, не проронив ни слова, потом снял с гвоздя фуражку и, перебарывая в себе вдруг откуда-то подкатившуюся к самому сердцу боль и одновременно дикую потребность кричать, бушевать, изо всех сил возмущаться свершившимся вероломством, сказал совсем обычным голосом:
— Пожалуй, вы правы: на новошахтных футболистов взглянуть стоит…
Но на стадион Тарас не пошел. Выйдя из общежития, он растерянно потоптался возле тамбура, не зная, куда направиться. Единственно, что было ему ясно в этот момент, так это то, что сейчас снова надо побыть одному и опять попытаться хотя бы как-то осмыслить случившееся. Правда, с самого утра он занимался этим же. Но до сих пор все же теплилась в глубине души Тараса тайная и смутная надежда, что все это, может быть, еще не так серьезно, как кажется. Даже держа утром в собственных руках Полины письма к Василию, он не верил, что это окончательно — так же как не верил недавно, купаясь в море, что он когда-либо может утонуть, хотя море видел впервые, а плавать не умел. И только теперь Тарас по-настоящему понял: произошло нечто такое, что уж не отменишь и не изменишь.
Он свернул от общежития направо, чтобы быстрее выбраться за поселок: поле здесь было в десяти минутах ходьбы. Этот безветренный, такой мучительный для него денек выдался после недавних дождей на редкость погожим. И сейчас, к вечеру, щедро припекало солнце, а по высокому синему небу, точно белые паруса в штиль, лишь кое-где были разбросаны перистые облака — они казались совсем неподвижными. Даже вечно пылящая верхушка терриконика, мимо которого он проходил, курилась как-то особенно тихо и спокойно: будто не хотела сегодня, ради праздника, встречать всех своими колючими угольными соринками.
Кончились последние строения, и в лицо Тарасу пахнуло медвяным настоем от сникших за жаркий день степных трав и цветов. В сторону неширокого, густо заросшего кустами оврага от дороги ответвлялась хорошо проторенная стежка, и Тарас медленно побрел по ней. Он дошел до самого оврага, без интереса заглянул в него: овраг был неглубок, с пологим травянистым дном, а оба склона его обильно заросли раскустившимся на приволье диким шиповником. Тропинка, выбирая места поудобнее, пересекала овраг и вела, видимо, к маленькому крайнему домику на противоположной его стороне. Старая поселковая застройка выдавалась там далеко вперед и врезалась в степь длинным клином, будто узкая и острая песчаная коса в море.
Дальше идти по этой тропинке было некуда. На остановившегося Тараса яростно залаяла привязанная к конуре собака, и он сразу сообразил, что забрел на усадьбу к десятнику Улитину. «Вот эта, значит, белая дворняжка и облаяла тогда новенькую шляпу Василия», — почему-то немедленно припомнилось Тарасу.
Возвращаться назад ему не хотелось, да и хорошо здесь было, среди густых, еще доцветающих кустов шиповника. Чтобы не дразнить напрасно все больше и больше ярившуюся собаку, он поспешно отошел от края оврага и лег на траву. Сквозь кусты шиповника Тарас видел, как из домика выходил во двор грузный Улитин, слышал, как он громко уговаривал собаку «не расстраиваться пустяками». На нем была праздничная, пестро расшитая, но неподпоясанная гуцулка, широченные парусиновые брюки и калоши на босу ногу. Угомонив собаку, он постоял немного на крыльце, почесывая и поглаживая свою богатырскую грудь, и, сладко потягиваясь и позевывая, снова ушел в дом.
Стены его домика до самого карниза были беспросветно покрыты кудрявым, сильно разросшимся плющом, и только распахнутые настежь маленькие окна, точно бойницы, темнели среди яркой и буйной зелени. В одном из окон сверкал и переливался на солнце огромный граненый раструб старинного граммофона.
Заметив этот граммофон, Тарас невольно улыбнулся и, откинувшись на спину, стал смотреть в высокое синее небо. Вдалеке, замирая или усиливаясь при каждом дуновении легкого ветерка, неистовствовали поселковые громкоговорители, над самым его ухом жужжал большой черно-рыжий шмель, а с кустов шиповника время от времени срывались лепестки и перелетали над его лицом, мелькая на солнце, как бабочки. В воздухе прочно держался тонкий и нежный аромат, и Тарас только сейчас догадался, что это именно отсюда, с Пологой балки, почти сплошь заросшей диким шиповником, пахнуло на него сразу же за поселком таким вкусным, пряно-медвяным настоем. Он перевел глаза на кусты — они будто соблюдали какой-то график очередности: одни доцветали и поминутно роняли выгоревшие розовые лепестки, на других было еще множество более ярких бутонов, а некоторые кусты шелестели, уже сплошь покрытые красными точечками зарумянившихся на солнцепеке ягод.
Чтобы отдохнуть от тяжелых, весь день одолевающих его дум, Тарас начал считать ягоды на одном из ближних кустов. Занятие было бестолковое, безрезультатное и… бесконечное, потому что далеко не все ягоды закраснелись и были хорошо заметны, а шевелящиеся на ветерке ветки менялись местами. Тарас сбивался и начинал счет сначала.
Шмель, улетевший было куда-то прочь, видимо, вернулся, зажужжал сердито, резко и неприятно, затем зашипел и заскрипел так сильно, что удивленный Тарас даже приподнялся и торопливо огляделся. Но ничего не увидел. И только когда из раструба улитинского граммофона, картавя и пришепетывая, громко полились слова песни, Тарас догадался, что это не шмель, а видавшая виды граммофонная пластинка брала свой натуженный разбег. А сильный разухабистый тенор уже немилосердно орал через овраг, заглушая и шелест кустов и отдаленную перекличку нескольких громкоговорителей, страшно грассируя при вычурных переходах с низких ног на высокие:
«Не хочет старик расставаться со своими древними пластинками», — подумал Тарас и невольно усмехнулся.
Тенор взмывал все выше, все бойчее, все заливистее:
Потом, когда тенор смолк, граммофон пошипел и поскрипел снова, и над оврагом, уже не взлетая, а как бы плавно скользя, заструился могучий и красивый женский голос, только, пожалуй, чересчур низкого тембра, да излишне стенающий:
Однако вперемежку со всякой наивной чепухой игрались граммофоном и вещи отличные. Тарас закрыл глаза и долго слушал совершенно незнакомые ему старинные мелодии. Чего только не играл в этот вечер горластый ветеран Улитина: и разухабистого «Камаринского», и тягучую грустную песню «Лен и конопель», и разудалые, с притопыванием и посвистом «Ах вы, сени, мои сени», и печальную-печальную песню, такую, что, слушая ее, хотелось плакать: «Под вечер, осенью ненастной…»
Незаметно закатилось солнце, сгустились долгие летние сумерки. Из-за темного конуса терриконика взошла луна, и Тарасу снова отчетливо был виден домик десятника. Улитин не включал электричества, и при неверном лунном свете по-прежнему распахнутые окна чернели еще резче. Тарас глядел на них и отчетливо представлял себе застывшую у граммофона тучную фигуру десятника, не нуждавшегося, как видно, в лучшем, чем луна, освещении, чтобы ставить и проигрывать подряд свою обширную коллекцию пластинок.
Наконец она, видимо, иссякла, и граммофон, похрипев с полминуты на замедляющихся оборотах последней пластинки, совсем смолк, точно грустным вздохом закончил свою нелегкую работу. Невольно глубоко вздохнул и Тарас, снова оставшийся один на один со своими нерешенными мыслями. Где-то далеко неуверенно всхлипнула гармоника, послышались невнятные голоса песельников. Вот зазвучала еще какая-то музыка. Ветерок дохнул покрепче, и Тарасу стало ясно, что это завели на танцплощадке истошную электрорадиолу. Сейчас, наверное, бойкие девчата с шахты «Новая», расфранченные по случаю праздника, успешно отбивают у танцующих девчат с «Соседки» всегда дефицитных на площадке кавалеров-танцоров. «Там же, наверное, сейчас и они», — подумал Тарас. Он хотел было и остановить на этом бег тяжелых для него дум, но не смог. Сразу вспомнилось, что год назад вот так же играла вальсы радиола, старательно шаркали туфлями и полуботинками о жесткий, как терка, асфальт площадки неутомимые танцоры. А он, хмельной от близкого соседства Поли и счастья, гулял с ней по бережку Пологой балки, только чуть-чуть дальше этого места, там, где было вентиляционное устройство, теперь заброшенное, но некогда забиравшее здешний чудесный воздух для старых выработок шахты.
Тарас сильным рывком поднялся на ноги и быстро пошел прочь от места, где провел незаметно несколько часов. Шел и удивлялся: уже не сумерки, не вечер, а по-летнему теплая ночь спустилась над окрестными полями, над балкой. Но видневшийся впереди поселок не спал: даже при луне ярко разлилось над ним голубоватое зарево электрических огней. Вот снова где-то задорно зазвенел и оборвался девичий голос. Вдалеке, там, где стежка делает развилку, несколько раз мелькнули силуэты возвращавшихся с загородного гулянья парочек. Вот опять послышался приглушенный смех, еще ближе… Потеряв тропинку, Тарас пошел к дороге напрямую и вскоре заметил впереди одинокую тонкую фигуру девушки. В отблесках поселковых огней Тарас не мог рассмотреть ее лица, но хорошо видел, что она часто оглядывается и, как ему показалось, даже замедлила шаг.
«Не робкого десятка, даже очень смелая, можно сказать, дивчина», — добродушно отметил Тарас. И тоже убавил шаг: поравняться в поле с девушкой и молча пройти мимо казалось ему неудобным, неприличным. Но и заговаривать, быстро знакомиться, провожать до дома любую девушку он никогда не был ни мастером, ни охотником. А в сегодняшнем настроении ему тем более было не до «ухажерства».
Девушка оглядывалась много раз, шла до самого подножия террикона медленно, однако и Тарас брел сзади совсем гуляющей походкой — расстояние между ними не уменьшалось. Возле террикона девушка оглянулась в последний раз и, обиженно-гордо вскинув голову, быстро пошла в обход с правой стороны.
А Тарас обогнул террикон слева и все время прибавлял шагу, чтобы выйти на залитую светом поселковую дорогу раньше девушки. Однако они оба, видимо, ошиблись в своих последних расчетах разойтись неузнанными. Едва Тарас, обойдя террикон, завернул за трансформаторную подстанцию, как почти столкнулся с Полей — это и была та тоненькая девушка, которую он решил не опережать.
Они остановились друг против друга и сколько-то времени молчали, оба растерянные от неожиданности, сконфуженные, не знающие, с чего начать разговор, — ведь так много было нового, так много воды утекло с того времени, когда они беседовали в последний раз на вокзале перед ее отъездом.
— Ну… здравствуй, Поля! — первым заговорил он.
— Ты, Тарас, делаешь вид, будто только-только узнал меня.
— Почему ж… одна за поселком бродишь? Без… без Василия?
— Граммофон одной лучше слушать, — слабо улыбнулась Поля.
— Я тоже его слушал.
— И ни слезинки, конечно, не обронил?
— Этого еще недоставало!
— А я наревелась там, — просто сказала она.
Они пошли рядом, и Тарас теперь сам видел, что Поля заплаканная. С тревогой и жалостью отметил он мысленно, что Поля очень изменилась за это время и внешне: осунулась, побледнела, будто даже подурнела с лица. И улыбалась не прежней, веселой, задорной улыбкой, а какой-то рассеянной, слабой, будто через силу.
Там, где Поле нужно было сворачивать к своему общежитию, она вдруг молча протянула Тарасу руку.
— Можно, я тебя провожу?
— Не надо, Тарас, не надо, — почти испуганно сказала Поля и торопливо убрала руку, словно боялась, что он будет настаивать.
Взглянув ей в лицо, Тарас молча кивнул головой и, круто повернувшись, широко зашагал прочь. «Вот теперь окончательно, окончательно, окончательно!..» — думал он в такт своим шагам. И даже подивился, как это мог он до сих пор считать признаком окончательного разрыва с любимой девушкой такие мелочи, как ее упорное молчание на письма, свой утренний разговор с захмелевшим гардеробщиком, потом неожиданную и своеобразную заботу о себе и Поле со стороны Коновой? «А вот теперь… уж совсем окончательно, окончательно, окончательно…» — нарочито гулко продолжал выстукивать он каблуками по тротуару, пока не почувствовал, что его кто-то догоняет.
Поля подбежала к нему сильно запыхавшаяся и, с трудом переведя дыхание, торопливо сказала:
— Не сердись, Тарас! Впрочем, я знаю, что этого требовать нельзя даже от тебя… Какой, наверное, я тебе свиньей сейчас кажусь? Даже про твою поездку на юг ни слова не спросила, не извинилась за молчание… Но потом, Тарас, потом: сейчас, честное слово, при всем желании не могу… Я лишь хочу, Тарас, чтоб ты знал, что твои письма ко мне… попали в другие руки не по моей вине, а по моей оплошности! Ну, и пока все, Тарас…
И едва успел оторопевший от всего этого Тарас коротко пожать ее узкую холодную ладонь и великодушно заверить, что он куда больше огорчен, нежели рассержен, как каблуки Поли снова быстро затараторили по тротуару: назад она не шла, а бежала…
Когда он открыл дверь своей комнаты, дохнувший через распахнутое окно сквознячок бесшумно подкатил что-то ему под ноги. Тарас включил свет и, сердито толкнув носком сапога футбольный мяч, снова загнал его под койку. Одетый лишь в трусы и майку, блаженно разметав по койке руки и ноги, богатырски похрапывал на неразобранной постели Василий. На придвинутом к койке табурете лежали перевязанные белым ремешком бутсы и, видимо наспех стянутая, полувывернутая наизнанку футболка. А на своей тумбочке Тарас обнаружил стакан и до половины распочатую бутылку портвейна; за горлышко ее, точно аптечная сигнатурка, была зацеплена записка Василия:
«Хотел, Тараска, обмыть с тобой позорное поражение новошахтных, но ты куда-то запропастился, а я так за сегодня сморился, что вряд ли дождусь: спать хочу зверски… Матч закончился в нашу, Тараска, пользу со счетом 5:3. Правда, меня во второй половине несправедливо удалили с поля якобы за грубость, но это, конечно, не умаляет нашей с тобой законной радости и гордости, — читал Тарас, не снимая с горлышка длинной полоски бумаги. — В общем я угощаю, а ты, тихоня, не отказывайся от мировой, чтоб я знал утром, что мы друзья по-прежнему. Знаешь, Тараска, ей-богу, не стоит из-за какой-то шалой девчонки-истерички нашу давнюю светлую дружбу ломать: старый друг — лучше новых двух!!!
Будильник я завел — не трогай.
Твой друг Василек».
«Ну и дру-уг!.. — изумленно покачал головою Тарас, но, сразу представив осунувшееся, как после болезни, лицо Поли, чуть не заскрипел зубами от боли и ярости. — Ну и понимаешь же ты, Кожухов, что такое светлая дружба!.. — задыхался от обиды Тарас, чувствуя, что накипь этого дня подходит к горлу. — Наломал, пошляк, дров, наплевал в души своим друзьям и можешь спать, ушкарь, будто праведник! Да еще совести хватает лезть со своей мировой, с подлыми своими посланиями и потчеваниями…
Тарас был возмущен до глубины души. Не снимая записки, он тут же переставил это угощение на тумбочку хозяина, выключил свет, разделся и лег. Но еще долго ворочался на своей койке, невольно слушая безмятежное похрапывание Василия.
4
Разбудил их, как всегда, будильник. Чтобы не проспать, ребята ставили его посредине своего непокрытого стола. Зазвенев, он начинал лихорадочно подпрыгивать на упругой фанерной крышке, и получался такой дребезг, что не услышать его было невозможно.
— Да хватит тебе, суматошный: когда просыпаем — молчишь, а видишь, ребятки на ногах, — и раззвенелся, — подбежал к столу и шутливо прикрыл будильник обеими ладонями Василий. Он отлично выспался и поднялся, как видно, в самом прекрасном расположении духа. — Ты, Тараска, полагаешь, скоро мы кончим «порох нюхать» в новой проходке? Помнишь, как клялись на всех собраниях главные строители, что сдадут этот штрек быстро? — спрашивал он, стоя в трусах и майке перед распахнутым окном и плавно взмахивая руками, точно плыл саженками.
Тарас не отвечал. Он наспех проделал возле своей койки с десяток заученных упражнений и начал торопливо одеваться.
— Ты что ж, бригадир, не возмущаешься? — игриво продолжал Василий. — Попал в начальство, и сам начинаешь заниматься сглаживанием всех острых углов?!
Однако, заметив на своей тумбочке нетронутое вчерашнее угощение, сразу же нахмурился и прекратил начатую гимнастику.
— Не смей вино сейчас пить, — строго, но сдержанно сказал Тарас, видя, что он, раздраженно скомкав и выбросив за окно свою записку, налил полстакана.
— Это не водка, а портвейн виноградный, в умеренном количестве его всегда употреблять можно, даже полезно, — возразил Кожухов, опорожнив стакан и наливая еще.
— Перед спуском в шахту не имеешь права пить и портвейн! — уже крикнул Тарас.
— Эх, теляче, теляче, — сокрушенно сказал Василий и даже презрительно выпятил, по своему обыкновению, подбородок. — Изменяешь, значит, нашей испытанной дружбе земляков? Но попомни, Тараска: дружба горами ворочает, а способность наживать врагов всегда хуже искусства приобретать друзей! Пей, говорю, пока предлагаю вот эту мировую, — протягивал он почти полный стакан, — да давай на таких ругачках точку ставить. Ну, чего уставился? Это ж, теляче, портвейн номер двенадцать — врачи такой как лекарство даже роженицам прописывают.
— Я теперь ни одному твоему слову не верю! Можешь морочить голову кому-нибудь еще, — все больше и больше свирепел Тарас. — Убирай в тумбочку или… хоть к черту свое угощение, пока я за окно его не вышвырнул!
— Окончательно не хочешь мириться? Ну и не надо, сам же пожалеешь…
Впервые за все время Тарас и Василий на работу пошли порознь. Сошлись они уже у самого ствола: здесь, как всегда в эти ранние утренние часы, гулял резкий сквознячок, клеть торопливо спускала в шахту новую смену. На-гора́ поднимались пока еще лишь редкие, разрозненные группы людей немассовых профессий, по два, по три человека.
Когда приблизился к стволу задержавшийся в нарядной Тарас, клеть была внизу, наверное где-либо у самого нижнего горизонта шахты, потому что ждать ее в этот раз пришлось дольше обычного. Все бригадники были в сборе. В сторонке Василий оживленно рассказывал что-то двум молодым крепильщикам из чужой бригады; слушая его, ребята пошатывались от смеха. Но, увидев Тараса, он сразу замолчал и, предупредительно тронув за рукава брезентовых курток обоих весельчаков, тут же демонстративно повернулся к своему бригадиру спиной.
Скоро подошла клеть и, сильно лязгнув напоследок всем своим увесистым, крепко сколоченным остовом, замерла неподвижно. Из нее вышли забойщики: все в запыленных спецовках и каскетках; на лицах, тоже чумазых от тончайшего слоя черной «пудры», лишь задорно посверкивали белки глаз да зубы, казавшиеся сейчас у всех одинаково белокипенными.
У ствола в ожидании спуска первой смены снова сгрудилось порядочно народу, но харитоновцы были первыми. Они уже входили в клеть, когда прибежала сильно запыхавшаяся табельщица и, с трудом переводя дыхание, сказала, что Харитонова и Кожухова начальник смены требует к себе.
Тарас не стал дожидаться уже забравшегося в клеть Василия, но тот догнал его на полпути в нарядную и, тронув за локоть, сказал:
— Неужели, Тараска, хватило у тебя совести добиваться моего перевода из бригады через начальство?
— Сейчас узнаешь, — скупо пообещал Тарас. — А насчет совести… уж лучше воздержись разглагольствовать: ты от этой штуки, по-моему, полностью освободился.
У небольшого стола начальника смены на табуретах сидело несколько человек; из них Тарас знал в лицо только начальника участка Кужбу да высоченного сутулого инженера Банникова. Он держал в руках какую-то полусгнившую чурочку и сердито крошил ее себе на колени, разламывая крепкими пальцами, точно засохшую хлебную корку. Другие тоже время от времени брали с зеленого сукна куски древесины, видимо образцы, разламывали их, показывали друг другу. Тарас сразу же понял, что речь идет о какой-то старой крепи, пораженной шахтным грибком. И инженер и начальник смены выглядели очень озабоченными.
— А, пришли, хлопцы! — обратился, наконец, в их сторону начальник смены. — Знаете, что старые выработки намечено оживлять?
— Известно, был уж об этом разговор, — спокойно ответил Тарас.
— Мы на собрании только на днях этот вопрос прорабатывали и даже резолюцию проголоснули «инициативу поддержать»! — громко и пространно пояснил Василий, обрадованный, что речь идет не о его переводе из бригады.
— Вот и отлично, — улыбнулся Кужба. — Значит, всякую агитацию я сейчас в сторону, а сразу же о самом деле. Надо дать в старые выработки воздух. А для этого потребуется надежно отремонтировать крепь первого и второго вентиляционных штреков. С завтрашнего дня добавляем в вашу бригаду крепильщиков, разбиваем ее на две равноценные. И будете в две смены до победы ремонтировать старую крепь. Бригадирами теперь будете оба…
— Можно, — сказал сразу же просиявший Василий.
— Можно-то, конечно, можно, да только осторожно, — серьезно оговорил его начальник смены. — Вся крепь в штреке основательно пострадала от шахтника[4], обнаружен там и настоящий домовый грибок… Правда, лазили мы там не один раз, все вот, — кивнул начальник смены головой на сидящих возле его стола, — остались, как видите, живы и невредимы, но все же, когда начнете завтра снимать верхние оклады, соблюдайте максимальную осторожность! Как правило, будете убирать старый поврежденный дверной оклад только тогда, когда рядом с ним поставите новый. И никак не иначе: штрек почти целиком проходит в сажистом сланце, и кое-где местами заметна отслойка от кровли — допускать сползания этой отслойки ни в коем случае нельзя… Эту старую крепь мы через неделю-полторы совсем заменим, а пока, до подачи воздуха, до установки хоть переносных вентиляторов, надо ее быстро и надежно усилить, отремонтировать. Пройдетесь сегодня и внимательно осмотрите каждую стойку, легонечко простукайте, где надо зачистите, а потом скажете, сколько стоек, сколько верхних и нижних окладов нужно заменить. А поведет вас сейчас к месту будущей работы наш испытанный подземный вездеход Улитин, — снова улыбнулся начальник смены.
Пока он писал Улитину записку, инженер Банников знакомил молодых крепильщиков с образцами побуревшей древесины, пронизанной во всех направлениях видимыми и невидимыми, но одинаково разрушительными грибницами. На наружных частях некоторых образцов, точно приклеенная мокрая вата, отчетливо виднелись белые, розоватые или лимонно-желтые налеты и даже характерные влажные тяжи почти в карандаш толщиной. Но на большинстве аккуратно выпиленных кусков таких шнуров не было, зато пленчатые налеты были какого-то зловещего золотисто-охристого цвета с лиловым оттенком.
— Самый зловредный, — бойко ткнул пальцем в эту лиловатость Василий.
— А по-вашему?
— Помнится, домовая губка гораздо вреднее шахтного, — не очень уверенно ответил Тарас.
— И правильно вам помнится, — подтвердил Банников. — Как говорится, хрен редьки не слаще, но все же шахтный домовый гриб разрушает древесину медленнее и требует большей влажности. А настоящий домовый гриб, или домовая губка, вот с такими ватными лимонно-желтыми или розоватыми налетами по быстроте разрушения не знает себе равного… Ни стоек, ни верхних окладов, пораженных таким грибком, вы в штреке не оставляйте! Но одновременно учтите, что и в первом и во втором вентиляционных штреках много крепежа здорового, то есть тоже, может быть, покрытого плесенью, однако пораженного сравнительно безобидными видами других грибков, менее вредных. Делать микроскопические исследования всякой плесени подряд на каждой стойке, вы сами это отлично понимаете, невозможно да и бессмысленно. И тем не менее надо надежно определить несущую способность любой стойки, всякого верхняка, каждого дверного оклада! Значит, как уже рекомендовал вам начальник смены, не ленитесь осторожненько простукивать, а главное, почаще зачищать и внимательнее глядеть… Ну и все неясное, непредвиденное, спорное, если такое, паче чаяния, обнаружится в процессе работы, разумеется, будем разрешать по ходу пьесы всем скопом, — устало усмехнулся Банников. — Начнете ремонт — и я к вам не раз зайду, и Кужба, и начальники смен станут почаще теперь завертывать в старые выработки. Особо внимательно прошу вас осмотреть одно местечко, вам его Улитин покажет, он знает… Это место будете ремонтировать в самую первую очередь, то есть завтра же!
— Это «коленчатую» просеку-то? — улыбнулся Кужба. — Да, он ее не забудет долго… Грузноват, тяжеловат стал старик!
Тарас и Василий разыскали Улитина на рудничном дворе быстро. Пожалуй, гораздо дольше десятник вчитывался в записку начальника смены.
Он не спеша достал очки, тщательно протер их носовым платком, надел, потом сел на пустую вагонетку и начал разбирать мелкий убористый почерк.
Зимой Улитина перевели с подземных работ на должность старшего десятника верхнего рудничного двора. Формально это было как бы повышением за выслугу лет, ему сохранили прежний, «подземный» оклад. Но все отлично понимали истинный характер такого назначения. Не закрывал на это глаза и сам Улитин. При встречах со своими многочисленными друзьями-приятелями он отвечал на их осторожные поздравления «с выдвижением» всегда подробно, но очень просто: «Да-а, повысили вот… И выдвинули и задвинули шахтера одним и тем же приказом! Стар стал на брюхе-то по гезенкам[5] ползать, — шумно вздыхал он, — вот и «повысили» меня! Грузноват, тяжеловат, чтоб по-прежнему смену целую лазить по забоям и лавам, одышка, то да се… Ну и придумали мне эту «почетную» должность наверху. Сорок лет был настоящим шахтером, а теперь вот покуда около шахты кручусь… И похоже, навсегда: ку-уда же с та-акой севалкой! — грустно и насмешливо хлопал он ладонью по своему объемистому животу. — С ней, должно быть, в клеть-то скоро впускать не будут!..»
Однако когда встал вопрос о старых выработках, с не полностью использованными пластами, тут же вспомнили, что Улитин может с закрытыми глазами ориентироваться в этих оставленных обширных катакомбах. В клеть его приглашали за последнее время не один раз. Такие приглашения одновременно и льстили и непонятно будоражили старика; был даже случай, что Улитин наотрез отказался вести в самые дальние выработки специалиста-грибковеда, мотивируя свой неожиданный отказ очень скупо, не вдаваясь в подробности: «Раз наверху — значит только наверху, здесь, сами уговаривали, тоже работа нужная, ответственная…» Было в этом что-то похожее на тяжелую стариковскую ревность к своим безвозвратно ушедшим молодым годам, к подземным работам (а в глубине души он всегда считал заслуживающими уважения и внимания шахтера только их!), к привычной, давно полюбившейся ему работе внутри шахты. Потому-то начальник смены и прислал ему записку: просил!..
— Начальство просит, значит приказывает, — улыбнулся, кончив читать, Улитин. — Ванюша! — окликнул он бежавшего мимо паренька. — Срочно мне сюда десятника с погрузочной эстакады позови… Скажи, мол, жду немедленно, меня опять вроде как мобилизовали в почетные поводыри по старым выработкам… — пошутил он.
— Прямо сейчас и пойдем? — не удержался нетерпеливый Василий.
— Топоры с вами, лампы тоже… — окинул ребят быстрым взглядом Улитин. — Ну-к что ж… Стало быть, как прибежит сюда десятник, так обряжусь в шахтерку, возьму и себе лампу, наденем какие поширше каскетки и… с богом! На-ка, почитай!.. — протянул он Тарасу записку, все еще находившуюся у него в руках.
— Вслух читать?
— Валяй вслух, — подумав, согласился старый десятник, — может, где и не так разобрал, пишет-то мелко, будто бисером нижет…
Он, как видно, был очень польщен тем уважительным тоном, каким обращался к нему «опять с просьбой» имевший право приказывать начальник смены. Когда Тарас прочитал, старший десятник бережно сложил листок на четвертушки и спрятал его в карман.
— Сейчас пойдем, только не горячитесь — не к теще на блины, не опоздаем… За смену-то набудетесь там досыта, — многозначительно сказал Улитин. — Воздух там не такой, как в Пологой балке или моем садике! — И без всякого перехода продолжал: — В субботу получил я получку, разлопушил попушистее четвертные, несу их целой стопкой у всех на виду, потому заработком своим каждый кадровый шахтер постоянно должен гордиться. Ну, один приятель останавливает меня и спрашивает: «За что ж это, удивляется, сейчас тебе, Улитин, такую уйму денег платят? Ты ж не шахтер теперь, а вроде как наш рудничный завхоз?»
— Сам-то он кто: шахтер? — обиделся за старика Василий.
— Самый настоящий, крепильщик… Но только усы у него еще не растут, — усмехнулся, приподнимаясь с вагонетки, Улитин. — Пошли, ребята!.. Вон и десятничек мой навстречу бежит… Вот теперь уж и мне уместно спросить: вам-то, ребятам молодым, понятно сейчас, почему непременно Улитина, а не кого-нибудь еще вам в поводыри дают? Или нет?
И Тарас и Василий, конечно, тут же поспешили заверить Улитина, что им сразу стало ясно, почему выбор пал именно на него.
5
— Вот вам и наша станция Березайка! — точно сообщая веселую новость, сказал Улитин, когда мчавшаяся вниз клеть сильно тряхнула и остановилась. — Ребята, вылезай-ка! Дальше у нас с вами будет только пеший способ передвижения, да и то не везде на ногах…
Нижний рудничный двор, или, попросту, околоствольный шахтный дворик, был ребятам давно знаком. Здесь светло, обычно: хорошо запомнившийся в лицо сердитый скуластый стволовой, никогда не прекращающаяся апрельская капель и, как всегда, немноголюдная, но приподнятая сутолочь. Глядя на нее, Тарасу сразу же представилась хорошо знакомая картина: то и дело раздается грохот электровозов, подающих из откаточных штреков все новые и новые партии угля. Иногда электровоз не тянет вагонетки, а толкает их сзади, но и тогда в глубине темного штрека, точно зеленоватый мерцающий глаз, прежде всего возникает рефлектор. Сцеп вагонеток приближается быстро, растет на глазах, а яркий луч так же быстро бледнеет, тускнеет, и через минуту, когда электровоз с грохотом вырывается из тьмы, луч как бы растворяется в общем свете — здесь, у ствола, пропыленный рефлектор уж ничем не напоминает тот живой огненный глаз, что так смело подмаргивал несколько минут назад из кромешной темноты шахты.
И за откаточными штреками было много для ребят привычного и даже обычного: мысленно продолжив их, ребята представляли знакомые лавы, пулеметные очереди отбойных молотков забойщиков на круто падающих пластах и маячащие под их гезенками фигуры навальщиков, ожидающих очередную партию вагонеток. А на горизонтальных и полого спускавшихся пластах настойчивый гуд вгрызающихся по своим лавам угольных комбайнов, дребезг скреперных конвейеров, своеобразное смешение подземных запахов, приправленное запахом нагретого железа и противопыльной пенной эмульсии. А еще дальше, дальше, в самой южной части старушки «Соседки» шахтостроители успешно заканчивают проходку нового ствола, и уже близятся к концу проходки нескольких штреков, просторных откаточных, с новым полуциркульным металлическим креплением, где сейчас неутомимо лязгают породопогрузочные машины и несколько второстепенных вспомогательных ходков с обычным «дверным» креплением[6], где трудятся сейчас временно приданные строителям молодые крепильщики-харитоновцы.
Улитин повел своих спутников в самый дальний, плохо освещенный участок шахтного двора. Пройдя небольшое расстояние квершлагом[7], десятник уверенно повлек их дальше, в какую-то густую черноту.
— Куда же это мы? — невольно вырвалось у Василия, и он даже замедлил шаг.
— А ты думал, мы в старые выработки не штреком попадем, а прямо с неба или с Пологой балки? — отозвался в темноте Улитин.
— Я этого не думал.
— Ну, тогда светите лампочкой под ноги, а поверху тоже поглядывайте, да шеи-то очень не тяните, потому что попадаются тут просевшие верхняки… Головы, головы, ребята молодые, берегите! — договорил он и нырнул первым в чуть-чуть расступившуюся перед его лампочкой густую темноту. — Спички свои не забыли дома оставить? Нет? — крикнул он уже издалека. — Ну, тогда не отставайте!
Этот старый, еще коногонский откаточный штрек с узенькой ленточкой ржавых рельсов посредине сразу же начался с заметного подъема: легко, наверное, здесь было лошадям мчать вагонетки. А коногоны, эти разудалые подземные ездовые, вероятно, всегда пользовались таким уклоном, чтобы «подать» уголек с ветерком, как стремились в свое время их отдаленные собратья ямщики непременно лихо, с посвистом и гиком подкатить к постоялому двору, к почтовой станции или, на худой конец, удивить и разбудить звоном бубенчиков своей бешено мчавшейся тройки какую-нибудь уснувшую, полузасыпанную снегом деревушку в десяток изб. Так по крайней мере думалось сейчас молча вышагивающему за бывалым десятником Тарасу, уже немало наслышанному от старых шахтеров про эту приснопамятную коногонскую лихость.
И боковая и верхняя крепь этого штрека состояла из толстенных осклизлых бревен, но местами и такая неприступная крепость заметно сдавала. Время от времени попадались выдавленные из частокола крепи смятые и даже расщепленные стойки; и тогда два-три рядом находящихся дверных оклада уж не представляли правильной трапеции, а стояли покосившиеся под невыносимой тяжестью, как бы прихрамывающие на одну ногу, но пока еще несущие свою непосильную службу. В таких местах рельсы скрывались под холмиками осыпавшейся породы. Холмики были влажные, уже осевшие, но высота штрека все же сразу заметно уменьшалась. Все чаще и чаще встречались поврежденные бревна и в накате «потолка»: кровля[8] здесь давила и жала со страшной силой.
— Эх, какую матицу раздавило, — невольно приостановился Улитин под особенно толстой надломленной балкой, поднимая свою шахтерскую лампочку повыше. — На внутреннем сучке, должно быть, хряпнула! Еще годика два-три, и без ремонта крепи этот штрек завалило б так, что новый проще пройти… Не приостанавливайтесь, ребята, рты не разевайте зря! Вы — ребята молодые, а от меня, старика, отстаете!
А «ребята молодые» и не думали отставать. Они шли следом, что называется, наступая своему проводнику на пятки, порой явственно слыша в мертвой тишине штрека его шумное дыхание. Даже их, уже основательно привыкших к шахте, будто давил этот старый коногонский штрек своим низким «потолком». «Вот бы сюда новичка…» — бегло отметил Тарас. И тут же вспомнил, как трудно было ему в первые дни работы преодолевать свой страх, с каким нетерпением ожидался всякий раз час подъема на-гора́. Казалось тогда, что невозможно привыкнуть спокойно работать под землей, всегда будет тяготить непроницаемый мрак тесных выработок, тучи угольной пыли, а главное, пугало то, что над головой постоянно нависает чудовищная тяжесть угольных пластов или окаменелой породы — эта громада давила не только на потрескивающую от напряжения крепь, но и как бы на собственное сознание. Все эти страхи, однако, прошли. «Теперь вот я иду штреком оставленным, то есть куда более неприятным, чем те, в которых новичком трясся, от страха, и ничего, и спокоен сейчас вполне!» — с удовольствием думал Тарас.
Затем почему-то снова вспомнились ему (может быть, потому, что споткнулся об искривленный, вышедший из стыка рельс) рассказы старых шахтеров о том, что коногонские лошади, никогда не поднимавшиеся наверх и нередко слепнувшие без света, постепенно вырабатывали в себе привычку опускать на бегу голову. И он опять представил мчавшуюся по этим рельсам коновагонетку: белая лошадь, опустив шею с подстриженной гривой, скачет в своих ременных постромках коротким беспорядочным наметом, а пригнувшийся к вагончику коногон все свищет, гикает, подгоняет ее — старается лихо подкатить к близкому приствольному дворику… «Почему лошадь непременно белая? Вероятно, потому, что это масть преклонного лошадиного возраста — белых молодых лошадей, говорят, не бывает… А думаю сейчас об этой чепухе, конечно, только для того, чтобы не думать о Поле, — внутренне усмехнулся Тарас, беспощадно «расшифровав» собственную хитрость — Но при чем здесь опять… лихие коногоны? Ах да, им, говорят, всегда сопутствовал успех в «делах сердечных», как и шагающему сзади Василию».
— Наговорили нам про старые выработки черт те что! А мы разгуливаем тут почти как в метро! — раздался сзади громкий голос Василия, которому, очевидно, надоело общее молчание.
— Ну-к что ж… — сказал шагов через двадцать приостановившийся Улитин, направляя свою шахтерскую лампу куда-то вбок, где уже не было бревен, а зияла непроницаемая чернота. — Если надоело вам, ребята молодые, двумя ногами топать, спробуем сейчас на четырех. Только помните, что конь о четырех ногах, да и тот спотыкается! — засмеялся он. И хотя Тарас не видел его лица, чувствовалось, что десятник потешается от души. Наверное, остался очень доволен, что случайное и наигранное замечание Василия было обронено именно в этом месте. — Берегите тут еще пуще, ребята молодые, головы и лампы, да поаккуратнее со своими топориками будьте: гезенок этот, по-моему, как гезенок, но все ж ручаюсь, что еще не приходилось вам по такому чудесному метро в другой горизонт на карачках прогуливаться, — снова коротко засмеялся он и, низко пригнувшись, вдруг скрылся в гезенке.
— Давай я первым, — негромко предложил Василий.
— Первый уже в гезенке, — не оглядываясь, ответил Тарас и, тоже сильно согнувшись, полез следом за Улитиным.
Аспидная чернота сразу же поглотила и Улитина и заслоненный, направленный вперед свет его лампочки. Только по голосу, глухо раздававшемуся откуда-то из глубины и сверху, было ясно, что Улитин еще никуда не исчез, не провалился в сказочный подземный тартарар, а находится здесь почти рядом.
— Действуйте осмотрительнее, а ползите веселее, ребята молодые, по этому метро: падать тут некуда, так все время наверх и наверх, как на печку, и полезем. Только кровлю эту низкую смотрите головами не попортите! — старательно шутил он, хотя ребятам и было слышно, что продвигается привычный десятник кряхтя и отдуваясь. — Зато назад пойдем в этом месте с форсом: прямо на этих брезентовых робах своих, как на метровском эскалаторе, вмиг и съедем вниз…
— Да-а, уж фо-орс! — закричал ему Василий. — Вот, должно быть, где… то есть про подобное чертово местечко писалось Маяковским-то: «…если хочешь убедиться, что земля поката, — сядь на собственные ягодицы и катись!» Про это, Тараска, наверное? А?..
— Верно, верно, про наши старые выработки тогда это в газетах писали, — не поняв или не разобрав сказанного Василием, немедленно подхватил Улитин, довольный, что ребята ползут дружно. — Теперь тут и впрямь сам черт заблудится, один я вот хоть без лампы ходить могу по ним! Как же, много раз писали в нашей газете, что бутовать постепенно надо эти выработки породой, обрушать то есть, чтоб сколько можно годного крепежа из них выручить, лишний разочек дефицитным леском попользоваться! А теперь вот опять в тресте про них вспомнили: ремонтировать даже старую крепь будут…
— Черта б с рогами в эти старые выработки главным штейгером назначить! Или кто в нашем тресте вздумал с этого дерьма пенки снимать, того б сюда послать. Атомные реакторы людьми изобретены, а трестовские умники с таким добром никак не могут расстаться… Ра-абы вещей!.. — бурчал уже всерьез злившийся Василий.
Все чаще и чаще Тарас слышал сзади и его нетерпеливое сердитое сопение и то, как он, ударившись о какую-нибудь стойку или порог коленом либо нечаянно стукнувшись о кровлю каскеткой, яростно ругался вполголоса, убежденный, что слегка тугоухий Улитин его не слышит.
«Может быть, и неплохо, что сегодняшний денек получился такой не рядовой, веселый, с приключениями. Все, глядишь, меньше будет к вечеру сверлить мозг эта уже изрядно опостылевшая, но по-прежнему несносная мысль о случившемся… — неотвязно думал Тарас, стараясь не отставать от Улитина. — Посмотрим, что получится дальше, а сегодня каждая ухмылка земляка как гвоздь в сердце! Зато, правда, злополучный, уже затянувшийся тугим узлом вопрос о переходе Василия в другую бригаду разрубился сегодня неожиданно хорошо: разом и безболезненно! Теперь осталось только быстрее переселиться в другую комнату, чтоб пореже видеть «друга»… А то, пожалуй, чего доброго, взвоешь на манер вчерашнего граммофонного романса: «Как я видеть… не хо-очу его ух-мы-ыл-ку про-отивную!..» Интересно, скоро ли они собираются зажить, что называется, своим домком? Теперь он бригадир, и комнату им, наверное, долго ждать не придется? Может, и мне повременить с переселением?..»
И вдруг в застоявшейся тишине этого душного, круто поднимавшегося гезенка Тараса осенила новая мысль. Он даже приостановился на миг, не спуская глаз с неровно маячившего впереди желтого пятна лампочки Улитина: так ясно ему вдруг представилась вся непривлекательность того положения, в которое уже поставил его Василий, та почти комическая (со стороны-то определенно смешная!) унылость, в которую он неизбежно будет погружен и после того, как они поженятся. И Тарас понял, что он, наконец, нашел решение, на которое можно ему теперь с горем пополам внутренне опереться.
«Почему это нужные догадки редко приходят в голову сами сразу? Непременно их надо разыскивать и притаскивать! — Тарас впервые за сегодняшний день улыбнулся. — Нет, Харитон, поменять комнату мало, мелко, полумера, — вздохнул он, величая себя Харитоном, что он всегда делал, когда мысленно разговаривал с собой как бы от второго лица. — Не о смене комнаты теперь тебе надо думать и хлопотать, а о том, чтобы выехать отсюда совсем! На худой конец — перебраться на шахту «Новая»… Нет, это тоже близко!.. Надо немедленно переселяться в другую область или даже забраться совсем подальше… удрать бы куда-нибудь… аж за Полярный круг! Эх, хорошо бы в моем дурацком, можно сказать, безвыходном положении попасть на арктическое зимовье! Или, еще лучше, поступить бы корабельным плотником на какое-либо мощное судно, отправляющееся в самое-самое далекое плаванье. На несколько бы лет!.. Интересно, как попадает в подобные необычные места работы наш брат мастеровой?»
— Привал, ребята! — неподдельно-радостно проговорил где-то впереди Улитин.
И тотчас же Тарас понял, что выбрался из гезенка, и теперь можно распрямиться: прежде чем увидеть, он почувствовал это руками и ногами.
— Теперь садитесь по-шахтерски, на чем стоите, — любезно приглашал отдышавшийся десятник, — передохнуть тут надо, ребята молодые, как следует! Потому дальше хоть теснее этого не будет, да старые выработки велики, и воздух потом пойдет много хуже этого…
Сам Улитин тут же присел на корточки, а Тарас с удовольствием потянулся несколько раз всеми суставами и остался на ногах: ему словно все еще не верилось, что снова можно безнаказанно выпрямляться в полный рост, не боясь стукнуться головой, и дальше по выработкам двигаться не на четвереньках, а шагать. Поглаживая колено, привалившись спиной к влажной крепи, опустился на корточки и Василий. Он несколько раз громко сплюнул угольную пыль и раздраженно сказал:
— По другим местам, например хоть Юг взять, в шахтах уж лампочки дневного света, а тут… — запнулся он, видимо подбирая выражение посильнее.
— Тут, ребята молодые, выработки оставленные, старые, — на лету подхватил Улитин, всегда плохо переносящий, если при нем начинали ругать «Соседку».
— А не в старых?
— Ну-к что же?! — пытался выиграть время десятник, чтобы ответить вполне достойно. — Не в старых тоже скоро… может, и у нас, на «Соседке», крепильщики-то «деревянные» не будут нужны, — ловко сманеврировал он, — так все крепление в главных штреках и будет только металлическое и железобетонное! И шахтные стволы при их проходке скоро везде будут крепить только железобетонными тюбингами! Тогда вся работа по креплению у проходчиков будет заключаться лишь в монтаже тюбингов…
— А в лавах и забоях вся крепь будет только из консервированного леса, — негромко вставил все время молчавший Тарас.
— А потом совсем побоку и шахты и разные там вышки, скважины: к чертовой бабушке забросят и уголек этот и нефть! — озорно выкрикнул и засмеялся Василий, довольный, что Тарас, наконец, поддержал начатый им разговор. — Одни реакторы управятся!
— Это ты врешь, — строго сказал Улитин. — Без угля, как без хлеба, никогда нельзя! Не зря сам Ленин назвал уголь хлебом промышленности!
— Постойте, ведь тогда…
— Можно погодить, нам не родить, но только… даже очень обидно, когда такое шахтер говорит, хоть и молодой!
— Да вы выслушайте, а тогда уж и расстраивайтесь!
— Нет, теперь ты меня погоди, — разгоряченно и бесцеремонно опять перебил Василия десятник, — слушай-ка сам мой ответ да тоже не расстраивайся, а на ус мотай!.. Я на эту «Соседку» только чуток постарше твоих лет пришел. А как к шахте все впервые подступаются, сами знаете: с одним голым страхом! Хожу, помню, по поселку, смелости набираюсь, прицеливаюсь. Гляжу — на заборчике приклеена небольшая афишка: «О возможности подземной газификации угля — лекция культпросвета». Вот так, думаю, сурприз для первой встречи: приехал, а тут чуть ли не извержение газов из шахты ожидается? Как сейчас она, афишка-то эта, на желтой оберточной бумаге перед моими глазами! Прочитал я ее и раз и два — сходить бы послушать самому, да вижу, число трехдневной давности. Оглянулся — идет по проулку в мою сторону молоденький шахтер; такая же, наверное, тогда у него была горячая голова, как у тебя сейчас! — засмеялся Улитин. — Останавливаю его, здоровкаюсь и вежливо спрашиваю: не был ли, дескать, он случайно на этой лекции, любопытно, мол, мне знать, о чем тут речь? Оказалось — был. А в своих мыслях уж вижу провалы, дым и пламень и всякие прочие подземные страсти, хоть и был чуток обстрелянный… Дело-то известное: у страха глаза велики! «Обвал, что ли, — спрашиваю его, — на вашей шахте возможен и скоро ожидается?» — «Видно, говорит, сразу, что шахты никогда не нюхал: да такое и случится — афишу об этом не повесят», — высмеял он меня. «Так в чем же дело?» — «Уголь, поясняет, в ближайшее время… не станут больше в «Соседке» нашей прежним старорежимным способом из земли вынимать». — «Как же?» — «Прямо в породе будут его превращать для легкости в горючий газ, и по железным трубам на-гора́ он сам потечет, как вода, хоть за десять верст!» — «А если, мол, надо… на тысячу? И как, к примеру, обойдется без угля морской флот? Я вот, — говорю ему, — сам на Балтийском флоте матросом почти год служил, по ранению оттуда, знаю, какая великая масса этого угля в судовых топках сжигается!» — «Все теперь на газе будет!» Вот так, соображаю, клюква: ехал на заработки, собирался уголек во славу шахтерскую рубать, а тут здрасте — газ!..
Улитин помолчал, потом негромко рассмеялся и, осветив лампою потное, пропыленное лицо Василия, с торжествующими нотками в голосе заключил:
— После этого, слава богу, без малого сорок лет гляжу, как уголек рубают и на-гора́ его не по железным трубам, а в обыкновенных вагонетках, а теперь скиповыми подъемниками выдают. И сам его всласть порубал еще горемычным обушком… Потому отбойный молоток-то уж много спустя появился.
— Вы меня не разыгрывайте, я не дурней вас! — сразу же вскипел Василий, не ожидавший такого поворота. — А что ж, скажете, не строят теперь дальних газопроводов?!
— Я тебя, парень молодой, не разыгрываю. Строят!.. Но то дело десятое, ты пресное с кислым не мешай, то разведали в земляных недрах природный горючий газ!
— Ну, уголь, может, еще останется, а нефть-то, конечно, атомные реакторы со временем заменят, — шел на компромисс Василий.
— И нефть навсегда останется, без нее тоже ничего невозможно, — убежденно сказал Улитин. — У американцев тоже небось реакторов-то твоих целая пропасть, а что-то они враз потянулись за чужой нефтью, как подсчитали, что своей собственной всего на десять годков осталось!
— За какой же чужой?
— Очень простой… Газеты надо читать!
— Сами не знаете.
— За средне- и ближневосточной — вот какой!
— Так ее тоже там уже с гулькин нос осталось.
— Нет, опять врешь, сам наобум свои слова бросаешь, на ветер: там запасов нефти на целых сто лет!
Видя, что разговор принимает форму ненужного спора, молчавший все это время Тарас решил вмешаться. Он знал, что в спорах Василий всегда горяч, необуздан, неразборчив, нередко переводит свои бесконечные споры с ребятами в ссору, и, опасаясь, как бы и сейчас не наговорил он влюбленному в свою профессию Улитину дерзостей, громко, но спокойно вставил:
— А что, половину пути до той «коленчатой» просеки, о которой говорили Кужба и инженер Банников, мы теперь уже прошли или нет?
— Больно ты, молодой бригадир, скорый, — с живостью, которую трудно было в нем предположить, поднялся с корточек Улитин. — Скажи «здорово», если хоть около одной трети прошли! Я и так вас, ребята молодые, самым коротким путем веду, так коротко мы ходили только с Банниковым и начальником участка, а с комиссией и грибковедами-то этими приходилось еще дольше туда добираться. И отдыхаем мы здесь всего-навсего считанные десять минут. Цену времени и я знаю, умею им дорожить. Но в этих катакомбах, ребята молодые, тише едешь — дальше будешь!
— Еще не запряг, а уж понукает, — неопределенно буркнул, поднимаясь, Василий.
— Ну-к что ж, пошли? — шагнул и оглянулся через плечо десятник.
— Веди, веди… Сусанин! — догнал и фамильярно похлопал Улитина по плечу Василий.
Кожухов обладал свойством располагать к себе людей. Это был его врожденный «дар», который всегда выручал, но постепенно все больше и больше избаловывал, так как порождал в обращении с людьми легкую уверенность и беззаботную непринужденность. Вот это дешевое убеждение в собственной неотразимости, точно у избалованной ветреной красавицы, ничем не подкрепленное самомнение, уверенность, что все равно его шумным обществом не пренебрегут, постепенно становились все более заметной черточкой в характере Василия. Получался как бы замкнутый круг причин, с одной стороны облегчающих общение Василия с людьми, делающих его внешне парнем хоть куда, а с другой стороны, этот же круг причин мешал настоящему становлению его несобранного характера, делал его все более иждивенческим и беспринципным. Не легко, не просто и не вдруг обуздываются такие люди и коллективом, потому что именно они нередко считаются душой общежития или бригады, порой даже задают тон на массовках. Сами они легковесны, но при желании и нужде быстро втираются в доверие, ловко находят себе не только друзей и подражателей, но и групповое покровительство. Жилось Василию бездумно, нескучно — по земле и под землей он ходил упругой пружинящей походкой здорового двадцатидвухлетнего парня, часто показывая в широкой нагловатой улыбке свои красивые крупные зубы, а черные цыганские глаза его глядели живо и быстро, почти всегда с заметным прищуром, будто еще не смеялись, но уже прицеливались. Василию ничего не стоило нарушить свое слово, ловко «передернуть» сказанное другим, клясться и божиться, утверждая заведомую неправду. И когда его уличали в этом, он не смущался, не оправдывался, напротив — отвечал или беззаботным смехом, или одним из своих многочисленных дежурных афоризмов, вроде «не любо — не слушай, а врать не мешай»; или же в более серьезных случаях, обрушивал на своего противника такую уйму былей и несуразных небылиц, начинал так энергично «обрабатывать» остальных, пока видимость правоты не оставалась за ним. И тогда, несмотря на то, что это была только видимость правоты, он бесцеремонно шел дальше: охотно представлял самого себя в ореоле победителя и даже поборника правды.
Была в его характере и еще одна неприятная черточка, впрочем тоже вытекающая из беспринципности, — это его необыкновенно легкая «перестройка», смена симпатий и антипатий, скорое и не всегда удачное переметывание от одной спорящей группы к другой, в зависимости от того, «чья берет», даже в ничего не сулящих ему мелочах.
Именно эта привычка двигала им, когда он вдруг неожиданно и фамильярно похлопал по плечу отнюдь не заулыбавшегося десятника, с которым всего минуту назад вел резкую и грубоватую словесную перепалку. Свой спор он немедленно посчитал безобидным, доверительным, вполне товарищеским — моментально уверился, что именно так воспринял его и Улитин. Ну, а вопрос Тараса тут же расценил как самое настоящее понукание человека заслуженного, всеми уважаемого и без того делающего одолжение, почти любезность. «Эх, теляче, теляче, — мысленно осудил он бестактность Тараса, — еще гордыбачился давеча, отказался от мировой, ну, пеняй теперь на самого себя. Я-то без тебя очень обыкновенно обойдусь, а вот ты без меня уж теряешься! Улитин в три раза тебя постарше и, может, в десять поопытнее, с ним вон как сам начальник считается — только просит, а ты вздумал его подгонять!..» От внимания Василия не ускользнули ни сдержанно сухая отповедь десятника Тарасу, ни то, что, обращаясь к нему, он назвал его холодно и официально: «молодой бригадир». Для Василия этого было вполне достаточно, чтобы понять, на чьей стороне расположение Улитина. Кожухов сразу же почувствовал прилив необыкновенной симпатии и даже чего-то похожего на нежность к этому бывалому человеку.
Подобные зигзаги не были новостью для Тараса, давно понимал он и больше — характер у его Василька, как он определял, «чуток вывихнутый», делающий порой земляка в полном смысле этого слова человеком настроения; что Кожухов совсем не из тех, кто может поставить могучее «сказал — сделаю» на место увертливого «хотел, собирался, но забыл». Все это Тарас отлично знал, и тем не менее в накал утренней ссоры и всего пережитого им вчера даже такой пустяк, как это внезапное заигрывание Василия с Улитиным, будто добавил что-то новое и опять поднял на миг к самому горлу всю накипь обиды. До возвращения из отпуска он ценил в Василии и ловкость, и находчивость, и веселость, и этот необъяснимый его дар располагать к себе людей (черты, которых, по его представлению, не хватало самому). Вплоть до вчерашнего дня он даже дорожил его дружбой. А вчера вечером, слушая безмятежное похрапывание Василия, ему вдруг пришла в голову странная мысль о том, что еще неизвестно, как лучше и честнее: иметь такого Василька в фальшивых, неискренних, ненастоящих друзьях или в открытых и откровенных недругах. Тогда измученный Тарас так и заснул, не решив этого вопроса.
И вот теперь Тарас почему-то вдруг снова почти зримо представил в темноте бледно улыбающееся подурневшее лицо Поли и без всякого сомнения понял, что так вопрос даже не может стоять: их дружба уже убита Василием.
Штрекам, просекам, промежуточным штрекам и ходкам, казалось, не будет конца. Воздух становился все тяжелее, уже чуть-чуть порой першило в горле, точно после плохих папирос, а голоса звучали невнятнее, глуше. Улитин все чаще ненадолго приостанавливался и, может быть, чтобы скрыть от ребят, что он так устал, показывал лампой на крепь, на то, что, по его мнению, требовало немедленной замены. Пока Тарас добросовестно искал глазами, присвечивая своей лампой, именно ту особенно ненадежную стойку или матицу, что привлекла внимание опытнейшего десятника, Василий стукал обушком топора первый наиболее заплесневелый кругляш и предупредительно говорил вроде такого:
— Верно, трухлявая… Может быть, пройдем, а она упадет.
— Эта упадет? — шумно переводил дыхание Улитин. — Врешь, эта меня перестоит!
— Зато верхняки здесь… ну и здоровилы, — задирал голову как ни в чем не бывало Василий, посматривая на внушительные, вполобхвата, бревна.
— Верхняки, говоришь, здоровилы? — переспрашивал десятник, — А не видишь, что они «плачут»? Серые и коричневые пленки не видишь?![9]
Все чаще попадались холмики породы, насыпавшейся через прозоры в верхней крепи. Наконец Улитин присел на один из них, как-то особенно внимательно повращал во все стороны лампой, громко прокашлялся и сказал:
— В аккурат мы сейчас под усадьбой Симакина остановились, а первый вентиляционный штрек — тот будет точь-в-точь под моим садиком. — И уже другим тоном добавил: — Вот вам, ребята молодые, и то первоочередное или даже внеочередное местечко, о котором в записке написано. Здесь оно и начинается.
— Где? — изумился Василий.
— Вот где, не видишь разве? — снова крутнул лампой Улитин, освещая невысокую черноту над особенно обильно высыпавшейся породой.
— Но… почему это «коленчатая» просека? — удивился и Тарас.
— Гляди, с чего тут сколько понасыпалось!.. Потому, стало быть, и «коленчатая», что метров с двадцать тут только на коленках, а запросто сказать, на брюхе придется… — коротко рассмеялся он. Но тут же сердито досказал: — Я здесь намедни с Кужбой и Банниковым так наполозился, что теперь вон, слышали, как в записке-то просят: «Покажите только, а сами подождете»…
— А воздух тут действительно не того, — шмыгнул носом Василий, — в горле точит, как от злого самосада!..
— Газ, — спокойно пояснил десятник, — в шахте не без этого. Где-нибудь потихоньку просачивается, а тут понемножку застаивается. Вот вентиляцию дадут — и враз тут воздух не узнаешь!
— Метан?
— Может, и метана невысокий процент есть… Сейчас-то здесь что: просто сказать, спертый тут воздух, и все. А вот если здесь пласт без вентиляции потревожить! Бывало, обушком рубаешь, приостановишься, а он порой аж слышно, как из пласта с легким пощипыванием вырывается… В шахте не без того, — снова повторил Улитин. — На то и вентиляция!
— Ясно.
— Понятно.
— А если вам ясно и понятно, тогда вот что, — десятник с трудом добыл что-то из шахтерки и только после этого досказал: — Сейчас ровно девять, а самое наибольшее к десяти, чтоб вы, как часы, были на этом месте! Больше там и делать вам нечего, и все ж таки воздух не очень чтоб очень неподходящий, но без нужды и такой нюхать незачем. Часа этого вам за глаза хватит — девать некуда.
— Постараемся, конечно, управиться, — серьезно сказал Тарас.
— Не за час, а за полчаса сделаем! — немедленно поправил его Василий.
— Ну, ребята молодые, с богом! Чтоб повеселее дело двигалось, а ненужной сутолоки, споров и, как говорится, обезлички у вас не получалось, действуй каждый на своем захвате! Не так чтоб один, скажем, стойку зачищает, а другой супротивную простукивает или матицу этого же оклада тревожит, а захватами работу свою организуйте, шагов по пятнадцать! То, что в немедленный замен, отмечай каждый по-своему, да не забудьте под конец посчитать, сколько стоек или полных окладов надо срочно обновить. Чтоб крепежный лесок заранее заготовить… Таким же манером потом будете действовать и в вентиляционном штреке, — обстоятельно напутствовал Улитин. — Ну, да там-то я от вас не отстану. А эти «коленчатые» — метры и смотреть вам нечего — тут надо целиком заменять.
6
Столь досадившие Улитину «коленчатые» метры ребята прошмыгнули моментально. Став на ноги, Тарас отсчитал пятнадцать шагов Василию и, сделав отметки, тут же принялся за осмотр своей «пятнадцатишаговки». Даже с беглого взгляда он понял, что немало из лежащих на столе у начальника смены образцов пораженной древесины взято в этом первоочередном местечке. Было совершенно ясно, что просто пройти и мысленно, на взгляд, отметить, где надо заменить стояки, матицы или целые оклады, здесь и трудно и недостаточно: на наружных частях крепи то там, то здесь виднелись хорошо заметные даже в скупом свете лампочки охристо-лиловые пленчатые налеты, однако вся крепь была из довольно толстого леса, невольно внушавшего доверие. Видимо, схожее представление сложилось и у Василия, потому что он очень скоро предложил:
— Давай-ка, Тараска, лучше вместе разбираться. На столе-то в дневном свете им, конечно, все ясно, как апельсин! Да вот тут-то все кошки серы: сам черт не раскумекает, что здесь будет стоять, а что — не захочет… А вдвоем будем решать большинством голосов, — пошутил он.
— Работай, как Улитин сказал.
— Да он что нам за начальство?
— Вот и осматривай свой захват, как рекомендовали начальники.
— А почему ж вместе не хочешь?
— Привыкай за чужую спину не прятаться: ты теперь такой же ответственный бригадир, как и я…
Тарас осматривал свои «захваты» обстоятельно, методически. Он очень скоро освоился и как бы уразумел теперь, наконец, чисто внутреннюю суть порученного ему дела, поймал ту неопределенную «живинку» в нем, какую в любой работе невозможно ухватить с чужих слов, сколь бы умны и красноречивы они ни были. Он все увереннее и увереннее передвигался к каждому следующему крепежному окладу: осторожно простукивал стойки, внимательно проверял врубки в особо подозрительных местах, держа топор за обушок, и неутомимо и осторожно зачищал верхний слой. И когда под острым жалом топора открывалась в глубине не белая, твердая, а побуревшая, ослабленная древесина, он уже знал, что с такой делать. Работал Тарас очень сосредоточенно, усердно и — молча.
Василий двигался сзади и, чертыхаясь, порой так основательно делал свои пробные затесы на стойках и «простукивал», что Тарас невольно оглядывался. Видимо, горячего Василия очень не устраивало это кропотливое и ответственное занятие: мчать на электровозных вагонетках заготовленный лес, даже ставить новую крепь было, конечно, куда веселее! «Ну и нудная ж, оказывается, эта штука… — недовольно думал Кожухов. — Это чертово обследование, нехай медведь им занимается!»
— Не стучи так сильно обухом! — не выдержал, наконец, Тарас.
— У меня слух не музыкальный: простукиваю как могу, — ответил Василий и сделал такой энергичный затес, что даже на каскетку его посыпались комочки с кровли. — Ты что, боишься, что ль? Со мной ничего не бойся…
— Я тебе совершенно серьезно говорю: не дури! — уже громко крикнул Тарас.
— А ты не ори… Сам только разъяснял мне, что я такой же бригадир, как и ты, значит орать теперь на меня хватит. Подума-аешь! Надулся, как невесть что случилось: жену, понимаете ли, законную у него отбили, сестру родную разобидели!.. Девчонка два раза ему улыбнулась, так уж он готов считать, что она ему теперь по гроб раба! Правду говорят, что твердолобый однолюб — это ж… страшное дело! Такой действительно в своей слепой дурацкой ревности до социально опасных действий может допятить. А ревность, если хочешь знать, это атавизм, и больше ничего, — все больше и больше подогревался Василий своими же словами и молчанием Тараса. — Новоявленный монополист какой на дружбу девичью объявился: или со мной, или — кынжал!.. Отелло белобрысый!
Он снова гулко, гораздо сильнее, чем нужно, ударил по стойке.
— Ты шахтер или нет?! — крикнул Тарас не своим голосом.
— Шахтер, конечно… А того не знаешь, бригадир со стажем, что старые шахтеры даже по кровле иногда стучат: проверяют, бунит или не бунит она?
— Ино-огда! Слышал звон… Ты повнимательней взгляни на нее, — посоветовал Тарас. Он хотел сказать коротко и спокойно, но против воли вдруг снова выкрикнул, и голос его сорвался: — На нижнем горизонте стучат? В такой старой проходке? В таком вот… отслоившемся сажистом сланце?!
— Вот теперь очень даже понятно! — крикнул и Василий. — Так бы сразу и говорил, что чуток дрейфишь.
Тарас не видел, но чувствовал сейчас его обычную нагловатую ухмылку.
Однако Василий добавил совсем другим тоном:
— Не опасайся, Тараска: эта крепь, похоже, не только старика Улитина, а может быть, еще нас с тобой перестоит.
Тарас промолчал. «Черт с ним, пусть бухает, ни единого теперь замечания делать я ему не стану: все равно это бесполезно!»
Однако при каждом чрезмерно неосторожном стуке сзади Тарас озабоченно сдвигал брови и сердито оглядывался назад. Потом невольно поднимал лампу повыше и окидывал внимательным взглядом кровлю; она тускло поблескивала в прозорах между толстыми матицами: в световом пятне лампочки были видны и отслойки на ее поверхности и то, что сланец серо-пепельный, а тончайшие пережимы, точно морщины на старом лице, более темные, местами черные. Тарас поднял кусок породы, рассмотрел при свете лампы: он был как слоеный пирог и легко распался в руках на отдельные прослойки. Пластинки были твердыми и хрупкими, похожими на грифель, а пережимы пачкали руки, напоминали слежавшуюся сажу или жирный уголь. В некоторых местах эти рыхлые пережимы, видимо, утолщались, и тогда даже при легком постукивании из щелей крепи, как из дыр худого мешка, сыпалась пыльная мелочь, и время от времени ударяли по каскетке комочки покрупнее. «Вот стукнет этого ухаря по каскетке плиточкой поувесистей — и поднимайся потом на-гора́ с новой неприятностью: доказывай тогда, кто прав, а кто виноват, — снова озабоченно подумал Тарас. — Особенно, конечно, при этой нашей сложной и запутанной «личной ситуации»… Если скоро не уеду, то на ремонте этой крепи опять придется схватываться! Значит, выехать отсюда, выехать немедля!»
И тотчас же, словно нарочно, обушок Василия ударил особенно гулко. Уже не колеблясь, не взвешивая, Тарас выпрямился, как отпущенная пружина, и возмущенно оглянулся, намереваясь тут же призвать к порядку этого зарвавшегося молодчика. Но Василия не увидел: с кровли, там, где он работал, уже не как из прохудившегося мешка, а будто из развязанного куля, сыпалась мелочь, и она, подняв целое облако пыли, загородила в этот миг и Василия и свет его лампочки. Когда Тарас подбежал, сверху все еще текла тоненькая струйка — она дробно, как град, барабанила чуть правее Василия по толстому лежню. А Василий, припав на левое колено, изо всех сил изгибаясь сильным, тренированным телом, дергал правую ногу, точно попавшийся в капкан заяц, и, приподняв лампу, неотрывно смотрел из-под каскетки на кровлю. Даже впопыхах почувствовал Тарас за этой до предела напряженной позой и отчаянными рывками Василия его безмерный страх перед кровлей и еще более неизмеримое желание — жить, жить, жить… Сместившийся из своего гнезда лежень, вывернутый накренившейся толстой, влажной, тяжелой стойкой, больно прижал правую ногу Кожухова к соседнему лежню, захватив в ловушку ступню, но Василий, испытывая ужас перед кровлей, продолжал неистово дергать ногу и все приподнимал лампу, пытаясь разглядеть нависшую угрозу, пока по лампе не стукнуло комом породы и она не погасла.
Не теряя ни секунды, Тарас схватил тяжелую осклизлую стойку обеими руками и быстро отвел ее в противоположном направлении: скрепленный с ней врубкой и скобой лежень сразу же лег на свое старое место, чуть даже развернулся в другую сторону.
— На-абухался, — сдержанно заметил Тарас, когда Василий высвободил ногу. — А ведь могло бы вполне получиться и куда хуже!..
— Да черт ее знал, этакую здоровилу, что она упадет… — сказал Василий, морщась, обняв ладонями ступню, кивком головы показывая на стойку. — На этом, Тараска, дохлом деле что хочешь с кем угодно может случиться… Сыпаться, Тараска, вроде совсем перестало? — поспешно спросил он, все еще опасливо косясь на небольшую, но грозно обнажившуюся зубчатую, корытообразную выемку в кровле.
— Отходи немедленно от этого места!
— Отходи… Если б мог я идти, — все же чрезвычайно поспешно поднялся и захромал Василий прочь. — Связки, что ль, растянул: прямо не наступлю!
— Дофорсился, добухался, — уже с сердцем повторил Тарас. — Как теперь без лампы и с такой ногой будешь работать?..
Однако работать не пришлось и Тарасу. Едва они отошли от злополучного места, как там что-то коротко хрястнуло и с грузным шорохом сползло. Они остановились затаив дыхание. Потом, выждав некоторое время, осторожно подошли. Тарас поднял лампу и осветил.
— Концы, Тараска, завал, — тихо, с дрожью в голосе сказал Василий.
— Не завал, а местное нарушение кровли… Может, всего на метр-два!
— Не умер Данило — его придавило…
— У нас два топора и лампа. И четыре здоровые руки! И Улитин там… И еще ходки, конечно, есть!..
— Улитин, Тараска, далеко: он будет теперь там сидеть и подремывать, как святой… Эх, э-эх, а еще Банников утверждал давеча, что и воздухом и кровлей человек в шахте управляет, как автомашиной.
— Конечно, управлять кровлей может!.. А ты вот — ра-асправился дуриком с ней! — огрызнулся Тарас.
— Да что ж, Тараска, от этого, что ль… от одной упавшей матицы? — с искательными нотками в голосе спросил Василий.
— От этого, что ль!.. — передразнил Тарас. — Придуривается, как будто и впрямь он не шахтер, сам не понимает отчего! В горах вон от простого ружейного выстрела иногда снеговые карнизы падают. А тут так без ума потревожил, и он же: «Не от этого!»
Тарас поднял лампу повыше, к самому краю устоявших окладов, чтоб получше рассмотреть это местное нарушение в кровле, но внезапно сорвавшимся куском породы его стукнуло по руке — удар был не очень сильный, безболезненный, комок сланца только задел руку, но угодил по лампе. Она упала и погасла.
— Концы, Тараска! — теперь уже громко, плачущим голосом повторил Василий. — Эх, теляче, теляче, не смог и последнюю-то лампу уберечь!.. И на черта это надо было посылать нас…
— Да обожди ты скулить-то! — бешено заорал Тарас. — Думай вот теперь, а не скули!
— Впотьмах-то…
— Не хотел думать при свете — думай впотьмах… А не можешь сейчас думать, так слушай или хоть другим не мешай это делать…
И тут же, точно в ответ ему, впереди что-то снова густо крякнуло и с прежним грозным шумом и скрежетом гулко сползло. По тому, как дунуло им в лицо, точно из кузнечного меха, воздухом и облаком невидимой пыли, Тарас сразу понял, что он был прав: глухого завала, даже на несколько метров, не было. «А сейчас вот… это еще вопрос!» — молча отметил он. Отпрянув было, они снова осторожно приблизились и теперь стояли опять у самого края уцелевшей крепи и настороженно прислушивались.
— Слышишь?
— Крепь трещит!..
— Да не об этом я, — отмахнулся в темноте Тарас. — А вот легкое потрескивание и пошипывание слышишь?
— Не-ет…
— И как сероводородом тянет, не чувствуешь?
— Это-то чую… противно воняет… Значит, Тараска, еще и газ?
— Конечно, газ… Тронули эти оползни пласт, он и начал выделять повышенный процент газа… Тут теперь наши топоры ни при чем, тут за полчаса угоришь и не воскреснешь… Отсюда, Василий, теперь надо нам немедля прочь, скорее надо искать другие ходки!..
7
Тарас потерял счет времени. Если б ему сказали, что он тащит на себе Василия уже час или два, он поверил бы; но если б сейчас его каким-либо чудом мгновенно подняли на-гора́ и объявили, что этим делом он занимался не час и не два, а целых десять, он бы тоже поверил и нисколько этому не удивился. Тянется ли еще солнечный день, надвинулись ли прохладные сумерки, или уже заступила на свою неизменную вахту короткая летняя ночь — он не знал. Сколько прополз всевозможными ходками, уклонами, просеками, много ль их осталось впереди — не ведал также. Все физические и духовные силы, способности, какие еще удалось ему сберечь, слились у него только в упорное желание действовать, искать выхода, продвигаться вперед во что бы то ни стало, причем не одному, а с Василием.
Вначале Василий с горем пополам ковылял за ним самостоятельно, но нога его быстро опухла в щиколотке и голени, он сильно отставал, задерживал, а сзади их неумолимо подгонял тошнотворный настой сероводорода. Тарас молча и деловито приладил руку обезволевшего Василия себе на плечи, крепко сжал ее в запястье своей широкой ладонью, а другой рукой сильно и надежно прихватил за торс. Так, невольно полуобнявшись, пригибаясь, они сколько-то времени шли дальше; тащить грузно виснувшего Василия было очень и очень нелегко. Кругом была непроглядная чернота, под ногами неровности, но все же вначале они и так продвигались сравнительно бодро.
— Смотри не уходи один, Тараска: хоть, можно сказать, на трех ногах вдвоем шкандыбаем, а все ж вместе лучше… Небось уже подумываешь бросить меня?
— По себе не суди…
Когда Василий уж совсем не мог ковылять на одной ноге, а Тарас тоже окончательно выбился из сил, они присели прямо на влажную землю, перевели дух.
— Давай, Тараска, здесь отдохнем подольше.
— Ладно.
— Как думаешь, выберемся на-гора́?
— Не думаю, а уверен.
— А скоро?
— Через час уже будешь расписывать на все общежитие, какой ты храбрый.
— Хватит тебе, Тараска, серчать… Попробуй, как коленка распухла!..
Дальше двигаться и «на трех ногах» Василий не смог. Тарас взвалил его себе на спину, как куль, и, крепко держа за руки, низко пригибаясь, чтоб не стукнуть его головой о какую-либо невидимую провисшую перекладину, начал осторожно пробираться в кромешной темноте дальше. Когда усталость и плохой воздух перехватили дыхание, он очень осторожно, но по-прежнему молча опустил Василия на землю.
— Не бросай, Тараска! — немедленно попросил Василий.
— Не брошу.
— Ты не злобься на меня, Тараска, я ведь…
— Молчи!..
Тарас тоже опустился на землю и разбито привалился спиной к мокрой крепи. И говорить и слушать ему и впрямь было трудно: от чрезмерного физического напряжения и плохого воздуха во всем теле разлилась еще никогда не испытанная им свинцовая тяжесть, в горле пересохло, в голове был шум и звон, а сердце стучало так, словно собиралось выпрыгнуть из груди. Он сидел несколько минут, напряженно дыша, уронив отяжелевшую голову на колени, пока не почудились ему какие-то приглушенные лающие звуки. Тарас поднял голову и прислушался.
— Тю, дурной! — сказал он, когда понял, в чем дело. — Ты чего это, Василий, надумал?
— Ни-икогда нам, Тараска… похоже, на-гора́ не выбраться, — с трудом сказал Василий. Он все еще приглушенно всхлипывал.
— Почему ж это?
В душе Василий очень опасался, что Тарас его бросит: скажет, что уходит, чтоб поскорее потом вернуться к нему с помощью, и все, и оставит одного. «А потом не вернется, или не найдут, иль уж чересчур поздно придут…» Да и сама по себе перспектива надолго остаться в одиночестве в этой жуткой подземной тишине его пугала, страшила. Именно эта мысль его взбудоражила больше всего, однако вслух он ответил:
— Воздух все хуже… От него уж голова у меня, Тараска, ну прямо как у вола, — большая-большая, мне кажется… И все дальше пухнет! — невесело и грубо пошутил он, видимо уже испытывая стыд за свое малодушие.
— Наоборот, сероводородом стало вонять меньше.
— Да тут, Тараска, похоже, не один он: небось уж всякого жита по лопате…
«А ведь, наверное, Василий в этом прав, — мысленно согласился Тарас, — пока шли, вроде воздух был полегче, а как присели, и сразу стало еще душнее, еще больше стучит в висках. Тут, вероятно, чуть-чуть и метана имеется, потому в глотке потачивает… и повышенный процент углекислоты. Эти два родных брата, а особенно углекислый газ, всегда больше по низам стелются…»
Чтобы проверить свою догадку, Тарас поднялся на ноги, и ему показалось, что он не ошибся: вверху дышалось легче, чем у земли.
— Поднимись, Василий, постой немного на ногах: внизу воздух хуже…
С помощью Тараса Василий поднялся и стоял сколько-то времени на одной ноге, привалясь всем корпусом к крепи. Затем они двинулись в свой нелегкий путь, отдыхая все чаще и чаще.
Потом и Тарас не шел — полз на четвереньках, а Василий уж невыносимо тяжелым кулем разламывал его спину, порой безвольно мотал в темноте свесившимися руками и, соскальзывая со спины, мешал ползти, а временами так судорожно охватывал его шею, что у Тараса перехватывало дыхание и перед глазами стремительно расходились оранжевые мигающие круги. Когда Василий еще раз соскользнул, Тарас почувствовал, что без длительного отдыха ему уже не приладить его снова на спину. Он изнеможенно сел тут же, даже не прислонясь к крепи: по ней непрерывно сочилась влага, а где-то совсем рядом невидимо, но вполне четко журчал говорливый ручеек. Правда, и сверху теперь безостановочно брызгала холодная капель, от которой давно набухли, отяжелели и залубенели брезентовые шахтерки.
— Не бросай, Тараска!
— Не брошу.
— Ты мне чуток помоги подтянуться к крепи: я хоть спиной привалюсь… каплет тут здорово…
— От дождя в воду?
Снова Тарас услышал знакомые лающие звуки. Но теперь он уже не возмущался, не утешал. «На этот раз, пожалуй, оснований у Василия почти достаточно, — объективно, как бы со стороны, мысленно взвесил он. — Шансов за то, что скоро выберемся, к сожалению, не очень прибавилось».
Тарас попробовал на миг представить самое худшее: что они совсем обессилеют, прежде чем их разыщут, что их, наконец, раздавит новое местное нарушение кровли. Но неживущим, то есть недвигающимся, недумающим, представить себя решительно не смог. Так же, как не удалось ему недавно, купаясь в море, представить, что когда-либо сможет утонуть. Перед ним вдруг, как увиденное, предстало ослепительное солнечное сверкание, лениво набегающая на берег бирюзовая морская волна, превращающаяся от удара о скалы в кипящую жемчужную россыпь; а дальше, дальше — эта безбрежная ультрамариновая ширь спокойно улегшегося, будто каждой волной ластящегося к солнцу моря… А он зашел по пояс в воду и остановился, залюбовавшись на необычную для него картину: прямо перед ним плавали и ныряли два дельфина, один большой (наверное, «мамаша»), а другой упитанный, увесистый малыш. Сверкая мокрой, словно отлакированной, кожей, они одинаково забавно резвились на солнце: ловко кувыркнувшись, быстро исчезали под водой, затем выныривали, но уже далеко от прежнего места, и снова неожиданно погружались. «Не советую сейчас вам, молодой человек, непременно здесь купаться, — сказал ему проходивший берегом какой-то пожилой мужчина, — даже если вы отличный пловец… Им иногда приходит фантазия поиграть и с пловцами, а самки с детенышами опасны…» Тарас тогда торопливо окунулся и послушно выбрался на берег; и, нежась на горячем песке в ожидании, когда уплывут подальше резвуны, подумал о том, что было бы совсем нелепо, если бы «заиграл» его в море дельфин именно в это чудесное время, когда, наверное, уже ждет не дождется горячо любимая девушка.
Тарасу все это представилось как виденное, с живостью галлюцинации, даже почудилось на миг, что он въявь слышит, как весело булькает на солнышке, выбегая из-под обкатанного волнами ноздреватого камня, вода. Но, подняв голову, он услышал лишь монотонное журчание подземного ручейка да что-то похожее на лаканье и, поняв, что это означает, сердито сказал:
— Не смей пить эту воду, терпи!
— Я немножечко, терпенья нет — пить хочу…
Тарас вспомнил «заклинания» веселого доктора «терпеть изо всех сил, изо всей мочи, даже через силу и мочь, но никогда не пить шахтной воды» и хотел сказать Василию, почему этого делать нельзя, однако, как ни напрягал память, а сути объяснения веселого доктора на давнишних уроках вспомнить не успел — снова помешал Василий.
— Тараска!
— А-а?
— Не бросай меня одного… Ей-богу, не бросишь?
— Ну чего тебе? Ведь сказал: не брошу!
— Сейчас-то я слышу, а как совсем из сил выбьемся, не передумаешь? Ты на меня, Тараска, за контрибуцию эту не злобься. Неужто из-за такого пустяка можно товарища и земляка тут оставить, в такой темноте, глубоко под землей… бросить одного?
— За какую контрибуцию?
— Ну… За Пелагею… Ей-богу, Тараска, не стоит так долго серчать за этот случай на друга детства: схватились разочек, и точка!..
— Я тебя спрашиваю, за какую контрибуцию?
— Обыкновенную, ребячью… В нашу, Тараска, пользу… чтоб не задавались. Аж в Бондарчука, видишь ли, они влюбились!.. Позанавесили, чистоплюи, всю комнату тюлевыми занавесками и задаются. Ра-абы вещей… Все равно, Тараска, не сдавайся, не бросай, терпи сам-то: у меня ведь мать есть!.. Она тебя любит больше меня…
— Ты чего зря вокруг да около мелешь?! Говори сейчас же толком: что это еще… за контрибуция твоя… такая означает? — даже запутался в словах Тарас, сразу же задохнувшись от волнения.
Он нетерпеливо тряс одной рукой прилегшего Василия за плечо, ждал ответа, а другая его рука невольно нащупала и раздавила мокрый кусок сланца.
Но Василий вполголоса забормотал что-то уж совсем непонятное, несуразное, и опомнившийся Тарас тут же смущенно подумал: «В таком воздухе, похоже, что хочешь в голову взбредет. Угорел он сильнее меня, наверное, потому что все ж больше я дышал под самой кровлей… А может быть, и сейчас, когда низко нагибался пить, изрядно нанюхался он сползшего в канавку более тяжелого углекислого газа… Надо отсюда немедленно двигаться опять… дальше… вперед…»
Тарас так и делал: двигался, двигался, двигался… Когда не мог приладить себе на спину Василия, чтоб ползти вместе с ним на четвереньках, просто тянул его за шахтерку по осклизлому грунту.
Тарас понимал всю серьезность положения, и тем не менее где-то в самой глубине души неугасимо теплилась вера, что он выберется на-гора́ и вытащит Василия. «Сделать это, конечно, можно, но придется туго. Нет, очень это нужно, хоть и очень трудно!.. И опять даже не так, а вот как: выбраться обязательно, во что бы то ни стало, это страшно серьезно, важно, нужно, вне сомнения возможно, и я должен это сделать, должен, должен, должен!..» — на все лады мысленно твердил он, а иногда, сам того не замечая, даже шептал. «Любопытно, что же написала бы тогда, узнав о подобном, Поля, если она в то время… на тот сравнительно совсем небольшой случай, занявший всего несколько минут, откликнулась так живо и горячо?.. Как это Конова-то про нее вчера сказала? Ах, да: «…большая и золотая душа у твоей Поли!..» Неужели так-таки и сказала: «У твоей Поли»?! А может, и впрямь все еще наладится и образуется?»
Вспомнившийся сейчас Тарасу «тот небольшой случай» произошел в первые месяцы пребывания Поли на курсах. Харитонов спас жизнь попавшему в беду проходчику. Полученные Тарасом обильные ссадины и царапины зажили очень быстро, проходчик через несколько дней тоже был здоров и вышел на работу; и из скромности Тарас ни о чем этом не написал Поле. Однако переписывающейся с ней Рите случай, видимо, показался достойным всяческого внимания: она тут же вырезала из газеты и послала своей задушевной подружке заметку об этом. А через несколько дней Тарас получил от Поли письмо. Вот как оно начиналось:
«Тарас! Я преклоняюсь перед твоим мужественным, самоотверженным поступком. Он говорит не только и не столько о физической силе и выносливости… Вообще ты, Тарас, какой-то прямодушный, правдивый, цельный! Мне иногда кажется, что рядом с такими, как ты, нигде не страшно… И даже думается, что, окажись сам ты на месте пострадавшего проходчика, ты бы не очень растерялся, не очень испугался, то есть сохранил бы свою силу духа. Рада тебе это написать. Только не усматривай в этом комплимент. Помнишь, как хорошо мы читали книгу по очереди вслух перед самым моим отъездом на бережку родной Пологой балки? Я очень здесь соскучилась, безумно хочу домой, хотя учиться здесь очень интересно. Вот тебе пока первое противоречие, а вообще-то в этом длинном сумбурном письме ты их при желании, наверное, разыщешь и еще. Не забудь в ответном все их отметить и, что называется, раскритиковать. Хорошо? Помнишь, мы оба согласились, что дружба истинная, дружба по-настоящему никогда не нуждается в снисходительных скидках на слабости друга?..»
Ничего тогда в этом обширнейшем девичьем послании не показалось Тарасу ненужно-подробным или противоречивым. Он точно поговорил опять с Полей. А многозначительное начало это, которому Поля тогда отводила, как видно, немаловажное место, просто заслонили от Тараса волнующие, чуть-чуть таинственные в своей недоговоренности строчки в конце:
«Жду твоего письма, очень жду; жду, когда не жду от других (девочек!). И это даже не то, что бы я хотела сказать, но больше я не знаю, как сказать тебе об этом. Вот, немножко ревнивый Тарас, и все мои «сердечные» дела…»
Тарас потом перечитывал письмо так много раз, что запомнил от первого слова до последнего: он мог прочесть его наизусть в любое время — восстановить дословно, даже если б разбудили и попросили это сделать среди ночи.
И вот теперь именно это заслоненное ласковыми Полиными недомолвками «начало» вдруг приобрело для него как бы совершенно самостоятельное значение, воскресло в сознании Тараса и стало жить само по себе, вне Полиного письма.
Напрягая последние силы, весь в грязи и пыли, он продвигался вперед уже медленно, но по-прежнему упорно, таща за собой Василия; по его лицу струился пот, под толстым слоем угольной пыли скользила напряженная улыбка, а губы порой шептали:
— Неправда, не остановлюсь: выберемся вдвоем на-гора́…
— Не бросай, Тараска…
— Не брошу… Молчи!
А когда Тарас останавливался, чтобы перевести дух, опять возникало и пробегало перед ним в минутном забытьи самое различное: существенное, важное и совсем пустячное, удивительно давно или, напротив, совсем недавно виденное. Сердитый скуластый стволовой, только не в плаще с капюшоном, а с бильярдным кием в руках, в своем коверкотовом костюме, мягкой кошачьей походкой ходит в шахтерском клубе вокруг огромного зеленого стола, озабоченно хмурится, глядя на брызнувшие в разные стороны костяные шары, затем грозно сводит свои черные крылатые брови и, решительно перегнувшись, как-то по-особенному оттопырив «рогулькой» большой палец левой руки, невероятно долго прицеливается в облюбованный наконец шар: кий в его руке то останавливается, замирает, то снова начинает прицеливающе двигаться взад-вперед, как поршень. А вот Конова: сидит на своем обычном месте в общежитии, возле «титана», в руках ее быстро мелькают длинные спицы с сургучными головками; она смотрит на рукоделье, как всегда, пристально, почти не мигая, бескровные губы плотно сжаты, глубокие морщины еще более суровыми складками легли на ее наклоненном лице. Только иногда, неизвестно отчего, вдруг теплеют ее глаза и скользит, осветив все лицо, мягкая недолгая улыбка. Лицо Коновой постепенно теряет обычное свое строгое выражение, глубокие морщины разглаживаются, оно розовеет, освещается уже задорной белозубой улыбкой, а глаза начинают блестеть совсем по-молодому, совсем как у Поли: радостно, бездонно-глубоко, лучисто… «Ого… это точно под действием чудотворно-сказочного мирного атома! — незаметно вплетается давнишняя мечта Тараса. — А ведь верно: какой красавицей, оказывается, она была в молодости!.. И красота ее совсем не строгая, не иконописная, напротив: самая земная, яркая, так и брызжущая радостью жизни!..»
Стоило ему только на миг смежить глаза, уронить на колени отяжелевшую голову, как снова без видимой связи, обрывками, начинали проплывать перед ним давние и недавние картины. Чистая девичья комната, с книжными полочками, ковриками и целыми созвездиями фотооткрыток над аккуратно застланными кроватями… На дворе трещит лютый январский мороз, а в комнате этой текло, уютно, спокойно Тарасу: невидимыми струйками поднимается от нагретой батареи воздух и убаюкивающе чуть-чуть шевелит, колышет и даже вздымает порой невесомые тюлевые шторки; а Поля сидит в летнем платье с короткими рукавами и, удивленно открывая и без того большие глаза, все допытывается: «Нет, неужели ты, Тарас, и впрямь не любишь, когда чай очень сладкий?! Я, признаться, как-то даже плохо этому верю, хоть и знаю, что ты очень правдивый».
— А пить действительно хочется, — шепчет Тарас. Он медленно поднимает голову и невольно прислушивается к мерному журчанию подземных ручейков: по-прежнему унылому, однообразному, но теперь уже заманчивому.
И снова, едва он на минуту закрывает глаза, голова заполняется обрывками всевозможных видений: то припорошенная нежно-розовыми лепестками густая трава и надсадно жужжащий, яростно вьющийся над самым ухом черно-рыжий шмель, то обильно заросшая цветущим шиповником Пологая балка; они снова сидят здесь с Полей, читают по очереди вслух книгу, а в глубоком отвертке Пологой балки уже не шмель жужжит, а опять гудит и воет вентиляция старых выработок… То вдруг холодная капель с кровли превращается в «слепой» дождь — веселый, солнечный! — а он торопливо стягивает с себя пиджак, заботливо кутает Полю. «Да ты что, Тарас?! — смеясь, протестует Поля, боясь показаться в широченном мужском пиджаке смешной. — Ты лучше книгу-то поскорее закрой! Кстати, почему этот чудесный дождик зовут «слепой»?
— Тараска! Да что ты, Тараска, заснул, что ли?..
— Ну, чего… опять тебе?
— Не бросай ты меня здесь одного!
— Заладил как слепой на стежку… Ведь сто раз тебе уж сказано: не брошу!.. Не беспокойся, — добавил он помягче, — если б думал оставить, так уж давно бы это сделал…
— Не бросай, — снова прозвучало из мрака.
— Молчи!..
Тарас снял каскетку, смочил голову из ручейка, бегущего прямо по крепи, и огромным усилием воли заставил себя снова двигаться дальше.
По временам надежда как бы вступала в жестокий спор с его возможностями; но Тарас ярко вспоминал все временно оставленное им наверху, взывал к этому, как к своим надежным союзникам в неравной борьбе, и уже с их помощью, с невидимой, однако могучей поддержкой этих союзников снова вступал в схватку с наступавшим на него из промозглого мрака страхом. Там, наверху, в своем чудесном летнем цветении раскинулась огромная прекрасная страна — Родина! Там же, наверху, остались друзья и самая лучшая из девушек — Поля. И пусть произошло между ними какое-то невнятное временное недоразумение, но разве сейчас он любит ее меньше?
И снова не мог он представить себя недумающим, недвигающимся, неживущим, как не мог представить себя утонувшим. Жутко ему делалось, лишь когда казалось, что Василий замолкал на очередной остановке неспроста. Тогда он торопливо окликал его, тряс за плечо, и Василий начинал хвататься за его колени, тянуть к своим губам его грязные, все в ссадинах ладони, со слезами в голосе умолять не бросать, требовал клятв, тут же сам клялся, что он никогда не любил Поли, не любит сейчас, не будет любить и впредь, никогда…
— Вот увидишь, Тараска, — хриплым шепотом заверял он, точно мог их здесь кто-то подслушать. — Если выберемся на-гора́, никогда даже не взгляну на ту девушку, что тебе снова приглянется!..
— Молчи! Уж лучше ты… молчи… — испуганно заводил обе свои ладони за спину Тарас. — Слышишь? Молчи. Скоро ведь совсем выберемся, до квершлага небось считанные шаги остались, — угрожал, приказывал, утешал и просил его Тарас.
В пять часов утра первая горноспасательная команда шахты «Соседка» обнаружила их в таком месте, где воздух был уже вполне сносный, жизни и здоровью обоих ничего не угрожало. Отсюда, отдохнув хорошенько, Тарас сумел бы и без посторонней помощи доставить Василия к самому стволу…
8
Все, что произошло до момента обнаружения их горноспасательной командой, Тарас запечатлел с удивительной последовательностью и точностью, ясно, отчетливо. Все, что было после, представлялось ему неярко, стерто, выглядело обычными будничными эпизодами: огромное физическое и волевое напряжение его оборвалось разом, с первыми снопиками света аккумуляторных лампочек горноспасателей; притупилась и острота восприятия окружающего, будто именно с этой минуты немедленно получили заслуженный отпуск не только воля, но и память Тараса. Остались в памяти лишь кое-какие подробности.
Он запомнил Василия, в глазах которого застыл страх. «Вроде даже похудел, весь съежился, грязный ужасно, просто лица не видно, а я, конечно, выгляжу сейчас ничуть не лучше…» — впервые за это время подумал он просто так, совсем безотносительно к делу, к судьбе Василия, к своей личной судьбе. Он даже не обрадовался (как сотни раз представлял!) солнцу и синему небу, когда подняли на-гора́: бурное ликование и ощущение и жаркого солнца и бездонного чистого неба он отпраздновал еще там, внизу, в кромешной темноте, когда почувствовал, что потянуло совсем другим воздухом. Останавливаясь, чтоб хорошенько отдохнуть на своем последнем привале, он знал, что его отчаянные усилия не пропали даром.
Запомнил он, что возле Василия старательно хлопотал веселый доктор, осторожно прощупывал, оглаживал и слегка потягивал его ногу.
Затем он запомнил Василия уже вымытого в санпропускнике, переодетого; на носилках его бережно внесли в санитарную машину, мотор фыркнул, взревел, и, оставив на месте голубоватое облачко газа, машина умчалась в недалекую больницу шахты «Новая». А веселый доктор несколько раз заходил к Тарасу в общежитие и, зачем-то разбудив, тут же говорил, что прописывает ему в первую очередь сон! Грузный и большой, он уходил из комнаты на цыпочках, вполголоса давал Коновой какие-то наказы, а Тарас, жмурясь от удовольствия, от ощущения чистого постельного белья, сухой мягкой рубашки, оттого, что не надо больше тащить на себе Василия, снова закутывался в одеяло и, снисходительно улыбнувшись, отмечал, уже полузаснув: «Рекомендует сон, а сам, чудак, без конца будит…» Зато Тарас сердился, если начинала его будить Конова. Он спросонок отмахивался от нее, точно от назойливой пчелы, отнекивался от предлагаемой еды, но Конова и не думала сдаваться.
— Ты не закутывайся и не отмахивайся от меня, я ведь не мошка, — твердо говорила она. — А лучше сразу встань, покуда из ковшика не обрызнула, да поешь, что официантка из столовой сейчас тебе принесла, чтоб ей не ждать тебя целых полчаса, как барина… А потом и снова спи себе на здоровьице! — добавляла она ласково, но, улучив момент, ловко отбирала у Тараса одеяло.
Проснувшийся совсем Тарас наспех одевался, с завидным аппетитом ел все, что ставила перед ним официантка. Ему только было очень неловко, что задержал ее, да еще очень не нравилось то нескрываемо острое любопытство, с каким официантка на него глядела. «Смотрит большеглазая так, словно принесла обед какому-нибудь выходцу из потустороннего мира! — внутренне усмехался и досадовал он. — Интересно, кто это перестарался, распорядился? Сам-то я, забыл, что ли, где столовая?» А официантка, присев на табуретку, сложив руки на белоснежном фартуке, по-прежнему не отводила своего прямого, откровенно любопытного взгляда, даже встретившись глазами с Тарасом. Это была та молодая преждевременно располневшая женщина, что некогда угодливо, «точно контролера», потчевала в столовой Василия. В накрахмаленной кружевной наколке, как диадемой, схватывающей завитые волосы, в шелковой кремовой кофточке с короткими рукавами, обнажавшими ее круглые загоревшие руки, она снова показалась ему красивой. Ее крутые, похожие на маленькие птичьи крылья брови сходились у переносицы, яркие свежие губы держались чуть-чуть приоткрытыми, а полное лицо было спокойно, бесстрастно, без единой морщинки. Она мало говорила, произнося только самое необходимое, зато часто вздыхала, будто намеревалась что-то долго рассказывать или терпеливо слушать, но вздыхала не грустно, а как бы лишь от полноты ощущений. Заслышав эти глубокие вздохи, Тарас невольно начинал есть как можно быстрее.
— Задерживаю я вас? — спрашивал он. — Я сейчас, быстро… Вообще-то зря вас этим затрудняют: сам бы есть захотел — в столовую сходил. Завтрак приносили, обед вот опять…
— Не торопитесь, спешить мне некуда, подожду, — скупо отвечала она.
«Врал, конечно, тогда Василий, что она безумно в него влюблена, — подумал Тарас. — Ну, разве она выглядела бы сейчас так беспечально? И, главное, о нем — ни одного вопроса! Неужели это возможно, что и я когда-нибудь вот так… вычеркну из своей памяти Полю, перестану интересоваться, как и где она живет, думать о ней? Вот если сегодня-завтра не захочет Поля заглянуть сюда, то это уж тогда разрыв окончательно, окончательно, окончательно… Впрочем, она теперь, вероятно, почти безвыходно в больнице возле Василия: носит небось ему огромные букеты роз», — живо представил он Полю с цветами и решительно отодвинул блюдечко с большим сухарным пирожным.
— Что ж это вы? Сладкое и… не хотите? И компот не будете?
— Не буду… спасибо. Спать хочу.
Тарас не преувеличивал: спать ему сейчас хотелось, как никогда. Уже засыпая опять, он смутно слышал, как настойчиво пытались проникнуть к нему в комнату товарищи и как самоотверженно защищала вход в нее неподкупная на ласку и неподатливая на угрозу Конова.
А к вечеру снова пришел «просто проведать» Тараса врач Павел Павлович Толоков (все шахтеры знали его в лицо, почти все в «Соседке» звали по имени-отчеству, а за глаза величали добродушно и чуть-чуть фамильярно веселым доктором или Пал Палычем).
— Ну-с, я только-только опять от вашего товарища, — начал он еще с порога. — Попутно решил лишний разок завернуть и сюда.
— Как у него с ногой-то? — торопливо спросил Тарас.
— Все, все будет у вашего приятеля по-хорошему, — поспешил успокоить его Толоков. — Про растяжение связок в голени и стопе он, надо полагать, уж недельки через две забудет, а про свой добрый десяток гематомочек, надеюсь, еще раньше… Как мы себя чувствуем?
— А что такое «гематомочки»?
— Гематомы-то? — расстегивая на столе небольшой кожаный футляр, машинально переспросил Толоков. — Вот ведь любознательный какой, — подсаживаясь на табурет поближе, сказал он. — Ну, ушибы, ну, кровоподтеки без наружных ссадин, ну… синяки наконец. Так как же мы-то, вьюноша, себя чувствуем?
— Я-то отлично… Только одно вот беда, — помедлив, пытливо взглянул Тарас на Толокова. Но ничего на его лице не прочитал: крупное, мясистое, оно могло в равной степени показаться и безразлично спокойным и очень внимательным.
— Ну-ну, я слушаю…
— Никак вот не отосплюсь, а главное, никак досыта не накурюсь, — с виноватой ноткой в голосе признался Тарас.
— Эх, бросать бы вовсе вам, молодые люди, этот вредный пережиток надо, — со вздохом сказал Толоков, извлекая из кармана своего серебристого пыльника пачку с папиросами и учтиво протягивая ее, уже открытую, Тарасу.
— А сами курите? — рассмеялся Тарас, когда сделал несколько жадных, торопливых затяжек.
— Что же, голубчик, делать, — засмеялся и Толоков, тоже энергично дымя своей папиросой. — Португальцы, увидев впервые, как индейцы-трубокуры неизвестного им Нового Света выпускают дым из ноздрей и рта, тоже ужаснулись и изумились. Но довольно скоро, к сожалению, не только матросы Колумба переняли это никчемное занятие у индейцев Америки… А француз Жан Нико, впервые поведавший всему миру, что в табаке яд, сам был страстным курильщиком, — снова засмеялся Толоков. — Особо заядлым курильщиком был потом Петр Первый, но тот, правда, не ругал табак, а, напротив, всячески поощрял его ввоз и очень распространил этим курение в России.
— Тем более, значит, нам не возбраняется, — с улыбкой заметил Тарас.
— Нет, дорогой, — вдруг совершенно серьезно и очень твердо сказал Толоков, — надо бы обязательно уберечь от этой вредной штуки миллионы наших школьников и пионеров. Ну, до каких же пор мы будем этот пережиток передавать как эстафету от поколения к поколению, от отцов к детям? И неужели мы непременно захотим тащить его за собой все дальше, дальше в наше будущее?! Ведь отвыкнуть от глубоко укоренившейся привычки курить старому поколению куда сложнее, нежели вовсе не начинать этого никчемного и вредного занятия нашему молодому поколению!
Тарас внимательно взглянул на Толокова и подивился перемене: теперь массивное его лицо уж никак нельзя было назвать ни равнодушно-неподвижным, ни бездумным.
— Еще вот от грязного сквернословия школьников и пионеров надо бы уберечь, — сказал он в тон Толокову и тоже совершенно серьезно. — Видимо, все незаметно свыклись с этим скверным пережитком, но как ведь это нехорошо!
— Да, да, да… И это крайне необходимо уже сейчас! — горячо согласился, поднимаясь с табурета, Толоков. — Подверните-ка еще разок повыше свой рукавчик… Совершенно правильно: и здесь все зависит от нас же самих, взрослых! — досказал он, уже застегивая на протянутой руке Тараса тугой манжет прибора.
Потом Толоков ушел, пожелав Тарасу спокойной ночи и подтвердив, что дела у него действительно идут отлично. А через каких-нибудь четверть часа Тарас опять крепко спал.
9
Зато на другой день Тарас проснулся не только окончательно «отоспавшимся», но и в состоянии какой-то безотчетной радостной обновленности. Он, разумеется, тут же припомнил все: и что было с ним в старых выработках и что произошло до этого и как бы еще ожидает его впереди, только стертый вчерашний день почти совсем выпадал из сознания. Однако настроение необыкновенного, неуловимого облегчения не покинуло его: он несколько минут с улыбкой жмурился от нестерпимо яркого солнечного переплета на стене, уже отчетливо понимая, что вчера с ним случилось далеко не самое худшее, и снова жарко надеясь на счастливое изменение в своих отношениях с Полей.
Сладко потянувшись, он привычно взглянул в окно, на тикающие с угла тумбочки часы и, увидев на подоконнике краешек огромного букета роз, тут же крутнулся под одеялом уже энергично и сильно всем телом.
— По-оля! — не сказал, а с придыхом выкрикнул Тарас: от нежданной радости, от нечаянно хлынувшего счастья ему не хватило воздуха и на столь короткое слово.
— Ну… нельзя же, Тарас, так безбожно спать! — улыбнулась Поля, протягивая ему руку. — Целый час жду, когда ты проснешься… А вчера вечером Конова совсем не впустила, — снова лучисто улыбнулась она, — говорит, только-только уснул, а Толоков, дескать, под страхом смертной казни не велел будить. Она даже предшахтместкома не впустила!..
— Целый час? — восхищенно переспросил Тарас, не отпуская Полину руку. — И вчера заходила? А что же ты сразу не разбудила меня? — спрашивал он, боясь, что упрек звучит недостаточно мягко, сожалея не о том, что Поле пришлось ждать так долго, а что целый час, выходит, он мог бы провести в ее обществе и безбожно проспал его!
Он видел Полю очень похудевшей, даже, пожалуй, бесспорно подурневшей с лица, но сейчас совершенно этого не замечал: на него лучисто смотрели ее прекрасные темные глаза, опушенные мохнато загибающимися на концах ресницами, и в мыслях Тараса пронеслось каким-то жарким, радостным вихрем: «Поля, звездочка моя, ласточка, да неужели будет все по-прежнему?!»
— Очень уж жаль было тебя будить, спал, как новорожденный, — засмеялась Поля.
— Очень жалко? Будить? — снова переспросил Тарас, точно и эти слова таили для него сейчас какой-то особый, отрадный смысл. — И букет этот чудесный ты, конечно, принесла? — чувствуя, что сердце переполняется давно знакомой ему благодарностью к Поле, допытывался Тарас. — Ого-о, какой славный и огромный букетище, а какие крупные вон те пурпурные розы. Ну, большущее спасибо тебе, — растроганно поблагодарил он, признательный ей вовсе не за букет. — Где ты, Поля, такие достала?
— Не знаю, Тарас: Рита где-то доставала… — помолчав, ответила Поля. — Кажется, у Улитина, из его садика, — подумав, добавила она. — Этот букет тебе, Тарас, от Риты и от… Что у тебя, Тарас, с руками?! — нарочито или просто нечаянно оборвала она себя на полуслове, с изумлением и страхом разглядывая его ладонь.
— С ладонями? — переспросил Тарас, остро взглянув на нее и медленно отпуская ее руку. — С ладонями-то моими ничего особенного… Просто стер их немножко. Ничего страшного, вот видишь, даже забинтовать не нашли нужным…
— Ты, Тарас, сейчас смотришь на меня так, словно мы еще не враги, но уже и не друзья, — хотела шутливо сказать Поля, но голос ее неожиданно сорвался, задрожал, а одинокая слезинка без спроса быстро скользнула по щеке. — Вот ведь вы все какие эгоисты. О дружбе только рассуждаете, а требуете гораздо большего. Дружбы, выходит, вам мало… Почему же вот Рита никогда на тебя так… с таким непрощающим укором не смотрела?
— Каждый смотрит по-своему… И я, как умею, так могу, — негромко буркнул Тарас, отведя глаза. — Не виноват я, что мало похожу на Риту или кого-либо еще… А Рите, кстати, зачем же на меня «так» смотреть, по какой это причине?
— Она имеет на это столько же основания…
— Не думаю, — смутился Тарас. — Я ей ни одной строчки не адресовал, а наедине, помнится, парой слов не обмолвился… Разве только несколько дней назад у захлопнутой двери вашей комнаты, когда о тебе расспрашивал… Впрочем, и это не в счет: ты сама, конечно, слышала, о чем, вернее, о ком тогда шел разговор… Да и Рита, наверное, рассказывала: она врать не мастерица.
— Это, Тарас, неважно: речь сейчас зашла не о твоем, а об ее отношении к тебе, — густо порозовела Поля. — Значит, основания у нее все же есть! Ну, если не столько же, то почти… — с неожиданным упрямством подтвердила она. — Да, дело, Тарас, даже совсем не в этом, совсем не в этом… про Риту ведь просто к примеру пришлось… И уж, конечно, не в ее осуждение: была бы я такой, как она!.
— Понимаю: в подтверждение того, что «все мы» эгоисты…
— Ничего ты, ничего ты, Тарас, сейчас в этой кутерьме не понимаешь!
Разговор неожиданно оборвался, на некоторое время водворилось напряженное молчание.
«Ну вот… осталось только перейти на «вы»! О чем же сейчас еще ее спросить? — изумился Тарас, потому что лишь несколько минут назад больше всего боялся, что она быстро уйдет и он не успеет наговориться.
«Рассказывать, что было со мной там, не стоит, да она об этом и не спрашивает, видимо, уже знает от Василия… Про Риту больше говорить незачем, — быстро перебирал в уме Тарас. — Остается тебе, Харитон, поспокойнее разузнать у нее сейчас о самочувствии Василия».
Точно боясь, что Поля подслушала быстро промелькнувшие в его голове мысли, Тарас поднял глаза и торопливо на нее взглянул. Девушка сидела, отвернувшись к окну, с ее тонко очерченного подбородка медленно, посверкивая на солнце, капля за каплей срывались скупые, одиночные слезинки. И снова сердце Тараса сжалось от нежности и жалости к этой девушке. Несколько секунд он молча глядел на нее, по-прежнему не зная, с чего начать разговор. «Кажется, ведь впору плакать тебе, Харитон… именно так окончательно сложились обстоятельства, а плачет все-таки зачем-то она, Поля?» — растерянно думал Тарас, недоумевая совершенно искренне.
В дверь постучали, и, после того как Тарас торопливо, почти обрадованно крикнул «войдите!», в нее медленно протиснулась грузная фигура Улитина. Лицо его было хмурое, заметно отвисшие небритые щеки придавали лицу прямоугольное очертание, что, в свою очередь, подчеркивало угрюмость. Однако, дойдя до середины комнаты, Улитин скупо улыбнулся и довольно приветливо проговорил:
— Ну, здравствуйте, ребята молодые… Зашел вот самолично узнать, как здоровье, то да се… — Он подал руку сначала Поле, потом Тарасу. — Или с постели не поднимаешься? — вдруг тревожно спросил он у Тараса.
— Да что вы! Просто еще не успел одеться.
— За это мы не осудим: это не беда! — повеселел Улитин. — Лежи, лежи, визитер-то я и впрямь немножко ранний, еще семи нет. Но тут впору ни свет ни заря бежать! Как же это, ребята молодые, все так неладно у вас получилось-то? Ну, скажем, крепь при замене, ясное дело, требует разумной осторожности… Так вы ж ведь еще и ремонтировать ее не начинали. Ни единого старого оклада не сняли. И вдруг, на тебе: получается завал на целых три десятка метров, отчего шахтеры давным-давно отвыкли. А почти рядом, в «коленчатом»-то этом местечке, крепь куда плоше, а ничего — стоит, держит! Расскажи ты мне, Тарас Григорьевич, за-ради господа бога, все как было, начистоту, потолковее. Говорил я вчера с ним, а вот теперь — прости и ты старика, может, действительно чуток рановато, — пришел к тебе: сильно не доверяю я ему в этом вопросе!.. Через это самое и акт техники безопасности затормаживается…
— Кому не доверяете?
— Кому, кому, дяде Хому! — рассердился десятник, метнув глазом на Полю, рассеянно обрывавшую лепестки у вынутой из букета розы. — Напарнику-то твоему…
— А как он вам все объяснил? — осторожно поинтересовался Тарас.
— Никак, — шумно задышал Улитин. — Он, похоже, еще ничего путного не управился придумать… Туда-сюда крутит! Только чересчур здорово уж напирает и намекает, что дюжей всех, дескать, виноват в этом несчастном случае Улитин! А то я свою долю вины без него не понимаю?!
— Да в чем же вы-то виноваты? — искренне изумился Тарас. — Вы, что вам поручили, все сделали. У вас же служебная записка цела!
— А совесть? Она у меня тоже цела… А честь старого кадрового шахтера? Он ведь и это может замарать… Вот ты рассказывай, тогда и увидим, в чем вина, — нетерпеливо поторопил Улитин. — Говори, Тарас Григорьевич, не томи!
Поглядывая на примолкшую девушку, Тарас обстоятельно рассказал все, как было, ничего не преувеличивая и не преуменьшая, только всячески стараясь не подчеркивать при Поле особо неприятные моменты в поведении Василия и не выпячивать своей роли. Он рассказывал только о фактах, совсем не касаясь переживаний. Говорил неторопливо, тщательно взвешивая слова и выражения, стараясь говорить спокойно и не как о чем-то необычном, из ряда вон выходящем. Но на фоне неопровержимых фактов все равно постепенно вырисовывалась перед Улитиным и Полей истинная картина: сдержанность Тараса лишь как бы иллюстрировала силу умеренных выражений. Улитин, отлично знавший старые выработки, сразу постиг меру перенесенного и сделанного Тарасом — он слушал его молча, не задавая преждевременных вопросов, только многозначительно покачивая головой. А девушка тоже смотрела теперь на него, почти не мигая; чем сдержаннее старался быть рассказчик, тем внимательнее, казалось, она его слушала.
— Так я и предполагал, — совсем просто отметил Улитин, когда Тарас кончил рассказывать. — Уж очень он какой-то несобранный, развинченный, разболтанный! Больше через это я вам и посоветовал захватами-то работать: думал, будет сам о себе беспокоиться, сам за себя отвечать — и лучше, а то как бы зря хорошего парня не зашиб… — Старый десятник несколько помолчал и неожиданно добавил: — А судить меня все ж должны!
— Кто вам такое сказал? Ручаюсь, что не будут…
Улитин взглянул на Тараса, тепло улыбнулся ему, словно подчеркивая, что он умеет ценить хорошие пожелания, даже если они кажутся ему необоснованными, несбыточными. Однако тут же твердо повторил:
— Никто мне этого еще не объявлял, а знаю, что судить станут. И как я всю жизнь судов этих остерегался, — помолчав, продолжал он, — а вот под старость все ж, выходит, угодил через этого… — осторожно покосился он на Полю и не договорил фразы. — Сроду никогда ничего не боялся! Два раза из завалов с одним обушком выбирался, в юношестве какую большую реку в разлив переплыл, а вот секретарш этих, разных там папок, скрепок, протоколов всю жизнь опасался!..
— Ничего вам не будет, — снова убежденно сказал Тарас.
— Ну, засиделся я у вас, — поднялся с табурета Улитин, — по-стариковски разболтался, помешал, наверное, вам, но уж извиняйте меня: верно, есть такой грешок, люблю с молодежью побыть!.. Ну, ребята молодые, — особо заторопился он после своего же напоминания, — у вас тут свои дела, у меня свои. Побежал, значит, я сейчас. Спасибо тебе, Тарас Григорьевич, за матку-правду! — крепко потряс он руку Тараса. — Потом, конечно, мы с тобой об этом еще потолкуем… похоже, еще не раз! Дела, можно сказать, не очень веселые, — сокрушенно покрутил он головой, уже взявшись за дверную ручку. — В старое-то время, конечно, и не такие происшествия были на шахте не в диковинку… Старожилы рассказывали, что редкий месяц по ком-либо бабы не выли. Да нам-то это совсем не резон: теперь шахтеры давным-давно от подобного отвыкли.
Дверь негромко хлопнула, затворившись за старым десятником, и Тарас взглянул на Полю. Она снова рассеянно отломила от букета одну розу и, казалось, не размыкая век, начала ощипывать ее лепестки, машинально стараясь удержать их на коленях, хоть они, сдуваемые ветром, все равно непослушно сыпались на пол. Теперь девушка сидела совсем близко к распахнутой створке окна; солнце ярко освещало левую половину ее наклоненного лица, прозрачно заалевшую мочку уха, тонкую шею; легкий ветерок непрерывно играл выбившимися прядками волос, то озорно вздымая их, то снова лениво укладывая на прежнее место. Вновь охваченный нежностью и какой-то невнятной жалостью, Тарас невольно залюбовался глубоко задумавшейся девушкой, прикидывая в уме, как бы потактичнее предложить ей всего на несколько секунд покинуть комнату, чтобы она ненароком не оскорбилась. «Нет, честное слово, ужасно неловко продолжать мне и дальше такой важный разговор, не поднимаясь…» — терзался он. Но Поля быстро встала, разом стряхнув на пол все лепестки, и глуховато сказала:
— Мне тоже, Тарас, пора на работу… Потому и зашла в такую рань, что дежурит не Конова, да еще, правда, хотелось не опоздать с просьбой Василия. Он мне вчера все немного по-другому рассказал, очень винил Улитина, — подняла она глаза на Тараса, — но о тебе решительно ничего плохого не сказал. Напротив, в услышанном сейчас рассказе лично твоя роль, Тарас, выглядит, может быть, бледнее… Или ты опять сознательно скромничаешь?
Она говорила так, будто стремилась не убедить другого, а получше увериться в чем-то самой или, может быть, уже стараясь исключить то, что еще смутно открывалось перед ней.
— А какое его поручение?
— Просил тебя побыстрее зайти к нему, чтобы все это обсудить… Или, как он выразился, чтоб успеть сблокироваться с тобой, — насильно улыбнулась Поля. — Но, во-первых, с этим уже опоздано — я знаю, что от своих правдивых, конечно, слов Улитину ты ни за что не откажешься… А во-вторых, я к этой просьбе теперь не присоединяюсь… во всяком случае, ко второй ее части.
— Не присоединяешься?! — быстро приподнялся на локте Тарас. — Но ты его… любишь, Поля? — полагая, что он все еще удерживает этот вопрос в своих мыслях, неожиданно для самого себя почти выкрикнул Тарас.
И только когда девушка вместо ответа снова беззвучно заплакала, поминутно вытирая скомканным платочком глаза, он подумал, что запальчиво поторопился. «Ну какое я имею право ее допрашивать? Тем более сейчас, когда она и без того устала от беспокойства, расстроена, да еще бухнул-то ведь как неуклюже. Но она-то, она-то… почему сейчас плачет? — тут же снова подивился он. — Может быть, к ночи вчера Василию стало хуже?..»
— А как себя… Василий-то чувствует сейчас? — вслух сказал он. — Я, разумеется, зайду к нему сегодня, но, ясное дело, не «блокироваться» против Улитина.
— Ни-ичего… У него сильное растяжение связок, небольшие ушибы… Говорят, это быстро пройдет, — тверже, бодрее, хоть все еще сквозь слезы, но охотно сообщила Поля.
«Так вон, оказывается, откуда эти непонятные слезы-то: просто боялась за репутацию любимого человека! — внутренне усмехнулся Тарас своей недогадливости. — А переживает-то как маленькая: она ведь вовсе не из слезливых».
— Когда же вы намереваетесь теперь… что называется, своим домком-то зажить? — желая на прощанье великодушно сказать что-либо ей приятное, спросил он.
— Не знаю, Тарас, может быть, никогда… Ничего еще я не знаю… Может быть, еще придется одной мне в девятое общежитие перебираться, — не сдержавшись, коротко всхлипнула она.
— Да зачем же это, Поля? — осторожно спросил Тарас. — От добра добра-то не ищут. То есть я это только к тому говорю, что ведь ваше седьмое общежитие буквально вне конкурса.. Просто образцовое!
— Ну… я, кажется, уже опаздываю… — быстро подала она Тарасу руку и, едва коснувшись своими холодными пальцами его ладони, стремительно выбежала из комнаты.
Тарас немедленно встал, повернул ключ в двери и торопливо оделся. Затем наскоро застлал койку и бегло принялся по своей давнишней привычке наводить перед уходом порядок в комнате: повесил пиджак, поправил поровнее сдвинувшуюся свою тумбочку, переставил букет с узенького подоконника на стол, подобрал в угол стряхнутые на пол лепестки. Делал он все это так, будто и ему надо было куда-то очень спешить, а на самом деле ему лишь хотелось уйти из комнаты до неминуемого прихода новых «визитеров», чтобы пройтись по свежему воздуху и, как говорится, хорошенько одуматься. Даже мечась с этой торопливой уборкой по комнате, он неотвязно думал о скупо брошенных на прощанье Полиных словах: «Может быть, переберусь в девятое общежитие…» «Что за странная фантазия? — вспоминал он, пожимая плечами. — И зачем ей это, что за нужда в таком чудно́м переселении?..» И только когда Тарас, закрывая створку окна, взглянул вдаль и увидел серебристо посверкивающую на солнце белую этернитовую крышу этого самого, задавшего ему задачу общежития, он без труда вспомнил, что девятое общежитие известно как общежитие для матерей-одиночек. Скулы Тараса покрылись пятнами неровного румянца. Сбросив фуражку, он сел, встал, снова сел и, опять вскочив на ноги, медленно отирая тыльной стороной ладони сразу вспотевший лоб, начал взволнованно ходить взад-вперед.
10
Уже давно хозяйничала зима, все старательнее укрывая Пологую балку и окрестные поля своим белым снеговым одеялом, все выше наметая сугробы в узких проулках поселка, у стоявшего с краю домика Улитина, возле недалеких зарослей шиповника, все резче делая видневшуюся вдалеке темную кромку леса… Постепенно усиливались и морозцы. По утрам, в час сбора на работу, запорошенные окна общежития пропускали лишь негустые сумерки, и без включенного электрического света не обходилась уже ни одна комната. Жаркая сушилка нагревалась безостановочно, круглые сутки, только ночью угасал и несколько отдохнувший было за лето «титан»: теперь около него с раннего утра до позднего вечера можно было встретить любителей погреться чайком.
Оледенелые, поголубевшие стекла в комнате Тараса будто нехотя пропускали первые робкие лучи света. Но еще заметнее делалось тогда это смещенное, как бы отбежавшее к углу, бледное пятно окна. А когда жители комнаты дружно вскакивали со своих коек и кто-либо включал свет, за окном снова казалось бархатно-черно.
Тарас не «удрал» за Полярный круг, не заделался арктическим зимовщиком или корабельным плотником. Больше того, совсем не хлопотал о переводе на шахту «Новая», остался в прежней комнате, даже не сменил своей койки. Да и все в комнате осталось так же, по своему старому расположению, если не считать, что вместо Василия уж давно жил новичок — тоже член бригады Харитонова. Впрочем, эта перемена заметна менее всего: разве только Тарас порой подивится, как неправомерно много места занимала, бывало, в комнате шумная, беспокойная и себялюбивая «широкая натура» Кожухова. А остальные жильцы комнаты, кажется, успели его забыть.
Тарас по-прежнему работал бригадиром молодых крепильщиков. Но вечерами он аккуратно посещал курсы проходчиков, мечтая со временем в совершенстве овладеть этой боевой, очень приглянувшейся ему горняцкой профессией. Случай в старых выработках не испугал его, не обескуражил, с «Соседкой» не поссорил, напротив: отремонтировав своей бригадой крепь первого и второго вентиляционных штреков, Тарас частенько потом проходил к глубокому отвершку Пологой балки и подолгу любовно слушал, как неистово весело гудит снова налаженная при его помощи вентиляция старых выработок, безостановочно забирая в них чудесный воздух окрестных полей и лесов.
И по-прежнему Тарас любил помечтать. Особенно — поднявшись на-гора́ из ночной смены, в эти не очень долгие минуты перед крепким молодым сном, когда добрая шахтерская баня размаривала больше, чем вся смена, и мышцы так приятно обмякали, что не хотелось зря пошевелить рукой или ногой, а хотелось только подольше помечтать! Но это были отнюдь не туманные, лишенные внутренней связи с жизнью, пустые и бессмысленные мечтания, — его большекрылые мечты всегда шли рядом с его повседневной работой, которая как бы питала и подкрепляла их. Просто у Тараса это были минуты, когда мысленно сбывались — завоеванные, конечно, трудом, учебой, энергией — все решительно пожелания, а на разумные желания он тогда не скупился, хоть и никогда не вдавался в беспочвенное прожектерство, не строил «воздушных замков», не переводил свои мечты в нелепые грезы.
Эту любовь у Тараса к мечте сразу подметила и однажды, в первую пору их знакомства, очень едко высмеяла Поля. Тарас тогда выслушал все ее насмешки смущенно, но терпеливо. А в следующий свой приход принес бережно обернутый в бумагу томик. Раскрыв его по заранее сделанной закладке, он уже вполне твердо сказал:
— Неверно, оказывается, Поля, твое утверждение, что мечтать нам не к лицу, что фантазировать к лицу только кисейным барышням да поэтам, совсем это не так, неправильно! Мечта, конечно, мечте рознь… Ноты сейчас прочитай-ка вот это место… что говорил Ленин поэтому поводу в своей знаменитой речи на Одиннадцатом съезде партии. Вслух, пожалуйста, эти строчки прочитай!
Поля тогда как-то по-особому, с нескрываемым превосходством на него взглянула, но все же с интересом подвинула ближе книгу и четко прочитала вслух:
— «…Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности». Да-аа, — пришла очередь смутиться Поле. — И как же тебе, Тарас, не стыдно: знал про эти слова Ленина и ничего мне не сказал, молча выслушал мои разглагольствования, вовремя не остановил, не поправил?
— В том-то и дело, Поля, что не знал я тогда, — старательно оправдывался Тарас, — а только чувствовал, как ты в этом… не совсем права. А потом спросил у нашей библиотекарши, ну, она мне обстоятельно разъяснила, нашла даже это место в трудах Ленина.
Вот так они впервые и начали вместе читать книги.
И сейчас Тарас любил помечтать о том времени, когда он будет первоклассным проходчиком, о возможностях и будущем «Соседки» в целом, о своей личной жизни и первом таком сильном и красивом своем чувстве, отнюдь им не изжитом, которому он оставался верен по-прежнему. В мечтах о своем будущем Тарас, как и раньше, отводил много места Поле, только осуществление их отодвигал в какую-то не очень определенную даль.
Встреч с Полей он не избегал, а просто не искал их, и потому видел ее несколько раз только издали, мельком. Осенью он слышал от Лиды, что Поля собирается переходить из их комнаты в девятое общежитие. Лида рассказывала ему об этом, беспечально посмеиваясь, с осуждающими нотками в голосе называла ее непрактичной чудачкой, а девятое общежитие обзывала самым нудным местом в «Соседке» и тоже совершенно открыто подтвердила, что это общежитие неустроенных судеб. Затем от случайно встретившейся Зои, заговорившей первой, он узнал, что Поля поселилась в этом унылом общежитии «теперь уже навсегда», — как подчеркнуто и многозначительно выразилась она. «Ну… почему это «навсегда?» — немедленно мысленно запротестовал Тарас.
Вот и все, что он знал о Поле; напоминать ей о себе сейчас он находил преждевременным. Даже больше того: неуместным, нетактичным, невеликодушным.
Но время от времени что-нибудь с новой силой будоражило Тараса, точно нарочно не давая ему успокоиться на этой неопределенной дали в мечтах о личном. Особенно неудачным в этом смысле выпало недавнее воскресенье: утром он совсем негаданно повстречался при выходе из общежития с Симакиным, имел с ним короткий разговор.
А уже перед вечером, когда Тарас на короткое время остался в комнате один, вдруг вошла по своему обыкновению без стука Конова (она в этот день не дежурила).
— Я к тебе с небольшим вопросом. Полю сейчас проведать иду, — сказала она, поздоровавшись и присев на табурет. — Что ж ей от тебя-то передать? — и требовательно посмотрела на Тараса.
— Вы к ней… часто ходите?
— Не больно часто, а раза три была. С тебя пример не беру.
— Ну, как она там живет?
— Живет. Сохнет да плачет — вот покуда так и может.
— Сохнет? Плачет?
— А ты как думал? Так тяжко ошиблась в человеке и танцует себе да песни играет? Она не из легкомысленных пустышек, чтоб на одной ножке после этого вертеться.
Тарас долго думал, но Конова терпеливо, молча ждала.
— Ну… передайте, чтоб себя берегла… Ну и… привет, конечно.
— Хорошо, сирота: все, как сказал, передам! — сразу же поднялась с табурета Конова. — А сам-то чего не зайдешь ее проведать? Иль насмешливых поселковых баб опасаешься? Так не бойся этого. Посудачат, позубоскалят какие-нибудь, да и отстанут.
— После, потом зайду, вероятно… — покраснел Тарас.
— Потом, потом, — представлением с котом, — передразнила Конова. — Потом-то, может, она и без твоего участия обойдется… Человека всегда надо поддержать вовремя! На собраниях своих о чуткости-то — своими ушами сто раз в общежитиях слышала — здорово друг дружку агитируете… И самому небось не раз доводилось об этом же до хрипоты кричать, доказывать, а как на деле — так «потом»!..
— Тут другое…
— Десятое! — сердито хлопнула она дверью.
«Стареет Конова, — подумал Тарас, когда дверь за ней с шумом закрылась, — все чаще стала вмешиваться не в свои дела, согласна, кажется, хоть без конца кого-нибудь распекать, вразумлять, поучать… А на самом деле, по крайней мере в данном случае, все тут, конечно, значительно сложнее, чем ей это сейчас представляется…» Но, думая так, он уже знал, что не в этом дело и не это в пятиминутном визите Коновой главное. Тарас понимал, что от сказанного Коновой ему легко и просто не отмахнуться. «Значит, какая-то доля правды в ее сердитых распеканиях заключена, — удивился он. — Ах да: «…сохнет, плачет», — тут же вспомнил он. И весь вечер не мог думать ни о чем другом. Много думал об этом и после. То Тарасу по-прежнему казалось, что заявляться ему сейчас в девятое общежитие к Поле совершенно не нужно, неуместно, странно, бестактно, даже невеликодушно. Да и в сочувствии его она, может быть, совсем не нуждается. То ему вдруг опять начинали представляться все эти соображения сущей чепухой, что пойти и проведать Полю — его человеческий, товарищеский и какой там угодно долг. В такие минуты Тарас даже узнал у Коновой, что Поля живет теперь в четвертой комнате.
11
Однако только через месяц он побывал в девятом общежитии. Стояла чудесная морозная погодка. После недавних снегопадов поселок выглядел прибранным, будто обновленным. На дворе сгущались недолгие зимние сумерки, и от предметов уже тянулись по сугробам длинные сиреневые тени. Но почти все окна поселка глядели на улицу еще не освещенные изнутри, сплошь разрисованные причудливой изморозью. А на заиндевелых, застывших в безветрии деревьях самые высокие макушки еще не всюду погасили свои мерцающие снежные искры. Синеватые дымки неторопливо струились в небо из труб домов — прямые как шесты, только в самом верху раскуделивающиеся и постепенно тающие. Самодельный мальчишеский каток, мимо которого проходил Тарас, даже в надвигающихся сумерках отсвечивал зеркалом и был переполнен неистово гомонящей детворой. Радостно возбужденные, раскрасневшиеся на морозном воздухе ребятишки чертили своими коньками лед во всех направлениях.
Тарас шел в девятое общежитие, стараясь уже не гадать заранее, как его там встретят (хотя до этого и много раз пытался представить встречу во всех деталях, но невольно вспоминая свое первое посещение седьмого общежития. Не очень много, кажется, пробежало после этого времени, а как много с тех пор утекло воды, как многое изменилось. Смешными представлялись Тарасу сейчас свои недавние ребячьи опасения за плохо улегшиеся на голове пепельные вихры, свои недавние мальчишеские переживания из-за дождя, мешавшего ему идти в «девчачье» общежитие в одном костюме и без калош…
Возле самого здания общежития он нагнал женщину с мальчиком лет семи и невольно слышал отрывок их разговора:
— Ну, чего ты уж так сильно расстроился-то, я не пойму?
— Да-а!.. Попробуй покатайся на них по льду, — сквозь слезы пояснил мальчик, неся позванивающие на бечевках «снегурочки». — Был бы у меня, как у всех мальчишек, отец, он бы уж не купил такие култышки…
— Ничего, Слава, — сдержанно уговаривала его женщина, — я тоже тебе на этой неделе куплю какие полагается коньки, специально для льда.
— Фиг ты купишь! Ты еще сама, ребята говорят, не знаешь всех сортов коньков… Был бы отец…
— Ну, ты отлично знаешь, что отец твой погиб… О чем же тут толковать теперь зря?
— Фиг он погиб…
— Не употребляй, пожалуйста, больше этот свой противный «фиг»… Конечно, погиб, ты меньше бы вот слушал всякие глупости мальчишек… — хотела было продолжать женщина, уже идя по коридору, но, заслышав сзади гулкие шаги Тараса, оглянулась и замолчала.
«Да-а… это действительно совсем другое общежитие», — сразу же подумал Тарас. В коридоре тоже было тише, чем в обычных молодежных общежитиях, и только откуда-то из глубины комнаты доносился приглушенный плач раскапризничавшегося ребенка. Стараясь не стучать сапогами, Тарас следил за быстро убывающими номерами комнат. «Одиннадцатая, десятая, девятая, восьмая, седьмая и шестая… — мысленно прочитывал он, забегая вперед. — Значит, только через одну комнату — и Поля…» Он замедлил шаг. Но когда поравнялся с написанной на небольшом эмалевом квадратике цифрой «6», как раз через одну комнату дверь открылась, и в коридор вышла молодая женщина с мальчиком лет трех. Она очень торопливо направилась в его сторону.
— Скажите, пожалуйста, где четвертая комната? — спросил ее Тарас, краснея: он знал, что именно из четвертой вышла эта женщина.
— А вот, — показала она, приостановясь, с нескрываемым любопытством его разглядывая. — А вам кого? Не Маркову?
— Полю Маркову, — кивнул Тарас. — Она с вами живет в одной комнате?
— Живет, живет… Вы проходите — там у нас сейчас инженер сидит, с работы Полиной… И еще одна женщина — тоже с их работы.
Сколько Тарас ни старался заранее представить эту встречу с Полей, все получилось совсем иначе, чем он предполагал. Первое, что с некоторым удивлением отметил Тарас, так это определенное преувеличение Коновой насчет «сохнет, плачет». Напротив, Поля выглядела гораздо лучше, а главное, спокойнее, нежели это было на другой день после случая в старых выработках, когда она была у него вместе с Улитиным. Внезапному приходу Тараса она, кажется, и не обрадовалась и не удивилась, будто заранее знала, что он зайдет именно сегодня, или все время была внутренне отвлечена чем-то другим, несравнимо более важным. Она торопливо познакомила Тараса с находящимися у нее в комнате женщинами и тут же присела на табурет за расположенным в самом дальнем углу комнаты столом и сидела так, лицом к гостям, не поднявшись больше ни разу.
Женщина помоложе, с непокорно выбившимися из-под серой каракулевой шапочки золотыми кудрями, знакомясь с Тарасом, сама сказала приятным сильным голосом: «Нина!.. А о вас, между прочим, мы уже порядочно знаем…» Фамилию другой женщины — со смуглым молодым лицом и уже седеющими висками — назвала Поля. Ему сразу подумалось, что голос женщины он где-то и когда-то слышал, да и фамилия другой — Реднина — тоже показалась знакомой, но это отнюдь не убавило его неловкости и смущения. Оброненная с улыбкой многозначительная фраза «мы ведь про вас уже много знаем», непредвиденная им необходимость начинать и без того трудную беседу при посторонних, какая-то непонятная Поля — все это мало помогало ему овладеть собой и найти нужный тон в разговоре с совершенно неизвестными ему людьми. Разговор у Тараса особенно не вязался еще и потому, что он все время чувствовал на себе внимательно любопытствующие взгляды обеих женщин. А Поля, будто нарочно, никак его не выручала: она все молчала, видимо по-прежнему спокойно погруженная в свои думы.
Поэтому Тарас оживился, когда вернулась уже знакомая ему женщина с мальчиком.
— А это, дядя, что у тебя? — сразу же протянул он ручонку к нагрудному карману Тараса.
— Ручка, — улыбнулся Тарас непривычному для него обращению «дядя».
— Покажи… И ножичек перочинный у тебя есть?
— А как же, имеется, — обрадовался новому собеседнику Тарас, незаметно для него перекладывая авторучку во внутренний карман. — Смотри-ка, какой крошечный…
— Дай мне!
— Возьми. Только смотри пальцы им не порежь…
— Насовсем?
— Ну, зачем совсем: когда вырастешь большой, вернешь…
— Да как же тебе, Генка, не стыдно, — сказала ему мать, — отдай сейчас же ножичек этот дяде… Ты лучше нам песенку какую-нибудь спой, а ножичек этот ему самому нужен карандаши чинить.
Но Генка просяще взглянул на мать, еще туже зажал в маленьком кулачке драгоценный подарок.
Тарас, искоса взглянув на потупившуюся Полю, сказал:
— Тебе сколько ж лет?
— Сейчас тли, а сколо будет пять! — не без хвастовства сообщил Генка.
— Четыре, четыре, — с улыбкой поправила его мать.
— А маму твою как звать?
— Мама Люба.
— О, совсем молодцом. И фамилию свою знаешь?
— Знаю… Петлов!
— А папу как зовут? — спросил Тарас и, только заметив, как женщины настороженно переглянулись, сообразил, что его вопрос неудачен. Но было уже поздно.
— Так в насэм доме все либетиски без пап! — с удовольствием пояснил Генка.
— Вон он что знает… — заметно побледнев, покачала головой мать.
— Ну, очень и очень извиняюсь за беспокойство, мне время идти, — с усилием шевеля непослушными губами, сказал Тарас. Шагнув к Поле, он подал ей руку, коротко пожал ее узкую ладонь.
Сразу же заторопились и гости.
«Вот уж никак не предполагал, что встреча с Полей произойдет именно так, — огорченно думал Тарас, забыв, что идет не один и молчать ему сейчас неловко. — И зачем я бухнул этот вопрос?»
Молчали долго и остальные, пока Реднина не произнесла негромко, но очень твердо:
— Нам, конечно, надо уберечь детей от таких несносных переживаний… Ни один наш ребенок не должен травмироваться подобными непосильными для него детскими трагедиями…
На перекрестке Нина распрощалась, и Реднина опять с полквартала прошла с Тарасом совершенно молча: каждый был занят своими мыслями. Теперь все окна поселка горели изнутри ярким светом, а чудесная разрисовка изморози на стеклах почти везде скрылась под обычными теневыми узорами от штор и комнатных цветов. На небе высыпали многочисленные звезды. Под ногами поскрипывало заметнее. И по-прежнему, не шелохнувшись, стояли деревья, только их кроны, казалось, заиндевели еще гуще.
— Вам голос этой женщины не показался, случайно, знакомым? — с улыбкой спросила Реднина, когда дольше молчать было уже неловко.
— Показался… Но, признаться, как ни напрягал память, а так и не вспомнил я, где и когда его слышал?
— Так это ж диктор с местного радиоузла! — засмеялась Реднина. — Каждое утро, вероятно, раздается в вашей комнате этот голос.
— Вон оно что, — невольно засмеялся и Тарас.
— Вы, я слышала, с Полей давно и… по-настоящему дружите?
— От кого вы это слышали?
— Кажется, от нее самой.
— Да, порядочно времени.
— Так вот вам, наверное, будет небезынтересно знать, что лучшими своими друзьями, самыми верными, — подчеркнула Реднина, — Поля по-прежнему считает Риту и вас. — Она помолчала, потом сказала: — Правда, Рита осенью уехала учиться, а письма все же не могут полностью возместить живое общение с человеком… Ну, я тоже дошла, — живо протянула она Тарасу свою маленькую руку в тугой кожаной перчатке. — Единственно, что я вам желаю на прощание, так это и впредь оставаться самим собой!
А через несколько дней Тарас получил от Поли письмо, в котором она, между прочим, просила его не заходить.
«…С В. все кончено, — добавляла Поля уже в конце письма, — причем отнюдь не потому, что я даже не ведаю сейчас его местожительства (и, признаться, знать не желаю!). Если б ты знал, Тарас, как мало в нем того, за что можно человека уважать, и как велика в этом смысле была моя непонятная слепота. Если б я понимала хоть то, что понимаю сейчас! (Мне кажется, что будь у меня мать или старшая сестра, все бы обстояло иначе.) И как трудно писать эти строчки через такой небольшой срок даже вполне верным друзьям, например, таким, как Рита и ты (которые, я уверена в этом, все же не примут меня за такую, какой я никогда не была и быть не собираюсь). Рита — ты это, наверно, слышал — осенью уехала учиться, но мы часто переписываемся. Вообще я не одинока — на работе все ко мне относятся очень хорошо, сама успокоилась на том, что уже живу в общежитии «одиноких» матерей. Ну, Тарас, пока все. К сожалению, и для тебя все складывается так, будто нарочно ставит твоей верной дружбе все новые и новые испытания. Но у тебя, Тарас, трезвый ум, и я верю, что ты сейчас немножко мое состояние понимаешь и даже не очень сильно на меня рассердишься за это мое письмо. Перечитала сейчас его и сама вижу, что оно получилось очень сумбурным, боюсь — совсем непонятным. Но переписывать его, честное слово, не могу. Ответа на него, конечно, не требуется».
«Ну вот, дождался и просьбы не заходить…» — подумал нахмурившийся Тарас, дочитав письмо. Но где-то в самой глубине души это Полино письмо Тарасу чем-то понравилось: в нем как бы снова ожила для него именно та Поля, какой он себе все время ее представлял.
Тарас уже не метался по комнате, не вымеривал ее взволнованными шагами взад-вперед. Все еще держа письмо в руке, он распахнул форточку и долго вдыхал всей грудью свежий морозный воздух. И если бы у него спросили сейчас, чему он несколько раз улыбнулся, вряд ли смог бы Тарас дать на это определенный ответ. Просто он вдруг сам почувствовал себя тверже и как-то взрослее, нежели в то сравнительно недавнее время, когда, изнемогая от тоски и отчаяния, впервые принимал на себя одного неожиданный житейский удар. И вот теперь уж не растерявшийся юноша, а вполне взрослый мужчина стоял у окна, жадно вдыхая крепкий морозный воздух, и изредка чему-то улыбался, может быть мысленно говоря самому себе: «Ну что ж: что было, то видели, а что предстоит, то еще посмотрим!.. Без уроков жизни, ясное дело, не останешься и ты, Харитон!..»
ЛЮБОВЬ ПОСЛЕДНЯЯ…
1
Случилось это в семье путевого обходчика Петра Лунина. То ли поленилась его красавица-Ульяна добираться домой с разъезда, то ли поспешила — спрыгнула с тормозной площадки заднего вагона, едва попутный товарный порожняк поравнялся с крыльцом ее родного дома-будки — да видно в недобрый час!
Стоявший на обочине Петр только охнул и, быстро опустив руки с сигналом, одним махом перескочил через кювет.
— Убилась?! Ноги, руки целы? — тревожно спрашивал он, поднимая жену.
— Ну, уж так и убилась… Спину лишь чуток и зашибла, — смущенно улыбалась побледневшая Ульяна, радуясь, как дешево отделалась и, видимо, по-женски довольная, что ее испуг был и его испугом. И мельком подумав, что у них по самый гроб будет все пополам, посмеиваясь добавила: — Как это меня угораздило? Ведь не раз прыгала… А сегодня досталось за все разы невиновной спине через оплошавшую торопыгу-голову!
— А могло бы, Уля, получиться хуже, — перебил напуганный Петр ее полушутливые оправдания. — Ногу бы могла сломать! Не девочка глупенькая, несмышленая, чтоб очертя голову на полном ходу выбрасываться!!
— Верно, Петя, золотые слова. Да больно я по тебе и по Аленке соскучилась! Точно не со вчерашнего вечера, а на целый год вас покидала! Увидела, ты стоишь и так мне чего-то невмоготу показалось промчаться мимо, а потом по жарище возвращаться, три километра, с поклажей… Но больше ни за что не отважусь, не серчай, Петя! Ладно?
Больше и в самом деле прыгать Ульяне не пришлось, и совсем не потому, что она «не отваживалась» или так крепко держала слово. Вскоре она стала жаловаться, что у нее немеют и зябнут ноги, становятся непослушными, будто ватными. В разгар июльской жары она вдруг приказывала десятилетней Алене нагреть воды для грелки, невесело шутила, что, мол, паршивый поросенок и в петровки замерз!
А всего месяцем позже, уже в линейной больнице, Ульяна с горькими слезами признавалась мужу, что ей вовсе трудно стало ходить, что замечает она, как быстро худеют ее всегда полные ноги — будто сохнут…
Петр знал, что дело не в одних ногах, и с бессильным ужасом наблюдал, как словно таяла его Уля.
Через два-три месяца она уже не держалась на ногах, а через год, несмотря на почти безостановочное лечение, от полной и цветущей Ульяны остались лишь, как говорила их соседка Марина Пряслова, одни глаза.
Белый свет померк перед путевым обходчиком. Двенадцать лет прожили они, как один день: душа в душу. И все эти годы, зимой и летом, днем и ночью, собирала и провожала его на путевые работы и дежурные обходы Уля. Неизменно ровная, веселая, легкая на подъем и быстрая, несмотря на свою полноту, она неумолчно советовала и наказывала, рассовывая по его карманам бутерброды. А если он в спешке забывал приготовленный инструмент, оградительный диск, фонарь или рукавицы — громко кричала ему вслед и, догнав, запыхавшись, ласково журила: «Ах, какой ты торопыга! Смотри на путях будь поаккуратнее, поосторожнее: не на пасеке работаешь, а на рельсах!»
Теперь Петр твердо знал, что лишь благодаря ее живому общительному характеру даже жилье на отшибе, фронтовая контузия и длительная работа в одиночку не сделали его неисправимым молчуном. Зато с каждой очередной отправкой жены в больницу обходчик все больше замыкался в себе, в своем горе, становился все задумчивее и мрачнее.
Да и о чем и с кем теперь беседовать? Много ли скажешь о своей неизживной беде Аленке? Маленькая еще и ревмя ревет, едва заикнешься о матери. Только и можно обмолвиться словом с обходчицей соседнего участка Прясловой. Но душу и с ней не больно отведешь — сама торопится забежать вперед за сочувствием! И хоть давно известно Петру, что она честно вдовствует — ох и любит молодая баба об этом упомянуть, лишний раз посетовать то на свою не женскую работу, то на свою нелегкую долю и даже доверительно признаться, что она так густо высадила на своем участке рябину лишь потому, что деревце это и в песнях, мол, всегда — вроде символа печальной вдовьей судьбы. Вот так и готова она, кажется, часами бередить душу только о себе, да про себя, не давая вставить слова, будто умышленно не замечая, что и сам он с дочкой в большой беде — такой беде, что нет сна и не идет на ум работа! А жизнь жены стала и вовсе — горше горького.
2
Не скоро, а настало время, когда все уже было испробовано, и медицину, наконец, оставили в покое. Ульяна даже обрадовалась этому. Словно оправдываясь, она рассказывала изредка заглядывавшим женщинам, какие муки ей довелось претерпеть в линейной больнице и как она теперь довольна хоть тем, что ее никто не колет, не тормошит, не тревожит. Уверяла даже, что пока не поднимают, не переворачивают, почти ничего не болит.
Только порой, чувствуя надвигавшуюся непогоду, ее худое, потемневшее, а все еще красивое лицо бледнело от разлившейся по телу боли. На лбу мелким зернистым бисером проступал пот.
Но и неистовую летнюю грозу с ливнем, и затяжную зимнюю пургу сносила терпеливо, без плача и жалоб. Лишь иногда в глазах застаивались непролитые слезы. Дыша часто и тяжко, с трудом выталкивая из обессиленной груди будто сгустевший воздух, она тогда шевелила бескровными губами и мысленно твердила: «Ничего, ничего, Ульяна, потерпи еще немного: ну какие-нибудь полгодика или год… Или даже годика два, три… Аленка хоть семилетку закончит!..»
Громыхали над 377 километром шальные майские, грозы, выдергивал из шпал костыли лютый декабрьский мороз, наметало сугробы под самую крышу будки в феврале… А Уля лежала по-прежнему, только ме́ста занимала на койке все меньше, да все меньше черты ее лица говорили о былой красоте: все больше напоминали они изможденных иконописных аскетов с древних гравюр — с лицами иссушенными и темными, как ивовая кора. Из длинноногой угловатой девчонки дочь ее незаметно вымахала в рослую и видную девушку-подростка, ходившую уже в восьмой класс. С каждым годом все заметнее менялась, будто таяла на глазах, Уля. А в самое тяжкое ненастье — когда несносной свинцовой тяжестью вновь наваливалась боль и противно закладывало уши — она по-прежнему самоотрешенно твердила, порой, как молитву: «Ну, ну, Ульяна, не оплошай под конец! Теперь уж и вовсе совсем малость осталось дотерпеть: наверное до той весны… Или до той осени… Вот тогда б нашей Аленке было полных пятнадцать!..»
И еще она изо всех сил старалась, чтоб без ее согласия и одобрения, — хотя бы молчаливого, порой даже мнимого — ничего в семье не решалось. Уже совсем неподвижная, она ревниво пыталась сохранить за собой все права хозяйки дома. Поступала Уля так отнюдь не из каприза, вовсе не из самолюбия или болезненного эгоизма. Нет! Она искренне считала, что без ее заботливого внимания «все пойдет прахом и им (дочери и мужу) сразу станет хуже». Сама того не сознавая, Уля безошибочно ощущала — пока ей удается быть или лишь казаться как бы сопричастной к делам и заботам семьи — она в пределах жизни. И она инстинктивно стремилась так или иначе эту благотворную для нее сопричастность сохранять во что бы то ни стало!
Она до подробностей знала, что и сколько Аленке задали на дом, спрашивали ли на уроках, какие дела вершили школьные комсомольцы на своем собрании, ревниво изучала ее дневники классных занятий, допытывалась, какие слова сказал ей Виталик Пряслов, когда они были у крыльца, и дочь звонко расхохоталась… Даже скромным Аленкиным гардеробом всецело распоряжалась только мать. Достанет, например, Алена из шифоньера свою последнюю обновку и, надев платье, начнет вертеться перед зеркалом. Ульяна удовлетворенно улыбнется, в меру полюбуется молчком на девичью стать дочери, а потом непременно строго спросит:
— Это зачем же ты снова голубое вынула?
— Зачем, зачем… А в чем просто вечером походить? — нервничает Алена.
Она-то отлично знает: «зачем»! Но не сообщать же было матери, как восхищался ею Виталик в этом ладном платье на недавней школьной постановке. Правда, он по-мальчишески неуклюже превозносил лишь цвет «электрик», говорил, что он напоминает лунную ночь; и на все лады хвалил покрой или, как он выражался: фасон. Но она маленькая что ли?
— Ты далеко ль собралась?
— Да я… Да мы с Виталиком до разъездовской читалки только дойдем! Ведь нам вместе отчитываться скоро за сектор пионерработы… Так мы хоть их журналы пролистнем!.. Нельзя что ли мне из будки этой, противной, выйти?
— Не в том дело, что я вроде против прогулки или сектора этого, пионерского… Конечно, пройдись по воздуху, покуда погодка держится… Но уж больно это голубое получилось сильно приталенное! А ты еще покуда не невеста, а школьница! Наскучила тебе форма — так это скинь, а надень вишневое, покуда вовсе из Него не выросла.
— Покуда, покуда… — злится дочь. — Надоело мне вишневое, хуже формы!
Но не было еще случая, чтоб Алена ослушалась. Иной раз позлится, покапризничает, понервничает со слезами на глазах — не без этого. А в конечном счете все равно сделает только так, как сказала мать.
Точно так же пыталась дирижировать Уля и делами мужа. Словно считая себя его памятью, она вдруг спрашивала:
— Ты, Петя, про график, что дорожный мастер привез, не забыл?
— Я подготовку к зиме начал, когда этот конторский график еще не родился на белый свет.
— Но все ж хоть изредка, а заглядывай в него… Болты-то, Петя, все уж подтянул и смазал?
— Нет еще…
— А что же ты теперь делаешь?
— Больные шпалы меняю.
— Один?
— С Прясловой…
— И тебе, конечно, потом придется помогать ей сменять?
— Да, — скупо ронял слова Петр, боясь сказать лишнее.
— А ведь еще все противоугоны надо тебе укреплять, стыковые соединения и накладки проверять, подрезку балласта делать, кюветы чистить… — вздыхала Уля. — И в этом, небось, придется тебе Маришке подсоблять?
— Вряд ли: мы с ней теперь соревнуемся, а баба она крепкая и уже, слышно, хвастает, что, дескать, не мой, а ее участок будет на тот год ходить в передовых… К тому же у нее сын подрос: тоже наверное потихоньку помогает, когда от уроков свободен…
— Просто боюсь я, Петя, что начнешь ты опять на ее участке вкалывать, а на своем через это время упустишь! А потом и дорожный мастер за это не похвалит, а уж бригадир ремонтников, Бармалей-то этот — и вовсе всех собак постарается на тебя навешать!..
— Да ты, Уля, хоть об этом голову себе не ломай! До зимы еще далеко: управлюсь… Одним словом, одолею и Бармалея!.. — спохватывался Петр, стремясь хоть шуткой рассеять ее тревогу. — Ты и о весеннем паводке беспокоилась, ночи не спала, а я за пропуск талых вод благодарность получил.
Однако Ульяна, как видно, не могла, а скорее всего и вовсе не хотела полностью отстраняться и «успокаиваться», совсем уж лишать себя единственно возможного в ее положении участия в его делах и заботах. Ей хотелось добавить если не своего труда, то хоть своего разума и в это непредвиденное ею соревнование двух соседних участков — соревнование мужа и дотошной Прясловой. И она еще больше стремилась стать его памятью даже там, где самому Петру было и гораздо виднее и куда памятнее, чем ей.
А когда Петр отправлялся в свой очередной дежурный обход или шел на путевые работы — искренне веря, что она этим все еще ему помогает, опекает и оберегает! — Уля неизменно напоминала мужу об осторожности и осмотрительности. «Не забудь, Петя, оградительный диск-щиток выставить! — кричала она ему вслед слабым, но удивительно чистым голосом. — Не то как раз дрезина наскочит! Помни, что на открытых путях работаешь!»
3
Пока Алена была тщедушной девочкой, Марина Пряслова помогала ей хозяйничать: приходила и постирать, и хлебы выпечь. Весной — посадить огород. Осенью — убрать урожай и заготовить необходимое впрок. Помимо обычного на линии участия соседки, это была и отплата «по домашности» за необходимую ей мужскую помощь на участке, за ту «подмогу» Петра в наиболее тяжелых работах путевого обходчика, где было не под силу даже и такой крепкой здоровьем молодой женщине, как Марина. Шутка ли, например, быстро сменить, без помощи ремонтников, лопнувший на морозе рельс!
Она приходила и званая и незваная. Соболезнующе заглянув в лицо Ули, сказав ей в привет несколько теплых слов, хваталась за работу, совсем по-домашнему скинув лишнюю одежду и сбросив платок. В ее красивых, круглых, летом до плеч обнаженных и загорелых руках все так и спорилось!
От обостренного внимания Ули не ускользало, конечно, что застав ее в своем доме хозяйничающей, разрумяненной хлопотами, с клочьями пены или теста в крепких маленьких ладонях — Петр иной раз глядел на нее так, будто видел впервые.
Ульяна знала слабость Петра даже к самому обычному человечьему вниманию, даже к заведомо казенной дежурной ласке. Если сгоряча сделает ему несправедливый разнос дорожный мастер или начнет строить козни бригадир ремонтников — придет и расскажет об этом озабоченно, а без малейшей робости. «Ну, этот номер у них не пройдет, — заключит уверенно, как отрежет. — Тут, Уля, я прав на все сто и они в меня упрутся!» А стоит дорожному мастеру или тому же хитрюге и ловкачу бригадиру чуток похвалить и обласкать — и примчится домой уж не мужик, а сущее дитя! Будто как сверкающий свет разлился вокруг него, словно кто его, озябшего, разом отогрел! Ну где ж при таком характере устоять в его безвыходном положении против настоящей женской ласки? Если, к примеру, отважится Маришка наплевать на это свое «честное вдовствование» и сама на Петю позарится, первая подкатится к нему?
Потом, раздумавшись, Уля тут же решала, что кислое с пресным нечего ей мешать. Одно дело очень ответственная служба на железной дороге, а другое — легкомысленное путанье с бабами. Все прожитые вместе годы ярче всех доводов говорят, что стыдно ей так о нем думать. И Пряслова, если разобраться, тоже никогда не давала повода так нехорошо о ней рассуждать. Да как еще без ее быстрой и ловкой помощи теперь обойтись? Ведь иной раз забежит баба всего на час — и враз всю будку ухитит[10]. Тут просто спасибо ей и низкий поклон!..
И все же как только Аленка подросла и окрепла настолько, что смогла самостоятельно справляться со всем хозяйством — и со стиркой, и выпечкой хлебов, и с огородом — Ульяна с нескрываемым облегчением прекратила посылать ее за подмогой. Незваная, Марина и сама стала заходить все реже и реже, тоже стремясь, чтоб поменьше люди дивились да судачили. Но от соседства участков никуда не уйдешь: люди по-прежнему видели ее и Петра на работе рядом. Всевозможные толки и догадки то разбухали, то, теряя остроту, постепенно сглаживались временем. А отголоски их нет-нет да и доходили до ушей Ульяны.
На линии, да еще глухой, не так, конечно, как в поселке или городе — кругом народ и всё под боком: в гости ходи — не хочу! Но время от времени, по пути на узловую, на базар, навещали и Улю знакомые женщины. Это были, главным образом, еще старинные знакомые, еще подружки по школе и девичеству — разбросанные теперь своей женской судьбой по всей линии. Всмотревшись в Улю, всплеснув руками, сокрушенно покрутив головой, они потом, как правило, говорили лишь о ее плачевном положении, охали и ахали на все лады. А уж если так случалось, что разом заглядывали две-три, то среди всеобщего соболезнования какая-либо побойчее, поразвязнее (и подурнее лицом, завидовавшая когда-то красоте Ульяны и до смерти боящаяся теперь, что ее, дурнушку, бросит или обманет муж!) непременно не утерпит и, словно невзначай бесцеремонно обронит:
— И что же это ты, Ульяша, никак не поправляешься! А так хворать и залеживаться тебе не с руки: мужики все на одну колодку, а соседка твоя — кровь с молоком! Или пока еще ничего такого не замечала за ними? Да ты больно не тревожься, это я, Ульяша, просто к тому, что все ж таки по своей работе они, небось, раз десять на день почти лбами стукаются… И сегодня вот, как шли сюда, глядим, — а они на пару балластную щебенку носилками подтаскивают к насыпи… Хоть бы уж нас поостереглись, право.
Ульяна, не скрывая тревоги, торопливо облизывала свои тонкие, пересохшие губы. По бескровному лицу пробегала мучительная судорога. Но с горем пополам протолкнув застрявший в горле комок, стараясь не выдать себя, дрожащим голосом говорила:
— Я, бабоньки, с этой стороны о самой себе голову не ломаю аж с той самой поры, как окончательно поняла, что мне уж не встать. Чудно об этом толковать… Сами, небось, видите, на что стала похожа: душа да кожа! — слабо улыбалась она. — В таком бедственном моем положении всякие там ревности мне перед мужем разыгрывать, разводить и раздувать просто курам на смех, да и неразумно это… А вот об другом, верно, душа болит и не идет это из головы! Понимаю, конечно, что после меня приведет он Аленке мачеху… Пряслову или иную — не ведаю и ведать не буду: оттуда ведь не вскочишь и дорогу не загородишь! Но твердо знаю, что нет на свете дружка, как родная матушка! И хоть вовсе это не в моей воле, а все ж хочется, чтоб Аленка к этому часу оказалась еще чуток повзрослее…
— Аленка Аленкой, а о себе тоже нельзя не подумать…
— Да я о себе самой уж давным-давно все как есть передумала и порешила. Покуда дышу, меня Петр и не покинет и не разобидит… Этому, бабоньки, просто вовеки не бывать! Вы его не знаете, а он — такой! Еще в линейной больнице это было: лежала я лежала, да в его очередной приход и выпалила вдруг все разом — все, что надумалось. Так он прямо при докторице поднял меня на руки, потютешкал как малое дите, да при всем честном народе, при всех женщинах, что лежали в палате, громко-прегромко сказал, вроде как бы поклялся: «Никогда ты, Ульяна, о подобном даже минуты не размышляй: этого тебе еще недоставало! Ты лучше запомни раз и навсегда, чтоб уж потом об этом и речь зря не заводить: во веки вечные я тебя не обману и не оставлю, не брошу вовек!!.» Некоторые бабы вчуже — и то тогда ревели… И даже сама докторица прослезилась… А если он покуда не сделал ничего такого, сколько я ни лежала, так неужто теперь сделает, когда Аленка наша почти заневестилась!! Неужто он свое и ее доброе имя не пожалеет?! Да и ждать ему теперь осталось всего ничего и он, бабоньки, продержится: он у меня такой!!
Женщины уходили и, наверное, забывали за собственными заботами об этом разговоре. А она еще долго глядела в потолок широко открытыми глазами, влажными от непролитых слез: заново перебирала в уме слова, мысленно взвешивала все услышанное, тяжко вздыхала и порой самоотверженно шептала: «Похоже, что залежалась ты, Ульяна… А на веки вечные, так выходит, ничего на всем белом свете не бывает!..»
Но приходила Аленка: бодрая, рослая, крепкая, здоровая и с целым ворохом «важных» школьных новостей. Да не таких — уже «с бородой»! — какие Уля только-только слушала, а по-настоящему новых, свежих, живых, радостных — рассказывая о них, и сама Аленка загорается, а глаза ее искрятся смехом.
Глядя на нее, слушая ее звонкий голос, Уля даже мысленно упрекает себя за только-только пережитое малодушие. Чувство живой причастности к тому, о чем тараторит Аленка, снова постепенно перевешивает в ее душе. И, ничуть не кривя перед собой, она совершенно искренне считает, что «покуда» все еще у нее в пределах терпимого, в пределах жизни.
4
Как-то, в самой середине очень знойного и грозового июля решил Петр просмолить на мосту брусья. Мостик этот был совсем небольшой, находился на самом краю участка, летом под ним лениво сочился едва заметный заболоченный ручеек, сплошь поросший кугой и осокой. А в полую воду этот малопролетный мосток, до мощных бетонных ригелей которого снизу почти можно было дотянуться рукой, приносил бессонные ночи не только путевому обходчику, но и дорожному мастеру. И потому Петр присматривал, ухаживал за ним, как за капризной ветреной красавицей, постоянно, круглый год, держал его под своим неослабным надзором.
Одному проделать эту работу было не с руки, тем более, что надо управиться между поездами. Звать на помощь Аленку, весной перешедшую в девятый и уже стесняющуюся «роли подсобницы», было бесполезно, да и хватало ей хлопот с матерью, по дому и с огородом. И, как всегда в таких случаях, Петр обратился к Марине.
Выбрав самое долгое «окно» между поездами, они энергично принялись за дело. Развели под мостом, у ручья, костер. Подвесили над ним, на рогулечках, двухведерный котелок со смолой — наколотой в запас с зимы. Когда она закипела, Петр по приставной лесенке, тоже сделанной им еще зимой, забрался на брусья и спешно орудовал там с квачом. А Марине и вовсе приходилось поворачиваться проворнее: следить за огнем, подбрасывать в котел вязкие слипающиеся куски смолы, быстро наполнять и подавать тяжелое ведро с огненным варом наверх, вовремя брать другое, опорожнившееся.
Денек выдался жарким и безветренным. В полдень было и нестерпимо знойно и, одновременно, парило, как перед сильной грозой.
Марина уже часа полтора прыгала, как белка в колесе, то с лестницы, то на лестницу, стремясь побыстрее разделаться со своим огнедышащим варом. Солнце немилосердно пекло ей непокрытую голову, плечи и потную спину. Костер — лицо. А Петр — тоже устав и вспотев — поглядывал на часы и все торопил ее. Только когда странно пошатнулась она, неуверенными движениями рук протянув ему очередную цебарку с варом, он заметил, что лицо ее необычно покраснело.
— Ты что это так размалинилась? — спросил он. — Устала? Ну потерпи еще немного: сейчас кончим!
И лишь успел он это проговорить и поставить на широкий брус подхваченную цебарку, как увидел, что Марина не то чтобы упала, а как-то беспомощно соскользнула с лесенки вниз и грузно опустилась на траву.
Рискуя сам, Петр, минуя лесенку, спрыгнул к ней.
— Моря, ты что? Переутомилась? — допытывался он, низко склонившись и впервые обращаясь к ней так.
— Да не столько сморилась, как голова вдруг разболелась… Темя, наверно, напекло: даже в ушах зашумело и перед глазами замелькало… — страдальчески смежив веки, вяло и разбито выговорила она. — Платком белым надо было накрыться…
Наученный горьким опытом, перепуганный, он хотел бежать в будку, чтоб дозвониться до узловой поликлиники, попросить помощи. Но до узловой — далеко, и он сразу от этой мысли отказался. Вспомнив, что на разъезде фельдшерский пункт, а до будки лишь чуть ближе, чем до пикета, где работают ремонтники — он ринулся к ним так, как в юности «рвал» стометровки.
Через какие-нибудь четверть часа он доставил Пряслову на моторной тележке ремонтников на разъезд и бережно опустил ее, потерявшую сознание, на прохладную клеенчатую кушетку медпункта.
Волнуясь, он стал рассказывать о случившемся фельдшеру.
Но незнакомый фельдшер, обрюзглый и хмурый, едва дослушав до слов «почти упала с лесенки», с такой поразительной быстротой и ловкостью раздел Марину, что Петр не успел даже отойти в сторонку. И как тут было хотя бы отвернуться из приличия, если фельдшер сразу же скомандовал: «Поддержи ее под спину! Вот так… Теперь легонечко-легонечко опускай на бок… На правый! Не отходи, стой тут…»
Он внимательно осмотрел Пряслову, с тщанием выслушал ее и выстукал, время от времени отрывисто спрашивая: «Голову ничем не ушибла? А раньше на дурноту не жаловалась?» На что смущенный Петр уж с торопливой готовностью говорил: «Нет, нет… В полном здравии она была до самого этого случая!..»
— Ничего не нахожу, — распрямляясь, уже спокойно, совсем другим голосом сказал фельдшер. — То есть нет у нее ни травмы, ни сотрясения, ни кровоизлияния, ни переломов… Обморочное состояние от перегрева! А если б ты не перестарался, не тащил ее сюда по жарище, а просто перенес в холодок и голову ей из ручья смачивал — так она бы уже была в норме.
— Так кто ж знал, — растерянно сказал Петр. — Думалось лучше, не мешкая, доставить ее сюда…
— Вот именно: думалось тебе, да недодумалось… — И хрипло скомандовал вошедшей в помещение женщине: — Зофия! Холодный компресс ей на голову, да не в раскачку, а шементом!..
Рыхлая женщина в белом халате — то ли санитарка, то ли медсестра — неторопливо поставила принесенную бутыль, взяла полотенце, именно в раскачку, утицей подошла к крану и только тогда бесстрастным голосом проговорила:
— Хорошо…
— Главное в ее состоянии и сейчас — прохладное место и полный покой! — снова повернулся фельдшер к Петру. — А посему — иди и проветрись минут этак… шестьдесят! А после мы решим окончательно, куда тебе забирать свою дражайшую половину: в линейную больницу или домой! Девяносто из ста, что домой потопаете.
Петр молча и поспешно надел фуражку. Уходя, он с тревогой поглядел на оставленную им Марину: та лежала с закрытыми глазами и была бледной, несмотря на смуглоту, хотя дышала уже спокойнее. Благодаря своей природной смуглости, очень ладной, крепкой осанистой фигуре и этой молчаливой неподвижности, она теперь совсем не была похожа на больничную страдалицу. «Когда свалилась у ручья, была куда плоше и больней! — невольно мелькнуло в голове Петра. И тут же враз словно обожгла другая внезапно возникшая мысль: — А вдруг и она… не встанет?!»
Не очень доверчиво оставив Марину на попечение медицины, не давая этой мысли разрастись, он позвонил к себе в будку. Предупредил Алену, что непредвиденно выехал с участка на линию. Позвонил и Виталию, сказал ему, что мать по делам задерживается на разъезде. Переговорил с дорожным мастером, диспетчером. Но терпения на целый час все же не хватило. Вроде случайно сверкнувшая мысль эта, — а вдруг и она не встанет?! — сверлила в мозгу и не давала покоя. От нее не только тоскливо сжималось сердце и было терпко на душе, а даже становилось, порой, непривычно сухо и горьковато во рту.
Когда он, не дотерпев десяти минут, снова заявился в медпункт — фельдшера не было. Возле его стола находилась лишь та рыхлая женщина в белом халате — сонно перетирала полотенцем инструментарий. Но первое, конечно, что он увидел, едва распахнув дверь — была живая-здоровая Марина. Она сидела на табурете и, говоря что-то женщине, по своему обыкновению безостановочно покачивала ногой. О, как теперь обрадовался Петр именно этому беспечному и беспечальному покачиванию, которое всегда считал лишь дурной привычкой.
Заслыша стук двери, Марина обернулась и, враз зардевшись, сказала:
— Это ты, Петя?
— Я.
— А мне тут фельдшер уж все-все обрисовал и заверил, что опасность позади, — обрадованно сообщила она. — Только рекомендовал — шутейно, конечно! — для дальнейшей работы по этакой жарище заиметь впрок полдюжину косынок!..
— И не велел сегодня работать, — бесстрастным голосом вставила женщина.
— Да сегодня какая работа! — сказал Петр.
При женщине они ничего больше друг другу не сказали, поблагодарили ее и, попрощавшись, вышли. Но и по пути домой разговориться им оказалось не просто: что-то новое, пока ускользавшее от окончательного осмысливания, словно лишало их дара речи, Петра сейчас одолевали столь противоречивые чувства, что он считал лучшим о них помалкивать, тем более, что в какой-то мере признавал свою вину во всем случившемся. А Марина то решала, что ей надо хорошенько поблагодарить его за внимание и заботу, то передумывала, по-прежнему считая, что первый шаг к любому откровенному разговору должен сделать он сам.
Впрочем, и некогда было по-настоящему разговориться: скоро пришлось не шагать, а бежать. Еще когда они вышли из медпункта — большая черная туча двигалась прямо на них, а в отдалении угрожающе урчал гром. Незаметно туча приблизилась, а гром уже над самой головой будто расколол, наконец, темный небосвод и из него хлынул ливень. Домой оба добежали быстро, но одинаково вымокшие, до нитки.
5
Новая острая тревога за Марину, — точно подменив и разом заслонив его прежнюю тревогу, уже хроническую, — с пугающей силой захватила Петра. Ведь и Ульяне на первых порах сказали, что она отделалась легким испугом!
Понимая, что дело не только в ее здоровье, он пока не хотел волновать Марину своими смутными опасениями. Но уже догадывался, что у него нет возможности побороть в себе ни эту новую неизживную заботу о ней, ни ту непонятную силу, что исходит от нее, ни свою неожиданную слабость.
Словам фельдшера, что вся опасность позади, он не доверял по-прежнему. Уж очень тот не понравился ему и внешним обликом, и своей грубой бестактностью, и даже своим пристрастием к ничего не значащим сорным словечкам, вроде «все до шпеньта» и «шементом». Теперь уж народ не серый, спроси хоть у рядового ремонтника — семилетку кончил. А он все еще корчит из себя старомодного жреца от науки, хотя собственная необразованность из него так и прет.
Правда, осмотр сделал старательно…
Все лето он заботливо оберегал Марину от всего, что еще могло, по его мнению, ей повредить. Ему было легче месяц делать половину ее работы, чем еще раз, хоть на миг, остаться один на один с мыслью, что он ее теряет.
За какие-нибудь полтора месяца, сам того не желая, он привык и ложиться и вставать с мыслью о Марине, чувствовать себя не свободным от обязанностей на ее участке, ревниво контролировать ее работу и невольно провожать глазами каждый ее шаг, каждое движение. Влекло его к ней неудержимо, да и она была все милее.
Он пытался сопротивляться, вдруг избегал с ней встречи, целый день был не свой, внутренне протестовал и изумлялся, что уже безраздельно сосредоточил лишь на ней весь запас своей нежности. Но утром следующего дня просыпался с таким неуемным желанием видеть ее, что ни о чем другом уже не думал. И совесть молчала! О чем же тут говорить совести, если он просто хочет взглянуть на Морю? Да к тому ж и крайне нужно увидеться ему с ней по делу, по работе! «Хотя от обязанностей на участке соседки, конечно, пора освобождаться, — трезво заключал он. — Время пробежало достаточно!»
Заочно такое решение всегда приходило легко. А едва завидя улыбающееся лицо Мори — он опять, будто по чужой воле, с радостной готовностью спешил сначала на ее участок и, только основательно «подсобив», усталый и счастливый возвращался на свой. Счастливый, конечно, пока снова не раздумывался об Ульяне, о своей постыдной слабости и, дивясь овладевшей им непонятной силе, не пытался разрешить, кажется, уже неразрешимое.
Марина тоже постепенно ко всему этому привыкала и уже принимала его бескорыстную «подмогу», как должное. Она даже не пыталась, как прежде, отработать эту помощь «по домашности». Раньше она упорно и настойчиво твердила, что просто так, за здорово живешь, никто подсоблять ей не обязан, а одолжаться она не согласна. И даже почти совсем перестав заходить в будку, она нередко помогала Алене вовремя управиться на огороде и бахче. Теперь же Марина лишь посмеивалась и полушутя, полусерьезно говорила:
— Со мной, Петя, приключилось точь-в-точь по пословице: не быть бы счастью — да несчастье помогло!
— В чем оно… твое счастье? — настораживался Петр.
— Как же это: в чем? — доверчиво улыбалась Марина. — Меня лет десять никто так не жалел и не берег.
— С твоим бы счастьем — да в лес по грибы, — смеялся и Петр.
Осенью работы у него стало больше: сроки подготовки участка к зиме неумолимо сжимались. Теперь он не изредка развертывал график, а вывесил его в будке на видном месте и сверялся с ним ежедневно. Но и силы будто прибавилось, точно лет на десять помолодел! Поощренный Мориной веселостью, ободренный ее цветущим видом, в душе признательный ей, очень довольный, что она после июльского несчастного случая не расхворалась, он стал обхаживать ее с такой энергией и настойчивостью, что порой сам себя не узнавал. «Увиваюсь и утрепываю за ней словно двадцатилетний юноша, — мысленно иронизировал и дивился он. — И ведь пашу, можно сказать, на двух участках, а вот устаю ничуть не больше, чем прежде на одном своем?!»
Марина тоже тянулась к нему. Но едва Петр переходил, на ее взгляд, черту дозволенного, то есть стоило ему — забывшись или в ответ на мгновенное прикосновение Мориных твердых обветренных губ — сгрести ее в охапку и целовать бурно, без счета, — как она с непостижимой силой и увертливостью выскальзывала из его объятий и, уже со слезами обиды на глазах, гневно спрашивала:
— Ты что ж это, Петр: просто думаешь так меня взять? От живой жены? А я для этого десять лет честно вдовствовала?
От таких убийственных вопросов Петр сникал, но, бодрясь, с нескрываемым укором говорил:
— Оставь ты, Моря, хоть сейчас про это свое честное вдовствование талдычить… Уж и так мне это за долгих шесть лет все уши просвистело! Да неужели ты, хоть на миг, всерьез опасаешься, что я тебя потом брошу? Или, по-твоему, я могу без тебя? Я ж тебя не только очень крепко люблю, но и уважаю!..
— А то тебе невдомек, что я, может, сама себя хочу уважать?!. — уже яростно наседала на него Моря. — И мне, ясное дело, куда легче б было поступиться лишь по-бабски, да вот хочу и человеком остаться!! У тебя дочь растет, а у меня — сын… Говорила уж тебе и опять скажу, что из песни слова не выкинешь: женой я твоей быть согласна, тут уж видно моя судьба, но только по совести и закону! Уважаю и я тебя, а все ж краденое счастье меня не больно осчастливит…
— По зако-ону… — хмуро усмехался Петр. — Су-удьба… А со мной и тобой эта самая… твоя судьба по закону поступает? А вроде пора уж ей и небольшую скостку мне сделать: играет ведь она со мной в жмурки аж с самой Корсуньской битвы с фашистами! Когда ты, должно быть, еще в куклы играла!..
После таких стычек они расходились расстроенные, в тоске, еще острее ощущая свое одиночество друг без друга. Петр на другой день молчал, будто в рот воды набрал. А Марина, по душевной доброте, все допытывалась, чего он молчит, как пень; и, не добившись ответа, вдруг закрывала ладонями лицо и плакала при нем так, что слезные ручьи пробивались между пальцами. Потом они мирились, и опять начиналось все сначала: люди по-прежнему видели Марину и Петра на работе рядом.
Всю осень он нет-нет, да и задерживался где-то после своего вечернего обхода. Поначалу он еще пытался пояснять домашним, почему вернулся поздно, скороговоркой буркал что-то невразумительное о задержке по делу. А лгать он не был мастером и, встретив недоверчивый взгляд Ульяны, сразу же умолкал. Потом прекратил и такие неубедительные оправдания: приходил или вовсе молчком или, виновато покашливая, вдруг сам спешил забросать Улю явно случайными вопросами: хорошо ли Алена поела? Когда ушла? Тепло ли оделась?
Но и это смущенное его покашливание, и жалкая виноватая улыбка, и его торопливые невпопад вопросы об Аленке, словно подчеркивающие, что он вовсе не отходит от семьи — только сильнее приводили Улю в замешательство. В такие минуты ей вдруг делалось невыразимо жаль замучившегося и, очевидно, запутавшегося Петра. И, искренне веря, что она и здесь еще может предостеречь и даже помочь ему, Уля примирительно говорила:
— Ну уж нынче, Петя, сама знаю как ты устал и намаялся с этой подготовкой к зиме, будь она неладна… Аж с лица ты вроде сдал и почернел и станом ссутулился… Снова, стало быть, дорожный мастер какие недоделки усмотрел? Опять, значит, задержался ты с ним, по делу?
Петр вздрагивал, точно школьник, у которого наблюдательный учитель неожиданно обнаруживал спасательную шпаргалку и, еще сильнее выдавая себя, сердито бросал:
— Нет, на свиданке я с ним замешкался… Словно не было об этом сто раз говорено…
Однако постепенно запаздывания эти учащались и удлинялись, стали почти регулярными. К концу осени Уля уж почти каждый вечер, после того как гасла за ее окном торопливая зорька, целыми часами лежала в одиночестве, без света. И все чаще вперед приходила Аленка, а Петр два или три раза задержался так долго, что вернулся лишь близко к полночи. День ото дня он становился дома все молчаливее и замкнутее. Явно старался разговаривать с женой лишь при Аленке. И если теперь Уля, хотевшая лишь приличия и мира в доме, видя что он собрался, отваживалась вспомнить былое и с покорной торопливостью начинала:
— Петя, на работу? Ты смотри там будь поаккуратнее…
Он даже не приостанавливался, как прежде, посредине комнаты, чтоб дослушать ее. Напротив: торопливее обычного хватался за дверную скобу и, уже на ходу сердито буркал:
— На гулянку! Точно не знает сама, куда я иду…
Петр хлопал дверью и уходил. А Уля покорно вздыхала и долго дрожащей рукой отирала с глаз слезы. На сердце у нее становилось еще тяжелее и от жалости к Алене, к себе: из сгустившейся темноты вдруг возникала прежде невидимая глухая стена, медленно на нее надвигалась, росла, а ее Петя — был по ту сторону…
6
Когда училась Уля — на разъезде была семилетка без параллельных классов, да и та едва размещалась в длинном брусчатом бараке, прозванном ребятами «конюшней». Потом на разъезде построили школу-десятилетку. В ее светлом двухэтажном здании, в левом крыле, даже оборудовали небольшой интернат. Но и детворы школьного возраста кругом так поприбавилось, что мест в интернате не хватало даже тем, кто жил далеко. А три километра на линии — считалось сущим пустяком! И потому Алена как ходила в первый класс вместе с Виталиком, так и продолжала ходить с ним в девятый. С той лишь разницей, что теперь Виталий не водил ее за ручку, да занимались они уже третий год во вторую смену, нередко даже весной возвращаясь «по-темному».
В девятом, особенно зимой, Аленка частенько задерживалась на всевозможных кружках и собраниях. Но, если приходила раньше отца, все равно тут же начинала выкладывать матери самые последние новости. И, слушая ее, Уля по-прежнему испытывала чувство живой причастности к любым радостям и огорчениям дочери. Но теперь она, улучив паузу в ее тараторении, иной раз даже для себя невзначай спрашивала:
— Отца не видела?
— Видела…
— Что он делает?
— А ничего, — вспыхивала Алена. — Наверное, как сошлись они еще при вечернем обходе на границах своих участков, так по сю пору и стоят: друг другу фонариками присвечивают и никак накалякаться не могут! Ни с морозом, ни с людьми не считаются! Хоть бы уж фонари свои затушили, право… Идем с Виталиком из школы, всегда говорим, шутим, смеемся и обязательно испортят настроение эти — два фонаря в ночи…
«Большая стала, уж все-все понимает, — глядя на сердито раздувающую ноздри Аленку, спохватывалась Уля. — Не надо бы, наверное, снова ее про это спрашивать, да совсем нечаянно с языка сорвалось! И с другой стороны, что ж это будет за порядок в доме, если не сметь у дочери про отца спросить?!.»
Уля всемерно оберегала Алену от какого-либо втягивания, даже нечаянного, во вражду с отцом. Ни разу на него не жаловалась, не осуждала в разговорах и была всегда рада лишний раз убедиться, что та его любит по-прежнему. «Матери у нее… почти нет, — самоотрешенно думала она, — да еще и отца лишить — рассорить с ним! Нет уж такому во веки веков не бывать!»
Но Алена и без материнского наущения твердо заняла собственную позицию, да так решительно осуждала теперь отца, что Уле порой становилось просто страшно, и она потом часами бесплодно ломала голову над тем, как бы ей примирить уже, кажется, непримиримое.
Алена после очередной вспышки возмущения отцом и «Маришкой» быстро отходила и, вспомнив что-либо недосказанное, веселое, опять беззаботно тараторила и заразительно смеялась. А Уля, невольно преувеличив силу дочернего взрыва, испуганно хваталась дрожащей рукой за сердце, всякий раз казня себя в душе, что, вроде, сама же и наталкивает на это свою запальчивую девчонку, так горячо вступающуюся за мать.
Она не знала и не думала о том, что об этих «двух фонарях в ночи» знали и толковали по всей линии и жалели, кто ее, а кто Петра и Марину; но и те и другие одинаково дивились на такую затяжную неуемную позднюю любовь. Жили б себе, не тревожа мать и дочь, да поживали поскромнее и поумнее, поджидая иное время, он бы потихоньку похаживал к ней зоревать и тогда, конечно, — глубокомысленно философствовали некоторые — меньше б люди дивились да судачили и, — народ не без понятия! — никто б на них, как теперь, не показывал пальцем, не бросил первым камня! А то сойдутся и стоят друг против дружки со своими фонариками, точно юные влюбленные, которых и водой не разольешь, женихаются у всех на виду и тут уж, конечно, люди не ангелы, плюнет кто-нибудь да и скажет во всеуслышанье, что просто нет у обоих ни стыда, ни совести… Все ж таки у нее — малый в девятом, а у него, еще чище — девка на выданье и жена еще жива! Тут уж, если и входит умный человек с полным понятием в их нелегкое положение, и не хочет ханжески чересчур сурово их осуждать, а все равно видит, что зазорно!
Не знала Уля и того, что еще осенью ремонтницы при виде ее Петра многозначительно перешептывались. А когда он как-то раз заглянул после работы в их табор, чтобы забрать назад подходящую для мелкого балласта лопату, то одна из них выступила вперед и, незаметно подмигнув товаркам, сказала:
— Ты, Лунин, только о своих паршивых кайлах с нами и говоришь… А вот мы, глядючи на тебя, ей-богу зачастую рассуждаем о том, что нельзя и мужчин всех под одну гребенку стричь! Не то запросто это может обернуться заведомой напраслиной!..
— В чем? — сразу насторожился Петр.
— Да вот хоть в том, что все мужики на одну колодку и будто любому — ни больная жена, ни бедная сестра не нужны! Вот бы ты, Лунин, сел рядком, да и потолковал с нами ладком не о лопатках и метлах, а об этом… Побеседовал бы с ремонтницами, как теперь называют, на тему морали?!. И были бы тогда мы с тобой квиты не только за один инструмент: мы, значит, тебя уважаем и ты бы нас, выходит, тоже разуважил! А?
— Вам лектора из райпрофсожа надо просить, — заставил себя улыбнуться Петр. — А моя беседа вас и средь бела дня враз в сон вгонит!..
Тут-то он еще легко отделался, даже не дав себе времени и труда путем вникнуть, в чем же суть столь необычной просьбы. Может, просто очередная выходка озорницы и они ничего не думали, или это лукавая насмешка и даже наспех прикрытая издевка, а может, и в самом деле речь бы из нестерпимого бабьего любопытства зашла о его вынужденной добродетели? Как знать! Он быстро разыскал свою новую совковую лопату и ушел.
А от своего брата, мужиков, так просто не отделаешься. Тем более, что с ремонтниками соседних пикетов он должен был поддерживать, как выражался их бригадир, «постоянный деловой контакт». Мужчины, конечно, старались вести себя посолиднее, не перемаргивались, не шушукались при его приближении и не просили, хотя бы и в розыгрыш, провести беседу. Зато стоило бывало осенью стосковавшемуся по людям Петру подсесть к ним в перерыв, и стоило в это время показаться Прясловой, как и тут объявлялся шутник: толкал его в бок и, показывая на нее глазами, в растяжку говорил:
— У тебя, Лунин, губа не дура: ишь какую осанистую завлек!
Другой, смотришь, тоже не мог удержаться и, заговорщицки подмигнув Петру, немедленно подхватывал:
— А чего ж ему теряться? Все одно из путейцев сроду ни монахов, ни святых не получалось! У настоящего путевого обходчика спокон веку куча детей: кадры для железки! И, стало быть, чем ни хуже магистраль и глуше ветка, чем ни теснее будка — тем их больше!!.
Но, обычно, не успевал Петр наметить подходящую «тактику» (не выворачивать же душу перед каждым острословом, не плакать ему в жилетку), хоть бегло прикинуть свою линию поведения с новоявленными полузнакомыми шутниками, о которых сам он почти ничего не знал, как уже и всерьез находился ему добровольный защитник, веско и внушительно басивший:
— Да бросьте вы, бесстыдники, треп этот свой, неумный! Вам абы позубоскалить, а у человека и взаправду обстоятельства сложились горькие, не шуточные.
И получалось, что самому Петру можно и просто отмолчаться от любителей шутки за чужой счет. А если не было бригадира, то и подтрунивания и соболезнования, обычно, на этом прекращались, разговор заходил о другом, и Петр, как и все, принимал в нем участие.
Совсем иное дело, если именно в этот момент появлялся и подсаживался бригадир ремонтников Баюков, уже давно прозванный молодыми ремонтницами за приставания Бармалеем, большой любитель похвастать своим умением заглянуть человеку в душу. В таком случае, сожалея, что перекур за компанию для него кончался, Петр вставал и, сославшись на дела, уходил. Потому что и в рабочее время Баюков буквально изводил его и своим нездоровым любопытством и своей, как он сам называл, «подначкой». Стоило ему увидеть Петра рано утром — и уж кричит, даже не дав себе труда подойти вплотную: «Только встал, Лунин, или еще не ложился? Обе зорьки простоял у тына с ней?» А если столкнется с ним вечером, то тоже не утерпит и с нарочитым изумлением спросит: «Уже, значит, к зазнобушке? И когда от нее вернешься: до полуночи или попозже, то есть сегодня или завтра?»
Постепенно это бесцеремонное «подначивание» настолько участилось, что при встрече с ним у Петра невольно чесались руки и он от соблазна даже заводил их за спину. А уже поздней осенью и Баюков, тоже видимо снедаемый нестерпимым бабьим любопытством, даже сделал неуклюжую попытку вызвать Петра, как сам выразился, «на откровенную исповедь».
Готовя свои участки к зиме, Петр и Марина молча очищали русло сочившегося под мостом ручья от зарослей куги и осоки. Мосток этот лишь числился за Петром, но был на стыке двух участков и то, что именно здесь они работают вместе даже и не могло быть предметом особого удивления. Но, будто нарочно, как раз под самым пролетом моста на них натолкнулся Баюков и, с нарочитым испугом отпрянув, приподняв над головой фуражку, игриво поприветствовал: «Соседу и соседке!!» Затем сразу воодушевился и, весело подмигнув им, театрально выкинув вверх правую руку, даже с нежданным азартом пропел:
Потом он бесцеремонно, пальцем поманил Петра в сторонку и, когда тот подошел, с деланным восхищением сказал:
— Ох, и смел ты с ними, Лунин!!
— С кем?
— Да тут и ежу понятно, о чем речь! — захохотал Баюков. И, не сомневаясь в своем начальническом остроумии, посмеиваясь продолжал: — А мне вот с этим не везет: чуть что — и жди бабского поклепа! Слыхал, небось, о прошлогодней катавасии? Без вины виноват, а едва реабилитировался! А жена, откровенно, так и не поверила, что дым был без огня… Я уж, признаться, за компанию и из зависти, — снова доверительно подмигнул он, — хотел недавно и тебе аморалку пришить, да пожалел и передумал. Был бы ты не бригадир, а хоть, скажем, предрайпрофсожа, так тебя бы за это хоть на следующих выборах забаллотировали… А то, думаю, чего же это мне ради попусту солому молотить?! — опять расхохотался Баюков. — Так что теперь, Лунин, уж без никаких засекречиваний можешь мне откровенно исповедаться, словом, начисто раскрывать душу и сердце, как и я сейчас сделал перед тобой… Договорились? Ведь все одно я твою душу и сердце твое давным-давно вижу насквозь: будто ты из стекла сделан!!.
Петр молча, терпеливо, даже с замороженной улыбкой выслушал, а кулаки его сами собой стиснулись так, что аж побелели и ногти впились в ладони. Но, переборов себя, он с силой сжал руку низкорослого Баюкова в запястье и внешне спокойно сказал:
— Ты говори и признавайся, конечно, в чем хочешь, а рукам своим воли не давай! Ты смотри: напрочь ведь открутил целых три пуговицы с формы, а мне их пришивать некому!
— Поэтому, значит, кулаки и сучил молчком? — не утерпев, с усмешкой спросил Баюков.
Разошлись они в разные стороны очень недовольные друг другом, по внешне так доброжелательно, посмеиваясь, что даже настороженно наблюдавшую за ними Марину это ввело в заблуждение и, издали ничего не услышав, она удивленно спросила:
— Чего это вдруг вздумалось Бармалею с тобой любезничать?
— Да так, — уклончиво сказал Петр, — для хорошего тона, видно, под настроение попал… Не все ж ему на людей набрасываться!
Петр и поначалу своей беды, с момента катастрофы с Ульяной, не больно привык жаловаться, искать людского сочувствия и даже просто рассуждать с кем-либо о своем тяжелом положении. А теперь и вовсе избегал обсуждать это ни с теми, кто, вроде, пробовал сочувствовать ему, ни с теми, кто явно или тайно порицал его, даже глумился. Хотя ему порой страстно хотелось вступиться не за себя, а за ни в чем не повинную Марину. Но как вступиться? Он понимал, что любая его заступа лишь подольет масла в огонь и породит новые сплетни. И не раз ловил себя на мысли о том, что любые сплетни, даже самые невероятные, не только оплетают его и Марину небылицами, но и как бы венчают одним венцом зависимости и близости — и, значит, невольно льют воду на его мельницу.
Одумавшись, он брезгливо гнал прочь такую мысль, построенную, как ему казалось, лишь на застарелой беззащитности Прясловой, а мысль эта нет-нет, да и мелькала непрошенно опять. В душе Петр считал свое нее возрастающее и крепнувшее чувство к Марине и большим и красивым, светлым. Но и совершенно искренне считал, что такая женщина, как Моря, столько лет вдовствовала лишь потому, что жила на отшибе. И хоть все это сохранилось по-прежнему — он теперь ее не только крепко любил, но и очень ревновал.
Ничего этого Ульяна не знала. Как не знала и того, что через все это ее Петр шел то стойко, распрямляясь физически и духовно, с поднятой головой — окрыленный любовью Мори. А то, кляня судьбу, постыдную свою слабость и зависимость, сам осуждал и казнил себя суровее всех. Особенно когда его обжигала, словно кипятком изнутри, вдруг до предела обнажавшаяся мысль о том, ч е г о они с Морей в душе ждут, на ч т о тайно надеются. «И ведь некоторые, небось, только это одно и видят? — сокрушенно думал он. — Аленка, правда, пока молчит, но тоже порой взглянет так, словно ты не отец, а какое-то заморское чудище… Ведь уж почти не разговаривает: «да, нет, сделаю, не могу — уроки…»
Тогда он сутулился, как старик, уж не держал гордо и прямо голову, а низко ронял ее.
7
В конце очень снежного и вьюжного февраля вдруг выдался необыкновенно ясный солнечный день, но с таким лютым морозом, каких не было и в январе.
Продрогший на обходе Петр сидел за столом, обедал. Алена, торопясь в школу, впопыхах подставила ему огненный борщ; стыл он, жирный, в глубокой алюминиевой миске, медленно; и Петр — уже обжегшись — не столько ел, сколько дул на зачерпнутую ложку или, сердито косясь на мечущуюся по комнате дочь, с подчеркнуто быстрым трезвоном помешивал — словно нетерпеливо сбивал сливки.
В это время в сенях послышался топот ног, прихваченная холодом дверь шумно отклеилась и, вместе с клубами пара, в будку бесцеремонно ворвалась запыхавшаяся, перепуганная Пряслова, уже давно сюда не заглядывавшая.
— Петя… Петр Матвеич — скорее одевайся и собирай инструмент! Хотя инструмента и у меня хватит! — одышливо выкрикнула она еще с порога. И, лишь переведя дух, шагнула внутрь дома и запальчиво досказала, остановившись посреди комнаты: — Рельс лопнул! Пошла и я в обход прямо после того, как проводили мы наливной поезд, иду и вижу, что все рельсы высветлены солнцем и морозом одинаково, ровно, а у этого что-то посередке не то, подозрительно мне — солнышко вроде упало на узенькое поперечное стеклышко и изломалось, искрится… Подошла, нагнулась: так и есть, не выдержал тяжеловесного состава и мороза, треснул рельс! И сразу бегом — к тебе! Пожалуйста, скорее, Петя… то есть Петр Матвеич!!
— Ну и чего ж ты так гомонишь и полыхаешься? Аж себя не помнишь?! — пристально глядя прямо в глаза Море и продолжая медленно помешивать ложкой в миске, сказал Петр. — Успокойся: сейчас заменим, умеючи это недолго!
— Да боюсь не управимся! Ведь и до вечернего пассажирского всего несколько часов осталось!!
— За такое «окно» я еще и борщ свой успею съесть, — усмехнулся Петр. Но тут же положил ложку, быстро поднялся из-за стола и, торопливо надев стеганку и сняв с гвоздя ушанку, добавил: — Скажи спасибо, что не перед утренним пассажирским, не ночью и что на глухой линии работаешь… Думаю, что и товарняки мы с тобой не задержим! А до вечернего пассажирского, до семнадцатичасового — еще много воды утечет…
— И, главное, спасибо, что тебя в будке захватила, — искательно и благодарно улыбнулась уже пришедшая в себя Марина. — Ведь не чуя под собой ног летела сюда и просто до смерти боялась, как бы ты не ушел прямо с обхода заградительные щиты поправлять… Пойдет, думаю, непременно: вон их сколько за ночь ветром поповаляло!.. А у самой уж сердце зашлось и, наверно, лопнуло б: не добежала бы я туда!.. Здесь, Петр Матвеич, рельс будем брать?
— Конечно здесь: и новые они, последней марки, и нужного тяжелого профиля… Ну, ты минутку посиди в тепле, отдышись и погрейся…
Петр прихватил из сеней лишь деревянную лопату и поспешно ушел.
Вслед из-за фанерной перегородки выскочила с горящим лицом и набитым до отказа портфелем Алена и, не сказав ни слова, лишь походя резнув Марину презрительным непрощающим взглядом, тоже помчалась в школу, сердито и демонстративно хлопнув дверью.
Но Марина, занятая своими мыслями, даже не обратила на это внимания. Она вдруг, точно что-то вспомнив или сообразив, подошла к кровати Ульяны и, став возле самого изголовья, пристально, испытующе всмотрелась в ее лицо. Взгляд был таким необычным, смотрела она, размышляя молчком, так неприлично долго, что обеим затем сразу стало неловко. Когда их глаза встретились, и молчать дольше было невозможно, уж нехорошо, Марина сбивчиво почти шепотом спросила:
— По-прежнему, значит, лежишь и не встаешь?
Уля не была мнительной, но тут ей стало не по себе. За настороженным рассматриванием, за холодным никчемным вопросом, ей так и почудилось, что недоговоренным соседкой осталось: «Ох, как же ты долго залежалась!» И даже по имени не назвала! Она давно стосковалась по людям, по обычной беседе, а тут ей разом расхотелось говорить. Но она пересилила себя и, с трудом разомкнув губы, ответила:
— Без никаких перемен…
Обменявшись вопросом и ответом, они опять замолчали. Обе боялись, как бы не затронуть, не зацепить ненароком разговора большого и ненужного, бессмысленного, связанного с Петром, да и времени было в обрез. А нужные слова, как нарочно, не приходили в голову: вроде кроме и говорить было не о чем, да и не очень хотелось. Обе женщины это почувствовали одновременно, одинаково, без сожаления. И потому обе обрадовались, когда Петр постучал в окно и разом оборвал их внезапную, тягостную встречу. Не раздевавшаяся Марина, едва заслыша стук, молча кивнула хозяйке дома головой и тут же опрометью бросилась вон из дома, успев еще в комнате звонко выкрикнуть: «Иду! Бегу!!»
Изголовье Ули приходилось к окну, глядевшему прямо на бегущие рельсы. Оно выходило точно на юг и частенько оставалось зимой прозрачным, не замерзшим — и тогда, как и в теплое время, днем и ночью было ей экраном. А сегодня, несмотря на лютый мороз, солнечные лучи столь усердно били в него с утра своею предвесенней прямой наводкой, что к обеду ледок на окошке оплавился и местами стекло очистилось.
Вот сквозь них и увидела расстроенная Уля, как трудно приходилось с этим внезапным происшествием и мужу, и разобидевшей ее соседке. Впряглись они на пару в лямки, словно бурлаки со старинной картины, положили рельс на рельс и волокут шажком, эту тяжесть, железо по железу, мимо будки. А как же иначе? Уля понимает. Не перекрывать же из-за треснувшего рельса движения, не требовать ремонтную бригаду! Недосуг им дожидаться и ремонтную тележку или дрезину: времени у них с гулькин нос, а лопнувший рельс надо им успеть заменить — хоть умри! Хорошо еще, что бывает такое, к счастью, не больно часто!
А вот уж видит она через свой экран, что запыхавшиеся Петр и Марина приостановились передохнуть: платок у нее сбился на затылок, оба краснолицые, по пояс в снегу — это они брели целиной, сквозь сугробы, к штабельку! И, не утерпев, переводит на миг взгляд на часы: «Успеют ли?»
Они остановились не прямо против окон, а наискосок. Глядеть на них ей не трудно: не надо даже приподнимать головы, достаточно лишь повернуть. Но она вдруг приподнимает и всматривается уже напряженно: сам по пояс в снегу, а отряхнул лишь размалинившуюся Пряслову? Невдомек, знать, что будет мокрый — на морозе! Правда, Петр грозно хмурится, за что-то крепко ее отчитывает, да, как видно, не в коня корм: ишь вон как посмеивается, посмеивается, все посмеивается… И вдруг, посмеиваясь, обхватывает одной рукой его за шею, держится, а другой, перегнувшись, ловко скапывает с поднятой ноги валенок — прямо в угодливо растопыренные ладушки Петра. А тот уж, непутевый, рад стараться: ишь как хлопает им о свою коленку, как заботливо вытряхивает зачерпнутый ею снег! Вперед — из одного, затем, таким же манером, — из другого. Потом он опять сердито грозит пальцем хохочущей Маришке и вдруг с озорной мальчишеской улыбкой срывает сбитый на самый затылок платок и быстро перекрывает ее по-своему: по самые брови, а концы узлом сзади. А, главное, Маришка-то, пока он своевольничает, даже с готовностью дурашливо вытягивается, будто по команде «смирно», в струнку: слушаюсь, мол! И даже, змея подколодная, очи свои бесстыжие от удовольствия прижмурила… «Вот эту… мачеху и приведет он в дом!» — вздрогнув, словно ее ударили, решает Уля.
Больше она ничего не видела: слезы застлали не только окно, а и белый свет. Откуда-то из темноты тикали часы-ходики, но она даже не попыталась на них взглянуть с недавней опаской: «Успеют ли?» И хоть отдыхали Петр и Пряслова считанные пять минут, а показались они Уле — годами! Ох, как же много ей рассказало сейчас ее окно! Не зря говорят в народе, что лучше раз увидеть, чем десять раз услышать, хоть тут уж получилось, вроде, совсем наоборот… Ведь именно так, любя и оберегая, поступал Петр лишь с ней единственной — Ульяной Луниной?!.
И она вдруг с поразительной яркостью представила, что поправляет с ним поваленные ночным бураном щиты и чуть-чуть начерпала в валенки снежку. Но и эта малость не ускользает от его внимания! Оставив возню со щитами, он озабоченно бросается к ней… Она зримо видит и даже слышит, как он журит ее, как сердито требует сейчас же вытряхнуть снег. И она, балуясь, грузно виснет у него на шее и пока он выбивает снег из ее валенок, хохоча, по очереди прыгает то на одной обутой ноге, то на другой… А он уж заметил, что покрылась она не пуховым, а небольшим тканевым платком, да и тот завязала концами на подбородке, по городскому. «Опять ты, Улька, форсишь и молодишься? Снова, как девчонка, со скворешней над чубом? — сердито выговаривает ей Петр. — Спереди полголовы и затылок — все на ветрище и мороз выставила!» И вдруг, широко улыбаясь, без долгих разговоров стягивает платок и покрывает ее по-своему, хоть она уже не хохочет, а пищит, упирается, кричит, что так ей и душно и не хочет она ходить повязанной по-старушечьи…
— Ведь все это он просто до тонкости сегодня проделал, — сама того не замечая, шепчет она. — Все как есть повторил он сейчас с Маришкой!..
Потом она смотрит широко открытыми глазами уж не в окно, а прямо перед собой, на стол, где все еще вьется над покинутым борщом ленивая струйка пара. И по-прежнему ничего не видит. Опять откуда-то издалека, из темноты, перед ее мысленным взором появляется залитый солнцем Черемуховый лог и возникают рядом лица мужа и дочери. Они с Петром сидят в обнимку и любуются красотой весеннего цветения деревьев и кустов. Аленка выбрала косогорчик покруче и с восторгом перекатывается «бочоночком» по молоденькой травке вниз.
Петр все крепче прижимает свое плечо и, не в силах побороть нетерпение сердца, горячо целует ее украдкой от Аленки. А когда та подбегает — живо вскакивает на ноги и, бегом обогнув широко раскинувшиеся цветущие кусты, сделав вид, что один никак ее не поймает, весело и нетерпеливо тянет за руку засидевшуюся Улю. На помощь! И уж опять заливаясь истошным визгом, спасаясь, убегая уже от двух, мчится Алена — вопит на весь Черемуховый лог, захлебываясь от восторга и страха, что ее вот-вот поймают, схватят сзади цепкие руки взрослых…
8
Несмотря на спешку и трескучий мороз, даже весной поманил Петра и Марину тот ясный солнечный денек на исходе зимы, когда они сменяли лопнувший рельс. А уж к вечеру опять зашуршала по шпалам и рельсам колючая поземка и ночью снова разыгралась настоящая метель — из тех неистовых «последних», что за сутки может навьюжить сплошную снеговую перемычку поперек пути.
Лютовали такие снежные бури весь конец февраля. На занесенные перегоны приходил снегоочиститель. Не раз в эти дни постукивал он и на 377 километре, и на соседних участках — выручая сбившихся с ног путевых обходчиков. Но, освобождая пути от перемычек и заносов, он нередко заваливал кюветы. И расчищая их, Петр и Марина так выбивались из сил, что в это авральное время им было не до прежних затяжных бесед и встреч.
В марте и вовсе началась настоящая страда для путевых обходчиков с пропуском талых вод: опять не разгибая спины, не считаясь со временем, приходилось хитроумными снеговыми запрудами отводить бурные потоки от насыпи, снова и снова пробивать и очищать по всему участку подмерзающие от крепеньких «утренничков» кюветы… Надо было думать и о первых весенних дождях и тоже загодя принимать десятки предупредительных мер: в одном месте подправить обочины, в другом верхний балласт, в третьем укрепить дерновку — чтоб не размывали быстро оттаявшего полотна губительные ливни, не вызвали оползней насыпи…
А когда половодье схлынуло и обнажились, дымясь на солнцепеке, подсыхающие бугры — и поездные бригады, и путевые обходчики наконец вздохнули посвободнее.
Скоро установилось первое устойчивое тепло: все слабее давали о себе знать уже надоевшие «утреннички», не мерзли ноги и поздними вечерами. С каждым днем ощутимее прогревался воздух, быстро «отходила», высвобождаясь из ледового плена, земля — заметно оттаивая даже в низинках.
Теперь Петр и Марина, как и осенью, старались провести вдвоем каждую свободную минуту, опять простаивали часами. И опять, как и поздней осенью, зачастили у них споры, стычки и ссоры, когда Петр переходил, на ее взгляд, черту дозволенного.
Всего за неделю до срока многожданных совместных посадок в Черемуховом логе, затеянных еще зимой, у них снова произошла такая стычка — с обычной, гневливой, уже традиционной отповедью Прясловой. Прояви он обычную выдержку — и все бы, наверное, по обыкновению обошлось, быстро перестроилось на прежний лад. Но погорячившийся Петр сказал, что обоим уж не к лицу так рядиться и женихаться: точно разыгрывать, как сватались в сказке журавль с цаплей — на потеху людям! Марина разобиделась еще больше, сердито замолчала. Вот тогда-то с языка Петра, поощренного затишьем, и сорвалось, видимо, непоправимое. Не так истолковав ее молчание, хорошенько не взвесив, он вдруг ляпнул, что ему уж надоело это чудно́е и никчемное противоборствование характеров, говорящее лишь об отсутствии полного доверия… И что ежели она и впредь думает так выламываться, то он плюнет на все и переедет в Ставропольский край — брат приглашает…
— А разве он опять зовет? — не сдержалась Марина.
— Конечно, вот только на днях письмо получил…
И он даже прочел ей полписьма, где брат соблазнял его и хорошими условиями и, зная его любовь к природе, — широким раздольем.
Все это он произнес без заминки, сказал как о давно решенном, но сам даже внутренне сжался: как же будет реагировать и выкручиваться она? И Марине, хоть и очень рассерженной, тоже от такой неожиданной новости впору было разрыдаться, хотелось горько, бурно и долго упрекать его в вероломстве: «Один думал! Э-эх, ты-ы! А как же я тут останусь? Больше ждали…»
Но, видимо, что-то чисто женское, гордое, перевесило в ее душе. Вместо ожидаемых Петром слез, попреков, уговоров и расспросов как и что, вконец разобиженная Пряслова круто повернулась и ушла с сухими глазами. Обескураженный Петр постоял, пождал: не вернется ли? А она и не оглянулась! Вроде получилось, что оба не больно дорожат друг другом и они, — хоть имели время убедиться в обратном — молча разошлись в разные стороны.
Больше того: придя домой Петр и в самом деле дипломатично ответил брату, что теперь предложение его принимает с благодарностью, а в конце письма даже бодро добавил:
«Ты только потом узнаешь, как и почему я рад, приняв сейчас такое непростое решение. В общем, поживем — увидим, что за хваленое тобой: «Ставрополье — широкое раздолье!..»
Под свежим впечатлением ссоры и, главное, от внезапно озарившей затем мысли, что ему и впрямь полегчает, если он переедет — ответ этот написался довольно легко и быстро. Зато отправка его потом почему-то затянулась. Письмо это, запечатанное и с маркой, он целую неделю таскал в боковом кармане спецовки, пока не убедился, что от работы оно пропотело и затерлось, и отправлять его в таком виде уж неприлично, а надо улучить свободный часок и хорошенько переписать.
Время от времени он издали видел Пряслову на работе, но не подходил к ней, не заговаривал, а лишь всякий раз вспоминал, что надо бы переписать и, немножко добавив, отправить наконец письмо. Вовсе не подгадывая, он все же изредка встречал ее и при обходах, на границе участков. Но и в такие минуты, когда они почти сходились лицом к лицу, она здоровалась лишь кивком головы и торопливо поворачивалась спиной.
И все же свое письмо Петр так и не переписал и не отправил. Окончательно поняв, после долгих тяжких раздумий, что без Мори он никогда никуда не тронется, что без нее ему жизни не будет нигде, — в одно погожее апрельское утро извлек это замызганное письмо из кармана и, не вскрывая конверта, порвал его на мелкие кусочки. Иронически посмеиваясь над самим собой, он на ходу, словно озорной мальчишка, старательно развеял их с насыпи по ветру, чтоб даже два клочка не оказались рядом.
Вместо неизбежных первых хлопот с переездом, видя, что земля поспела, он раздобыл впопыхах немножко саженцев, — дюжины три корешков! — взвалил их на спину и отправился в Черемуховый лог. Сажал их там любовно, не торопясь, несколько дней — всякий раз заботливо прикапывая оставшиеся.
Делал так не без тайной мысли, что это не будет секретом для Мори. Рано или поздно она узнает и если даже, серчая, не захочет присоединиться или запоздает, то все равно догадается, что он остается из-за нее и в душе порадуется этому. Обязательно она это оценит. А потом — как знать! — возможно именно эта малость и ускорит их примирение.
Ведь может же потом быть, что именно там, глядя на его свежие посадки, дивясь на буйное майское цветение множества деревьев и кустов, наконец поладят они навсегда, на веки вечные?
И как хорошо, что он догадался попросить у соседа эти саженцы и сумеет теперь внести и свою долю в украшение этого замечательного места… Недаром лог славится по всей линии и не зря им так искренне восхищается веснами Марина. Да и знать будет она еще один лишний разочек, что он крепко держит слово!..
Петр, как утопающий за соломинку, столь наивно ухватился за это дело еще и потому, что в свое время живо интересовался он неписаной историей всех больших и малых посадок на их некогда голой, степной линии. И потому он знал лучше других, если не считать Прясловой, что Черемуховый лог этот не всегда был таким благодатным местечком, чтоб можно было там любоваться красотой весеннего цветения. И еще он, между прочим, отлично знал какое именно отношение имеет его Моря к самой начальной истории возникновения этого зеленого цветущего оазиса (как любит называть его теперь Аленка!), которого не было и в помине, когда он сам бегал тут босоногим дошкольником…
Лет сорок назад это был просто широкий и совершенно голый пологий овраг, по дну которого сиротливо бежал на запад, в небольшую речку, тот самый ручеек, что, заболоченный, еле заметно сочился под мостом. Летом, в жаркое сухое время, ручеек этот журчал в овраге тихо, ласково, что-то монотонно и мирно наборматывал, навевая лишь дремоту. А в паводок он катился бурным взбулгаченным потоком и всего в километре от моста становился агрессивным и злым; и, бывало, за неделю вымывал в глинистом грунте саженные рытвины и низвергался в них с шумом и брызгами.
Вот чтоб утихомирить его, укрепить дно и пологие берега оврага, не приближать эти каверзные промоины к насыпи и отвести беду от мостка — и посадил тут по собственному почину неугомонный путевой обходчик Артем, родной дед Марины, свои первые тонюсенькие былиночки. И, продолжая свое доброе дело, год за годом рассаживал здесь то, что побыстрее растет и легче приживается и просто то, что сумел добыть у соседей, что под руку попалось! Так и поселились тут бок о бок рябина и черемуха, бузина и малина, боярышник и ива… Разбежались по склонам вперемежку с тёрном и вишней веселые топольки, а в самой низинке уж не продраться от зарослей шиповника, смородины и ежевики.
Говорят, что и прозвал так лог — Артем. Дождался, будто, он прежде всего, как зацвела и показала свою красу именно черемуха. Вот в честь любимого им песенного дерева и прозвал он преображенный его руками безымянный овраг так красиво и даже поэтично: Черемуховый лог! Так и укоренилось.
После Артема, в меру своего умения и возможностей, приложили здесь руки и путевые обходчики, работавшие попозже: и родители Петра и Марины, и муж ее Пряслов. Потом, когда взялись путейцы за лесозащитные полосы, вспомнила об этом логе и дистанция — и железнодорожные лесоводы тоже изрядно приукрасили лог: застаревшие ветлы и бузину вырубили и выкорчевали, посадили тут желтую акацию, белую и алую жимолость, а черемуха по-прежнему буйствовала по обоим берегам оврага. И стал со временем этот Черемуховый лог Артема — как сад! Приходили сюда весной люди с разъезда и ближних станций, бродили и любовались и, дивясь богатству лога, разнообразию пород цветущих деревьев и кустов, нередко так и говорили: «Ну и крепко любил, стало быть, Артем красу родной природы! Ведь что может быть краше вот такого цветущего лога-сада?!»
Было время, когда и Петр с Улей в погожее время почти ежедневно навещали это благодатное, местечко. А потом Петр, если и провел там за эти долгие и трудные шесть-семь лет несколько часов — то, как правило, забредал туда гонимый тоской не по ягоды и даже не любоваться красой природы, а просто погоревать, чтоб никто не видел. И, притулившись где-либо у куста, хоть немножечко отойти душой наедине с природой — когда становилось ему совсем уж невмоготу.
Однако осенью и он вдруг вспомнил, как хорошо там в любое время года и как-то раз даже предложил Марине, побродить там, прогуляться до самой речки.
— А люди что скажут? — сразу же сделала круглые глаза Марина. — Ведь, как нарочно, встретится там кто-нибудь и потом такого наплетет…
— Да то ж он и наплетет, что плетут иные видя нас здесь, — не удержался Петр. — Ничего нового и он не выдумает: что тут мы вместе, на насыпи, что там — одинаково!
— Для кого, может, одинаково, а для меня не все равно! — упрямо сказала Марина. И твердо, наотрез отказалась: — Нет, Петя, и не зови туда. Черемуховый лог я люблю не меньше твоего, а вот гулять туда с тобой — не пойду!..
Тогда, еще теплой погожей осенью, на этом у них разговор о логе и закончился. В ту пору было не зябко проговорить часок и на железнодорожном полотне.
Но зимой, когда они при обходах будто ненароком сходились на границе участков и им невольно мечталось о тепле, и хотелось поговорить о чем-либо весеннем, красивом — они оба не раз вспоминали о Черемуховом логе. И даже крепко договорились, что по весне и им надо обязательно отдать дань памяти деду Артему — подсадить там хоть с пяток новых пород. Да хорошо бы, мол, добыть и укоренить там какие-либо диковинные и редкостные в наших краях: например, лох серебристый, маньчжурский орешник, иргу… Растут же, дескать, они неподалеку и ничего, не вымерзают и не сохнут в жару: прижились превосходно!..
И вот теперь, весной, когда подошло наконец время посадок, их зимним мечтам не суждено было осуществиться — и опять через Марину. Как старательно ни растягивал Петр свои три дюжины корешков почти на неделю, а Марина к его хлопотам в Черемуховом логе не присоединилась.
9
А размолвка затянулась. Всю вторую половину апреля Петр протосковал в одиночестве, все ждал, что еще придет наконец какой-то подходящий случай и они совсем поладят с Морей, без слов поймут друг друга. Бирюком провел он и свой любимый зеленый Первомай. Весна была ранняя, теплая, после доброго дождя все дружно и ярко зазеленело, а он на праздник даже не проведал в Черемуховом логе свои саженцы. По-прежнему молча и тоскливо рассматривал издалека, как быстро распускаются рябины Прясловой, все надеясь на счастливый случай, хоть уж не раз иронически говорил себе, что хватит ему безвольно рассматривать эти символические вдовьи посадки, пора решать как поумнее помириться с их хозяйкой.
Но тягуче прошла еще неделя, а особого случая не подвернулось и, кроме того, что он не может без Мори — никаких больно мудрых решений не выдумывалось. И совсем стосковавшийся, помрачневший, уже не на шутку встревоженный, Петр твердо решил немедленно сделать первый шаг к примирению без никаких загадываний и задумок наперед, просто так, что называется — попытаться на счастье! Тем более, день — воскресный…
Проводив семнадцатичасовой пассажирский, он побрился, надел свежую рубашку и неторопливой гуляющей походкой направился в сторону участка Прясловой.
Вышагивал он внешне спокойный, словно только и занятый тем, что придирчиво осматривает заметно запущенное полотно, а внутренне — весь взбудораженный. Заметив оплошность, он осуждающе покачивал головой, строго хмурился, а в его усталых глазах все равно сквозила только тоска — незлобивая и застарелая.
Думал он не о тех огрехах на участке соседки, что отмечал по годами укоренившейся привычке почти механически, а о том, что его ждет при встрече, которая, конечно, будет не из легких. Сейчас ему даже почему-то представилось, что он уж давно будто прорывается к любимой женщине через какие-то неизбывные препятствия и условности — и давно, годами, никак не может продраться к ней через эту непролазную полосу векового чапыжника! И, видимо, только поэтому он до сих пор взял от своей любви лишь боль пререканий, да эту слабо теперь мерцающую уж чересчур трепетную свою надежду? Но ведь не зря люди издавна считают, что такая надежда — родная сестра отчаянию! Так, может, его недавнее решение уехать и было единственно правильным? А будь он сейчас вдалеке от Мори, вполне уверенный, что больше уж ни разу и никогда не увидит ее — он наконец счастливо бы отмучился и обрел столь недостающее ему сейчас спокойствие?
Заметив возле недоочищенного кювета брошенную совковую лопату, Петр рассеянно подобрал ее. Словно дивясь, как и зачем она к нему попала, он повертел ее с минуту в руках. Потом вроде спохватился и почти машинально, но с привычной сноровкой и тщанием, принялся подрезать поаккуратнее неровно засохшие, задерненные края кювета.
Сейчас ему и надо было хоть что-нибудь делать, чтобы поскорее размыть в сознании этот ненароком вызванный им, но вдруг до боли и отчаяния ярко возникший образ своего собственного «счастливого ставропольского одиночества». Нет, уж лучше пусть будут и бестолковые перепалки, и нескончаемые пререкания, чем вполне определенная, окончательная размолвка и разлука и… это расставанье с ней навсегда! Как и в прошлом году, когда оставил ее, потерявшую сознание, в медпункте, — ему вдруг стало страшно от одной этой несносной мысли — не видеться с ней больше никогда, нигде, ни разу, совсем… И чтоб заглушить такую мысль, понадежнее от нее оторваться — он, сам того не замечая, двигался по кювету все быстрее и быстрее.
Только остановившись передохнуть, он увидел, что незаметно дошел почти до тына Прясловой. За невысоким тыном из заостренной уголком вагонки был вскопанный огород, рябины и ее аккуратненький домик-будка, с недавно выкрашенным традиционной золотистой охрой крыльцом, еще посверкивающим на солнце точно свежеотлакированное. Наверное, уж после праздников расстаралась… Выходящая на крыльцо дверь была тоже покрашена и плотно прикрыта, все окна с яркими зелеными наличниками занавешены от солнца тростниковыми шторами.
И хотя полчаса назад Петр был согласен на все, лишь бы не расставаться с Морей навсегда, явно царившие здесь уютная домовитость, незыблемость и покой, когда сам он мечется и горюет, как неприкаянный, сразу насторожили его, а в усталых глазах опять зябко засквозила ревнивая тоска. «Ведь в горницу ни разу не пустила! — с внезапно шевельнувшейся обидой подумал он, вспомнив, что она столь упрямо и усердно охраняла свое «честное вдовствование», что в дом к ней он не мог заглянуть. — Не приглашала погреться даже в стужу — когда совсем возле крыльца пилил и колол ей для топки старые шпалы… И, стыдно сказать, даже потчуя иной раз свежей пышкой, не звала к столу, к чаю, а неизменно выносила ее, как батраку или нищему, за порог своего дома… Да и сейчас, наверное, давным-давно видит и наблюдает, упрямая, в прозоры рассохшихся своих травяных занавесок, а выйти не соизволит! Может, даже ждет, чтоб я покорно постучался, как просящий милостыню, к ней в окно? Выдь, мол, на час: дело есть…»
И тотчас же, точно в ответ на его мысленные упреки, высветленная охрой дверь широко распахнулась и из черного провала сеней показалась Марина. В броском цветастом платье с коротким рукавом и затейливом городском фартучке, она показалась ему такой благополучной, ухоженной, вполне счастливой и вроде даже пополневшей, что сердце ему сразу защемило от знакомого и видно уж неизбывного смешения радости и ревности. «А ведь такая «моя» Моря, красивая и нарядная, пожалуй, может подойти сейчас и совсем запросто сказать мне такое, что враз тогда, несостоявшийся ставрополец, задохнешься «от счастья» полного освобождения, — успел подумать он иронически и ревниво: — «Спасибо, мол, тебе, Петя, за все доброе, не пеняй и ты на меня, если чем обидела, а сейчас великодушно пожелай мне счастья: выхожу я, дескать, замуж за незнакомого тебе дорожного техника!» Времени ведь не мало пробежало после нашей последней встречи, и сколько воды утекло?!.»
Но долго раздумывать Петру не пришлось. Марина молодо соскочила с крыльца и мужским размашистым шагом, торопливо, направилась к нему.
— Вот работничек, вот мой помощничек золотой! — подходя к нему вплотную, вся светясь и сияя нескрываемой радостью, как ни в чем не бывало, похвалила она. — Ска-ажите на милость: да ведь он опять почти весь верхний кювет подрезал и вычистил! Подумайте, какой заботливый! Ну, спасибо, Петя… Ну я очень, очень рада, что ты это сделал…
— Мастеровому человеку без дела не терпится, — сказал он, испытующе глядя на Марину. И чтоб скрыть свое радостное смущение, и недоверчивое еще свое изумление, Петр тоже как ни в чем не бывало, точно они разошлись лишь вчера, даже немножко небрежно спросил у нее: — Ты чего это сегодня светишься и сияешь, будто именинница? И вырядилась во все новое!.. Фартучек на ней фирменный: то ли нейлоновый, то ли перлоновый… А карманы-то, карманы-то, какие преогромные!..
— Вы смотрите! — даже руками всплеснула Марина. — Нет, подумайте только! Все как есть успел забыть: и то, что сегодня мой день рождения, и что в платье этом… гуляла с ним «бабьим летом»… Впрочем, что же это сама я запамятовала и стою?! — опять всплеснула она полными обнаженными руками. — Надо ж нам хоть чуток отметить и день моего рождения, и то, что ты опять помог мне… Ну, погоди тут, а я одним мигом в горницу сбегаю…
Она и в самом деле вернулась очень скоро: прибежала раскрасневшаяся, с небольшим круглым графинчиком домашней вишневки в одной руке и чайным граненым стаканом — в другой. И едва Петр успел подумать как она сегодня необычна, ласкова и мила, — она налила до краев густую рубиновую наливку в стакан и широким, нарочито церемонным жестом, с подчеркнуто низким поклоном подала ему:
— Пей за мое и свое здоровье!
Принимая угощение, он снова подумал какая, в самом деле, красивая сегодня его Моря в каждом движении, даже в шуточном, но не утерпел и вслух с усмешкой сказал:
— Опять, стало быть, потчуешь только за порогом, как батрака? Никак, значит, не выговаривается у тебя и сегодня: мой дом — твой дом?!. Ну к что ж: давай наполняй и свою лампадочку! — кивнул он на оттопыривший жесткий большой карман фартука кургузый зеленоватый стакан.
— В этот раз непременно и себе, — согласилась она, ничуть не выламываясь. И, налив до половины свой маленький кривой стаканчик, даже задорно добавила: — Затем я эту «лампадочку» и прихватила!
— Про день твоего рождения я не забыл, а попросту не знал… Ну, здравствуй, именинница, сто лет и будь счастлива! — от души сказал Петр и одним духом выпил ароматную, тягуче-сладкую и, одновременно, терпкую, ничем не крепленную, лишь чуть отдающую своим естественным спиртным духом наливку. И, подождав пока справится с ней Моря, щедро похвалил: — Царский напиток! Твою вишневку только на свадьбе пить!..
— А я, может, и готовила ее осенью к свадьбе, да видно не судьба мне… А наливке не прокисать же даром?!. — притворно-весело и даже с задорцем сказала она. Но потом, порядочно помолчав, вдруг совсем уж грустно добавила: — Пе-етя, а мне ведь сегодня уж тридцать семь исполнилось!..
— Мо-оря, а мне ведь скоро аж сорок семь сту-ук-нет! — в тон ей жалостно протянул Петр. — На полную, значит, десятилетку побольше!!
Получилось это так потешно, что сам он невольно рассмеялся. А Марина сдержанно разлила остаток наливки, вынула торчащий из другого кармана увесистый кусок пирога и, отломив себе лишь уголок, протянула его Петру. И только тогда задумчиво и как-то очень снисходительно улыбнулась. Точно давала заранее понять, что она здесь мудрее и знает ему неведомое.
— Да мужчине что сделается? — сказала она. — Было б здоровье… Если издавна считают, что «бабий век — сорок лет», то столь же издавна повелось считать мужчину в сорок пять чуть ли не молодцом…
— Конечно, почти юноша, — снова расхохотался Петр. Но, взглянув повнимательнее на задумавшуюся Марину, он заметил в этот раз даже морщинки в уголках глазниц. «И вовсе она не пополнела, а скорее даже похудела, и вид у нее очень усталый, — подумал он. — Наверное и ей нелегко далась эта окаянная наша «выдержка характера»?» И одолеваемый нежностью и жалостью к ней, он уже с наигранной веселостью добавил: — Так, может, пройдешься сегодня, именинница, со своим «юношей» на его посадки взглянуть? Ты знала, что я почти неделю с ними канителился — за тебя и за себя слово сдержал?
— Догадывалась…
— И не подошла? И не ждала?
— Нет, ждала… А если рассказать, как ждала — можешь не поверить…
— Ну-ну! Так уж и не поверю… Так пройдемся на них взглянуть? А то я, признаться, к стыду своему тоже их ни разу не проведал…
— А не поздно сейчас?
— Да еще семи нет! А теперь и в девять не темно.
Он не сомневался, что она откажется наотрез. Но сегодня, как видно, ему решительно ничего не удавалось предугадывать.
— Ну, если успеем — можно и сходить, — неожиданно просто согласилась она. — Вот только графин отнесу и платком покроюсь…
10
Солнце клонилось к западу, а они все бродили по цветущему Черемуховому логу.
Вначале они не спеша осмотрели весенние посадки Петра. Это были совсем не те новые породы, об укоренении которых они так размечтались зимой. На прежде голом бугорке вновь зеленели строчки самых обычных липок и топольков; и из трех десятков корешков хорошо принялись чуть больше половины, а почти каждый третий саженец сиротливо покачивался на ветерке вовсе без листвы. Но ожившая Марина с наслаждением вдыхала вечернюю свежесть и с неподдельной радостью говорила Петру, что и от его былинок, с их клейкими листочками, уже ощутимо тянет душистой смолкой и чем-то сладко знакомым еще с детства, неуловимым.
— Такой воздух и леснику понравится! — внутренне ликовал Петр. — А ты еще не захотела осенью сюда пройтись…
У почти облетевшего на ветерке вишенника Марина приостановилась и, как показалось Петру, с многозначительной медленностью обратила его внимание на осыпающийся на землю вишневый цвет.
— Взгляни, Петя: будто в первый зазимок землю-то сплошь припорошило! — с какой-то дрогнувшей грустинкой в голосе, сказала она. И, помолчав, добавила: — Ведь знаю, что иначе не может быть, а всегда мне вроде не по себе делается, когда вижу вишневый цвет на земле.
Он посмотрел — и в самом деле было на земле белым-бело от еще не успевших пожелтеть нежных лепестков. Но сам он грусти от этого не ощутил:
— А как же: весна очень ранняя, теплая, погожая… — рассудительно сказал он. — Ну, все и торопится! Вот после недавнего доброго ливня и полезло все из земли целыми охапками, и зацвело так вперегонки, обгоняя друг друга…
Побродив по Черемуховому логу, налюбовавшись вдоволь красотой весеннего цветения деревьев и кустов, они прошлись и далеко вниз от насыпи, вплоть до берегов небольшой речки — куда сиротливо торопился едва внятно журчавший по дну лога ручеек. И уже изрядно оба уставшие присели передохнуть на заросшем густым клевером бугорке, а заодно и полюбоваться на погожий майский закат.
Да и вокруг, когда спала ранняя дневная жара, было так хорошо и привольно, так красиво, что и спешившая домой Марина перестала вспоминать о брошенных делах — и ей уже не хотелось уходить.
Они сидели в обнимку. Садилось солнце. Еще недавно ясно голубеющая даль уже утонула в тонкой сизой дымке. Среди слегка затуманенных пойм и заросших невысоким лозняком урем причудливо петляла небольшая речка. Когда наплывало прозрачное облачко — вода в ней переливалась и посверкивала, как черненое серебро. Но легкое облачко снова быстро открывало закатное солнце, и речка опять сказочно красиво превращалась из серебряной с чернью в розовую и уже не сизым, а розовым казался и туман в низинках, и низкорослый лозняк, и густая, высокая осока по берегам.
— Просто глаз не оторвешь!.. — с задумчивой улыбкой сказала долго молчавшая Моря. И, видимо, находясь в состоянии какого-то душевного умягчения, уверенная, что здесь ее никто, кроме Петра, не услышит, вполголоса запела неожиданно сильным и чистым грудным голосом:
Он и не думал, что она так может петь и подивился на ее мягкий, очень низкого тембра голос. И тут же пожалел, что она затянула «Рябину», а не иную песню, уже опасаясь, как бы ненароком не испортила эта надоевшая символическая рябинушка так хорошо наладившееся примирение. Но чтоб не помешать ей, он снял с ее круглого плеча ладонь и даже немножко отодвинулся в сторонку. А Моря и в самом деле спела первый куплет так задушевно, с таким неподдельным чувством, что, казалось, вновь страстно пожаловалась на свою горькую вдовью долю не только людям, но и этому низкому солнцу.
Закатные солнечные лучи постепенно ушли к верхушкам деревьев, и лицо ее теперь казалось бледным, как зимой, а глаза печально смотрели сквозь полуопущенные длинные густые ресницы. И он без размышлений, точно кто толкнул его под самое сердце (уже боясь почему-то показаться ей счастливее, чем был на самом деле), с поспешной готовностью подхватил второй куплет своим приятным, послушным баритоном. Вспомнив, что и он, было время, певал неплохо, Петр тоже от всего сердца, всласть пожаловался словами песни:
Получалось вроде задушевного разговора и, одновременно, исчерпывающих ответов на их давние вопросы. И этот «ответ» тоже прозвучал у него так искренне, что Моря умиротворенно засмеялась и, расхрабрившись, даже озорно заменила потом в предпоследнем куплете одно словцо другим, хоть и сама при случае говаривала, что из песни слова не выкинешь. А увидев, как это расшевелило и повеселило Петра, даже запела этот же куплет опять. Теперь с подъемом, в полную силу стлался над поймой ее окрепший голос, особо старательно и озорно нажимавший на самоуправно вставленное ею слово:
11
Домой они шли уже при свете звезд. Луны не было, но именно поэтому неисчислимые звезды мерцали с чистого майского небосвода так ярко, что темноты совсем не ощущалось.
Петр шел с высоко поднятой головой, легко неся свое словно невесомое тело. И мысли у него были хорошие, приятные. Думал он о том, как крепко был влюблен в последнее время и с каким похвальным достоинством держалась весь этот год его Моря. Правда, помучила его изрядненько, зато и ее упрямство приобрело в его глазах особую ценность и сейчас он даже мысленно не рискнет обозвать такую непокладистость выламыванием… Тем более, что теперь уж все это осталось позади и уж все пришло к покою и ясности. А после бесконечных, долгих черных будней — на душе праздник.
И еще он думал о том, что теперь он не только дельный путевой обходчик, не только работяга, привыкший чувствовать себя человеком уверенным и полноценным лишь в работе, потому что, слава богу, тут он за себя всегда постоять сумеет, сможет. Трудясь изо дня в день, он, кажется, всегда был и ловок, и силен, и добросовестен к делу, и смекалист, быть может, в самой ответственной службе на железной дороге… Но теперь он, помимо всего прочего, по-настоящему любит хорошую честную женщину и, главное, эта молодая, красивая, ласковая и добрая женщина не просто временная желанная любовница, а его женщина навсегда, на веки вечные, его фактическая жена.
Шагает она сейчас — любящая и любимая — рядом с ним и, размышляя о чем-то своем, молчит. А он вот даже и не спешит любопытничать, о чем это она так глубоко задумалась, потому что верит ей, как самому себе, знает ее всю и это знание родной человеческой души, как своей, порождает у него твердую уверенность, что и всю жизнь они будут вышагивать дружно, рядом… И кроме хорошего ничего в этом нет — ни зазорного, ни непристойного, ни стыда тут нет никакого. Вот если б он бросил эту славную женщину, его женщину, и на его жизненном пути скоро нашлась бы какая-либо другая, а потом, еще быстрее, — третья, четвертая, пятая… Ну, тогда дело иное, это бы было нехорошо, плохо, худо, просто никуда негодно, потому что это уж было бы развратом… Теперь же кто из людей настоящих, думающих, посмеет бросить в него камнем? Никто… Разве лишь такой фальшивый и неугомонный «сердцевидец и моралист», как Бармалей?!
А думки сникшей Мори были… ох как далеки и от благостного покоя, и от ясности, и все ей сейчас представлялось и куда сложнее, тоньше, и печальнее. Но видно не зря говорится, что где тонко — там и рвется! Сама она с досадой ощущала, что ее нелегкие, невеселые путаные мысли обрываются недодуманные до конца, как плохо выделанная пряжа. Несмотря на свою искреннюю любовь к Петру, она уже была готова упрекнуть себя за то, что поторопилась будто легкомысленная семнадцатилетняя девочка. Ведь никто ей теперь не скажет, во что выльются их отношения? Сколько времени продлится это несносное для нее заячье положение? Уже сейчас столь нетерпимое, что впору стать на перекрестке и кричать, что она всегда была и будет только за крепкие семейные устои! Потому что кто ж она пока будет: ни девка, ни баба, ни вдова, ни мужняя жена? И как она теперь будет с Петром, как станет глядеть в глаза людям, Аленке, сыну и, главное, Ульяне?
Она давно знала всем своим существом, что краденое счастье не для нее, что такое сомнительное благополучие ее не осчастливит. Вот почему от путаного этого «многовопросия», под свежим впечатлением этих тревожно зароившихся мыслей, от которых уже пекло внутри и саднило ей душу, она даже не прочь была расценить то, что случилось — то что непременно, рано или поздно, должно было случиться! — как свое падение.
А тут, как нарочно, едва они выбрались из Черемухового лога, дорогу им пересек какой-то подвыпивший гуляка с линии. Приостановившись в десяти метрах, пристально вглядевшись, он вдруг пьяно на все поле загорланил:
Моря зябко передернула плечами, поежилась, как от озноба, спиной и тут же торопливо надвинула цветную косынку на самые глаза. А когда гуляка отошел, испуганно сказала:
— Вот теперь того и жди, что каждый пьяный поганец будет пальцем показывать…
Петра же, напротив, эта неожиданная встреча даже повеселела. «Как-никак, что там ни говори про водку, темень и звезды, а все ж, значит, принял меня по силуэту не за старика, а за паренька, — с самодовольной улыбкой подумал он. — Стало быть, еще не плохи, Петр Лунин, твои дела!» А вслух он примирительно сказал:
— Да что ты, Моря, на него так ополчилась и зря яришься: выпил человек небось на грош, а куражится на целковый! Он же никого не разглядел и, может, ничего и не думал… — И, посмеиваясь, добавил: — Моря: пусть хоть при звездах, а все ж сошли мы с тобой за юных влюбленных!!
— Тебе пусть, а мне не все равно, — сдержанно сказала она. — Он-то и в самом деле, может, ничего не думал, да мы себе такой роскоши пока позволить не можем…
— Совсем зря серчаешь, — миролюбиво похлопал ее по плечу Петр.
До самого дома она не проронила больше ни слова, не раскрыла рта. А когда подошли к будке и остановились возле тына ее огорода, она с опаской покосилась на затемненные окна и осуждающе, как о ком-то постороннем, заметила:
— Почти взрослые дети, небось давным-давно спят, а их родители — от соловьев! — Она подождала, что скажет на это он, и, не дождавшись, не выдержала и наивно спросила: — Когда же теперь и где нам, думаешь, доведется оформиться?
— Как это и куда оформляться?
— Ну, когда ж, говорю, по-твоему, сможем мы наконец зарегистрироваться? — нарочито просто, даже очень уж простовато повторила она свой вопрос.
Петр даже головой мотнул, точно от увесистой пощечины. Света от звезд было все ж маловато, а ему сейчас требовалось видеть ее лицо ясно, отчетливо, как днем. И, повернув Морю к себе за плечи, низко склонившись к ней, он взглядом отчаянно долго пробивался сквозь густые звездные сумерки к ее лицу, а когда наконец присмотрелся, то каким-то зачужалым, не своим голосом сказал:
— Люди думают, а потом — говорят! Но ты, Марина, ляпнула сейчас, похоже, наоборот…
— Я-то об этом, как умела, подумала, а вот ты, Петя, значит, и не начинал, — горько упрекнула Моря. И уже сквозь слезы добавила: — А то тебе невдомек, что о н а, может, еще столько же протянет? А что? Скажешь: не может этого быть? Ну, сознайся: предполагал ли ты, что она так долго пролежит?
Пряслова заплакала уже навзрыд, закрыв, по своему обыкновению, лицо обеими ладонями и даже при звездах было видно, как просачиваются обильные слезы между пальцами и, медленно скатываясь вниз, поблескивают крупными росяными каплями на ее полных смуглых руках.
Петр даже не дал ей выплакаться: лишь чуть помедлив, он настойчиво оторвал ее ладони от лица, склонил свою голову еще ниже и, прямо глядя ей в глаза, уже хриплым полушепотом медленно и веско проговорил:
— Ты куда же это, умница, меня толкаешь? А? Ты куда толкаешь? Может, по-твоему, завтра же и из будки ее выдворить, прямо на улицу? Ты ж знаешь, что у нее сродственников — Аленка, да я… Правда, есть где-то у нее брат, так он за все эти тяжкие и долгие годы и открытки не прислал! Как узнал о ее положении, так и заглох… Возьмет он ее такую? Нужна она ему? Или, скажем, возможно, по-твоему, затеять мне с ней по всем правилам развод? А? А тебе-то, умнице, разве невдомек, что это все едино как добить ее — никакой разницы!! Так вот слушай внимательно и запомни, или даже заруби это себе на память, раз и навсегда, где хочешь: покуда она жива и дышит, пусть хоть сто лет, нет об этом твоем глупом оформлении разговоров! Ясно? Сама мне не раз говаривала, что ты не только баба, а прежде всего — человек.
Моря испугалась того нового тона, с каким вдруг заговорил с ней Петр, что он вроде как не считает теперь нужным вникать в ее доводы, а строго требует «зарубить» лишь свои, испугалась почему-то даже этого низкого его полушепота. Кажется, если б он топал ногами, орал и кричал, называл ее не «умницей», а дурищей — то и тогда бы она не так оробела: тоже бы сгоряча, в сердцах, покричала, и было б легче. И, подчиняясь своему состоянию, спешно отерев ладонью слезы, даже неожиданно для самой себя, она вдруг принялась торопливо оправдываться, сбивчиво и путано уверять, что никуда решительно она его не толкает, что такого она не только не говорила, а и в мыслях никогда не держала, что он просто-напросто не так ее слова понял.
— Вот и всегда у меня так, — опять заплакала она. — Не могу я за себя постоять… Люди, смотришь, вон через какие глыбы перелезают — и ничего, а для меня, так получается, что и малый камешек — барьер…
В конце концов они помирились и Петр на прощание поцеловал ее в лоб — как целуют солидные мужья умную, добродетельную и послушную жену.
Но когда он повернул от тына Прясловой и зашагал по вьющейся в темноте белесой стежке к себе домой — недавнего праздника в душе уже не было. То, что он услышал от Марины, болячкой засело у него внутри, жгло, пекло и ранило ему душу, и он никак не мог от этого оторваться, вернуться хоть на время к тем хорошим приятным мыслям, с какими только что шел из Черемухового лога. И единственно о чем он сейчас просил и молил свою злополучную судьбу — так это лишь о том, чтоб дома в момент его возвращения все крепко спали и он бы смог тихонечко, ну… просто на цыпочках, пробраться за фанерную переборку к своей узкой, жесткой железной койке.
Чего так опасался сейчас Петр, то и случилось. Обычно не закрывавшаяся на запор входная дверь будки оказалась на крючке, а когда он легонечко стукнул — в доме зажегся свет. Дверь ему открыла заплаканная дочь и с такой нескрываемой неприязнью, так подчеркнуто враждебно на него посмотрела, что он даже оторопел и залился краской. Аленка была в одной сорочке, из которой, видимо, давным-давно выросла, и теперь эта куцая, в обтяжку, трикотажная рубашечка почти до неприличия подчеркивала ее уже пышно развившиеся формы. Очень щепетильная, Алена никогда так при отце не ходила и, увидев ее такой, Петр понял, как велико ее душевное смятение. Догадался и смутился еще больше, невольно с изумлением подумав, как быстро растут девчата. Он растерянно, будто впервой увидел, смотрел на свою дочь. А она, покраснев от душившего ее негодования, так и улеглась на своей кушетке, не спуская широко раскрытых глаз с отца, — голенастая и еще более враждебная.
Петр молча шагнул к столу, на котором, как и всегда, ждал его приготовленный Аленкой ужин: кувшин топленого в печке молока, накрытый увесистым ломтем домашнего ржаного хлеба. Отложив в сторону хлеб, он взял в руки кувшин и жадно, не отрываясь, прильнул к краю губами…
Теперь он старался ни на кого не смотреть, но пока пил все равно, кажется, видел и ощущал на себе скрестившиеся укоряющие взгляды. Ему даже показалось, что теперь уставились на него две пары непрощающих глаз; и, чтобы это проверить, он еще раз на миг покосился в сторону Ульяны. Глядящие на него очень внимательно и не мигающие, эти глаза испугали его.
Но, если б она сумела промолчать, он бы допил молоко, выключил свет и тоже молчком ушел за свою перегородку. Однако Ульяна, давным-давно по-своему изучившая мужа, лишь только увидела, как виновато и изумленно уставился он на Алену — сразу поняла его. Она уже давно научилась, по только ей ведомым признакам и приметам, безошибочно отгадывать его душевное состояние. И, веря, что это еще возможно, ей вдруг опять страстно захотелось помочь ему:
— По работе, стало быть, опять непредвиденная задержка вышла, — не столько спрашивая, сколько утверждая, проговорила она. — Или, может, на линию зачем съездил?
От этой подсказки он вздрогнул так, что даже зубами лязгнул по краю кувшина. И с непонятной даже для самого себя торопливой запальчивостью отверг ее выручающую подсказку:
— Нет, — гулко сказал он в почти опорожнившийся кувшин, все еще держа его край у рта: — На любовном свидании был… Небось помнишь и сама, что сегодня воскресенье!..
И только увидев, как затряслась всем телом в бурном приступе плача дочь, а Ульяна молча судорожно потянула своими высохшими руками на голову одеяло, он опомнился и понял, что ляпнул непоправимое.
Не допив молоко, не погасив свет, он, ссутулясь, прошел за фанерную переборку и, не раздеваясь, лег на свою неразобранную постель. Лежал и думал: зачем же он так? Ну, допустим, что-то похожее на это говаривалось им в раздражении и раньше… Но вот именно лишь похожее, внешне, а не это, и не при такой обстановке или, как выражается Бармалей: не при такой ситуации… Ну, положим, тяжело и просто невыносимо ему это вранье, что человеком с двойным дном он быть не может и не хочет, да и врать — не мастер… Да неужто он, глупец, не мог сразу догадаться и понять, что эта «шпаргалка» была брошена даже не для него? И он не только мог, а просто даже был обязан и должен ее поднять ради Аленки?
Он слышал, как все еще по-детски всхлипывающая Алена вставала и тушила свет. Как она потом ворочалась с боку на бок на своей скрипучей кушетке. Только Ульяны совсем не было слышно, — точно ее и не было рядом.
С этого вечера и с этой ночи прочно прижилась в путейском домике на 377 километре какая-то нехорошая, неспокойная, очень настороженная тишина.
12
Все лето и всю осень Петр встречался с Мариной.
Изредка, она просто умиляла его своей нескрываемой жадной любовью, была мила, добра, ласкова, покладиста. Тогда она ничего у него не выпытывала, ничего не требовала, не мучила его своими сомнениями, а покорно сникала, точно поняв наконец, что против судьбы не пойдешь, а жизнь — есть жизнь. Опьяненная свежестью вечера и его лаской, разомлевшая от окружающей ее красы Черемухового лога, от тополиной душистой смолки, она так полно уходила в чувство, что обрадованный Петр опять невольно думал, что все их размолвки — позади.
В такие редкие счастливые вечера встречи их никогда не затягивались до полночи и, будто помолодевший, Петр возвращался в будку вовремя. А дома на него не уставлялись две пары глаз, не пугали его тогда и самоотверженные «шпаргалки» Ульяны.
Но так было очень редко. Куда чаще перевешивало в душе Мори иное, и он встречал ее на условленном месте уже расстроенную, готовую расплакаться. Тогда она, обычно, начинала с утверждения, что любит его по-прежнему сильно, что без него ей и тесно, и жутко, и безрадостно. Но что и такое положение для нее тоже несносно. Просила, чтоб он, не отмахиваясь, вник наконец в это по-настоящему, вполне серьезно бы, а не впопыхах, подумал об этом, порассуждал вместе с ней. Она тут же, снова и снова, выкладывала перед изумленным Петром целый ворох своих доводов: прежних и новых сомнений, опасений, даже страхов. Он терпеливо слушал, успокаивая, говорил, что им и круглосуточные думки не помогут, если даже ни один умный указатель не отразил таких сложных обстоятельств, не предусмотрел, к сожалению, как тут им надо поступать.
Говорил и усмешливо улыбался, но в душе был обижен. А когда, выведенный из терпения, пытался опять строго повторить то, что сказал в тот памятный звездный майский вечер, лицо Мори вдруг становилось скучным и неприветливым. Она зябко передергивала плечами и уже резко спрашивала: «Стало быть, по-твоему, только это у нас и будет, что было: «Свадьба вокруг ели, а сычи — пели?!.» И следом уж не просила, а требовала «самому крепче думать», и все свидание заключалось в жалобах на горькую долю, попреках и обильных ее слезах.
А вот такие, изматывающие душу, встречи заканчивались зачастую бесплодными взаимными попреками далеко за полночь, на зорьке. После них он вышагивал домой ссутулясь, злой, угрюмый; зачугунелые от долгого сидения ноги медленно, с трудом несли налитое свинцом устали тело. Мстительная Алена после полуночи никогда не забывала накинуть на входную дверь крючок. И чтоб хоть не скрещивались на нем сквозь неверные предрассветные сумерки две пары укоряющих глаз, он предпочитал без стука в дверь, без ужина, как вор пробираться к себе на койку со двора, через предусмотрительно лишенное шпингалетов окно.
Летом Ульяна еще пыталась держаться, как всегда. А с наступлением осени, когда Аленка пошла уже в десятый класс, она хоть внешне жила и дышала по-прежнему, никогда не теряла здравого смысла, но ее все чаще и глубже захватывало состояние какой-то полной отрешенности.
Ее излюбленное окно-экран выходило прямо на линию, и она долгие годы старалась по возможности не упускать ничего, что там происходило, интересовалась решительно всем. Она не пропускала мимо ушей ни привычного шума поезда, ни неожиданного выкрика, ни невнятного стука, ни монотонного звона кузнечиков, ни далекого лающего лязганья железа о железо, а слух у нее был отменный и слышен был ей каждый вздох дороги.
Теперь она точно потеряла к этому былой интерес, вкус, утратила прежнюю любознательность; даже тяготилась, если прямо перед ее окном гомонили ремонтники — хоть еще недавно очень любила глядеть на ловкую работу дюжих загорелых парней и веселых, озорных, крепких белозубых девчат.
Полузакрыв глаза, она подолгу лежала молча, неподвижно, частенько не приподнимая голову и не заглядывая в свой «экран» даже когда Аленка обращала на что-либо ее внимание, говорила, что так ей, с приподнятой головой, не хватает дыхания. Она прежде никогда ни на что не жаловалась, а однажды вдруг спокойно сказала дочери, что болит у нее все, словно по ней машины ездили, что осень эта, похоже, для нее последняя…
— Что это ты, мама, вздумала? — с навернувшимися на глаза слезами горячо запротестовала Алена, давно привыкшая к тому, что мать болеет. И с эгоизмом юности добавила: — У меня экзамен на аттестат зрелости в этом году, а ты, мама, вдруг такие панические рассуждения, мы еще с тобой уедем потом вместе куда-нибудь отсюда…
— Ну-ну, я не буду больше, — торопливо пообещала Ульяна. Но, не выдержав, тут же досказала: — Только я его, твоего аттестата, вряд ли дождусь…
Ульяна тщательно скрывала и от мужа и от дочери, по-настоящему боялась признаться даже самой себе, однако где-то в самой глубине души она вроде невольно гордилась тем, что сумела столь многое на нее свалившееся выдюжить, вытерпеть, не пасть духом и довести свою Аленку почти до аттестата зрелости.
Однажды, еще весной, Алена прибежала из школы особенно оживленная и, по своему обыкновению, стала неумолчно тараторить о последних школьных новостях. На этот раз речь шла о новом классном руководителе, о новой молодой учительнице литературы. И потому Аленка взахлеб толковала матери, какая «Вер Иванна» энергичная, красивая, умная и… идейная!
Она запальчиво поведала матери, что «новая училка» уже провела с классом ужасно интересную беседу: «О нашем ближайшем будущем»! И говорила она так потрясающе хорошо, как ни один из прежних классных руководителей… Даже самые отпетые озорники слушали ее просто разинув рты!!»
Аленка сбивчиво рассказала матери содержание этой необыкновенной беседы и, заранее наслаждаясь ожидаемым эффектом, многозначительно спросила:
— А ты, мама, знаешь, как она свою замечательную беседу закончила? Она нам сказала, что в этом будущем уж не будет места, скажем, для таких надписей, какие еще торчат сейчас на многих калитках нашего разъездовского поселка: «Не входить! Очень злая собака!» Тогда на всех воротах, вместо устрашающего «злая собака», люди будут писать: «Добро пожаловать!» И награждать людей будут за доброе отношение к людям, а в наградных листах так и писать: «Награждается за бескорыстное, сердечное и отменно-доброе отношение к людям!»
Дочь протараторила это и, наскоро перекусив, умчалась «в читалку». А оставшаяся одна Ульяна долго размышляла о том, что очень это хорошо, что Аленка полюбила учительницу. «Матери у нее… почти нет, — опять самоотрешенно думала она. — С отцом, гордячка, почти начисто рассорилась… Так пусть хоть эта Вер Иванна, дай ей бог здоровья, по-настоящему уму-разуму ее учит и наставляет».
И, решив в простоте душевной и по своему природному оптимизму, что Алена теперь выйдет из школы более надежно защищенная от всяких дурных навыков и пагубных влияний, лучше подготовленная к жизни, словно одетая в броню из хороших убеждений и славных намерений Вер Иванны, она размышляла потом уж не только об этом.
Снова не спеша подумала, как бы это, действительно, было здорово, если б на своих калитках вместо «Злая собака» люди писали «Добро пожаловать». А потом, вспомнив слова Вер Иванны о наградах, долго лежала с широко открытыми глазами, конфузясь, даже поразмышляла, подумала о том, что если б кто по-настоящему знал да ведал сколько она вытерпела, то в этом заманчивом будущем и ее бы, наверное, наградили. Только за ее трудный молчаливый подвиг на наградном листе пришлось бы написать не совсем то, что говорила Вер Иванна, а чуть иное: «Награждается Ульяна Лунина высшей наградой за то, что вынесла — невыносимое». Вот так!..
Потом она никогда ни словом не обмолвилась об этом дочери, не упомянула даже полушутливым отвлеченным рассказом, а сама, когда было ей особенно невмоготу, нет-нет да и вспоминала, хоть затем и стыдилась этого.
И вот теперь Ульяна будто потеряла и эту никому не ведомую точку опоры, хоть порой еще жалела, что сама она сейчас, кажется, все меньше и меньше верит в необходимость такого трудного своего подвижничества.
А скоро она и вовсе поразила Алену одной своей — очень и очень необычной для нее просьбой.
Петр все еще не смел, не мог, не имел права заглядывать в дом к Марине и встречи их по-прежнему проходили украдкой. За всю осень Ульяна не только ни разу не видела соседку, а и издалека никогда не слышала ее звонкого голоса — потому что та даже пройти мимо окна избегала.
Но перед тем как лечь снегу, когда напряженная подготовка к зиме уже заканчивалась, а Петр затеял сменить две-три изношенные шпалы прямо против своей будки — отказать ему в помощи и, таким способом, избежать этого окна Марина уж никак не смогла. И вот тут-то многотерпеливая Ульяна, даже не приподнимая головы и не заглядывая в окно, а едва лишь заслыша издали ее грудной певучий голос, вдруг умоляющим шепотом сказала дочери:
— Оторвись на время от своих книг и пересели-ка ты меня, не мешкая, вон к тому окну, во двор… Или ты, Аленка, сейчас больно занятая?
— Что это ты, мама, затеяла? — зная, как та ценила свое «выигрышное место», как постоянно дорожила своим окном-экраном, поразилась дочь. — Пожалуйста, не выдумывай и не затевай зря никаких переселений — потому что сразу назад запросишься: ведь у дворового окна ты лишь одну поленницу из старых шпал видеть будешь! А тут все перед тобой как на ладони!..
— Нет, Аленка, переведи… — опять умоляюще прошептала Ульяна. — Или, может, ты боишься, что одной это тебе не под силу будет? Тяжело? Надорвешься?
— О, да что там еще о таком пустяке толковать, — вдруг поняла и заплакала дочь. — Нашла об чем бы это ей еще побеспокоиться… Да я тебя, мамочка, сейчас, как перышко перенесу…
Отложив в сторону уроки, все поняв, дочь уже без пререканий и напрасных уговоров, беспрекословно подчинилась воле матери.
Всего через полчаса, сильная Алена действительно без особого для себя труда, бережно перенесла высохшую мать к противоположному окну, если, конечно, не считать затем ее очень трудных и долгих слез. Впрочем, чтобы мать не видела ее слез, она выбежала во двор, отвернулась к стене и, закрыв лицо платком, долго навзрыд плакала.
Несмотря на свою молодость, она уже настолько-то была умудрена и своим небольшим житейским опытом, чтоб самой теперь окончательно понять и твердо знать: своим переселением мать не просто капризно поменяла одно окно на другое. Нет, и тысячу раз нет! Этим своим переселением она как бы добровольно, но совсем уж бесповоротно исключала себя полностью и навсегда от всякой сопричастности к делам и заботам отца…
13
О, какая это необычно долгая, тревожная и мрачная была для Ульяны зима. А когда наконец вновь повеяло теплым ветром и даже в выходящем прямо на север окошке оплавился, растаял ледок и стекло очистилось — перед окном затомившейся Ульяны опять оказалась лишь все та же огромная запасная поленница из старых шпал: мокрая, черная, покосившаяся… Ох, как надоела и примелькалась она еще с осени!..
Единственным проблеском для нее было ждать из школы Алену. И все чаще последними новостями — повторяясь и изменяясь на все лады! — оказывались предстоящие экзамены на аттестат зрелости.
Однажды, в самом начале марта, Аленка пришла из школы гораздо раньше обычного. Наскоро объяснив матери, почему последние уроки оказались «пустыми», она тут же перевела разговор именно на эти неумолимо надвигающиеся «главные» экзамены.
— Да, экзамены не за горами, а учить и повторять надо так потрясающе много, что загодя дрожь берет, — совсем уж по-взрослому посокрушалась она. — Ну, ничего: договорились зубрить вместе с Виталиком… Вот лишь сойдет снег, подсохнет, и будем уходить с ним, чтоб никто не мешал, в Черемуховый лог… И, как говорит Вер Иванна, труд, труд, труд… Словом, будем с ним зубрить так, чтоб уж потом у нас все просто от зубов отскакивало!
Терпеливо дослушав дочь, Ульяна пошевелила бескровными губами и, с трудом их разомкнув, через силу выговорила:
— Смотри, доцю, чтоб он тебя не обманул…
Еще с утра на нее вдруг опять навалилась несносная свинцовой тяжестью боль и порой противно закладывало уши, теснило сердце, мучило удушье. И сейчас, понимая, что вопрос крайне деликатен, хотелось предостеречь пообстоятельнее, потоньше и чтоб не подумалось дочери, ненароком, будто речь лишь о возможном подвохе с занятиями… Но с сердцем уж вовсе началась какая-то чехарда: творилось непонятное, оно страшно замирало, точно Ульяна качалась на качелях, не хватало дыхания. Собираясь с силами, она торопливо облизывала свои пересохшие губы. По бескровному лицу пробегала нетерпеливая судорога.
Но беспокоилась она напрасно: Алена и так превосходно поняла все, как надо. И, вспыхнув, ответила не сразу, а лишь в меру переждав, не добавит ли что мать, очень коротко, но, пожалуй, исчерпывающе:
— На дурочку, что ли, напал!
«Ну и слава богу, ну уж, значит, совсем-совсем повзрослела и сама, стало быть, теперь понимает, что к чему», — с облегчением подумала Ульяна. Порядочно времени помолчав, отдышавшись, она спросила:
— Отца не видела? Что он делает?
— Ви-идела… — переодеваясь, нехотя протянула Алена. — Вместе с Маришкой старые шпалы на дрова пилят…
— Покличь его, дочка, не мешкая…
Лицо Аленки сразу пошло пятнами, и, натянув старенький сарафан, она откровенно сердито сказала, почти выкрикнула:
— Ну, на что, мама, они нам сдались? Да пусть их пилят, да вообще — плюнь ты на них с высокой колокольни… Им до нас, как до лампочки, а ты небось все переживаешь? Вот потому и сердце тебе теснит, и удушье это, проклятое, мучает…
— Нет, Аленка, позови… — настойчиво повторила свою просьбу Ульяна. — Нехорошо по-твоему получится… Вместе жили… Надо проститься… Не то он станет после мучиться… И сама секунды нигде не задерживайся: я ведь и тебя насилу-насилушки дождалась! Уж просто и не чаяла, что увижу больше…
— Да что это ты, мама, говоришь? — заплакала Алена. — Ты подумай только! Тут… экзамены на носу, а ты меня все пугаешь… Пройдет все это: просто ты расхворалась так от этой первой весенней слякоти, от непогоды!! Пройдет!..
— Позови, Аленка, не мешкая… — прошептала Ульяна. — Только непременно оденься и платком накройся, сырость страшная…
Дочь испытующе взглянула на мать: эта жуткая настойчивая просьба совсем не гармонировала с ее видом. Теперь выражение лица Ульяны было спокойное и необыкновенно ясное, точно у затомившегося на палубе пассажира при виде пристани. Но именно это необычное выражение почему-то так ее напугало, что она уже опрометью бросилась вон из дома, как была, в одном ситцевом сарафане, впервые нарушив приказ матери одеться и покрыться.
С колотящимся сердцем, вихрем помчалась перепуганная Алена по раскисшей тропинке возле насыпи и метрах в ста от будки Прясловой, когда уже можно было крикнуть, так круто остановилась, что ноги сами еще немного проехались по талому снегу.
— Скорее! — задыхаясь, выкрикнула она. — Мама зовет, да побыстрее!!
Она видела, как понимающе переглянулись быстро распрямившиеся отец и Маришка… Видела еще, как наотмашь, не глядя, швырнул отец в сторону поперечную пилу… Даже слышала, что, попав на обух врубленного в полено топора, пила певуче охнула… Потом Аленка, круто повернувшись, так же быстро побежала назад и до самого дома слышала сзади лишь топот отцовых сапог да его шумное прерывистое дыхание…
Уже возле приоткрытой двери отец опередил ее, и они на миг столкнулись, замешкались. И в эти считанные секунды вместе успели увидеть, что мать повернулась на бок и преспокойно спит. И оба, не сговариваясь, успели с удивлением подумать: «Как же это она перевернулась сама? Если уж давно не могла этого сделать без посторонней помощи?!»
Но когда разом вбежали в комнату и приблизились вплотную — с ужасом убедились, что она уже не дышит. А выражение ее лица по-прежнему было спокойное и необыкновенно ясное, будто она, действительно, лишь очень крепко уснула — так засыпают путники, пройдя долгий и утомительный путь.
14
Если б кто год назад сказал Петру, что он очень будет переживать эту утрату, — он бы в ответ, наверное, лишь устало и горько усмехнулся. А вот теперь он переживал столь глубоко, крепко и хмуро, что порой не спал целыми ночами. Отменно изучившая его Ульяна и тут не ошиблась: больше всего тосковал Петр, как ему казалось, лишь потому, что так и не управился он сказать ей эти шесть букв, всего одно-единственное слово: «прости».
И еще, будто смутный сон, порой невольно вспоминается давнее: как дружно и ладно они жили до этой непоправимой беды; и кем она ему была вначале, когда вернулся он с войны, после контузии, как говаривала Уля: «Сам себе не радый»… А ведь она — со своим добрым любящим сердцем и живым общительным характером — все потерянное им там, на войне, очень скоро сумела ему вернуть сполна! Он тогда быстро окреп и успокоился… Зато теперь мысли об этом, словно нарочно, без спроса лезут в голову, и не жди от них покоя ни ночью, ни днем — нет сна и не идет на ум работа!..
Алена переживала свою потерю еще труднее. Особенно мучительными для нее были первые дни после смерти матери. Но и гораздо позже, долгие несколько недель, ее видели с опухшими от слез глазами. Затем к ней зачастил с уроками Виталий, почти ежедневно забегали с разъезда подружки, не раз в домике на 377 километре появлялась теперь и классная руководительница — молодая, настороженная Вер Иванна.
Посетители эти вели себя по-разному. Юный сосед смотрел на Петра сочувственно, вежливо здоровался. Сменявшиеся, как на вахте, подружки демонстративно его не замечали, — будто он и не был хозяином дома. А красивая Вер Иванна, холодно ему кивнув, сразу подсаживалась к столику Алены и долго требовательно молчала: пока он, наскоро захватив футляр с сигналами, не догадывался уйти — точно повзрослевшая дочь находилась на приеме у врача!
Однако он был рад и таким визитерам: дочь с ним почти не разговаривала, а он и через две недели после смерти матери, и через три — не раз заставал ее дома бурно рыдающей. Потому что забудется хоть чуть-чуть она в школе и летит домой со своими последними важными новостями, с еще не до конца осмысленным скрытым внутренним намерением скорее рассказать о них… А распахнет дверь — и опять с предельным отчаянием въявь поймет, что рассказывать-то некому! Вот и валится из рук портфель, а хозяйка его, бросив обессиленно сжатые кулаки на стол, горько сникает на них своей белокурой головой и снова неутешно плачет. «Так уж пусть эти гости и шефы относятся к отцу, как угодно, — озабоченно думал Петр. — Лишь бы дочь не осталась в таком большом горе одна».
Только сам Петр так и остался со своей бедой с глазу на глаз, хоть уж давно знал, по собственному опыту, как это страшно и трудно. Не умом, а скорее инстинктом самосохранения, он понимал, что сейчас все его спасение от думок и бессонницы в ежечасном общении с Мариной. Но именно это он почему-то сразу отверг и сердцем и разумом, считая, что встречаться ему с Морей именно сейчас не надо, что это худо, плохо, просто никуда не годится… Потому, что непременно это станет сейчас уж каплей через край Алене, да и излишним вызовом людям, почти кощунством: ибо выглядеть будет нарочито подчеркнутым и недостойным забвением памяти Ульяны, а такое не прощается…
И, собрав в комок всю волю, он даже поклялся самому себе, что не будет искать с Мариной встречи. А на день ее рождения, в начале мая, он смело войдет к ней прямо в дом и тогда они уж все решительно обговорят: и как им поступить со своими участками, потому что работать мужу и жене путевыми обходчиками не гоже для семьи, да и пора ей хоть чуток отдохнуть от этого нелегкого, не женского дела… И сажать ли в мае оба огорода, или уж только один его? И, главное, когда ж и куда надумала она теперь отправляться с этим своим нетерпеливым оформлением? Словом: все, все обговорят тогда они вместе!..
Он уже подозревал, что и умная Моря, похоже, самостоятельно приняла именно такое тактичное решение: теперь-то куда ей спешить и зачем сомневаться? Во всяком случае, она сама сейчас старательно избегает и преждевременных встреч и долгих разговоров — тоже, значит, понимает, что не время сейчас ни для свиданок, ни для излишне торопливых глупых бабьих вешаний кулем на шею…
Петр еще не догадывался, что она сейчас просто-напросто не знала как себя с ним вести, боялась нечаянно его обидеть, рассориться. «Если по-человечески выразить его горю сочувствие… — растерянно и нерешительно думала она. — Так он, чего доброго, возьмет да и ляпнет в сердцах: «Ну, чего зря врешь, сама ж ты этого давно хотела!» А если об этом ничего не сказать, просто замолчать, — так опять можно не угадать и не угодить, даже ненароком нарваться на ссору: «Чего ж, скажет, затаилась: радуйся теперь, дождалась! Помнишь, мол, сколько ты этим бередила, докучала и досаждала мне?!» Нет уж, лучше месяц-другой повременить, пусть он хоть немного в себя придет и успокоится!..»
А больше откровенничать Петру было не с кем. Он и по началу своей трагедии, живя на отшибе, не очень-то был избалован людским вниманием и сочувствием и потому не любил выносить ее на обсуждение с каждым встречным-поперечным прохожим. К тому же сейчас, в марте, даже и временных ремонтников поблизости почти не было; да и зачем это опять ворошить все снова здорова, если, наконец, хоть и очень мучительно и трагично, а все уж почти стало на свое законное место?
И Петр терпеливо не произносил ни с кем даже имени Прясловой, да никто его об этом и не расспрашивал — люди тоже, наверное, считали, что теперь уж все ясно и без его откровений. Но бригадир ремонтников Баюков, видимо, не смог преодолеть своего любопытства, упомянул раз имя Мори, хоть лучше б он не говорил этого…
А дело было так. Спустя недели три после смерти Ульяны, он вдруг постучал среди дня в окошко будки, а когда Петр вышел — не попросил, а начальническим тоном сказал:
— Помоги-ка, Лунин, нашу ремонтную конягу побыстрее снять… Запарился мой зеленый помощник с мотором, и побарахлил-то он в пути считанные минуты, а вот все равно приходится принимать эту нелегкую тележку с рельс долой…
— Значит, снова не управились вы проскочить между поездами? — удивился Петр. — А ведь это окно было ничего себе: подходящее, порядочное!..
— Моя вина, — смущенно признался юный моторист, с опаской поглядывая на Бармалея.
Втроем они торопливо сняли тяжелый верх, на пару с мотористом Петр спешно убрал с рельс задний и передний скат тележки. А поезд все не показывался. И чтобы убить время Бармалей в упор, с нескрываемым любопытством рассматривал путевого обходчика — уже неподвижно держащего в руке палочку сигнала, с туго накатанным на нее желтым флажком…
За последнее время Петр плохо питался, похудел, и потому выглядел еще более высоким и жилистым, на подбородке явственно проступила густая колючая поросль-щетина двухдневной седеющей бороды. И, оглядев его иронически с головы до ног, Бармалей с плохо деланным сочувствием, начальнически строго сказал:
— Ты что ж, Лунин, так распустил свою… зазнобушку? Совсем, как видно, без всякого женского догляда она тебя оставила? И даже обут вон, похоже, на босу ногу… Стало быть, уж начисто забыл, бывший фронтовик, что в военное время за умышленно потертые ноги положен трибунал? А? Ты, брат, ешь солому, а хворс не теряй!.. Или опять носки свои утром у Прясловой забыл? Вы что ж теперь: по очереди что ли друг к дружке зоревать ходите? А? Чего ж молчишь, не отвечаешь?! Дочь-то по-прежнему, значит, нос от тебя крутит?
Внезапно накатившийся поезд помешал Петру ответить наконец Бармалею, как он давно хотел… И как же был он потом доволен, что этот несусветный грохот и занятость помешали! А когда мелькнул, будто стегнув по глазам, последний хвостовой вагон, уже немного одумавшийся обходчик один в сердцах по очереди шваркнул оба ската на рельсы, с помощью моториста грохнул на них тяжелый верх и нетерпеливым грозным жестом выразительно дал понять мотористу, чтоб он не задерживался тут и секунды.
— Давай, давай, моторист, пошибче! — с неподдельным испугом, опасливо косясь на обходчика, поторопил и Бармалей. И потом уж, порядочно повременив, язвительно добавил: — Не то этот аморальный тип еще ударить тебя может…
Впрочем, последняя фраза была выкрикнута уж когда моторная тележка бешено сорвалась с места вслед за поездом, а Бармалей надежно убедился, что теперь не на шутку разгневанный Лунин никак не может дать ему по шее за хамство и наглость.
15
В эти долгие тягостные два месяца Петр не раз думал о том, что бы он теперь делал, как был, чем жил и на кого надеялся, если б не нашлась на его трудном жизненном пути такая славная женщина. Он не сомневался, что и Моря с такой же силой и верой, с такой же обстоятельной данью времени и обычаю, как и он, не терпеливо и бережно готовится к их встрече на веки вечные, навсегда.
Но он все же твердо выдержал даденное самому себе слово и отправился к Марине, как и хотел, лишь одиннадцатого мая: точно в день ее рождения!
Еще с утра он подумал, что день этот, пожалуй, очень похож на памятный прошлогодний майский день их примирения: такой же яркий, солнечный, жаркий… И даже сам затем, вольно и невольно, старался обставить сегодня все так, как было ровно год назад, потому что уж давно считал тот прошлогодний майский день самым счастливым в своей жизни, — хоть и осложнялся он тяжко и больно.
Проводив семнадцатичасовой пассажирский, он тщательно выбрился, придирчиво переоделся во все праздничное и, очень довольный тем, что выдержал намеченный срок и не нарушил положенный обычай, неторопливо зашагал к Прясловой. И даже в своей необычной спокойной обстоятельной деловитости, и в том, что он опять идет к ней таким же душным вечером, как и прошлый год, он тоже склонен был видеть сейчас лишь добрый знак.
Марина неожиданно встретилась метрах в ста от своего дома. Обогнув разросшиеся рябины, она вдруг вышла наперерез его тропинки. И обрадованный Петр сразу догадался, что она с твердой уверенностью ждала его именно сегодня и потому, возможно, высматривает с самого утра. Не сомневаясь, что она сейчас введет его в дом и усадит, наконец, за праздничный стол, он произнес давным-давно заготовленную на этот случай фразу:
— Ну, здравствуй, именинница, сто лет и столько же будь счастлива! Вот пришел проздравить и спросить: не хватит ли нам с тобой горевать? А, главное, обговорить все, как полагается… Словом, открывай ворота и вводи собственного суженого… почти юношу и молодца в свои запретные хоромы!..
Тоже несомненно обрадованная, она застенчиво поправила новую нарядную косынку, посмотрела на занавешенные окна и вдруг смущенно сказала:
— Спасибо тебе… Обговорить нам, конечно, есть что, да вот где? В горнице сын с одноклассниками, занимаются они… Разве их теперь, перед экзаменами, выдворишь, а при них какой разговор? Ты только, Петя, не обижайся, что опять не привечаю тебя за домашним столом… А так погодка расчудесная, и может, даже лучше вспомнить годовщину и пройтись нам опять до Черемухового лога? Там ведь нам никто за целый вечер не помешает! Ты лишь, смотри, не вздумай зря серчать!..
Пока это Моря выговорила, она искоса и виновато поглядывала то на него, то на окна. Петр давно знал и любил этот ее женственный конфузливый взгляд, от которого всегда теплело на сердце, и сейчас он тоже невольно заулыбался.
— Если нельзя в твои покои, стало быть — и не надо! — насмешливо согласился он, хоть в душе и в этом случайном совпадении уже готов был видеть тоже несомненный добрый знак. И потому тут же добродушно добавил: — Вечерок и впрямь удивительно хорош… Короче, я тоже за прогулку, в духоте еще насидимся…
— Ну, вот и лады.
Словно боясь, как бы Петр не передумал, Моря взяла его под руку и уже откровенно торопливо, опять искоса посмотрев на окна, повлекла вниз от насыпи. И даже в том, как они, минуя ряды рябин, свернули именно на ту узенькую белесую тропку, что едва заметно вилась вниз прямо от тына прясловского огорода и по которой они впервые шагали год назад — было что-то похожее на «годовщину» и эта схожесть невольно порадовала Петра.
И в Черемуховом логе вроде лишь их ждала-поджидала точно кем-то остановленная, завороженная, такая памятная для них майская прошлогодняя красота. Так же чудесно петляла в дремучих уремах вся розовая от последних отблесков солнца речка, и опять невыразимо красив был погожий майский закат. А они тоже совсем по-прошлогоднему, вдосталь набродившись, долго-долго и с тем же немым восторгом, неподвижно подставляли свои обветренные загорелые лица последнему алому сиянию зари, навстречу заходящему багровому солнцу. Уже вовсю цвел боярышник, заметно набивала бутоны белая и красная жимолость; и даже торопыга-шиповник, густые заросли которого тянулись по всему Черемуховому логу, будто напоказ потряхивал под ветерком своими колючими ветками — почти сплошь усыпанными розовыми точечками первых ранних бутонов.
Чтоб темнота не захватила их, как в прошлый год, так далеко от дома, они за долгие майские сумерки вполне управились выбраться почти наверх, поближе к полотну, к дому. Оба уставшие от быстрого крутого подъема по неудобному откосу Черемухового лога, они с наслаждением присели отдохнуть на его более крутом правом берегу, возле густо разросшегося куста лещины. Да и время уж было переговорить им, как решили: не на ходу, не впопыхах, а совершенно не спеша, обстоятельно, без никаких помех. Ведь потому и так торопились выбраться наверх!
Но едва они присели, как оба разом увидели, что темноты боялись совсем напрасно. Еще не сгустились по-настоящему неторопливые майские сумерки, а из-за зубчатого частокола деревьев левого берега лога уже поднималась будто побагровевшая от натуги полная луна. Бледнея, она на глазах поднималась все выше и выше и, продравшись наконец через острые тополиные верхушки, поплыла в небе уже свободно и невесомо, заливая все своим мягким, неверным светом.
И снова они, совсем было собравшись побеседовать, зачарованные этой красотой, наверное порядочно помедлили. Во всяком случае, собираясь с мыслями, они опять посидели молчком до тех пор, пока в кусту над ними не щелкнул раз, потом еще раз затаившийся соловей. Словно нетерпеливо пробовал: можно ли ему, наконец, разразиться всласть полной трелью?
— Ну, Моря, добрый знак, — посмеиваясь сказал Петр. — Раз дождались мы, что аж соловей над нашими головами защелкал — это, ей-богу, добрый знак! Однако время не дремлет и давай все ж пообстоятельнее обговорим с тобой все по порядку… Прежде всего, конечно, надо решать нам как быть с участками?
— А ты что: иль в «зятьки» в мою будку согласен? — задорно рассмеялась Моря. — Правда, земля на огороде у меня много лучше, да ведь всего не захватишь и не жадничать же нам с тобой опять на два участка? Куры засмеют…
«Умница! Ну-у… молодчина!!» — пронеслось в мыслях обрадованного Петра. Но вслух он, не теряя достоинства главы семьи, твердо и веско сказал:
— Верно… Тем более, что и в дистанции идут крепкие разговоры о том, что наши путейские будки доживают свой век… А по некоторым передовым магистралям, как слышно, многие обходчики уж кое-где полностью покинули свои будки… Доставляются они теперь к месту работы и обратно специальным транспортом, а живут, как и прочие линейцы, в путейских городках…
И тут внимательно слушавшая Моря легонечко, но как-то очень многозначительно потолкала его в бок, и, проследив ее взгляд, Петр разом оборвал себя на полуфразе.
На тропке менее крутого левого берега лога, сплошь поросшем низкорослым кустарником, смутно белели две фигурки, словно о чем-то совещавшиеся. Но вот они осторожно спустились вниз, и уже стало ясно, что это парень и девушка. Оба легко перепрыгнули через ручеек, и еще неуловимо сразу стали похожи на кого-то знакомого и уже невольно вызывали более пристальное внимание. А через минуту, когда таинственная пара оказалась вся освещенной мягким ласкающим светом луны, он уже не сомневался, что это Виталий Пряслов и его Алена.
Петр стремительно повернулся к Прясловой, чтоб немедленно предупредить ее. Но и это было уже ненужно: Марина, не поднимаясь на ноги, явно испуганно отодвигалась в глубь тени, стараясь знаками показать ему, чтобы и он скорее сделал то же самое и даже несколько раз выразительно прижала палец к губам: «Молчи, мол, молчи ради бога: не произноси ни слова!» И Петр невольно торопливо ей подчинился и сам смутился так, словно это не он свою дочь Алену, а она увидала его в Черемуховом логе поздно вечером и не одного.
Виталий и Алена, держась за руки, о чем-то возбужденно рассуждая, прошли наискось от них всего метрах в тридцати — освещенные сбоку яркой луной, с посеребренными оттого затылками, и посеребренными профилями. Сколько-то времени, судя по голосам, покружили где-то выше и наконец сообща, громко обсудили и облюбовали себе местечко по другую сторону именно того, островком разросшегося, куста лещины, у которого уже не жива и не мертва тряслась сразу оробевшая Марина.
Усевшись поудобнее, они опять громко и возбужденно заспорили, видимо нетерпеливо продолжая давно начатый разговор. Первым очень ревниво задал вопрос Виталий:
— Да неужели ты, Аленка, всерьез полагаешь, что запрограммировала себе этот взгляд навсегда? А я так просто убежден, что очень скоро настанет время, когда и ты многое тут поймешь совсем иначе, с гораздо большей широтой взгляда…
— Нет, нет и еще раз нет: я этого ни за что им не прощу, никогда не забуду! — отчетливо послышался в, ответ чистый, словно тщательно процеженный сквозь частые ветки куста, голос Алены. — Ведь кружились они возле матери, точно воронье, годами: все смерти ее дожидались! Кто в этом сомневается?
— Не надо, Аленка, так… ортодоксально, — умоляюще попросил ее ломкий басок Виталия. — Ну ты скажи хоть самой себе по совести: разве от этого она умерла? Видно уж вообще так: где любовь — там и смерть! И любовь — чувство не рациональное.. Вспомни-ка хорошенько великого Гоголя и его Андрия!..
— Да брось ты, Виталька, хоть в откровенном разговоре со мной, эти свои неизменные литературные ассоциации! — уже с нескрываемой злостью одернула его Алена. — Мало, наверное, тебе, что без конца щеголяешь на уроках Вер Иванны! Мне еще процитируй, что: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»…
— Ну и что: бессмертные строчки! — мягко, но упрямо сказал Виталий.
— Да то, что пусть хоть они и разбессмертные, а уж надоело мне без толку говорить об одном и том же… Потому, что получается у нас: поп свое, а черт свое!.. Тоже, называется, нашел мне Ромео и Джульетту? Ведь у отца уж лет пять как… серебрится снегом голова! Да и у твоей мамаши — рассмотрела я еще прошлой зимой, когда рельс меняли! — несколько седых волосков на висках… Вот уж воистину: седина в голову, а бес в ребро! — не удержавшись, злорадно засмеялась Алена.
— Ну вот, а еще утверждаешь, что у вашей сестры, девчат, зрелость мысли наступает примерно лет на пять раньше, чем у нашего брата, ребят, — с нескрываемым сожалением сказал явно опечаленный Виталий.
Ему, очевидно, очень хотелось показать себя не зеленым мальчиком, а рассудительным мужчиной, чтоб его девушка не только крепко-накрепко знала как хорошо и верно умеет любить он сам, но и как зрело и хорошо он понимает любовь вообще. И он явно переживал и маялся, не зная как это поубедительнее выразить. И вдруг, собравшись с мыслями, с искренним изумлением спросил:
— Да неужто ты, Аленка, начисто забыла что читали мы с тобой недавно про эту самую позднюю, самую последнюю любовь у Тютчева?
Он долго и терпеливо выжидал ее ответа и, не дождавшись, видимо уже сомневаясь, что она должным образом помнит столь поразившие его строчки, он медленно, почти нараспев и как-то очень проникновенно выговорил:
— Вот как зарегистрируются они вперед нас — вот тогда тебе и засияет этот вечерний свет…
— Аленка, пусть… Ведь дядя Петя вовсе не плохой человек, а просто какой-то страшно невезучий, он даже очень хороший человек…
— Как это: пусть?! А мы? И как же ты тогда своего хорошего дядю Петю станешь величать: дядя-папа? Или это будет для тебя веский предлог, чтоб разойтись, как в море корабли, нам самим? — И уж без всякого перехода, она вдруг сердито заключила: — Вот моя точка зрения…
— Не точка, а «кочка»: из-за этого мы не можем расстаться, — торопливо и запальчиво сказал юноша, даже с внезапной хрипотцой в голосе. — И вообще, такой подлой акции лично от меня никогда не последует!.. Ты слышишь: ни-ико-огда!!.
Дальше, как видно, уже не надеясь на убедительность своих слов, уже исчерпав их силу, огорченный юноша обнял девушку, потому что послышались звонкие шлейки по рукам и Алена нарочито сердитым голосом выкрикнула: «Да брось ты, Виталик, свои обнимательные рефлексы! И ведь вечно он так: вперед расстроит и разозлит донельзя, а потом уж дает волю своим обнимательным рефле…»
И сразу же звонкий девичий голос Алены оборвался на этом ее «рефле», на полуслове, точно кто-то, возмущенный ее несправедливыми словами, немедленно зажал ей рот ладонью. Но, скорее всего, они целовались, потому что пауза эта, как показалось Петру и Марине, длилась невероятно долго, пока им опять вдруг не ударил в уши счастливый, слегка приглушенный смех и следом не проговорила Алена все тем же притворно сердитым голосом:
— Ну, всегда-всегда ты, Виталик, верен себе: как видишь, что уж не хватает у тебя разумных доводов, — так вместо того чтоб полностью согласиться со мной, ты всегда стараешься поскорее замазать спор поцелуями! — И, наверное, чтоб скрыть возникшую неловкость, она тут же преувеличенно испуганно воскликнула: — Ба-атюшки: роса-то какая незаметно выпала! Надо нам, Виталик, скорее отсюда выбираться… Пропали теперь мои замшевые туфли!
— А ты разуйся…
Она, наверное, немедленно послушалась его совета, разулась, потому что лишь спустя несколько минут бережливая Алена снова очень озабоченно, даже с тяжким горестным вздохом заметила:
— Ну… туфли и чулки теперь спасу, а вот платья… моего любимого белого платьица все равно не убережешь: на кустах ведь росы не меньше, чем на траве! Говорила ведь тебе, что не надо нам на этот бок перебираться. Как будто он никогда луны не видел…
Виталий точно только этого упрека и ждал.
— Давай я тебя понесу, — сказал он.
И, наверное, не ожидая согласия, тут же приподнял ее, потому что Алена разом дико и радостно завизжала и следом все тем же деланно сердитым голосом громко выкрикнула:
«Ой, опусти, Виталик, немедленно! Слышишь?! Ой, да уронишь же ты, сумасшедший, меня или надорвешься!.. Во мне ведь почти четыре пуда…»
Но, несмотря на эти крики, упрямый юноша не опустил девушку на землю: через минуту Петр и Марина видели, как он вышел со своей тяжелой драгоценной ношей на залитую ярким лунным светом поляночку; и как цепко держалась обеими руками девушка, побалтывая на шнурках туфлями, за напрягшийся столб тонкой его шеи. Видели, что длинные ноги юноши заметно подгибались в коленках, что спина его выгнулась дугою и тоже напряглась так, что, казалось, вот-вот белая рубашка не вытерпит и лопнет, а юноша — не выдержит непосильной ноши: уронит ее или упадет сам…
Однако юноша, лишь чуть постояв, справился: поудобнее обхватил счастливо повизгивавшую от страха девушку и вдруг опять — пошел, пошел, пошел вниз к ручью, оставляя за собой на траве свежий росяной след. Даже каким-то чудом он ухитрился без задержек переправиться со своей ношей через ручей и бодро, совсем без отдыха, стал подниматься на левой стороне лога в гору. Белое пятно его рубашки все более смутно мелькало средь низкорослого кустарника, пока не растворилось в лунном свете, не исчезло совсем.
16
Петр и Марина еще долго неподвижно глядели на поросший травой, круто убегающий вниз склон, на проложенный юношей след — словно пристально изучали оставленный им на росяном покрывале загадочный узор.
Не дремлющий, терпеливо затаившийся в кусту соловей щелкнул раз, потом еще раз и, осмелев, вдруг звонко ударил в уши своей мастерской трелью с «коленцами». И, как это ни странно, но именно эта красивая трель, видимо, опытного солиста, сразу заставила Петра будто очнуться и, вспомнив про свое пророчествование о «добром знаке», он горько усмехнулся.
Внешне он по-прежнему сидел неподвижно, спокойно, но внутренне все в нем уже кипело и жгуче протестовало против примитивной, злой и оскорбительной Аленкиной «кочки зрения» на его, слов нет, очень трудное и сложное, но, одновременно, такое сильное, большое и красивое чувство к Марине.
Однако, искоса взглянув на нее, — понуро сникшую, убитую, — он быстро справился с собой и почти обычным голосом проговорил:
— Ну вот и довелось нам с тобой попутно услышать свои характеристики аж от собственных родных деток… Правда, критика была чересчур жесткая и обильная, но вовсе без самокритики, однобокая и потому, как говорится, не всяко лыко в строку… — И, помолчав, он веско заключил: — Хороший у тебя парнишка вырос, а что касается злых Алёнкиных слов и этих ее домыслов, поклепов и наветов: наплевать и выбросить!!.
— Ох, теперь уж навряд ли это выбросишь, а, похоже, чем дальше — тем больше, чаще и горше завспоминаешь, — устало, сквозь слезы отозвалась Моря и тяжко вздохнула.
— Да тут и вспоминать будет нечего — ни счас, ни потом! — решительно сказал Петр. — У нее ведь еще семь пятниц на одной неделе. Давай-ка лучше обговорим с тобой о деле… Когда ж мне, по-твоему, идти в дистанцию с заявлением насчет участков? А то, если время упустим, могут нас тогда за один зря прохолостевший огород и упрекнуть: скажут, ни себе, ни людям… И куда же и когда надумала ты отправиться нам с этим оформлением? Теперь с этим тоже нечего тянуть… Не в том глупом смысле, что кого-то нам нужно опережать, а просто складывается тут все одно к одному: ведь и в дистанции лучше сразу заявить, что мы муж и жена… Вот зарегистрировались, мол, мы вчера и потому так и так: навовсе сдаем один участок, ищите, дескать, как можно быстрее кандидата в освободившуюся будку…
Она тоже отчаянно пыталась справиться с собой, но не могла: долго и бурно плакала. Что-то будто повернулось в ее доброй робкой душе, жуткое новое решение уже было принято, но ее еще страшило резким словом отказа возбудить новую крупную ссору. Да и Петр говорил с такой спокойной деловитой уверенностью (словно сама его судьба уже все решила!), что на сердце ее стало еще тяжелее и от жалости к нему, и она долго не могла; вымолвить ни слова.
И, горько всхлипывая, она лишь коротко ответила наконец терпеливо ждавшему Петру глухим плачущим голосом:
— Петя, уже поздно теперь…
Вначале он не понял ее и принялся спокойно доказывать, что пора еще не больно глухая и все без спешки обговорить у них еще вполне есть время, да и вся-то беседа их продлится не очень долго. И даже нашел в себе силы пошутить, весело добавив: «Чай, это не тягучая планерка у нашего дорожного мастера с участием Бармалея!..»
Моря вскинула залитое слезами лицо, видимо, решилась ответить поподробнее, попонятнее, но переместившаяся луна теперь хорошо освещала Петра и, взглянув ему в глаза, она вдруг почувствовала как в груди и горле, что-то разом защемило, и она опять низко уронила голову.
В ответ, он увидел лишь, что она торопливо закрылась сдернутым с головы платком, прижала его к своему мокрому лицу обеими ладонями, а полные плечи ее начали опять судорожно сотрясаться от вновь подступивших рыданий.
И только когда она снова — и не раз! — повторила ему сквозь свой неудержимый бурный плач это свое неизменное «поздно теперь» — иной, жуткий смысл этой фразы и без подробных пояснений наконец дошел до его сознания. И хотя он еще не поверил этому, а уже успел тревожно подумать, что такое ее решение, если ему суждено сбыться, было бы самым плохим и страшным из того, что еще с ним могло случиться…
Битых два часа уговаривал он потом Марину одуматься и не городить явных нелепостей, не делать столь внезапного, совсем неоправданного, а лишь в недобрый час спровоцированного еще глупенькой зеленой Аленкой решения — такого страшного нового крутого поворота в своей и его жизни! «Полно, Моря, одумайся… Возьми-ка хорошенько себя в руки, не гнись ты — «до самого тына»! — от каждого ветра, не шарахайся из стороны в сторону от любого еще зеленого, незрелого мнения!» — сам очень волнуясь, на все лады внушал он ей и доро́гой и стоя у тына ее огорода.
— Они ж взрослые, не зря через месяц получат аттестат зрелости. А взрослые дети теперь быстро выпархивают из родительских гнезд, — долго и терпеливо внушал он ей. — И тем более не заставим мы своих осесть на веки вечные в наших будках! Да и будки-то эти, я уж тебе говорил, давеча, доживают свой век… Виталий, слов нет, добрый паренек, да все одно, пока еще молода, не грех тебе подумать и о себе: сегодня он дома, а завтра — в армии или учиться уедет… Или хоть пока понаслышке, со стороны, надо вспомнить тебе о незавидной участи тех старых родителей, которых вроде ненароком забывают и самые будто расхорошие их детки-эгоисты, когда вырастают и становятся взрослыми; а они сами вовремя не подумали, что и под старость надо человеку не только спокойный закут, но и сердечное участие.
Но на все его очень взволнованные и не менее путаные доводы (он то опять принимался утверждать, что Аленка еще вовсе зеленая и глупая и потому нельзя давать такой страшной силы и веры ее незрелым и нелепым суждениям, то вдруг снова противоречиво пытался внушить, что их дети теперь взрослые и потому неизбежно, как оперившиеся птенцы, выпорхнут скоро из-под родительского крова!) — Моря, видимо уже потеряв всякую надежду оправдаться, по-прежнему коротко и мрачно отвечала только одной-единственной фразой, лишь задумчиво и рассеянно как бы перетасовывая по-разному ее слова: «Петя, поздно теперь…», «Теперь уж поздно…», «Где уж мне, поздно теперь…»
Она была словно не своя, и или горько плакала, или очень напряженно молчала, видимо о чем-то неотвязно думала, точно силилась вспомнить как и когда ж она в жизни так страшно просчиталась и, с горя растеряв все даты, мучилась теперь, что не могла припомнить.
Видя это, поняв наконец, что Марина хоть и слушает его рассуждения, а вряд ли слышит и уже сам от вдруг свалившейся беды теряя и самообладание и терпение, Петр с отчаяния стал упрекать ее в вероломстве, говорил, что ей опять, видимо, захотелось повыламываться, покуражиться над ним… И вдруг бухнул ей с горя и отчаяния, даже не подумав, свою старую прошлогоднюю угрозу:
— Ну, Моря, если тебе уж так охота бесперечь дурью мучиться и выламываться, то и я ведь тоже не из дерева!! — вдруг резко и грубо сказал он. — Сдам в дистанцию совсем иное заявление и больше ты меня здесь не увидишь: все ж таки, видно, судьба мне выехать в Ставрополье!..
В раздражении и запальчивости, он легко выпалил в Марину свою старую угрозу, но едва это проговорил, сам ужаснулся и невольной грубости своих слов и тем, что опять ненароком ворошит, да еще в такую ранимую минуту, ее давнюю обиду. Он ждал ее ответа с нескрываемым волнением и страхом, уже невольно ежась от мысли, что она опять молча повернется и уйдет. И ей, как видно, очень неприятно было это напоминание о их длительной прошлогодней ссоре, давней и так хорошо изжитой, она даже зябко передернула плечами. Но, тем не менее, на опухшем от слез лице ее мелькнуло подобие какого-то оживления, точно вдруг сверкнул перед ней в темноте единственный выход. И следом она глухо, прерывистым сдавленным голосом сказала:
— Выезжай, Петя, не мешкая… И правда, что ж тебе теперь здесь оставаться — уезжай к брату!.. Оно, может, и взаправду так-то легче обернется: с глаз долой и из сердца вон…
17
Расстались они, как в тумане, точно в дурном сне. Опешивший от ее жуткого откровенного совета «выехать, не мешкая», Петр даже не помнил, что же такое он сказал ей еще при самом расставании, отчего она опять горько заплакала. Кажется, он только всего и спросил: о ком же она теперь больше всего хлопочет? И только пройдя треть пути до своей будки, немного остыв, он вспомнил и пожалел, что не только не поцеловал ее, не сказал спасибо за все доброе, но и вроде не сказал даже ей, женщине, тоже страшно расстроенной и убитой, ничего по-мужски бодрого, не протянул руки, даже не пожелал спокойной ночи…
Подавленный, как никогда уставший, очень расстроенный и мрачный, домой он брел тяжелой шаркающей походкой, уж не держа голову прямо, сутулясь точно старик.
Медленно подойдя вплотную к будке, он увидел, что наружная дверь плотно притворена и, значит, закрыта на крючок, а Алена дома и преспокойно спит, И так что-то опостылела ему и будка и эта уж бессмысленная теперь необходимость опять по-воровски, через окно, добираться до своей жесткой койки, что он даже рукой махнул. Уверенный, что сна теперь все равно не дождешься, он отошел от крыльца метров на семь и грузно опустился под кленом на широкий, годами служивший для хозяйственных нужд чурбак.
Долго сидел, низко уронив взлохмаченную голову, и впервые в жизни мрачно чувствовал он, что неуютно ему стало и тесно, и тоскливо, как стареющей женщине. Наверное потому, что и он, как недавно Моря, — все бесплодно старался додумать, чем же и когда прогневал он свою судьбу, что она так беззаконно с ним поступает? Быть может, когда вернулся он из госпиталя контуженный, как говаривала Уля «сам себе не радый» и вина его в том, что вдруг трепетно потянуло их друг к другу? Или уже много позже, после беды с Улей, когда невольно и страстно полюбил он потом иную женщину, его женщину, эту славную своенравную и суеверно-робкую Морю?
Так разве можно беззаконно казнить, хоть и самой судьбе, за то, что человек полюбил человека! По-настоящему полюбил!!.
Смутно понимая, что не теперь, не сейчас ему решить это, так упорно ускользавшее от осмысления, он продолжал упрямо и мрачно стараться додумать все разом до конца: и внезапное отдаление, даже почти отчуждение Мори, и свою судьбу. И в его уставшем, полузаснувшем мозгу разом зароились вопросы один другого сложнее. Он уже беспощадно упрекал себя в том, что не оценил, не вытерпел до конца доброту и жалость Ули. И, что греха таить, порой видел в ее уступчивости и покладистости, в ее доброте и душевной мягкости лишь слабость, даже безвольную, обреченную расслабленность. Да и вообще-то он, как и многие, не всегда в доброте видел обаяние, а что это самое драгоценное качество человеческого характера, — не понимал, кажется, вовсе.
А вот теперь наконец понял и потому-то особенно больно горько сознавать и вспоминать, что Уле он, кажется, все старался дать понять, что ему больше по душе суровость, особенно в последнее время… Вот, должно быть, потому он и казнит так бесперечь себя за то, что не сказал ей эти шесть букв, не успел промолвить свое последнее искреннее «прости»; и даже за то, что буквально ни разу не удалось ему увидеть ее потом и во сне… А ведь сны грезятся ему почти каждую ночь, но почему-то заполняет их неизменно — только Моря…
И тотчас же, точно в ответ на его горькие сетования, дверь будки широко распахнулась и на сильно освещенное из окна крыльцо вышла Уля. А в доме свет горел так ярко, празднично, что даже при луне заметно пламенел он на правой щеке Ульяны и красивым отблеском, как звездочка, искрился на гребне в ее густых вьющихся волосах. И хоть, кажется, понимал он, что это ему лишь приснилось, что Ули теперь нет и он может увидеть ее сейчас, к сожалению, только так, не въявь; но и во сне он был очень благодарен ей за то, что приснилась она столь юной, цветуще здоровой и не обиженной, сердитой, а, напротив, очень довольной, доброй.
Она, кажется, тоже еще не совсем пришла в себя от сна и лишь сейчас просыпалась на крыльце. Ей, вероятно, вспомнилось что-то недавнее, веселое и приятное, так как она с томной улыбкой всмотрелась в луну, сладко потянулась перед ней и приглушенно, счастливо засмеялась.
Но он ничуть не осудил ее за этот непонятный и, немного неуместный, счастливый смех — она ведь могла и не знать о сегодняшней его беде? А осудил лишь за чересчур высоко обнаженные полные ноги, — точно у са́мой голенастой городской модницы! Да и эта трикотажная сорочка тоже чересчур плотно приклеивалась к ее очень пышным формам, а полная, но девически упругая грудь ее торчала уж и вовсе вызывающе, почти порочно.
Однако он умышленно промолчал об этом, теперь догадливо воздержался от любого сурового слова, не без тайной мысли, что она сейчас, быть может, скажет ему что-то сама. И опять она, точно в ответ на его мысли, тотчас же испуганно вгляделась в его сторону и, узнав, с изумлением проговорила:
— Ты почему, отец, не ложишься и сидишь здесь, на чурбане? Почему не спишь ночью?
Петр не знал, спал он или нет: когда Уля вдруг заговорила с ним голосом Аленки, он невольно насторожился, уже сомневаясь, сон все это или явь. Он сделал над собой усилие, чтобы очнуться совсем, но тут внезапно Уля исчезла, а лунный свет, ярко освещенное из окна крыльцо, пламенеющая от него щека и даже звездочка на гребешке — все это каким-то чудом осталось, как во сне.
Только вместо Ульяны на крыльце теперь стояла его Аленка и, пожимаясь от ночной прохлады, тревожно допытывалась:
— Ты почему, папа, не спишь? Что-нибудь страшное на дороге случилось?
Окончательно поняв, что он из своего летучего сновидения опять вернулся на землю, к своей неизживной беде, он невольно с сожалением взглянул на луну, на слабо мерцающие в ее свете звезды, будто он только-только побывал там и его насильно вернула оттуда Аленка.
О, как ему захотелось в этот миг начистоту поведать дочери почему он не спит, по-человечески сказать ей, что страшное в эту лунную ночь случилось не на железной дороге, а претерпела, кажется, уж окончательное, непоправимое и страшное крушение вся его жизненная дорога… Кому ж это сказать, как не ей? Ведь она его любимая и единственная дочь; и она давным-давно так его не называла: отец, папа! Но это было только один миг, а в следующий досужая память уже без спроса и молниеносно подсунула ему непоколебимую, как выразился Виталий, «кочку зрения» Аленки…
Когда он, минуту спустя, снова посмотрел на землю, на крыльцо, его взгляд упал на все еще ждущую ответа дочь и он даже короче, суше и холоднее, чем хотелось ему сейчас, сказал ей:
— Иди и спи спокойно. А на железке пока все в порядке, ничего на дороге не случилось…
Нетвердо ступая босыми ногами, даже пошатываясь, Аленка молча и удовлетворенно сошла со ступенек крыльца. Медленно скрылась за углом дома. Через минуту, обойдя его кругом, бесшумно появилась с противоположной стороны. Сонно зашла на крыльцо и с минуту рассеянно постояла на нем — вся залитая неверным лимонным светом: видная, крупная, ладная. Повернувшись к луне, с хрустом потянулась перед ней. Опять сколько-то времени с томной, все более и более иронической улыбкой всматривалась в ее загадочный лик: быть может, уже сомневаясь спросонок чтоб можно было прошагать по ней землянам, людям. По-видимому, уже досыпая на ходу, снова вспомнила что-то очень приятное, тоже как-то связанное с луной; и, уходя в будку, опять приглушенно и счастливо засмеялась. И наверное без минуты промедления улеглась досматривать свои сладкие сны, потому что свет в окне мгновенно погас.
Он проводил ее глазами и долго сидел не шелохнувшись, не зная сновидение ли его посетило или от страшной устали и тяжкости он уже грезит наяву? Думал, как потрясающе, оказывается, похожа Аленка на молодую цветущую Ульяну: и чистым красивым лицом, и полным статным корпусом, и гордой осанкой и точь-в-точь такая же она, как была в юности Уля, рослая, сероглазая и русоволосая…
Но тогда почему же она, совершенно вылитая в мать физически, вовсе не унаследовала ее доброты и великодушия и, теперь хоть самому-то себе надо сказать честно и прямо: необычной силы ее глубокого жизнелюбивого характера? Почему выросла его Аленка такой трудной, черствой, холодной, с каким-то мелким, уже заметно вывихнутым, бездушным, себялюбивым эгоистическим характером?
Неужели потому, что Ульяна так долго была лишена возможности влиять на нее полностью? Или так просто передается сходство и родство только физическое, а духовное лишь прививается, воспитывается, приобщается, накапливается и впитывается капелька по капельке и даже благоприобретается с самого нежного возраста? А долгое тяжкое состояние Ульяны, все сложное и трагическое, что снежной лавиной свалилось на семью, очень и очень помешало этому? И потому, что всем в семье было трудно, в результате именно этих тяжких обстоятельств и у самой Аленки и жизнь и характер сложились трудные?
А, быть может, если взять самое последнее время, он сам незаметно оказался тут больше всего виноват? Ведь ко всему и без того сложному и трагическому в семье, он сам под конец, кажется, невольно, но изрядно подбавил и сложности и трудности? Но почему ж тогда Марине посчастливилось вырастить такого доброго и душевного паренька?
И опять смутно понял он, что и это не теперь, не сейчас ему решать, а быть может, даже всей оставшейся жизнью. В его утомленном, точно окоченевшем от бессонницы и устали мозгу и это сейчас никак не хотело поддаваться, будто нарочно ускользало от окончательного осмысливания. И тем не менее, он опять не мог, не хотел противиться своему страстному желанию разобраться и тут немедленно: долго упрямо старался додумать и здесь все разом и до конца. Пока не изнемог уж окончательно и, низко уронив взлохмаченную голову, не забылся сидя на своем чурбаке тревожным, тяжелым сном.
Когда он очнулся и огляделся — луны уже не было. Недавно искрящиеся и глазастые, звезды тоже уж не моргали, побледневшие и поредевшие они, казалось, утомленно закрыли свои ресницы и теперь, не мерцая, едва просматривались на посветлевшем небосводе. А на востоке, у самого горизонта, небо заметно розовело.
Поняв, что начинается рассвет, Петр тут же вспомнил все вчерашнее и сразу же с тревогой подумал: что-то он ему сулит? Одумается ли сегодня Моря и в полдень ему снова ласково и радостно будет светить майское солнце или уж так и останется с ним на веки вечные эта сегодняшняя ночь? И мысли его, разбежавшиеся было ночью в разные стороны, снова были о ней, о Море. И так что-то ему теперь стало опять невмоготу от одной лишь несносной и уж не новой догадки, будто она ни за что не сменяет свое вчерашнее решение, что он даже головой покрутил и громко застонал. Тогда что ж ему остается: по-бабски выть и кричать в голос, что он без нее жить не может?!.
В этот миг ему вдруг страстно захотелось, чтоб подошел к нему хоть кто-либо со словами утешения… Ну хоть бы подвернулся каким-либо чудом даже этот несносный Бармалей и сказал ему со своей обычной циничной ухмылкой: «Да брось ты, Лунин, так тосковать и совсем уж по-бабски убиваться-то! Ты, брат, ешь солому, а хворс не теряй! Да еще и куда она, твоя зазнобушка, если разобраться с толком… денется от тебя со своими рябинами, со своей собственной вдовьей тоской?»
Но некому это было сказать: кто к нему на рассвете, на глухой линии мог подойти? И он продолжал сидеть на своем чурбаке один на один со своими мыслями и с тоской думал, что уж хоть бы скорее все это окончательно выяснилось; и уж побыстрее бы, что ли, доживали свой век эти окаянные путейские будки, где он наверное скоро будет чувствовать себя совсем неприкаянным…
Свежо потянуло предрассветным ветерком. Оживленно зашепталась в густой кроне клена листва. Дружно закачались, будто очнувшись от ночной дремы, верхушки кустов защитной полосы. Сонно зашевелились цветущие головки травы. И вдохнув всей грудью эту раннюю утреннюю свежесть, Петр даже подумал, что тоску и тяжесть, так немилосердно давившие его всю ночь, быть может хоть чуть-чуть рассеют и смягчат наступающее утро, солнце.
И незаметно надежда, эта родная сестра отчаяния, опять поманила и подбодрила его своим обманчивым утренним приливом. «А может, и Моря уж давно одумалась и теперь сама ждет не дождется дня и страшно переживает? — стремясь еще больше подбодрить себя, подумал он. — Уж больно она вчера расстроилась, загоревала, наплакалась и даже вроде чего-то перепугалась!.. Вот от всего этого и потеряла она вчера голову!!.»
Наблюдая как уверенно разливается на востоке уж не узенькая розоватая, а все заметнее ширящаяся, все ярче рдеющая полоса, он почему-то вспомнил Виталия. Вспомнил и тепло подумал, что этот-то паренек, — добрый, славный и лишь чуть-чуть странный из-за своей любви к книжным выражениям, — наверное неплохо его понимает. И глядя на все жарче и шире разгорающуюся утреннюю зорьку, даже попытался припомнить те проникновенные, ну прямо-таки за душу берущие слова о любви последней, что громко «цитировал» он в споре с Аленкой…
Но как ни напрягал он память, а вспомнил лишь, — да и то не в лад! — что и там как-то особенно хорошо сравнивалась эта любовь последняя с вечерней зарей; и даже очень душевно и тепло подмечалось, что она всегда и нежная и суеверная… «И как же это здорово сказано, и красиво, и как все до тонкости верно! — быстротечно, с запоздало прихлынувшей благодарностью, словно он обрел наконец себе неведомого, но могучего защитника и союзника, подумал он. — Ну разве можно любить еще нежнее, чем любит он теперь Марину? И уж куда ж оказать себя в любви более суеверной, чем проявляла это постоянно и особенно показала вчера вечером его умная, добрая, славная, своенравная и суеверно-робкая Моря?!.»
Потом в будке настойчиво задребезжал звонок. И он, всю ночь стремившийся непременно додумать обо всем до конца, даже обрадовался этой помехе. Теперь вроде уж и нельзя «додумывать» все, а надо немедленно подниматься с чурбачка и думать только о деле, действовать: встречать и провожать поезд.
Осторожно и легонечко, чтоб не потревожить жарко разметавшуюся во сне Аленку (а с детства привычные звонки и шумы поезда никогда ее не будили!), он прошел на цыпочках в будку, быстро переоделся в форму, надел фуражку, сиял с гвоздя кожаный футляр с флажками и, стараясь ступать так, чтоб не скрипели половицы, вышел встречать первый утренний пассажирский поезд.
Став у обочины, он привычным движением вынул из чехла туго накатанный на палочку сигнал, аккуратно развернул его. Затем заботливо одернул и оправил изрядно выгоревшую на солнце, но еще вполне опрятную железнодорожную форму, старательно поправил фуражку. И по годами укоренившейся привычке, даже не делая над собой усилия, сразу же принял то необыкновенно самоуверенное и спокойное выражение хорошо знающего свое дело человека, чем так отличаются всегда на посту продубленные ветром и солнцем лица опытных путевых обходчиков — неизменно гордых своей очень ответственной профессией.
Только в этот раз, он и сам почему-то невольно быстротечно подумал, что уж очень, наверное, бывает иногда обманчив внешний вид человека. Поезд мчится мимо, еще ранняя рань, а все равно какой-либо бессонный горожанин, сам уставший и задерганный, завидя уверенного и хладнокровного человека с высоко поднятой рукой — невольно позавидует его спокойствию. Поезд пройдет быстро, а все равно этот пассажир увидит и порозовевший туман над заманчивым Черемуховым логом и буйно разросшиеся рябины Прясловой, и тот раскидистый клен, под которым он так ужасно промаялся всю ночь, и его самого — теперь подчеркнуто подтянутого, спокойного, даже самоуверенного, гордого.
Увидит пассажир все это и, может, страстно позавидует и разлитой вокруг тишине, и этому благостному покою, и аккуратным домикам-будкам в зелени деревьев, и главное: бронзовому загару, телесному и душевному здоровью и граничащей с самодовольством важной уверенности этого человека с высоко поднятым сигналом в правой руке…
И, наверное, никогда, ни за что он не подумает, что этот с виду уравновешенный счастливый человек мог и тут, в этой благостной тиши и покое, целых семь лет переживать свою драму, и конечно не поверит, что опять тут на очереди горе, тревога, беда… Но уж тут, видно, ничего в этой неписаной традиции не изменишь — так надо: человек, который сигналит машинисту, что путь открыт и безопасен, должен всем своим видом показывать и внушать пассажиру, даже самому издерганному и бессонному, только одно: «Ты видишь, как я строг, горд и абсолютно спокоен? А почему? Да потому, что все в порядке и стальной путь на моем участке в идеальном порядке… Потому, что я отлично знаю свое дело, понимаю свой долг, свою роль и хоть хорошо известна мне мера моей ответственности, а я все равно преспокойно могу тебе даже всем своим видом показать, что путь безопасен…»
Поезда еще не было видно, а ногами он уже привычно ощущал едва уловимую дрожь земли и потому как она вздрагивала он твердо знал, что вот-вот вынырнет на подъеме и поезд. Внезапно выскочит с разгона на ровное место (как говорят путейцы: «на площадку»!), изогнется на миг гусеницей, тепловоз приветливо и призывно загудит ему и, всего через минуту, поезд налетит на него в своем энергичном грохоте и веселом сверкающем блеске стекол, обдавая ветром — взметая по пути завихрившийся под колесами песок…
И вдруг на востоке, куда он глядел поджидая поезд, выглянуло прямо из-за усадьбы Прясловой солнце и стремительные лучи его дружно брызнули золотом — и сразу по-новому, ярко и радостно озарилось все вокруг.
Начинался новый день.