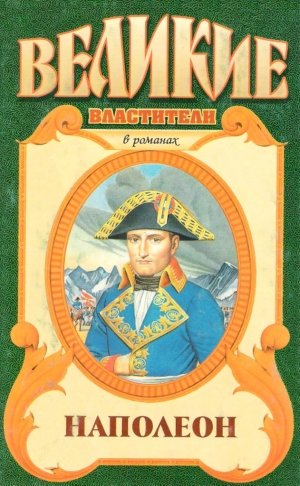
Из энциклопедии «Британика».
Издательство Вильяма Бентона,
1963, т. 24
НАПОЛЕОН I (1769—1821) — император Франции. Наполеон Бонапарт родился в Аяччо, или Аяччио (остров Корсика), 15 августа 1769 г., на следующий год после воссоединения Корсики с Францией[1]. Его отец, Карло Буонапарте, адвокат по профессии, несомненно, имел благородное происхождение, представляя в качестве делегата корсиканскую знать в Париже. Мать Наполеона, Летиция Рамолино, была женщиной необычайной красоты и сильного характера.
В 1779 г. К. Буонапарте был послан с миссией в Версаль и взял с собой своего второго сына, Наполеона, которого отдал в обучение за казённый счёт в Военную академию в Бриенне.
Ранний период жизни. В 1789 г. Наполеон, двадцати лет от роду, стал активным участником Революции, не имея никаких ясных позиций относительно политических идеалов и взглядов, которые искренне принимались или отвергались другими французами. Ещё в 1785 г. он, второй по старшинству после брата Жозефа, согласно воле умирающего отца стал главой семьи. Он познал на себе нищету; на нём лежал главный груз ответственности за судьбы и благополучие матери, братьев и сестёр. Успех был необходим ему больше, чем другим, и грандиозные политические события 1789 года[2] способствовали воплощению его амбициозных планов.
Войдя в Революцию со всей пылкостью своего характера и без колебаний примкнув к якобинцам[3], он, однако, не потерял способности хладнокровно оценивать события. Необходимо также помнить, что, начав свою учёбу в Бриенне, он завершил её в Военной школе Парижа (1784—1785), где получил очень основательную подготовку как будущий офицер артиллерии. Поэтому совершенно неверно представлять Наполеона гениальным самоучкой, открывавшим заново законы стратегии и тактики.
Закончив Военную школу, он в чине младшего лейтенанта служил в гарнизоне Оксонна, где получал наставления от барона дю Тейля, который приходился братом автору знаменитого труда по артиллерии. Наполеон всегда высоко оценивал свой опыт, полученный в этот период службы.
Получив звание лейтенанта в 1791 г. в период реорганизации артиллерийских частей, он в течение трёх месяцев служил в Валенсе. Здесь он продолжил своё обучение и даже написал эссе для представления на конкурс в академию Лиона: «Каковы принципы и законы, необходимые для всеобъемлющего счастья человечества?» Он изложил свои идеи в стиле и духе Жан-Жака Руссо[4]. Когда годы спустя Талейран[5] показал Наполеону его эссе, тот бросил свой труд в огонь.
С сентября 1791 по май 1792 г. Наполеон пробыл на Корсике. Ввязавшись в местную политическую интригу, он просрочил свой отпуск и подпал под действие закона, карающего дезертиров и эмигрантов. Но 20 апреля 1792 г. законодательное собрание объявило войну Австрии. Возникла большая потребность в офицерах. Так вместо того, чтобы быть подвергнутым наказанию, Наполеон, чьё революционное рвение было хорошо известно, был произведён в капитаны. В течение нескольких месяцев он оставался в Париже, став свидетелем великих событий Революции. После сентябрьских расправ он отправился в Аяччо, чтобы забрать свою сестру Элизу из монастыря, закрытого согласно революционным законам. Это был его последний визит на свою родину.
В сентябре 1793 г. Республика, сама объятая гражданской войной и объявившая войну половине государств Европы, переживала период анархии. В это время Бонапарт, будучи якобинцем, имел прекрасную репутацию артиллерийского офицера. Кроме того, ему протежировали брат Робеспьера[6] и депутат Саличетти, земляк Наполеона. В этот критический момент стал крайне необходим захват Тулона, жители которого восстали против Конвента[7] и призвали на помощь британскую эскадру. Требовался офицер, умеющий проводить осадные операции. Выбор пал на Бонапарта.
После падения Тулона в декабре 1793 г. Наполеон был произведён в бригадные генералы, а в феврале 1794 г. назначен командующим артиллерией французской армии, расположенной в Италии. Оставшись в подчинённом положении, Наполеон всё ещё не мог занять видного места в государстве. Несколько последующих месяцев — период Террора[8] — он провёл, инспектируя фортификационные сооружения, и даже был заподозрен в том, что способствовал реконструкции старого форта в Марселе, городе, также поднявшем мятеж против Конвента. Когда он вернулся в Италию, на него надвинулась новая гроза. После 9 термидора[9] контакты с якобинцами ухудшили его положение. Обвинённый в предоставлении младшему Робеспьеру некой важной информации, он был арестован, однако вскоре отпущен за недостатком улик. Тем не менее его позиция была крайне шаткой. Находясь в Италии под командованием нервного Шерера[10], он не смог в полной мере проявить свои способности. Кроме того, как истинный солдат, он отнёсся с негодованием к операции в Вандее[11] и отказался от командования пехотной бригадой, брошенной против западных роялистов. Вследствие этого военный министр отстранил его от активных действий.
Вновь испытывая жестокую нищету, Наполеон был вынужден продать свои книги и часы. Он подумывал о том, чтобы поступить на службу к турецкому султану с целью реорганизации его армии. Мадам Тальен, супруга одного из членов Конвента, заинтересовалась им в тот момент и сумела устроить его примирение с властями. Когда Келлерман[12] потерял свои позиции на Апеннинах, вспомнили, что Бонапарту известна Италия. Его пригласили для консультаций и приписали к армейской топографической службе.
В то время — осенью 1795 г. — Бонапарт всё ещё не имел известности. Казалось, что Фортуна стойко противостоит ему. Трофеями кампаний, в которых он участвовал, остались разве что болезни: экзема и, вероятно, малярия, которые сильно истощили его здоровье. Низкорослый, худой, с желтушным лицом, скверно одетый, он выглядел очень непривлекательно, и при взгляде на него никому не могло прийти в голову, что это — будущий император Франции.
Для его возвышения потребовался путч и новая гражданская война, которые дали ему шанс оказать республиканскому правительству неоценимую, спасительную услугу. Осенью 1795 г. большинство парижан было крайне возмущено дороговизной продуктов, наплывом ассигнатов (постоянно падавших в цене кредитных бумаг) и непрекращающейся войной. Конвент, объявивший, что согласно конституции его члены должны остаться у власти, своей акцией спровоцировал путч, который из-за нерешительности генерала Мену поначалу имел успех. Конвент назначил депутата Барраса командующим внутренними войсками. Тот, помня о способностях Бонапарта и его роли при осаде Тулона, добился назначения Наполеона вторым командующим. Молодой генерал, внезапно получивший полный контроль над ситуацией, отдал серию молниеносных приказов, опередил мятежников, едва не захвативших артиллерию, и расстрелял их из орудий на улице Святого Гонория. Меньше чем за день он подавил мощное выступление роялистов (13 вандемьера — 4 октября 1795 г.). Так он спас Республику и заслужил кличку Генерал Вандемьер.
Итальянская и Египетская кампании. Первой его наградой была рука Жозефины, прекрасной креолки, вдовы виконта Богарне, казнённого в период Террора. Хотя генерал был шестью годами моложе её, она предчувствовала, что тот стоит на пороге великой карьеры и замужество спасёт её от нищеты. Второй его наградой стало назначение главнокомандующим Итальянской армией. Подобно Жозефине, правительство республики переживало тяжёлые финансовые трудности. Солдат нечем было кормить. Оставались надежды на то, что войска прокормят сами себя на захваченных территориях. В начале марта 1796 г. Бонапарт женился на Жозефине, а в конце месяца отбыл в штаб, находившийся в Ницце.
Его армия состояла из тридцати тысяч голодных солдат, испытывавших нужду во всём. Наполеон обратился к ним с прокламацией, получившей историческую известность: «Вы голодны и все до одного раздеты... Я намерен повести вас в самые плодородные долины мира. Перед вами — великие города и богатые земли; там мы обретём честь, славу и богатство». Он вступил в Италию 10 апреля. План кампании — блокирование Пьемонта[13] от австрийской армии — был очень прост, и Наполеон успешно исполнил его благодаря мощным ударам в Монтенотте, Миллезимо и Дего.
Проводя военную кампанию, Наполеон не забывал, что он остаётся генералом Революции, и обращался к итальянскому народу с прокламациями, написанными на «языке свободы», притом в уважительном тоне по отношению к Католической церкви. Напуганный король Сардинии, Виктор Амадеус, по совету архиепископа Турина запросил мира у армии, «не имевшей ни артиллерии, ни кавалерии, ни башмаков на ногах». Римский Папа, а также герцоги Пармы, Модены, Тоскании не замедлили последовать этому примеру. В мыслях Наполеона стали возникать великие политические планы, однако поначалу ему надлежало разбить австрийцев. Это был его первый опыт проведения широкомасштабных операций. Беспримерный по храбрости бросок на мост в Лоди сразу сделал его имя известным по всей Франции и, можно признать, по всей Европе. В тот день солдаты, по старому обычаю, посвятили его в капралы, и так у Наполеона появилось новое прозвище — Маленький Капрал.
В мае, спустя несколько недель после того как он стал командующим армией оборванцев, его войско с триумфом вошло в Милан. Он смог доложить Директории: «Республика держит всю Ломбардию»[14]. В то же время он получил из Парижа приказ, разрушавший все его планы. Уверенный в том, что отставка не будет принята, Наполеон отправил прошение о ней, а сам, дожидаясь ответа, погнал австрийцев, чьи генералы, «верные старой системе ведения войны, рассредоточили свои части на пути человека, который предпочитал удары мощными силами». Чем дальше Бонапарт продвигался с такой малочисленной армией, тем требовался всё больший военный талант и всё большая отвага. Эти «чудеса гения и храбрости» были увенчаны победой в Риволи. «Ни один из генералов не был способен сделать подобное за четырнадцать месяцев». Он вынудил Австрию заключить мир. Основанные им республики, занимавшие большую часть итальянской территории, были устроены по образцу французского режима. Была начата подготовка по их аннексии. Реквизиции, проводившиеся без подсчёта захваченных ценностей, позволили обеспечить армию; при этом часть ценностей была отослана в Париж. Наконец, когда республиканцы потеряли большинство в высших органах власти и стали нуждаться в поддержке, Бонапарт, хотя имел причины быть недовольным Директорией, послал им своего подчинённого — Ожеро — с целью проведения «силовых акций», направленных против роялистов и «умеренных». В этот период роялисты и «умеренные» стремились к миру, в то время как Бонапарт поддерживал якобинцев в защите «естественных границ» Франции.
На данном этапе Бонапарт достиг своих целей посредством подписанного в Кампо-Формио договора (17 октября 1797 г.), согласно которому австрийский император отдавал Франции Бельгию и левый берег Рейна. Этот договор, ставший победой внешней политики, способствовал продолжению войны. Для окончательного утверждения этих завоеваний нужна была поддержка со стороны Британии, а таковой быть не могло. Отныне Наполеон был вынужден противостоять английским интересам на континенте, и это противостояние в конечном итоге привело его к полной катастрофе.
Резкость его натуры и популярность в народных массах вызывали подозрительность властей предержащих, несмотря на огромные услуги, оказанные им Республике. Со своей стороны он презирал коррумпированное правительство Директории — «правительство законников», — как якобинцев, так и «умеренных». Вскоре он осознал, что вторжение в Англию не имеет шансов на успех. С другой стороны, он считал благоразумным на время покинуть Францию. Восток всегда привлекал Наполеона. «Великие дела можно совершить только на Востоке», — говорил он. Египет, по его мнению, был ключом ко всему миру. Эта идея витала во Франции ещё в эпоху Людовика XIV[15]. Наполеон решил нанести удар по мощи Британии путём захвата Египта и путей в Индию и тем самым поразить воображение соотечественников. Директория одобрила его план.
Египетская экспедиция должна была понудить Англию к признанию территориальных претензий Революции. Но у Франции не было военного флота — в этом заключалась слабость как самого плана, так и всей антибританской политики в целом. Хотя, по счастливому стечению обстоятельств, Наполеону удалось высадить свою армию у Александрии (1 июля 1798 г.), месяц спустя Нельсон[16] уничтожил французский флот у Абукира. С этого момента египетская экспедиция превратилась в авантюру. Блестяще проведённая всего за три недели кампания по захвату Каира, а затем и всей страны практически не имела смысла. Тем не менее для завершения своего грандиозного плана Наполеон предпринял завоевание Сирии. Крепость Акра под командованием адмирала Сидни Смита выстояла. «Этот человек отнял у меня мою судьбу», — заметил позже Наполеон.
18 брюмера и консульство. По сути дела, экспедиция потерпела провал. Бонапарт осознал, что оставаться в Египте бесполезно. В то же время новости из Франции убеждали его, что на родине воцарился хаос. Правительство, не зная выхода, металось между якобинцами и «умеренными». Война в Германии продолжалась, а в Италии республиканская армия отступала. Реставрация монархии казалась неизбежной. Республику мог спасти только военный лидер.
В этот критический момент Бонапарт решил вернуться. Он отважно поднялся на палубу фрегата, ускользнул от британских кораблей, рыскавших по всему Средиземноморью, и высадился на европейском берегу 8 октября 1799 г., приветствуемый криками: «Да здравствует Республика!» В нем видели единственное спасение и от хаоса, и от Бурбонов[17]. Без него все завоевания Революции теряли смысл. Эта ситуация крайне важна для понимания знаменитого государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.).
Не подлежит сомнению, что этот переворот готовился в верхах. Не один Бонапарт стоял у руля государства. Ему даже не пришлось предлагать своих услуг; притом он не был принуждён к действию. Просто-напросто выбор пал на него. Могущественный член Директории Сийес[18], хотя и являлся одним из убийц короля, надеялся, что теперь страну может спасти только диктатура; себя он видел во главе её, а Бонапарта — своей правой рукой. Сопротивления можно было ожидать лишь от некоторых политических кругов, от собраний и, возможно, от армейских частей, в которых были сильны якобинские настроения. Заговорщики надеялись на широкую общественную поддержку. Важно отметить, что переворот был подготовлен. Сийесом, который занялся «обработкой» парламентариев, в то время как Бонапарт стал своего рода исполнительным агентом для обеспечения поддержки в армейских кругах.
Поводом к действию должен был стать вымышленный «заговор террористов». Однако неожиданные обстоятельства внесли в исполнение плана серьёзные поправки. 18 брюмера началось в точном соответствии с этим планом: законодательные собрания назначили Бонапарта командующим войсками. Верхняя Палата, или Совет Старейшин, утвердила назначение, однако якобинцы Нижней Палаты, или Совета Пятисот, встретили генерала возгласами: «Долой диктатора! Объявить его вне закона!» Бонапарт потерял нить своего выступления, переменился в лице и в один миг оказался окружён злобной толпой депутатов. Положение спас его брат Люсьен, который был президентом собрания. Объявив, что нарушено право свободы слова, он швырнул свои президентские регалии и бросился во двор поднимать солдат, всё ещё недоумевавших, как им поступить в этой ситуации. Увидев у Бонапарта кровь на лице — тот в возбуждении случайно оцарапался, — солдаты решили, что командир ранен. Племянник Бонапарта, генерал Леклерк, приказал своим гренадерам очистить зал от бунтующих депутатов. В тот же вечер Совет Старейшин избрал Бонапарта, Сийеса и Роже-Дюко «консулами».
Бонапарт продолжил дело Революции «монархическим методом». Используя «идеологии» в качестве ступеней к власти, он показал Франции, кто стал её истинным хозяином. В конституции, созданной Сийесом, он утвердил только те пункты, которые устраивали лично его.
Незамедлительно Бонапарт стал «первым», и единственным, консулом, избранным на десятилетний срок. Общественное мнение способствовало его неограниченной власти. Народ устал от насилия и беспорядка. Многие, нажившись на Революции, страшились, что с возвратом Бурбонов награбленные богатства будут возвращены первоначальным владельцам. Новый режим устраивал большинство.
Вместе с тем концепция «естественных границ» была неразрывно связана с идеологией Революции. Войны были неизбежны, поэтому правление Бонапарта только отсрочило окончательную катастрофу.
Первой задачей Бонапарта было восстановление порядка и контроля над администрацией. Отсутствие предубеждений стало его важным достоинством. Получив французское образование, но не являясь французом по происхождению, он не презирал «старый режим» и не испытывал по нему никакой ностальгии. Это позволило ему принять сильные стороны монархической системы и отказаться от недостатков революционной демократии. Революция создала выборную систему, охватившую все уровни власти: общественные институты, магистраты, полицию — систему, погубившую не одно правительство. Бонапарт заменил выборные комитеты префектами и субпрефектами. Не желая восстанавливать полную независимость магистратов, которую парламенты обычно используют в борьбе с монархией, он дал правительству право назначения на магистратские должности, сделав их постоянными. Так, использовав опыт монархии и революции, Бонапарт создал систему, известную как Конституция VIII года и основанную на административной централизации власти. Эта система, подчинившая нацию государству, оказалась настолько удобной для любого правительства, что была признана последующими режимами и с небольшими изменениями сохранилась по сей день.
Поначалу Бонапарт оправдал надежды, связанные с переворотом. Нация хотела мира, и он выступил в роли миротворца. Он уничтожил якобинство, вновь открыл церкви и умиротворил Вандею, положив конец религиозным преследованиям и создав основу для будущего конкордата с Римским Папой. Он реорганизовал финансы и вновь вернул деньгам статус твёрдой валюты.
Решить проблемы внешней политики было сложнее. Нет повода считать, что Бонапарт был неискренен в своём желании прекратить военные действия, хотя, с другой стороны, возможно, он хотел доказать «партии мира», что мир на самом деле недостижим. Доказательство этому вскоре возникло. Русский император вышел из антифранцузской коалиции. В ней оставались Англия и Австрия. Бонапарт предложил им прекратить военные действия, однако Англия не могла признать французские завоевания. Бонапарт решил, что грандиозная военная победа на континенте заставит Англию признать аннексию Бельгии, и эта безнадёжная идея владела им вплоть до Ватерлоо.
Через семь месяцев после переворота Наполеон двинулся через Альпы, чтобы принудить Австрию к миру. Тяжёлая победа при Маренго (14 июня 1800 г.) позволила ему вновь стать властителем Италии. В декабре, после победы Бонапарта при Гогенлиндене, Австрии пришлось признать все завоевания Революции. Левый берег Рейна отошёл Франции. Это был триумф Бонапарта. Впервые в своей истории Франция расширилась до своих «естественных границ» — границ древней Галлии времён Юлия Цезаря.
Англия потеряла последнего союзника на континенте. Однако Бонапарт, понимая, что бесконечная война утомила страну, сделал вид, что прекращает военные приготовления для вторжения на острова, и начал переговоры с Лондоном, завершившиеся договором в Амьене. Этот договор был не более чем поводом к передышке, но французы увидели в нем основу для стабильного мира, и престиж первого консула возрос.
Вместе с тем срок консульства был ограничен, и в этом Бонапарт видел причину для беспокойства. В это время был раскрыт якобинский заговор, а вскоре Бонапарт чудом избежал гибели при взрыве бомбы. Министр полиции Фуше[19] установил, что покушение было устроено роялистами. Оппозиция противодействовала воплощению идей первого консула: возглавляемый Сийесом Трибунат был против конкордата с Римским Папой, основания ордена Почётного легиона и введения Гражданского кодекса. Бонапарт понимал, что с истечением срока консульства сила оппозиции возрастёт. Сам он не выдвигал никаких требований, полагаясь на энергичные действия своих друзей и сторонников. Сенат согласился на продление срока ещё на десятилетие, однако этого было недостаточно. Тогда по данному вопросу был предложен народный референдум, в результате которого Бонапарт стал пожизненным консулом при 3 500 000 голосах в свою поддержку и менее 10 000 против. Первый консул получил также право избрания преемника.
Таким образом монархия была восстановлена де-факто, несмотря на многие торжественные заверения в обратном. С этого момента европейские монархи стали рассматривать Бонапарта как личность своего круга.
Тем временем непримиримые роялисты стали готовить новую попытку покушения. Узнав о заговоре, Бонапарт пришёл в ярость. Он обвинил эмигрантов в «неблагодарности», публично подтвердил свои республиканские симпатии и заявил, что враги хотели в его лице погубить Революцию.
Первая империя. Пожизненное консульство оставалось ненадёжной основой власти, поскольку наполеоновская династия могла естественным образом пережить своего основателя. Восстановление наследственной монархии стало необходимым. Единогласная поддержка сената и результаты плебисцита привели к установлению империи 18 мая 1804 г. Королевский титул был дискредитирован в лице Бурбонов; императорский титул Бонапарта был более впечатляющим и более подходил для военного вождя страны, напоминая о временах Рима и Карла Великого[20]. Подобно Карлу Великому, Бонапарт желал принять корону из рук Папы — притом не в Риме, а в Париже. После некоторых колебаний Пий VII согласился. 2 декабря в Нотр-Дам состоялась поразительная церемония, на которой «солдат Революции» сделался «помазанником Божьим». Наполеон даже не стал дожидаться момента, пока Папа водрузит на него корону, а сам взял её у него из рук и надел себе на голову. Авантюристка Жозефина превратилась в императрицу. Бонапарт создал новую знать и восстановил двор. Франция была готова мириться с любой его прихотью.
Сплав монархических и революционных идей стал основой нового процветания. Но без поражения Англии стабильность завоеваний Революции и империи в целом оставались под вопросом. Бонапарт не забывал об этом. Он считал, что способен разбить британские сухопутные силы, однако без разгрома морских сил такая победа не принесла бы ощутимого эффекта. Однако проведение операции по высадке в Британии вновь сорвалась из-за бездарности адмиралов и слабой подготовки французского флота.
Между тем Австрия открыто угрожала, Россия вооружалась, Пруссия также оставалась одним из камней преткновения. Наполеон принял решение о незамедлительном ударе по Австрии. Был совершён поразительно быстрый марш-бросок в Германию («Император выиграл войну с помощью наших ног», — говорили солдаты), и в битве при Ульме (19 октября) неприятель сдался.
Через два дня эффект этой блестящей победы был сведён на нет: британский флот при мысе Трафальгар разбил большую числом франко-испанскую эскадру.
По мнению Наполеона, Британию можно было склонить к компромиссу, деморализовав её триумфальными победами на континенте.
Спустя ровно год после коронации он разбил русские войска и свежую австрийскую армию при Аустерлице (2 декабря 1805 г.). Через несколько дней третья коалиция союзников распалась. Французская армия под командованием гениального полководца казалась непобедимой, однако Бонапарт — и, возможно, лишь он один — понимал, что конечная цель не достигнута. Он отверг предложение Талейрана о примирении с Австрией и вернулся к идее о нанесении удара по Англии путём захвата путей на Восток. Для достижения этой цели требовалась власть над всей Европой. Отправной точкой для исполнения плана стало завоевание Бельгии. Однако ни военного гения, ни политической воли Бонапарта не было достаточно для осуществления столь грандиозных замыслов. В этих стремлениях следует видеть не болезненную манию завоеваний, а логическое развитие планов, толкавших императора к аннексиям и территориальным претензиям, взбудоражившим всю Европу. Брат Наполеона Жозеф стал неаполитанским королём, а другой его брат, Луи, — королём Голландии. Из самостоятельных государств Южной Германии Бонапарт образовал Рейнскую Конфедерацию с собой, как её президентом, во главе. Пруссии за блокирование Балтики от англичан был обещан Ганновер, а Бурбоны, лишённые Неаполитанского королевства, получали Балеарские острова. После смерти Питта[21] Бонапарт пытался примириться с Англией, тайно пообещав возвращение Ганновера. В результате этой дипломатии у Франции появились два врага: Пруссия, которой Бонапарт так долго потворствовал, и Испания, первоначально бывшая союзником.
Прусская кампания стала очередной молниеносной операцией. Армия, кичившаяся репутацией, завоёванной при великом Фридрихе[22], была наголову разбита при Йене в октябре 1806 г. Сопротивление было сломлено за несколько недель, и Наполеон стал хозяином огромной части прусской территории.
Раз Пруссия отказалась действовать по его указке, Бонапарт решил аннексировать Северную Германию с той целью, чтобы уже собственноручно блокировать Балтику и заодно всю Европу и тем самым нанести сокрушительный удар по британской торговле. В Берлине он объявил о начале Континентальной блокады, представлявшейся реваншем за Трафальгар и ущемлявшей независимость всех европейских наций.
Так Наполеон запутался в паутине собственных планов. После Йены он был вынужден завершить захват Пруссии, а захватив её — победить Россию и проникнуть как можно дальше на Восток. 8 февраля 1807 года в сотнях миль от Франции, при Эйлау (Восточная Пруссия), произошло ещё одно кровавое сражение, а в июне при Фридланде — новое. Великая армия оставалась победоносной, а французам внушалась мысль, что «мирная жизнь должна быть завоёвана силой оружия».
Бонапарт был убеждён, что возможный союз с Россией, направленный против Англии, позволит закрыть Средиземное море, нарушит пути в Индию и поставит Британию на колени. Русский император Александр I, человек эмоциональный и впечатлительный, заинтересовался идеей соглашения с Францией на основе расчленения территорий. Ныне вместо Польши предлагалось делить Турцию. Встреча в Тильзите и заключение пакта о дружбе между императором Запада и императором Востока, казалось, закрепляли добытые дорогой ценой победы французской армии, которые привели её к берегам Немана.
Франко-русский альянс не сломил Британию, а, напротив, вызвал обратный эффект: Англия объявила войну России и произвела обстрел Копенгагена.
Испания также оставалась противником, и тогда Наполеон решил изгнать Бурбонов из Мадрида. Под предлогом перемещения префектов он посадил своего брата Жозефа на трон Карла IV[23], а на место Жозефа посадил в Неаполе Мюрата[24], который был женат на Каролине Бонапарт.
Испанцы не признали Жозефа — и по всей стране вспыхнуло восстание. Пример Испании оказался заразительным: в Пруссии, Тироле, Далмации идея священной войны за независимость подняла волну патриотизма. Наполеон, понимая, что провал политики в Испании нанесёт непоправимый урон его авторитету, принял решение перейти Пиренеи и силой восстановить власть Жозефа.
Австрия, снабжаемая деньгами из Англии, в отсутствие Наполеона вновь подняла голову, и ему пришлось спешно вернуться к берегам Дуная. На этот раз стратегия австрийцев оказалась хорошо продуманной, а войска — лучше подготовленными, и победы под Эсслингом и Ваграмом (май и июль 1809 г.) дались Бонапарту дорогой ценой.
Для подавления австрийцев Наполеон использовал польские части Понятовского[25]. Александр I, до сего дня соблюдавший нейтралитет, стал опасаться, что Бонапарт восстановит Польшу, и, порвав со своим союзником, прекратил Котинентальную блокаду.
Решение начать войну с Россией далось Наполеону нелегко. Он считал, что новой кампании можно избежать, если удастся подчинить Испанию, а Соединённые Штаты, которым он отдал Луизиану и обещал Флориду, объявят войну Англии.
В 1810 г. империя казалась великой и незыблемой, но дальновидные политики в окружении Наполеона — такие, как Талейран и Фуше, — уже начинали понимать, что захват новых территорий не может продолжаться бесконечно и кризис политики неминуем.
Между тем произошла вторая женитьба Наполеона, которая поставила его наравне с самыми блистательными династиями: австрийский император, глава династии Габсбургов, отдал ему руку своей дочери Марии-Луизы. Жозефина, всё ещё имевшая популярность у французов, начала стареть и не имела возможности оставить Бонапарту наследника. На другой год Мария-Луиза принесла ему сына, который получил титул короля Рима и так стал своего рода наследником Священной Римской империи, хотя в 1811 г. Рим был всего лишь провинциальным центром — столицей Тибрского департамента. Надо заметить, что решение взять в жёны Марию-Луизу было принято только после срыва переговоров о брачном союзе с сестрой русского императора. Наполеон отдавал предпочтение русской княгине, поскольку старые ветераны Революции, хорошо помнившие Марию-Антуанетту (супругу свергнутого и казнённого короля Людовика XVI), недоумевали, почему «Маленький Капрал» остановил свой выбор на ещё одной «австриячке».
Убедившись, что Россия будет противодействовать расширению империи, которая для укрепления Континентальной блокады аннексировала Гамбург и Бремен, Бонапарт принял неизбежность новой войны. Французские территории распространились до Балтики, и чем ближе они подступали к границам России, тем более возрастала опасность конфликта. По мысли Наполеона, его великий труд не будет завершён, если не удастся сломить Россию подобно тому, как он сломил Австрию и Пруссию. Для новой кампании он создал невиданной мощи армию — армию «двадцати наций», состоявшую из частей, набранных со всех подчинённых или зависимых от Франции государств. Готовился своего рода крестовый поход Запада против «Азиатской России» — поход под революционным девизом «освобождения порабощённых наций». Наполеон забыл, что та же самая идея уже подняла против него Испанию и Германию. Александр I также взывал к справедливости, привлекая на свою сторону народы, порабощённые Наполеоном, и готовился к союзу с Австрией и Пруссией под предлогом совместного участия в разделе польских провинций.
Таким образом, война, начавшись в 1792 г., довела французов до врат Москвы, чтобы затем почти мгновенно отбросить их назад — к стенам Парижа.
В июне 1812 г. Великая армия перешла через реку Неман. Верные своим обычаям, русские стали уклоняться от сражения[26]. Царь заметил, что в случае необходимости отступит до Тобольска и пусть тогда Наполеону будет казаться, будто мир легко навязать, укрепившись только в Москве. Русские подожгли столицу и отказались от мира. Затем началось отступление Великой армии, которое при переходе через Березину превратилось в катастрофу. Осознав её значение, император тайно покинул армию. Заговор генерала Мале, весть о котором достигла Наполеона в России, показал ему, сколь шатки его позиции и как ослаб его авторитет.
Последующая история империи была историей быстрого возвращения к тому положению, при котором — в 1799 г. — Наполеон стал диктатором страны. Великие труды — создание огромной армии, захват трёх четвертей Европы, основание новой династии — пошли прахом.
Испанское восстание 1809 г. побудило Англию ужесточить свою политику, а это, в свою очередь, усилило сопротивление порабощённых народов. Неудачи Великой армии в 1813 г. воодушевляли противников. Пруссия тайно восстанавливала свои войска. Прусские части, служившие французам под командованием генерала Йорка, перешли на сторону русских. После этого правительство Пруссии, подпираемое общественным мнением, объявило освободительную войну.
Наполеон считал провал русской кампании результатом случайных обстоятельств. Он полагал, что на территории Германии ему легко удалось бы разбить войска России и Пруссии. Собрав и обучив новую армию, он в самом деле нанёс им поражение под Люценом и Бауденом. Кампания 1813 г. началась успешно. Однако Бонапарт опасался Австрии и вместо того, чтобы развить успех, пошёл на перемирие. Ему казалось, что он имеет достаточно сильную позицию, чтобы добиться выгодных условий мира даже от Англии. Победа под Дрезденом 27 августа, казалось, подтвердила это. Но вскоре неохотно служившие ему войска Германской Конфедерации стали терпеть одно поражение за другим. Под Лейпцигом состоялось трёхдневное (16—19 октября) сражение с армиями австро-прусско-русской коалиции, во время которого саксонские части Бонапарта перешли на сторону противника. Проиграв чрезвычайно важную битву и потеряв всю Германию, Наполеон был вынужден отойти к Рейну.
В это время против французского владычества поднялась Голландия и уже начинало зреть сопротивление в Бельгии.
Наполеон осознавал, как никто иной, что самой основой его власти, подобно власти Конвента и Директории, являются военные успехи и военные завоевания. Ему ничего не оставалось, как только отстаивать эти завоевания до конца или же погибнуть, как погибла сама Революция.
Когда союзники в 1814 г. вторглись на территорию Франции, они не имели соглашений относительно новых форм правления. Война не велась с целью восстановления монархии. Австрийский император предпочёл бы регентство своей дочери, Марии-Луизы, которое позволило бы ему контролировать французскую политику. Русский царь видел во главе Франции свою креатуру, например Бернадотта[27], одного из блестящих авантюристов Революции, предавшего Наполеона. Пруссию заботило только собственное величие.
Воюя на своей территории, Наполеон одержал серию блестящих побед, которые, однако, оказались в целом бесплодными. Поначалу союзники стали помышлять о переговорах, однако дух Революции требовал изгнания врагов из Франции, и Наполеон стал настаивать на незыблемости «естественных границ». Со своей стороны союзники понимали, что их уход вновь подтолкнёт революционную Францию к активным действиям, и поэтому приняли решение диктовать свои условия мира.
Планы Наполеона оказались неосуществимы из-за нехватки личного состава войск: в своей Франции ему оставалось мобилизовать разве что детей. 30 марта союзные войска вошли в Париж.
11 апреля 1814 г. в Фонтенбло Наполеон отрёкся от власти. Сенат перешёл на сторону Бурбонов, и даже маршалы императора настойчиво требовали от него отречения и выезда из страны. 5 мая Людовик XVIII[28] въехал в Париж, в то время как бывший император прибыл на остров Эльба, отданный под его управление. Ещё недавно повелитель Европы, он властвовал теперь на территории в несколько квадратных миль. Но ему было только сорок пять лет; теперь, в расцвете своих сил, он не мог признать за собой окончательное поражение.
Людовик XVIII не стал восстанавливать старую государственную систему управления, сохранив ту, что была создана Наполеоном, и даже увеличил число префектов. Оставалось утвердить мир в Европе. Однако в марте 1815 г., когда ещё заседал конгресс союзников в Вене, Европу облетела новость: Бонапарт бежал с Эльбы.
Здравый смысл подсказывал французам, что авантюра безнадёжна, однако сердца их воспламенились. Слишком многое было связано с именем императора. Стоило ему появиться — и вся Франция бросилась ему на помощь. Наполеон заявлял, что он призван народом, разгневанным восстановлением монархии. Всеобщее воодушевление позволило ему в три недели захватить страну. Части, посланные против него, увидев бывшего властелина страны, после минутного колебания переходили на его сторону. Гренобль и Лион распахнули перед ним врата. Маршал Ней, которому было приказано остановить Бонапарта, заявил, что привезёт мятежника в клетке, но растерялся, был отброшен и в конечном итоге перешёл на его сторону.
Так, высадившись на берег материка 1 марта 1815 г. с горсткой своих людей, Бонапарт уже 20-го числа вошёл в королевский дворец Тюильри. Людовик XVIII бежал в Гент.
Начались знаменитые «100 дней» — три месяца безумной авантюры. Чтобы понять, каким образом Наполеон, совсем недавно отринутый всеми, вновь поднял волну всеобщего воодушевления и без труда захватил власть, нужно принять во внимание происшедшую с ним перемену и ту роль, которую он взял на себя в оппозиции Бурбонам. Он был гениальным политиком, и его талант в период Революции достиг совершенства. Теперь он вновь зажёг революционный пафос, говоря с солдатами о славе, а с народом — о мире и свободе. Бывший деспот вернулся демагогом. Две опасности угрожали ему. Во-первых, союзники могли вновь взяться за оружие, но он уверил народ, что французы находятся под покровительством его тестя, императора Австрии. Второй опасностью оставался его собственный деспотизм, однако он убедил крестьян, что им угрожает восстановление старой системы налоговых поборов, а также господских прав и привилегий. «Я пришёл, — заявлял Бонапарт, — чтобы освободить вас от оков рабства». Он, восстановивший права Церкви и создавший новый класс знати, теперь возбуждал толпу против аристократов и священников. Либералам он обещал представительное правительство и свободу прессы — всё, что уже было гарантировано Людовиком XVIII, — и умело придал своим обещаниям революционный колорит. Старый образ Наполеона как либерала, уважающего идеи Революции, всё ещё не померк в памяти людей.
Когда ошеломляющие новости достигли Вены, союзники немедля объявили императора вне закона. Новая война стала неизбежной — и несчастья снова надвинулись на Францию.
Закат и пленение. Наполеон не сомневался в том, что союзники не позволят ему править Францией, а ему самому не удастся успешно властвовать в стране, урезанной до первоначальных границ. Объявленный Европой вне закона, он стал готовиться к схватке. Ему удавалось руководить своими последователями, однако энтузиазм первых дней быстро остыл. Предотвращая новое вторжение в свою страну, Бонапарт вступил в Бельгию, чтобы рассечь между собой войска Веллингтона и Блюхера[29], превосходившие его числом на сто тысяч солдат. Несмотря на первые военные успехи, Бонапарту не удалось помешать соединению британских и прусских частей. Причиной этому было отчасти невезение, однако можно найти и много иных неблагоприятных обстоятельств. Так, Груши, второстепенный генерал, которому Бонапарт поручил командование в награду за политическую поддержку, не справился со своей задачей и проявил инертность в день великого сражения при Ватерлоо (18 июня 1815 г.). Вернувшись 20 июня в Париж, Наполеон оказался перед неизбежностью нового отречения. Всё было кончено. Император оказался вновь покинут всеми.
Он решил отречься в пользу своего сына, короля Рима, и высказал желание отправиться в Соединённые Штаты. Исполнительная комиссия сообщила ему, что на рейде Рошфора для него оставлены два фрегата, и попросила его поторопиться с отплытием. Он, однако, задержался на неделю, «бросив кости» в последний раз и предложив себя в качестве простого генерала для боевых действий против захватчиков. Предложение принято не было, и Бонапарт отбыл в Рошфор.
Два фрегата всё ещё дожидались его, однако британские военные корабли блокировали выход из порта. Перспектива быть арестованным, подобно беглецу, казалась Бонапарту постыдной. Поблагодарив всех, кто содействовал его спасению, он принял план действий, в которых оставался оттенок величия, а именно — обращение к Британии с просьбой о предоставлении убежища. Мэтланд, командир британского корабля «Беллерофон», дал ему знать, что такое обращение будет принято с благосклонностью.
В тот момент союзники оставались в согласии только по одному из пунктов своего договора относительно судьбы Наполеона: они считали, что нового побега допустить нельзя, а совершить таковой из Америки было легче, чем с Эльбы. Победители попросту не знали, что делать с Бонапартом, и любое решение порождало трудности. Они втайне надеялись, что Наполеон покончит с собой или же как-нибудь погибнет по дороге, став «жертвой Белого Террора». Возможное решение Людовика XVIII осудить и казнить Бонапарта также вполне устроило бы всех. Однако никто, а тем более Людовик, не желали брать на себя ответственности. Со своей стороны Александр I и Веллингтон своими действиями пытались спасти Бонапарту жизнь. Таким образом, судьба человека, объявленного вне закона, оставалась нерешённой. Сдавшись на милость Британии, Бонапарт взвалил на неё весь груз опеки.
Вернувшись в Париж 9 июля и боясь всеобщего осуждения, король Людовик XVIII стремился к скорейшему решению проблемы. Он отдал приказ префекту Рошфора удерживать экс-императора на борту фрегата «Ла Сааль», отдав его под ответственность Мэтланда. Наполеон считал, что более достойно сдаться, не дожидаясь предписаний или же прямого ареста. 15 июля, одевшись в свою любимую зелёную униформу, он поднялся на борт «Беллерофона».
В Плимуте адмирал Кейт передал Наполеону письмо, в котором «генерала Бонапарта» уведомляли о том, что с целью лишить его дальнейших возможностей нарушать мир и спокойствие в Европе принято решение ограничить его личную свободу, для чего в качестве его будущей резиденции избран остров Святой Елены. За ним остаётся право оставить при себе трёх компаньонов из числа сопровождавших его в Англию лиц, а также хирурга. Ознакомившись с письмом, Бонапарт выразил протест, заявив, что он является гостем, а не пленником Англии, и что законы гостеприимства попраны совершенным над ним насилием. Затем он успокоился и в дальнейшем демонстрировал своим спутникам пример стоицизма. Он удовлетворился только устным протестом, высказанным адмиралу Кейту.
Путешествие продлилось более двух месяцев. Наполеон оставался бесстрастным, хотя офицерам и членам команды запретили оказывать ему знаки уважения. Было принято только обращение «генерал».
В воскресенье 15 октября корабль бросил якорь у Святой Елены. Прежде чем для императора было подготовлено постоянное жилище на бывшей ферме Лонгвуд, ему пришлось ютиться в каморке в несколько квадратных футов без мебели и удобств. Наполеон не раз протестовал против «унизительного обращения», достойного простого военнопленного, в то время как он считал себя беженцем, получившим приют под сенью британского флага. Его также сильно огорчало запрещение переписки с женой и сыном и передачи ему любых вестей о семье.
В Лонгвуде Бонапарт проводил время в разговорах о своих прошлых делах, диктовке воспоминаний, чтении, уходе за маленьким садом, поездках в разрешённых ему пределах и даже в изучении английского языка, на котором он читал удивительно бегло, хотя никогда не говорил на нём. Главными его несчастьями на острове оставались запрещение переписки с семьёй и скудость пищи. Положение ухудшилось с появлением нового управляющего островом — Хадсона Лоу, который страшно опасался упустить пленника и своей параноидальной подозрительностью вызывал у Наполеона отвращение.
Возможно, что неподходящий климат, пища и депрессия способствовали развитию у Наполеона ракового заболевания, склонность к которому он унаследовал от отца. В марте 1821 г. он слёг. В апреле он продиктовал своё завещание. «Я желаю, чтобы мой прах, — сказал он, — был похоронен на берегу Сены, под ногами французского народа, к которому я относился с глубокой любовью». «Я умираю, — добавил он, — прежде своего срока, погубленный британской олигархией и её наёмным убийцей». Имелся в виду Лоу.
Наполеон Бонапарт скончался утром 5 мая 1821 г. на пятьдесят втором году жизни. Облачённый в свою любимую зелёную армейскую форму и шинель, в которой он сражался при Маренго, экс-император был погребён в уединённом месте, около источника, под сенью двух плакучих ив — там, где он часто прогуливался.
«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ» — начертано на надгробном камне.
Имя не указано.
Наполеон Бонапарт не только побеждал или проигрывал в сражениях. Он дал Франции законы, большая часть которых и поныне остаётся в силе. Он принял Францию впавшей в полную анархию. Старые законы, запутанные, различавшиеся в разных провинциях страны в зависимости от местных обычаев и традиций, были упразднены Революцией. Новые законы, если о таковых можно вообще говорить, были чересчур революционными и не годились для сколько-нибудь нормального общества. Гражданский кодекс Наполеона объединил принципы Римского права с особенностями Франции и принципами, выдвинутыми Революцией. Кодекс Наполеона можно назвать «систематизацией здравого смысла», соответствовавшей логике и исторической эпохе. Не следует преувеличивать личный вклад Наполеона в законотворческую работу, однако важно то, что он последовательно отстаивал идею восстановления государственного порядка. Отсутствие предубеждений и проверенная на практике логика мышления способствовали выполнению им грандиозной задачи — превращению «старой» Франции в «новую». Вероятно, он был единственным человеком, способным восстановить нормальные условия работы правительства без отказа qt «гражданских завоеваний Революции». Он осмелился вернуться к крайне непопулярной налоговой системе, без которой, однако, оставалось невозможным оздоровить финансы Республики.
Государственный Совет и другие институты государства, Банк Франции с его правами, университеты — все эти учреждения «нейтрализовали» революционную демагогию и продолжают свою деятельность по сей день. С другой стороны, мощная централизация во многом подавила провинциальную жизнь, лишила её местного колорита — как бы переплавила всю страну и отлила её в цельную форму, что обеспечило верховную власть государства над всем народом.
Таким образом, как законодатель и легендарная личность, Наполеон остался в истории великим восстановителем порядка и власти и одним из воплощений общественного прогресса.
ФРЕДЕРИК БРИТТЕН ОСТИН
ДОРОГА К СЛАВЕ
МОЕМУ СЫНУ ПОЛУ,
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ
Он такой смешной, этот Бонапарт!
Жозефина в разговоре с подругами, 1796
Эта книга — не историческое исследование, а роман, хотя я и старался с максимальной достоверностью передать все исторические факты. Однажды, в момент творческого подъёма, мне пришло в голову, что первый Итальянский поход Бонапарта был великолепной прелюдией к его головокружительной карьере (собственно говоря, именно так и считал сам Бонапарт) и что было бы очень заманчиво описать эту кампанию.
Однако этот замысел предполагал не только скрупулёзное восстановление подробностей того периода (а в то время многие поступки великого императора ещё не подвергались тщательному анализу ни его искренними поклонниками, ни ярыми противниками), но и дерзкое исследование глубин его тогда ещё незрелой души, диалог с ней сквозь пелену времён...
Глава 1
Смеркалось. Читать и раньше было нелегко, а теперь — и вовсе невозможно. Почтовая карета, всё кренившаяся то на один, то на другой бок, тряслась по отвратительной дороге на Марсель. Путник посмотрел в окно экипажа, и его взгляд рассеянно скользнул по полям, заросшим сорняками и не видевшим плуга за все эти годы Революции и безвластия. Вдоль дороги тянулись убогие деревни. Среди куч мусора играли чумазые дети. Около колодцев судачили неряшливо одетые женщины. Крестьяне убирали свои перепачканные навозом тележки в заброшенные церкви, на стенах которых были нацарапаны когда-то магические слова «Свобода, Равенство, Братство». Время от времени у какого-нибудь кабачка можно было заметить кучку солдат Национальной гвардии в бесформенных головных уборах с трёхцветными кокардами, в башмаках-сабо, со старыми мушкетами в руках. Несомненно, где-то поблизости появились разбойники, и теперь их подняли по тревоге. Бандиты буквально наводнили эту разорённую часть Франции. Никто не обращал внимания на дилижанс, катившийся по парижской дороге.
Если бы он выкрикнул здесь своё имя, ничего бы не произошло вокруг. Молва о нём распространилась только в столице, а теперь, полгода спустя, стала затухать и там... Да и что за пустяк эта мимолётная столичная слава в сравнении с его грандиозными, ещё недавно совершенно несбыточными планами. И сейчас-то с трудом верилось, что он, полгода тому назад никому не известный генерал от артиллерии, вычеркнутый из официальных служебных списков, настолько потерявший надежду на будущее, что служба у турок казалась ему единственным выходом из создавшегося положения, направлялся теперь принять на себя командование целой армией — и именно той армией, которую он сам выбрал бы среди множества других. Уже сутки, как Париж остался позади. Кони шли на рысях, а ему казалось, что они еле тянутся. Было двадцать второе вантоза Четвёртого года Революции, а по запрещённому календарю «старого режима» — двенадцатое марта 1796 года. Путник сгорал от нетерпения: лишь через две недели он сможет прибыть на свою первую штаб-квартиру и отдать свой первый приказ.
Пропустив расшитый золотом рукав в ремённую петлю, он непоколебимо сидел в тряском экипаже.
У него на коленях лежал большой кожаный планшет с тиснённой золотом надписью: «Генерал Буонапарте, главнокомандующий Итальянской армией». Напротив сидел Жюно, молодой человек, русоволосый, с открытым взглядом, одетый в форму командира эскадрона. Этот драгунский офицер связал свою судьбу с ним ещё два с половиной года тому назад, на «батарее бесстрашных» в Тулоне[30], где Бонапарт заметил его необыкновенную храбрость. Этот юный сержант стремился во что бы то ни стало вырвать своего командира из тюрьмы, куда его бросили после термидора. Жюно последовал за ним в Париж и в то тяжёлое время, когда генерал был вынужден уйти со службы, делился с ним своими скудным средствами.
Теперь же, после внезапного подарка судьбы — вандемьера, — когда Бонапарт с удивлением узнал, что за пальбу картечью у церкви Святого Роха он объявлен Спасителем Революции и поднят из нищеты и безвестности до командования Внутренней армией, он первым делом назначил Жюно своим адъютантом. Он никогда в своей жизни не забывал преданных людей.
Теперь он вёз Жюно с собой в Итальянскую армию. Он поведёт этого юношу к вершинам славы. Другим адъютантом стал его самый близкий друг — молодой (на пять лет моложе его самого), честолюбивый артиллерийский офицер Мармон. Мармон завоевал его сердце ещё до того, как при осаде Тулона они поклялись быть неразлучными друзьями. Адъютантом стал и юный Луи Бонапарт, младший брат, родившийся девятью годами позже. Наполеон воспитывал мальчика, кормил, одевал, снимал ему жильё, когда сам ещё был лейтенантом, делил с ним свой заработок в три с половиной ливра. Одним словом, Наполеон был ему скорее отцом, нежели старшим братом. Теперь весь семейный клан сможет разделить его счастливую судьбу. Наполеон написал ещё одному брату, добряку Жозефу, прося того приехать из Генуи и сопровождать армию в качестве штатского — дело обещало быть весьма прибыльным. Его хитрому и слегка распутному дядюшке Фешу, сыну бабушки от второго брака, бывшему служителю церкви, который обычно выступал в роли советника их обедневшей семьи беженцев, досталась должность интенданта. Рядом с Жюно сидел другой близкий друг Бонапарта, молодой Шове. Официальная трёхцветная лента обвивала его полувоенный мундир. Командующий был особенно заинтересован в этом главном интенданте армии. Умный, энергичный и неслыханно честный, Шове не потерпит никакого разгильдяйства от своих новых подчинённых. Настало время молодых. Шове было двадцать шесть с половиной, на месяц-другой меньше, чем самому Бонапарту.
Главнокомандующий откинулся на спинку сиденья, заваленного книгами, картами и чемоданами, и под стук копыт почтовых лошадей унёсся мыслями в прошлое. Не прошло и трёх дней, как он сочетался браком с Жозефиной — Жозефиной, которую оставил вчера вечером в маленьком домике на улице Шантерен; домике, казавшемся таким изысканным, когда пять месяцев назад он впервые перешагнул его порог. Она почти сразу стала его любовницей, опьянив так, как не опьяняла никакая другая женщина. Ореол золотисто-каштановых волос, живой взгляд голубых глаз с длинными ресницами, маленький и немного вздёрнутый носик... Её стройное, полное чувственной неги тело, её ножки с маленькими ступнями приводили Наполеона в восторг. Её манеры светской дамы, аристократки в соединении с великосветской непринуждённостью пленили его! В каждом её движении было столько изысканности и грации, в улыбке, которая не сходила с её уст, — столько неотразимого шарма. Она сразу же околдовала Наполеона и завладела его душой, затмив всех остальных. И теперь Наполеону очень не хватало её. В тряском экипаже, уносившем Бонапарта прочь, он страдал мучительным желанием. Она должна полюбить его так же сильно, как он любит её. Он покажет ей — ей, которая отнеслась к нему с праздным любопытством, посмеялась над его нелепой настойчивостью и суровым видом, над его длинными неухоженными волосами и худой, тщедушной фигурой, ей, которая называла его не иначе как уменьшительными именами — он покажет, что он за человек и с кем связала она свою судьбу. Для неё эта связь вначале была лишь любовным капризом — многие женщины заинтересовались им после победы, одержанной в вандемьере. Но теперь она должна полюбить его, полюбить безраздельно, всей душой! Он, корсиканец, с трудом подавлял жгучую ревность. Как и её ближайшая подруга, распутная Терезия Кабаррюс, «Богоматерь Термидора», а ныне мадам Тальен, Жозефина вращалась в дурном обществе и, без сомнения, была любовницей многих мужчин. Молва приписывала ей близость с генералом Гошем, ранней славе которого он некогда завидовал, и с Баррасом. Она с улыбкой парировала все его выпады, давала отпор нескромному любопытству и, возможно пользуясь своими женскими привилегиями, даже лгала ему. Пока она была его любовницей, эти мелкие грешки не имели значения. В том революционном хаосе, когда рухнули все общепринятые моральные нормы, они были понятны и простительны. Более того, Жозефине — женщине, рождённой для изысканного общества, оставшейся без средств к существованию, да ещё с двумя детьми на руках — необходимо было просто выжить. Небогатый, но всё же генерал, он мог теперь содержать её в достаточной и столь ей необходимой роскоши. Он уже распорядился оплатить часть её долгов. Оправдания каким-либо интрижкам больше не было, и что бы там ни связывало её с Баррасом, с этим следовало покончить раз и навсегда!
Баррас был одним из его свидетелей на свадьбе девятнадцатого вантоза. Тальен, чья жена бесстыдно числилась «официальной любовницей» Барраса, являлся вторым свидетелем. Бонапарт ненавидел эту парочку второсортных, но отъявленных мерзавцев. В схватке негодяев, пышно именовавшейся Революцией, им случайно повезло больше других, и теперь с этими «калифами на час» нужно было из политических соображений поддерживать дружеские отношения. Баррас, давший ему шанс тринадцатого вандемьера, мог в любой момент забрать назад свои «авансы».
Но что было совершенно неверно — о, как ненавидел Бонапарт лживые парижские сплетни, иногда доходившие до его ушей! — так это то, что Баррас дал ему Итальянскую армию как взятку за то, что Наполеон согласился взять в жёны брошенную им, Баррасом, любовницу. Именно Карно, военный министр, назначил его главнокомандующим, когда старый осёл Шерер, командовавший в то время Итальянской армией, в ответ на присланные инструкции написал, что человеку, составившему для правительства планы вторжения в Италию и разгрома пьемонтцев и австрийцев, лучше всего осуществить их самому. Бонапарт сделал предложение Жозефине ещё несколько недель назад, но она капризничала и согласилась назначить точную дату заключения их союза только после его официального назначения главнокомандующим. Оборванная, голодающая и не слишком послушная армия, которой он теперь руководил, располагалась в узком, упиравшемся в тупик коридоре между горами и Средиземным морем. Ни один из прославленных генералов не хотел командовать ею и воспринял бы такое назначение как глупую шутку. Для Бонапарта же это было исполнением заветной мечты. Даже Жозефина не смогла задержать его ни на один день. Впрочем, она и не пыталась — лишь улыбнулась и помахала на прощание, когда в сгущавшихся сумерках мартовского дня он освободился из её объятий и скрылся в экипаже.
Он живо представлял себе их бракосочетание в мэрии. Регистрация была назначена на восемь часов вечера. Но он задержался в военном министерстве, завершая тысячи нужных для предстоящей кампании дел. Бонапарт диктовал перечень необходимого военного снаряжения, продовольствия, оружия, обмундирования, медикаментов и был бы рад получить половину от просимого. Он отдавал распоряжения гражданским транспортным службам о предоставлении повозок, лошадей, вьючных животных. Он составлял проекты приказов военного министерства Шереру о районах сосредоточения различных дивизий, разбросанных вдоль Ривьеры от Марселя почти до Генуи, а также о сборе ещё находившейся на зимних квартирах у Роны и крайне нуждавшейся в фураже на побережье горной кавалерии. В этой спешке, требовавшей предельной сосредоточенности, он едва не забыл о Жозефине. И лишь к одиннадцатому часу Наполеон успел в один из бывших аристократических особняков на улице д’Антен и, вместе со своим юным адъютантом Лемарруа торопливо поднявшись по широкой лестнице, буквально ворвался в комнату на втором этаже.
Собравшиеся на церемонию ожидали его уже два часа. Свечи догорали. Баррас и Тальен были рассержены, но Жозефина, сидя около камина, послала ему обольстительную улыбку. В кресле у своего бюро расположился мэр. Он уже дремал. Бонапарт подошёл к нему и потряс за плечо. «Валяй, гражданин! Жени нас быстрее!» Чиновник вздрогнул и, смешно вскочив, поспешил совершить необходимые формальности. Жозефина достала новенькое свидетельство о рождении, датированное июнем 1767 года (получалось, что ей всего двадцать восемь, и не годом больше!). Один из её знакомых, приехавший с Мартиники, проговорился Бонапарту, что она родилась в 1763-м. Бонапарт подал наспех выписанное свидетельство о гражданском состоянии: но и этот документ не внушал большого доверия. Наполеон галантно прибавил себе восемнадцать месяцев, чтобы их возраст почти сравнялся; но поскольку происхождение на свет в феврале 1768 года сделало бы его, корсиканца, генуэзским подданным, он записал местом своего рождения... Париж! Какая разница?.. Главное — законный брак! И как можно скорее. Предстояло так много сделать, а времени для этого оставалось так мало! Он нацарапал свою подпись — «Наполеоне Буонапарте». Последний раз в жизни. Он уже решил изменить это непривычное для французского уха итальянское имя, которое никогда не смогло бы стать популярным в народе, на более благозвучное — «Бонапарт». Тем более что кое-кто из его предков уже пользовался таким приёмом.
Как они все дружно хохотали после церемонии над жестами, не слишком пристойными для чинных поздравлений! Он ненавидел эти ужимки Барраса и Тальена, он жаждал обнять свою избранницу и благоговел перед ней. Помогая ей надеть накидку, он прижал к себе её податливое тело, скрытое длинной, свободной туникой. В то время как собравшиеся шли по лестнице, Баррас и Тальен продолжали отпускать свои шуточки, и Жозефина тихонько посмеивалась. Внизу, во дворе, их ждала карета. Несколько месяцев тому назад Баррас распорядился предоставить ей из бывших королевских конюшен пару вороных кляч и видавшую виды карету в качестве компенсации за карету и лошадей, конфискованных у неё после смерти арестованного и угодившего на гильотину мужа, генерала Богарне. Колёса оглушительно грохотали по плохо освещённым булыжным мостовым, а мысль о первом муже Жозефины, отце её детей (они были очаровательны и уже завладели сердцем Наполеона), неотступно преследовала Бонапарта, пока он наконец не отогнал её прочь раз и навсегда. Его опьяняла близость Жозефины, исходивший от неё слабый аромат духов. И, несмотря на протесты (временами она бывала с ним чертовски холодна), Наполеон грубо, почти свирепо прижал её к себе. Моя!
Наконец они прибыли на улицу Шантерен. Приветствуя их, из дома с факелами в руках вышли слуги. На лестнице он ещё раз нетерпеливо сжал Жозефину в объятиях.
Спальня — овальная комната на втором этаже с массой зеркал, с кроватью в алькове, украшенном изображениями птиц — была ему хорошо знакома. На кровати, свернувшись клубочком, лежала Фортюне, маленькая, обожаемая Жозефиной собачонка. Он не осмелился согнать эту дрянь с её привычного места. С холодной усмешкой Жозефина настояла, чтобы собачка всегда спала с ней. Он волей-неволей был вынужден ложиться в постель, на которой валялась Фортюне. Однажды эта ревнивая тварь укусила его за ногу. Жозефина капризничала и была совсем не такой страстной, как раньше. Она была с ним скорее холодна, зевала, ссылалась на усталость. Его охватила тревога. Получалось, что теперь, когда он из романтического любовника превратился в законного супруга, она больше не любит его! Мужья в её парижском мире были предметом насмешек; над ними потешались, им изменяли. Но он пробудит в ней страсть, заставит шептать слова любви! Он бросился на Жозефину, как на вражескую крепость, и взял её приступом. Она слегка испугалась.
Как восхитительна она была! Как не похожа на других женщин! Она должна приехать к нему, последовать за ним в армию! Он будет настаивать на этом. Он не оставит её среди соблазнов Парижа, которые так хорошо знает. Жить без неё невозможно. От одной мысли о Жозефине его бросало в жар. Её неподражаемая грация, чарующая улыбка преследовали Бонапарта, всё время стояли перед глазами. Ему казалось, что он по-прежнему ощущает волнующую нежность её прикосновений, всё ещё чувствует неописуемую сладость её поцелуев. Воспоминания о теле Жозефины были живыми до галлюцинаций, доводили его до сумасшествия тем, что реальность была от него далека. Он был безумно влюблён. Впервые в жизни он любил со всей силой своей страстной натуры, которую долго сдерживали обстоятельства и которая теперь словно взорвалась. Его одинокая, проведённая в бедности юность была целомудренной. Он мог бы припомнить девушку, с которой познакомился в Пале-Рояле. Мог вспомнить легкомысленную мадам Тюрро — это было во время кампании Второго года; помнил короткую интрижку с мадам Саличетти, женой могущественного представителя властей, из-за которого после падения Робеспьера он сам угодил в тюрьму и которого не выдал, когда тот прятался от властей. Более того, Бонапарту наконец удалось устроить Саличетти, такого же, как и он сам, корсиканца, одним из двух гражданских представителей правительства в Итальянской армии. Они будут работать вместе, рука об руку... И если не считать нескольких минут наслаждения, купленных за деньги в годы военной службы, этим кончался список его побед, не тронувших его сердца. Правда, год тому назад в Марселе сестра жены его брата Жозефа, шестнадцатилетняя Дезире-Эжени Клари пробудила в нем нежное чувство. Их брак был уже почти решённым делом, но Наполеон был вынужден оставить службу и бедствовал в Париже. Своим молчанием Дезире лишила его надежды, и Бонапарт также перестал писать ей. Постепенно её образ был вытеснен очаровательными парижскими модницами, на которых Наполеон мог только жадно смотреть, стесняясь своей бедной, потёртой одежды. От нехватки средств он пришёл в полное отчаяние и начал предлагать себя в мужья всем без разбора. Он комично сватался к сверстнице и давнишней подруге своей матери, гостеприимной мадам Пермон, к мадам Бушарди, а однажды ему пришла в голову совершенно дикая мысль предложить себя Монтансье — потасканной и скандально богатой актрисе «старого режима». Он совсем забыл маленькую, невинную Дезире-Эжени. В сущности, он никогда не любил её — так, юношеское увлечение, сентиментальное и несерьёзное...
Жозефина была совершенно другой. В его представлении она олицетворяла собой женственность. Её томная, чувственная красота вобрала в себя весь чарующий соблазн, весь женский шарм. Её непринуждённость и свобода в обращении, чудесно сочетавшиеся с аристократической утончённостью, её улыбки и объятия раскрыли в Наполеоне присущую ему страстность, изменили и его самого, и весь мир вокруг него. Но целомудренная сдержанность их первой брачной ночи вызвала в нем досаду. Жозефина ещё не оценила его по достоинству. Он был полной противоположностью тем высоким, красивым кавалергардам, которыми она так легкомысленно восхищалась на шумных вечеринках у мадам Тальен. Он хорошо понимал это, ругая себя за провинциальную неловкость в обществе. Наполеон был для неё странным, полудиким, необычайно тощим молодым генералом, которому во время очередной политической неразберихи посчастливилось продвинуться по службе, казался ей прихотью, капризом, который неожиданно закончился замужеством. Этот генерал сбивал её с толку своим необузданным честолюбием. В амбиции Наполеона она ничуть не верила — генералов в Париже хватало с избытком.
Но он станет знаменитым, и когда все вокруг назовут его гениальным полководцем и станут говорить о его потрясающих победах, тогда она наконец поверит в него!
Наполеон не сомневался в себе. Он твёрдо знал, что он гений. Он обладал не только быстрым как молния умом, позволявшим ему проникать в самую суть любой проблемы, но и стальной волей, безжалостной к другим людям, волей, позволявшей ему преодолевать любые препятствия. Сверх того, Бонапарт ясно сознавал, что внутри него было нечто большее, чем он сам, нечто восставшее из потаённых глубин его существа. Он чувствовал в себе непреодолимую силу, источником которой были не наследственность, не воспитание, а лишь его «демон», как сказали бы во времена античности.
Решающую роль в карьере Бонапарта сыграло глубокое понимание искусства ведения войны, её основных и вечных принципов. Этим не обладали многие из не только искренне презираемых им генералов-практиков, но, по его мнению, и многие знаменитые полководцы. В годы ранней юности, в те годы всепоглощающего чтения, уединённых размышлений и горьких разочарований, когда он постоянно думал о том, что бы он сам предпринял в ходе той или иной кампании, он сделал эти принципы стратегией своей жизни. Быстрота и натиск, ложные манёвры, неожиданный и решительный удар собранными в кулак силами, ясно поставленная цель в тот момент, когда вражеское сопротивление сломлено — такова была его стратегия; всё остальное существовало для педантов. Он был рождён для войны. Во время боевых действий, в которых он принимал участие — в Тулоне, на Корсике, в кампании на Ривьере, — грохот сражения, сумятица схватки только прибавляли ему спокойствия и решимости, позволяя проявить способности в полной мере. Но до сих пор он был человеком подчинённым, исполнению планов которого мешали тупоголовые начальники.
Теперь, на должности, предоставленной ему Баррасом и Карно, у него появилось куда больше свободы — свободы не соблюдать все эти мелочные, бюрократические «директивы». В этой кампании, разработанной им самим для пожилого и малокомпетентного Шерера, он скажет миру своё слово. Шерер испортил бы всё, но он, Бонапарт, не погубит дела. Всё будет делаться — шаг за шагом — именно так, как он предначертал.
План не отличался новизной. Его основные положения можно было найти ещё в «Основах войны в горах» Бурсе. Эту работу блестящего штабного офицера «старого режима» он знал наизусть. В основу плана легла пьемонтская горная кампания Майбуа 1745 года, в которой участвовал сам Бурсе. Чтобы освежить в памяти её события, Бонапарт затребовал материалы из архива военного министерства. Майбуа потерпел поражение, потому что Людовик XV заставил его выступить против австрийцев ещё до того, как тот успел обосноваться в Пьемонте и захватить укреплённый пункт Чева. Столкнувшись ныне с тем же противником, Бонапарт не допустил бы подобной ошибки. Не зная, где и когда французы собираются нанести удар, австрийцы и пьемонтцы построили свою оборону цепью и выдвинули в горы на всём протяжении от Генуи на востоке до неприступного снежного Тендского перевала на западе множество аванпостов. По слухам, они сами планировали позднее спуститься по параллельно тянущимся долинам, напасть на растянутую вдоль узкой дороги между морем и горами французскую армию и разрубить её на куски, как змею. Он опередил бы их, сбил бы с толку, собрав все силы до того, как они решились бы на атаку, и нанёс бы удар по центру. Он отделил бы австрийцев от их союзников, разбил бы более слабых пьемонтцев и принудил бы их к миру (считалось аксиомой, что Франция не сможет завоевать Италию, не сделав Пьемонт своим союзником или не добившись его нейтралитета), а затем, когда дорога на Италию оказалась бы открыта, двинулся бы на австрийцев. Однако в настоящий момент этот план был лишь домыслом. Директория, возрождая полицейское государство Людовика XV, опасалась возможности якобинской революции в Пьемонте и предписывала ему не доводить пьемонтцев до крайности, а нанести всеми силами удар по австриякам с целью изгнания их из Италии. Дабы правительство могло следить за тем, как будет осуществляться этот план, к нему и послали Саличетти. Раскрывать свои карты сейчас не было никакой необходимости. Он мог хранить в тайне своё несогласие с Директорией вплоть до начала второго акта кампании.
Концом первого акта послужит захват укреплённого лагеря в Чеве и быстрый марш по невысокому перевалу между Альпами и Апеннинами по дороге, ведущей от Чевы в Савону. Ещё полтора года назад, когда французские войска были отведены в Дего, он заметил, что дорога через Кадибонский перевал, самую высокую точку горного пути, была проходима даже для артиллерии. На этой же дороге, чуть севернее Кадибонского перевала, находился Каркаре. В этом месте, на стыке трёх долин, врагу придётся начать атаку. Тогда, удерживая центральную позицию, он отбросит австрийцев и австро-пьемонтский центр в глубь двух долин, а сам быстро передвинется влево, по третьей долине, до Чевы. Там он вклинится между пьемонтцами-сардинцами, удерживающими дорогу на Турин (король Пьемонта имел официальный титул короля Сардинии со столицей в Турине), и австрийцами, связанными со своей основной базой в Алессандрии. Всё было разработано до мельчайших подробностей. Эти горы были ему так же хорошо знакомы, как и окрестности его родного корсиканского Аяччо. С марта 1794-го, в течение целого года, будучи командующим артиллерией Итальянской армии, он составлял для сменявших друг друга главнокомандующих планы проведения военных операций. Теперь он собирался осуществить ещё более смелый и оригинальный план, чем те, которые сам разрабатывал и представлял осторожным старикам генералам, боявшимся гильотины куда больше, чем честной смерти на поле брани.
Не считая установки аванпостов, противник — особенно австрийцы — ещё не начал выдвигаться со своих разбросанных далеко в тылу зимних квартир. Он постарается не тревожить его раньше времени и захватит врасплох. Если неожиданный бросок на укреплённый лагерь пройдёт успешно, всё остальное станет делом техники. План операции был ему ясен во всех деталях, любая неожиданность — предусмотрена; ему не терпелось оказаться на поле боя и начать драму, которая, обладай он тогда властью, началась бы два месяца назад. В этом случае он мог бы нанести на равнинах Италии окончательный разгром врагу до наступления летней жары, несущей с собой болезни. Ему не терпелось вступать в сражения и одерживать победы, которые поразили бы Жозефину и доказали ей, кто он такой на самом деле, заставили бы её полюбить его так же, как он любил её. Жозефина... Что делала она сейчас, в этих сгущавшихся сумерках, в то время как он слушал стук колёс по бесконечной дороге? Весело готовилась к какой-нибудь фривольной вечеринке, к встрече с толпой никудышных щёголей-роялистов? А может, она уже забыла его? Нет, нет. Он отогнал эту мысль. Она любит его. Она будет любить его. Пусть только дождётся вести о первых победах!
К действительности его вернул весёлый голос над чем-то подшучивавшего Жюно:
— Спорим на су, что я отгадаю ваши мысли, мой генерал? — Правильнее было бы сказать «гражданин генерал», но молодой главнокомандующий уже дал понять, что республиканская форма обращения ему не по вкусу. — Итак, о чём вы думаете? Наверно, о том, как мы войдём в Италию. Вина там не так хороши, но зато женщины превосходны!
Бонапарт улыбнулся своему молодому адъютанту. Он любил Жюно, этого бесшабашного весельчака, не очень умного, но преданного ему самозабвенно.
— Все кавалеристы одинаковы. Мечтают только о вине и женщинах. Я как раз думал о том, как раздобыть их для тебя. Будем надеяться, что старик Болье со своими австрийцами ещё дрыхнет. Тогда тебе достанется всё вино и все женщины!
К нему наклонился молодой Шове:
— Видите ли, генерал, я тоже размышлял. Эти горы между нами и Италией совершенно бесплодны. У нас будут трудности со снабжением. Армии придётся везти с собой всё. Нам понадобится очень много вьючных животных. А на Ривьере ничего не достать. Возможно, нам придётся запастись зерном в Генуэзской...
Бонапарт добродушно прервал его. Шове именно тот интендант, который ему нужен, он всегда ревностно заботится о своём деле.
— Если мы сможем заплатить за него, мой дорогой Шове! Министерство финансов смогло выделить мне только две тысячи луидоров золотом — на большее они не рискнули. В Париже сказали, что правительственных кредитов больше не существует. Но нужно каким-то образом собрать деньги, и немедленно. Мы не можем отправиться в поход без них. Армии нужны обувь, одежда, оружие, продукты питания — всё необходимое! Жалованье не выплачивается уже несколько месяцев. Если мы не сможем получить заем у Генуэзской республики, нам придётся занимать под сто процентов у этих хитрых генуэзских евреев, — засмеялся он. — Пойти и убедить их финансировать наше предприятие будет твоей первой задачей!
Шове серьёзно кивнул.
— Хорошо, генерал. На какое время занимать деньги?
— На три месяца. Или до тех пор, пока не возьмём Милан.
Шове кивнул опять.
— Думаю, что смог бы убедить их. Но условия будут грабительскими. Лучше иметь дело с Россиньоли. Одним боком он с итальянскими революционерами, а другим — с евреями.
Бонапарт согласился, и два молодых человека принялись увлечённо обсуждать подробности предстоящей кампании. Какой минимум средств понадобится для покупки самого необходимого. Вопросы устройства военных складов и транспортировки грузов в горах. Мошенничество компаний-поставщиков и вероятность выполнения ими хотя бы части своих обязательств. Потенциальные возможности смены линий коммуникаций.
Молодой Жюно зевнул и задремал.
Два дня спустя, на почтовой станции Шансо, Наполеон написал Жозефине:
«Я писал тебе из Шатильона и послал доверенность на получение денег с моего счёта... Каждое мгновение всё более и более отдаляет меня от тебя, мой обожаемый друг, и каждое мгновение оставляет у меня всё меньше и меньше сил выдерживать нашу разлуку. Ты постоянно присутствуешь в моих мыслях, но мне не хватает воображения представить, чем ты теперь занимаешься. Если я вижу тебя печальной, то сердце моё разрывается от боли, а если ты веселишься в кругу друзей, я упрекаю тебя за то, что ты так быстро забыла меня...
Мне начинает казаться, что я более не могу рассчитывать на твоё доброе расположение ко мне... Если меня спрашивают, хорошо ли я спал, я чувствую, что, прежде чем ответить, я должен послать курьера и получить ответ, что ты хорошо отдохнула... И пусть гений, всегда хранивший меня в минуты наибольших опасностей, теперь бережёт тебя, а я останусь без покровительства. Ах! Будь не весёлой, но немного грустной, и пусть твоя душа не знает горя, а твоё прекрасное тело болезней...
Пиши мне, мой ласковый друг, пиши подробно и прими тысячу и один поцелуй в знак моей нежной любви и верности.
Бонапарт».
Он написал это письмо в порыве чувства. Его сердце разрывалось от разлуки. Она должна, должна любить его! В рассеянности Наполеон забыл, что она теперь его законная супруга, и адресовал письмо «Гражданке Богарне, улица Шантерен, Париж».
Глава 2
И вот наконец Ницца. Он прибыл двадцать шестого марта, или шестого жерминаля, в половине пятого пополудни, и с момента приезда, не зная ни минуты покоя, занимался неотложными делами. Только работая всю ночь и весь день, он успевал сделать самое необходимое.
Армия находилась в гораздо худшем состоянии, чем он предполагал. Во время деловой поездки из Марселя в Ниццу он провёл инспекцию войск и сделал множество чрезвычайно неприятных открытий; таков был результат командования Шерера за год с лишним, истекший после отъезда Бонапарта в Париж. От военных лагерей остались только названия. Люди жили в окопах, покрытых натянутыми на палки рваными одеялами, ютились в пещерах на склонах скалистого побережья... Они появлялись оттуда, подобные толпе жалких дикарей, и становились солдатами только тогда, когда под звуки горна и дробь барабана строились в шеренги. Их форма напоминала плохо залатанные лохмотья бродяг. У половины не было башмаков. У тысяч — мушкетов, ещё больше солдат не имело штыков и другой амуниции. Месяцами без жалованья, обворованные гражданскими поставщиками продовольствия (все компании-поставщики были акционированы политиками из Директории), они вызывали жалость своей худобой и бледностью. Офицеры бедствовали вместе с подчинёнными. Мало кто из них имел лошадь. Животные или давно сдохли, или их съели. Переполненные госпитали напоминали зловонные сараи, где раненые сотнями умирали от эпидемий или недоедания.
Не было ни одного полка, укомплектованного хотя бы наполовину, а солдаты к тому же — по увольнительным или без таковых — растекались по домам. Не было полка, которому не хотелось послать всё к чёртовой матери. За день до его приезда в Ниццу третий батальон 209 полка поднял мятеж, требуя выплаты жалованья; и офицеры, и солдаты отказывались служить. (На примере этого батальона он преподаст всем хороший урок. Батальон будет расформирован, офицеры уволены, а солдаты переведены в другие части). За неделю до этого чуть не взбунтовалась голодавшая в горах Ормеа дивизия Серюрье. Бунты вспыхивали повсюду. Если армия в целом была фанатично предана идее Республики, то оставшиеся в живых патриоты-добровольцы 1792 года из-за непрекращающихся страданий всё более поддавались агитации роялистов, готовивших грандиозное восстание в армии. В полках ходили слухи о тайных «обществах дофина», о пении баллад шуанов[31]. У одного полка даже хватило наглости официально обвинить в «негражданском образе мыслей» генерала Лагарпа за то, что он наказал командира этого полка, когда тот в день годовщины казни Людовика XVI вывесил траурное знамя!
Ну что ж, он покажет им, что теперь у армии есть главнокомандующий, которому она обязана подчиняться. Но предстояло сделать большее. Недостаток ощущался во всём — в продовольствии и экипировке, в боеприпасах и амуниции, в фураже и повозках, в лошадях и других вьючных животных, а главное — в деньгах. Неудивительно, что Шерер докладывал о невозможности наступательных действий. Но жаловаться Бонапарт не собирался. Это была его армия, которой предстояло стать инструментом его гения. Его воодушевляла мысль, что он овладеет ею, сможет подчинить себе. Дело пойдёт! Каких бы усилий это ему ни стоило, он был решительно настроен начать кампанию в течение ближайших двух недель. Он мечтал опередить Болье с его австрийцами и Колли с пьемонтцами, сокрушительными ударами взломать их педантично выстроенную оборону. Двух недель достаточно! И не важно, что спать он будет только урывками.
Залитая солнцем Ницца в окружении холмов напоминала морскую раковину. Порт заполняли парусные фелюги и другие малые каботажные суда, укрывавшиеся здесь от английских военных кораблей, которые нападали на них. Город был таким, каким он покинул его почти полтора года назад. На улицах и площадях, украшенных многочисленными аркадами, было тесно от проституток в платьях с завышенными талиями и шляпках с полями козырьком. Они прогуливались с щеголеватыми армейскими интендантами и чиновниками. Поставщики занимались откровенным грабежом. Ему придётся преподать им урок честности и кого-нибудь из них расстрелять или повесить. Шове предлагал арестовать каждого служащего и проверить каждый счёт. На некоторых улицах дома через один представляли собой игорные заведения, где наглые мародёры, девизом которых было «состояние за шесть месяцев», веселились с подружками и обирали тех немногих обезумевших от азарта офицеров, у кого из карманов торчали пачки ассигнаций. Оборванные, похожие на скелеты солдаты только с завистью поглядывали на эти двери.
Он направился в штаб-квартиру, расположенную в большом доме напротив церкви Сен Франсуа де Поль. Старый Шерер (год тому назад этот ветеран, которому исполнился шестьдесят один год, отозвался о Бонапарте как о блестящем артиллерийском офицере, и притом необыкновенно честолюбивом интригане) принял его с не лишённой иронии вежливостью. Пожилой генерал был очень доволен тем, что ему теперь больше не придётся отвечать за эту оборванную и абсолютно небоеспособную армию. Умники из Парижа ожидали, что он Совершит с ней чудеса храбрости. И пусть его преемник не обладает жизненным опытом, но на его стороне отвага юности. А как поживает Баррас? Кстати, «гражданин генерал», кажется, женился на одной из подружек Барраса, верно? Тут он фыркнул, но сделал вид, что чихнул.
С Шерером связываться не стоило. Он человек конченый. Необходимо воздержаться от резкостей, стараться выглядеть скромным и почтительным, чтобы не обидеть, не задеть гордость старого вояки. Шерер сдаст свои полномочия только на следующий день утром. Бонапарту придётся вытянуть из него ещё много полезных сведений. Сегодня вечером они будут на дружеской ноге. Он принял приглашение Шерера пообедать вместе в пять часов.
Обед оказался весёлым: за столом сидело несколько дам. В Ницце, на Четвёртом году Республики, аскетизм был явно не в моде. Дамы, соперничая друг с другом, проявляли повышенное внимание к новому, пышущему молодостью главнокомандующему. Он сидел рядом с хорошенькой гражданкой Фейпу, женой французского представителя в Генуе.
Гражданка лезла из кожи вон, чтобы очаровать его, а её улыбки намекали на то, что сердце дамы неравнодушно к военным. Он был неприступен. Он не одобрял женщин, которые бесстыдно развлекались в отсутствие своих мужей, и настоял на том, чтобы разговор зашёл о гражданине Фейпу. Бонапарт познакомился с ним полтора года назад в Генуе, и у них завязались довольно тесные деловые отношения. Фейпу казался неглупым человеком. В предстоящей кампании они будут работать рука об руку. Эти дурочки могли бы сразу понять, что он здесь не для того, чтобы тратить драгоценное время на дешёвые любовные интрижки: всё его время уйдёт на перестройку армии. Кроме того, в мире для него существует только одна женщина. Женщина, с которой он мысленно не расставался. Он достал из кармана портрет Жозефины, передал его по кругу собравшимся и рассказывал о её красоте, изяществе и несравненных достоинствах, пока раздосадованная до глубины души гражданка Фейпу не повернулась к нему спиной.
Когда гостей стали обносить вином, разговором завладел старый словоохотливый Шерер. Генерал утомил всех рассказами о том, чем он занимался в армии во время прежних кампаний, и сетовал, что его не оценили по достоинству. Во время его хвастливой болтовни Бонапарт с ужасом услышал, что тот уже решил напугать Генуэзскую республику и заставить её дать необходимый для армейской казны заем. Для этого Шерер направил бригаду в Вольтри, который находился в сутках пути от Генуи. Этого настоятельно требовал гражданин Саличетти, и Шерер надеялся, что такой шаг не нарушит планов нового главнокомандующего.
Что? Бонапарт так и подпрыгнул. Именно этой авантюры он и опасался. Теперь этот старый дурак Шерер пробудил австрийцев от их зимней спячки. Бонапарт не сможет застать их врасплох. Глупец! Да, Шерер признался, что есть сведения о концентрации войск, начавшейся вокруг Генуи. Бонапарт был в ярости. При первой же возможности он напишет Директории и выразит негодование, что его планы были нарушены в самом начале. По крайней мере, если начало кампании пошло насмарку, то ответственность должен понести тот, кто действительно виновен в этом.
Это было вчера. Сегодня, когда он в первый день своего командования прохаживался взад и вперёд по большой комнате, окна которой выходили на церковь, Бонапарт забыл о своём гневе. Что сделано, то сделано. Всё не так ужасно. Пусть Болье собирает войска вокруг Генуи. Из-за плохих дорог и холмистой местности ему будет ещё сложнее получить подкрепления для осаждённого центра. Бонапарт сыграет на страхах Болье и оставит эту бригаду в Вольтри. Он радостно улыбнулся и с неожиданной живостью повернулся к Бертье, своему новому начальнику штаба. Этот уродливый офицер с необычайно большой головой, но зато в великолепном мундире сидел в углу за столом и грыз ногти.
— В конце концов ничего не потеряно. Я превращу ошибку этого старого дурака в преимущество. Передать Пижону в Вольтри: держаться изо всех сил! Болье подумает, что я хочу напасть на его левый фланг со стороны Генуи. Чем больше он там сосредоточит войск, тем лучше. — Он потёр руки, радуясь своей хитрости. — Военное искусство, как я его понимаю, заключается в том, чтобы извлекать выгоду даже из ошибок! Нет ничего, что нельзя обратить в преимущество. Если, конечно, обладать острым умом. Разве не так, генерал?
Из зеркала на Бонапарта взглянуло его собственное землистого цвета, со впалыми щеками лицо. От этих мыслей оно просияло.
Бертье, сорока двух лет от роду, офицер инженерных частей при старом режиме, позднее начальник штаба Альпийской армии Келлермана, без всякого воодушевления кивнул громадной курчавой головой.
— Да, мой генерал, — сказал он. — Несомненно.
Очевидно, он ещё не составил мнения о новом молодом командующем. Они познакомились всего лишь два дня назад в Антибе.
Однако новый главнокомандующий обладал острым глазом, позволявшим ему сразу определять опытных подчинённых, даже если он знал о них только из докладов или по личным делам, хранившимся в военном министерстве. Ещё будучи в Париже, после того как Дювинье по глупости отказался служить у него начальником штаба, он настоял на переводе на эту должность генерал-майора Бертье.
Он оборвал разговор.
— Хорошо! — Тон Бонапарта неожиданно стал резким. — Мы понимаем друг друга, генерал. Теперь за работу. Кампания начинается прямо сейчас. Я буду отдавать распоряжения в письменной форме, диктуя их своим секретарям. Вы будете перерабатывать их в чёткие и ясные приказы соответствующим командирам и следить, чтобы те при первой возможности являлись ко мне расписаться в их получении. Таким образом мы не станем терять время на бесполезные обсуждения.
Он заглянул этому уже не молодому человеку в глаза. По своему опыту он знал, как много споров происходит между начальниками штабов и главнокомандующими. Теперь только один человек будет управлять армией, и управлять деспотично. Только один ум может постичь драму войны. Необходимы лишь исполнители. Он добавил более любезно, но с прежней властностью:
— Не сомневаюсь, что у вас есть желание без промедления создать штаб. Я предлагаю вам расположиться в другой комнате этого же дома.
Бертье поднялся, потянулся за своей роскошной треуголкой и надел её. На его толстом, уродливом лице легко было прочесть сомнение и недовольство.
— Конечно, мой генерал, — сказал он и отдал честь.
Короткая, неуклюжая фигура Бертье скрылась за дверью.
Оставшись один, молодой главнокомандующий мрачно улыбнулся. Один готов! Он был уверен, что сейчас Бертье спрашивает себя, что за фрукт этот Бонапарт. Ничего, скоро узнает. Теперь осталось добить ещё троих: дивизионных генералов Массена, Серюрье, Ожеро. Они дожидались своей очереди в прихожей. Все трое были немолоды, значительно старше его и имели за плечами блестящую военную карьеру. И если Бонапарт хорошо знал их по докладам или предшествующей службе, то они, ограниченные своей военной специальностью, не знали о нём ровным счётом ничего. Для них, как и для Шерера, он был артиллерийским генералом, генералом-выскочкой, который получил пост главнокомандующего незаслуженно — в результате политических интриг и своей женитьбы на одной из любовниц Барраса. Эта мысль причиняла ему боль. Он мог догадываться, какие язвительные шутки отпускали за его спиной. Очень хорошо. Они у него ещё попрыгают. Они его ещё не знают. Никто ещё не знает его.
На мгновение в нем проснулся актёр. Он встал в позу перед зеркалом и принялся разглядывать себя. Невысокая тщедушная фигура. Землистого цвета лицо со впалыми щеками и тонкими, но чувственными губами. Глаза, загоравшиеся от воодушевления и становившиеся порой холодными и злыми. Он выглядел мальчишкой. И это был человек, собиравшийся свершить великие дела, человек, которого должна полюбить Жозефина? Он сделал движение, чтобы надеть генеральскую треуголку. Нет. Позже. Он подошёл к шнурку звонка и дал генералам сигнал войти.
Они вошли — трое мужчин, двое из которых были значительно крупнее его. Один из них, Ожеро, был настоящим великаном с огромным, крючковатым, как клюв хищной птицы, носом. По их небрежному приветствию он понял, что в прихожей эти трое только что подшучивали над ним. Для них, генералов с блестящей репутацией, это было уж слишком: им предлагали тащить на буксире этого маленького парижского интригана и на ходу обучать его военному делу.
Он знал о них всё. Только один мог считаться порядочным человеком, бывший граф Серюрье, высокий, с мрачным лицом, обезображенным шрамом, с массивным, тяжёлым подбородком. Его челюсть была прострелена пулей из мушкета ещё раньше, чем главнокомандующий родился на свет. Ему было теперь пятьдесят четыре года. Надёжный солдат, практик старой школы, унаследовавший всё, что мог, из дореволюционных порядков. Двое других — авантюристы из плебеев, выдвинувшиеся в дни Революции. Карьера Ожеро походила на историю из сказок «Тысячи и одной ночи». Прекрасный наездник и лучший фехтовальщик отборного кавалерийского полка, он, убив ударившего его офицера, спасся бегством и стал сержантом в русской армии, воевавшей с турками. Потом он пробрался в Пруссию, где завербовался в знаменитую гвардию Фридриха Великого, откуда вскоре дезертировал и зарабатывал себе на жизнь, давая уроки фехтования в Дрездене. Попав под амнистию в связи с рождением наследника престола, он вернулся во французскую армию и стал членом французской военной миссии в Неаполитанском королевстве. Затем Ожеро бежал с прекрасной молодой гречанкой в Лиссабон и вернулся во Францию только в 1790 году. Здесь он получил звание капитана, а в Вандее и на Пиренеях в 1793-м дослужился до дивизионного генерала. Богатая приключениями жизнь для тридцативосьмилетнего мужчины... Стоявший рядом с ним Массена — худой, с хитрым выражением лица, волчьим профилем и носом почти таким же длинным, как у Ожеро, — тоже был солдатом старой армии. Родившийся в Ницце и начавший карьеру юнгой, после четырнадцати лет службы он ушёл в отставку, чтобы стать контрабандистом, а то и пиратом, но с начала Революции записался на сверхсрочную службу, что дало ему возможность быстро продвинуться до дивизионного генерала. Все знали, что он не любил никого и ничего, кроме денег и женщин, и пользовался тем и другим не церемонясь. Но на поле брани до него было далеко даже Ожеро. Ещё до Революции, будучи сержантом, он был тайно посвящён и достиг высокой степени у франкмасонов, которые более других способствовали разрушению старого порядка вещей. (Новый главнокомандующий также был посвящён в масоны, но предпочитал не афишировать это). Через два месяца Массена должно было исполниться сорок лет.
Несколько мгновений он рассматривал эту угрюмую и враждебно настроенную троицу. Двое из неё выглядели не лучше разбойников. Он ничего не имел против этого.
Пусть оставляют себе всё награбленное добро до тех пор, пока сражаются за него, Бонапарта. Но сначала он должен подчинить их себе, сделать послушными своей воле. С искренним дружелюбием он подошёл к ним и пожал руку каждому.
— Как ваши дела, Серюрье? Я слышал, что ваша дивизия испытывала недостаток в продовольствии и обуви. И то и другое приказано доставить немедленно. Мне рассказывали, что ваши войска самые подготовленные в армии, и вы сами для них — образец и пример. А вы, Ожеро? Наслышан о ваших подвигах. В Лоано вы показали себя прекрасно. И вы, Массена, тоже. Я читал об этом в Париже и жалел, что меня не было с вами. Должно быть, австрийцы бежали врассыпную! Ваша атака была для них как гром среди ясного неба. — Он широко улыбнулся, чтобы польстить им. — Теперь у вас будет ещё больше поводов прославиться. Мы скоро обсудим это. — Говоря банальности, он старался проявить всё своё обаяние (казалось, в этот момент проснулась его итальянская кровь), чтобы завоевать их расположение. — Да, в Париже было не спокойно, но всё уладилось. Правительство держится прочно. А люди думают только о развлечениях. Театры и танцевальные залы переполнены. Все веселятся. Вы, возможно, слышали, что я женился? На очаровательной женщине, аристократке «старого режима», но настоящей республиканке. Я обожаю её. Я должен показать вам её портрет.
Он достал из нагрудного кармана миниатюру и передал им. Бонапарт не мог не упомянуть о Жозефине. Это был смелый вызов.
Пускай позлословят о ней в открытую — о ней, которой он так явно гордился! Пока генералы флегматично рассматривали портрет, он думал о том, принесёт ли сегодня курьер письмо от неё.
— Разве не красавица? Она так добра, так мила, так грациозна. Кто увидит её, тот сразу влюбляется. Она бесподобна! — Он увлёкся, радуясь возможности поговорить о жене.
Не подмигнул ли Массена своему другу Ожеро? Внезапно посуровев, Бонапарт отобрал миниатюру, взял треуголку и нахлобучил её на голову.
— А теперь, господа, за дело! — Его голос резко изменился, стал сухим и властным. Это был голос человека, привыкшего и умеющего повелевать. В мгновение ока он весь преобразился, как драматический актёр, и, сознавая это, наслаждался своей игрой. Он больше не чувствовал ущербности перед этими старыми воинами, но ощущал себя равным им по званию и превосходящим их во всём остальном. Не давая им опомниться, он начал говорить. — Суть моего плана, господа, очень проста. — Ему следовало бы называть их «граждане генералы», так как обращение «месье», смелое само по себе, непривычно резало их слух, — Я предлагаю вклиниться между австрийцами и пьемонтцами в месте их соединения. — Он разложил на столе карту и указал на тёмные пятна холмов и долины к северу от Савоны. — Вот здесь. Основные силы будут сосредоточены в Савоне и через Кадибонский перевал ударят на Каркаре. Там передо мной откроются три долины, и прежде, чем враг сможет перегруппировать силы, я ударю на австрийцев, находящихся в восточных долинах, и отгоню их к Акви. Затем я поверну на запад, ударю на пьемонтцев и захвачу Чеву. Пьемонтцы непременно отступят для защиты Турина. Они будут всё дальше отходить за высокие горные хребты от своих союзников с их базой в Алессандрии. — Он умолчал о своём намерении нанести удар по пьемонтцам до того, как выступит против австрийцев, так как это шло вразрез с приказами Директории. — Это, messieurs, краткое изложение первого акта. Кампания начнётся двадцать первого жерминаля. Всё будет зависеть от быстроты передвижения. Для наступления у нас будет около сорока тысяч единиц живой силы против шестидесяти тысяч союзников, но мы будем двигаться вдвое быстрее. У нас всегда будет превосходство в силе на местах. А теперь перейдём к обсуждению деталей.
Он оторвал взгляд от карты и посмотрел на генералов, чтобы убедиться в их внимании. Они с интересом, но и с долей скепсиса следили за разъяснениями. С прежней решимостью Бонапарт продолжил:
— Я предлагаю провести кампанию силами трёх корпусов. Вы, Массена, займёте правый фланг. Вам будут приданы части Лагарпа и Менье. Закончите концентрацию войск вокруг Савоны к двадцатому жерминаля, оставив в Вольтри только бригаду Пижона вплоть до дальнейших распоряжений. Ваши солдаты возглавят наступление. А вы, Ожеро, сосредоточите свои отряды на побережье к тому же дню и будете готовы выступить через Сан-Джакомо на Каркаре. Вы, Серюрье, останетесь на прежней позиции в горах вокруг Ормеа, угрожая флангу пьемонтцев, если они решат выступить против нас в Каркаре. В нужный момент вы присоединитесь к наступающей армии, а небольшие отряды Маккара и Гарнье останутся на своих местах, охраняя дальние перевалы на востоке и защищая прибрежную дорогу. Эти перевалы останутся под снегом ещё несколько недель.
Генералы озадаченно переглянулись. В этом главнокомандующем было что-то новое. Он знал всё гораздо лучше, чем они, находившиеся в этих местах уже многие месяцы. Ему удавалось всё держать в голове. Он сам ещё никогда так не восхищался своей великолепной памятью. Казалось, что каждый пункт плана появлялся перед ним в нужный момент, возникал из какого-то неиссякаемого источника внутри него самого, в то время как весь план настоящего и будущего со всеми его взаимосвязями лежал перед ним, словно открытая книга.
Наконец Бонапарт сложил карту.
— Я думаю, этого достаточно, господа, — сказал он. — Мы понимаем друг друга и добьёмся успеха. Италия будет нашей. Армия бедствует, и её боевой дух слабеет, но это армия испытанных солдат. Перед ней лежат богатства Италии. Под руководством таких генералов, как вы, она совершит даже невозможное, а наша победа не только возможна, но и неизбежна. В будущем вы будете получать мои распоряжения через генерала Бертье, а теперь идите и согласуйте с ним свои действия.
Разговор подошёл к концу. Генералы встали. Он взглянул на ветеранов. Удалось ли ему завоевать их доверие? Пока ещё нет. Им нужно было больше слов, убедительных и логичных. Его корсиканский акцент был против него. На смуглом худом лице Массена играла язвительная усмешка. Старый Серюрье выглядел по-прежнему суровым и даже мрачным. Для них он был лишь красноречивым, оптимистично настроенным молодым человеком, неопытным в тяжёлом деле войны. И тем не менее он добился успеха; ему отчасти удалось преодолеть их скепсис, смягчить их враждебность. В том, как они прощались и отдавали честь, было заметно искреннее уважение. На мгновение Ожеро задержался в дверях и обернулся.
— Гражданин генерал, — по-военному грубовато сказал великан. — Рад служить под вашим началом. Я сразу могу отличить хорошего командира. — Он вновь отдал честь, ловко повернулся, как бывалый кавалерист, и вышел из комнаты вслед за остальными.
Молодой главнокомандующий мысленно улыбнулся. Ему уже насплетничали, что Ожеро насмехался над ним больше остальных.
Бонапарт достал из кармана часы и послал за секретарями. Была дорога каждая минута. До начала смотра войск ему едва хватит времени, чтобы отдать несколько приказов Бертье. Он не мог так быстро установить контакт с войсками и навязать им свою волю. Вошли и заняли свои рабочие места два секретаря. Он диктовал быстрее, чем они могли записывать. Но нужно было сделать очень многое, прежде чем армия придёт в боевую готовность. Время — противник, который никогда не прощает. Каких бы усилий это ни стоило, он развернёт военные действия прежде, чем старый Болье со своими австрийцами и более умный Колли с пьемонтцами успеют даже подумать о такой возможности. Он ходил по комнате взад и вперёд, диктуя то одному, то другому секретарю, а они прилагали все усилия, чтобы поспеть записать за ним всё.
Вошёл ординарец и сообщил, что лошадь готова. Он бросил несколько последних фраз секретарям, поправил широкую трёхцветную ленту и поспешил спуститься по лестнице.
На улице стояли двое его адъютантов, держа лошадей под уздцы. Одним из них был Жюно, другим — красивый и сумасбродный Мюрат. Это он, будучи капитаном Двадцать первого стрелкового полка, на рассвете исторического дня вандемьера помчался и успел захватить столь необходимые тогда пушки. Это он, встретившись с Бонапартом три недели тому назад уже в форме бригадного генерала, сказал:
— Гражданин генерал, я вижу, что у вас нет полковника-адъютанта. Я мог бы сопровождать вас в Италию в этом качестве!
И он — конечно, не без поддержки Жюно и Мармона, но главным образом благодаря своей наглой самоуверенности — всё же получил это назначение.
Все трое сели на коней и поскакали рысью по главной улице. Запрудившие мостовую и тротуары жители Ниццы оживлённо занимались своими делами и либо совсем не обращали на них внимания, либо презрительно сплёвывали сквозь зубы. Им уже порядком надоели эти несносные французы. У многих из них, вероятно, были друзья или родственники среди свирепых мятежников и роялистских разбойников, грабивших любой транспорт, двигавшийся без военного сопровождения.
На площади Республики, в архитектуре которой, подобной итальянским «пьяцца», присутствовало множество аркад, выстроилась та часть армии, которая была расквартирована в Ницце — два неполных полка пехоты, полк гусар (тоже в неполном составе) и четыре батареи. Когда Бонапарт въезжал на площадь, оркестр начал играть «Марсельезу», а знаменосцы подняли свои прожжённые порохом знамёна. Он осадил коня и подождал, пока не закончится этот республиканский гимн — гимн первых героических лет, подходивших к концу. Войска стояли неподвижно. Шеренги пехотинцев в старых, потерявших форму треуголках, в залатанных, обветшалых кителях, в самых разномастных брюках. У половины не было форменной обуви. Некоторые были в сабо; другие обвязали ноги какими-то лохмотьями; третьи стояли просто босиком! Только элитные отряды гренадер в коротких киверах из медвежьих шкур и в плотно облегающих трико поверх гетр напоминали о военной гордости. Он знал гренадер как самых яростных зачинщиков всех беспорядков и мятежей. Гусары в оборванных, поблекших доломанах, со свисавшим оружием, с заплетёнными в косы и варварски выбивавшимися из-под конусообразных меховых шапок длинными волосами сидели на тощих как скелеты лошадях и явно не годились на роль боевой кавалерии. Артиллеристы, стоявшие рядом с пушками и одетые во что-то блёкло-синее, отороченное тускло-красным, больше напоминали потрёпанных мастеровых, нежели солдат. Выражение их лиц с выступавшими скулами и запавшими глазами вполне сочеталось с их длинными, уныло свисавшими усами. Вот так армия!
Он смотрел на них, а они смотрели на него. В полном молчании. В их рядах не чувствовалось никакого воодушевления. Он казался им ещё одним бездарным главнокомандующим — низкорослым, тщедушным, худым. Ничто в его внешности не говорило о принадлежности к гордому воинству. Он выглядел шутом. Они уже вдоволь посмеялись над этим генералом-политиком из Парижа — почти все тут были южанами, и Париж казался им далёким и страшным — генералом, свалившимся как снег на головы их боевых командиров, которых они давно и хорошо знали. Он тут долго не протянет. Никто не удерживался надолго во главе этой несчастной голодной армии, заброшенной в дальний, всеми забытый закоулок военных действий. Он чувствовал волну враждебности и насмешливого презрения, исходившую от этой массы одетых в рваную форму постоянно голодных людей, которые в течение многих лет видели, как бессмысленно умирали их товарищи за редкие и никому не нужные победы.
Но если эта армия не знала его, то он хорошо знал эту армию. Та армия, какой он её знал, была лучшим инструментом войны. Война — это в первую очередь внутренний настрой солдат; конечно, экипировка важна, но она на втором месте. А душа этой армии только и ждала, чтобы кто-нибудь возглавил её и направил людской гнев, злобу, раздражение в нужное русло. Они слишком изголодались. В армии ещё были живы иллюзии первых лет Революции. Несмотря на интриги роялистов, пользовавшихся их нищетой, эти солдаты были верны духу тех патриотов, которые бросились к границам, чтобы защитить родину в минуту опасности. Революция сохранила для них романтический ореол, они верили в её великую миссию в деле свержения тиранов и освобождения мира от старых оков силой оружия, верили в перерождение закабалённых народов, в мистическое крещение Свободой, Равенством и Братством. Когда-то он сам разделял эти идеи и теперь цинично понимал их значимость. Солдатам без идеи, без мечты — грош цена. За несколько су в день человек не стал бы убиваться. Им нужен идеал. Он даст им этот идеал, он будет зажигать их сердца тем пламенем, которое так сильно пылало в нем самом. Он превратит их гнев, их мечты в неутолимую жажду Великой Славы, рядом с которой их маленькие человеческие жизни потеряют значение. Он обрушит этих преображённых его волей фанатиков на лишённых вдохновения наёмных солдат врага!
Так думал он, проезжая ряды войск, а его быстрый взгляд замечал все недостатки в экипировке, которые требовалось устранить позднее. Службы тыла требуют особого внимания. Пока Бонапарт ехал верхом, он успел понять причины недовольства солдат и то, какие приказы теперь возымеют действие.
— Солдаты! — прокричал он.
Это было ново. К солдатам Революции обращались «граждане». Это слово выведет их из апатии. Он увидел, как несколько усатых лиц повернулось в его сторону. Он старался говорить как можно громче, пытался придать голосу такой тембр, чтобы он эхом отзывался в окружающих аркадах, в окнах, откуда выглядывали любопытные женщины. У него не было опыта выступлений перед солдатами, и он осознавал этот недостаток.
— Солдаты! Условия, в которых вы находитесь, вызывают во мне жалость и гнев! Позор, что доблестно сражавшиеся солдаты Революции брошены в таком бедственном положении! Я сделаю для вас всё, что смогу — я уже распорядился доставить продовольствие, и скоро вы будете получать регулярное питание. Вы получите также часть не выплаченного вам жалованья. Уже кое-что, но этого мало. Нации предстоит вступить в схватку со многими врагами. Можно ли желать большего? Вы оборваны и голодны. Я поведу вас в Италию. Её плодородные долины, её богатые города станут вашей добычей. Там вы сможете удовлетворить любое ваше желание...
Солдаты заухмылялись. Взрыв хохота прервал её речь. Эта армия уже не раз слышала сказку об Италии. Из строя послышались выкрики:
— Башмаки, башмаки! Эй, Малыш! Сперва подай нам обувь, в которой мы туда дошлёпаем!
Он сдерживал лошадь, беспокойно переступавшую с ноги на ногу из-за этих криков, из-за усиливавшегося шума, и попытался говорить ещё громче.
— Я дам вам всё необходимое — всё, что смогу! Остальное вы должны взять сами. Ваши дисциплинированность и отвага добудут вам всё, что нужно! — Этот проклятый корсиканский акцент... Заметен ли он в этом гаме? — Вашим страданиям наступил конец! Я поведу вас к победе, к славе, к завоеванию богатейшей в мире страны!
Наконец возгласы, перемежавшиеся с насмешливыми жестами самых смелых, окончательно стихли. Ему не удалось расположить к себе этих худых и оборванных людей — они уже наслушались красивых слов. Они требовали действий, нуждались в них. Но они ещё увидят, к каким чудесам он их приведёт...
Галопом он поскакал к генералу Гюйо, командиру бригады.
— Генерал, прибыл запас обуви, и ваша бригада получит завтра первую партию. — Голос его был резким от гнева. — Я заметил, что вашим солдатам недостаёт многого из экипировки. Это можно легко исправить и получить необходимое на складе. В частности, патронташи и ранцы — то, что им нужно в первую очередь. У многих ржавые мушкеты. У других погнуты штыки. Солдаты, не заботящиеся о своём оружии, плохие солдаты. Плохие солдаты — это вина плохих офицеров, а плохие офицеры — вина плохих командующих. Недисциплинированные части представляют угрозу для собственной армии. Ваша бригада нуждается в муштровке, в большой муштровке. Сейчас она бесполезна для военных действий. Я проведу новый смотр через четыре дня. Надеюсь, бригада будет готова для начала кампании по всем статьям. Парад, разойдись!
Он направился обратно в штаб. Жюно и Мюрат скакали за ним. Было слышно, как на площади оркестр громко играл отрывистый марш Революции. Несмотря на досаду от унизительного поражения при первой встрече с солдатами, он суеверно расценил звуки этого марша как доброе предзнаменование. Скоро пушки загрохочут, загремят... Всё будет хорошо. Он приложит для этого все силы. Он вдохновит армию, зажжёт её собственным пылом. Он осмотрит каждое подразделение и выступит перед ними, чтобы все его знали. «Вы раздеты, голодны, лишены всего! А за этими горами — равнины Италии!» — подчеркнёт он. И когда они поверят, то устроят ему овацию и последуют за ним куда угодно.
Через четыре дня прибудут новые подразделения, будет полезно провести на площади Революции новый смотр. Он вновь обратится к ним с пламенными речами. Возможно, у него ещё нет опыта и он не сможет покорить их искусством слова, но он никогда не выдавал себя за оратора. Этот проклятый корсиканский акцент... Наверно, было бы неплохо во время речи раздать солдатам отпечатанное воззвание, которое они могли бы читать и перечитывать. Это был бы звук горна, призывающего их к великим свершениям, к славе. И пока он ехал на коне, живые слова стали складываться в его голове в отточенно ясные и скупые фразы:
«Солдаты, вы раздеты и плохо накормлены... Ваша выдержка, ваша храбрость, которую вы проявили среди этих скал, поразительны, но они не принесли вам славы...
Я хочу повести вас в самые плодородные долины мира... Там вы обретёте честь, славу и богатство. Солдаты Итальянской армии, разве вам не хватит мужества?»
И вот он вновь, вместе с группой ординарцев, перед порталом дома на улице Франсуа де Поль. Часовой, небрежно подпирающий спиной стену, с мушкетом, поставленным между ног, не узнал его и не отдал честь. Он и не ожидал строгой дисциплины в этих вскормленных Революцией войсках, где солдаты, отстаивая республиканское равенство, обращались к офицерам на «ты». Он спрыгнул с лошади, поспешно поднялся по лестнице и вновь окунулся во множество ожидавших его дел. В действительности он мысленно решал эти вопросы всё время. И, возможно, наверху его ждёт письмо от Жозефины!
Курьеры прискакали в его отсутствие. Один из Парижа, другой из Генуи. Большие запылённые сумки лежали у него на столе. Он щёлкнул замком и открыл ту, что пришла из Парижа. Он бегло, но не без интереса просмотрел множество находившихся в ней писем. Сердце неприятно защемило. От Жозефины ничего не было. Она могла бы написать! Ей следовало написать! Она написала бы, если бы любила его так, как он её! Горькое разочарование охватило Бонапарта. Чем она занимается в этом далёком Париже? Он повернулся к сумке из Генуи. Там должно быть письмо от его брата Жозефа, в котором он сообщит, когда присоединится к нему. Среди кипы писем нашлось одно, свёрнутое в секретку с печатью, написанное хорошо знакомым крупным почерком — рукой маленькой Дезире-Эжени Клари, проживавшей сейчас у своей сестры и её мужа. Тогда, ещё до знакомства с Жозефиной, когда он намеревался стать членом семьи Клари, как это сделал Жозеф, он с жадностью набрасывался на её письма. Теперь он распечатал его с холодным безразличием. Он пробежал текст глазами. Наполеоном овладело удивление, и в нем шевельнулись угрызения совести.
«...Вы сделали меня несчастной на всю жизнь, и тем не менее я со свойственной мне слабостью всё вам простила. Теперь вы женаты! Бедной Эжени больше нельзя любить вас, нельзя думать о вас... Теперь моим единственным утешением остаётся сознание того, что вы убеждены в моём постоянстве, и мысль о смерти.
С тех пор, как я поняла, что не могу посвятить вам свою жизнь, она стала для меня настоящей пыткой... Вы женились! Я не могу привыкнуть к этой мысли, она убивает меня, я не могу пережить это. Я заставлю вас поверить, что верна клятве, данной мною во время помолвки, и, несмотря на то что вы порвали соединявшие нас узы, я никогда не обручусь с другим, никогда не выйду замуж... Я желаю вам счастья и процветания в семейной жизни. Желаю, чтобы жена, которую вы избрали, сделала вас таким же счастливым, каким собиралась сделать я. Вы этого заслуживаете. Но даже посреди радостей не забывайте Эжени и пожалейте её судьбу».
Он со вздохом отложил письмо. Бедная маленькая Дезире-Эжени! Наполеон и не подозревал, что она так серьёзно воспринимает их невинную связь, и полагал, что её долгое молчание означает только одно — он не подходит ей в мужья. Ещё полгода назад семья Клари казалась ему чересчур богатой! А теперь выясняется, что хоть он и разбил сердце Эжени, она преданно любила его. Он мысленно представил её в роли своей жены, сравнил с Жозефиной... Нет, она была всего лишь ласковым ребёнком. Она не смогла бы удержать его. Он не смог бы любить её так, как любил эту зрелую, опытную женщину, наполнявшую его сердце муками и радостями, восторгом и болью, но был бесконечно благодарен маленькой Дезире-Эжени. Насколько возможно, он постарается залечить нанесённую девушке сердечную рану и будет до конца жизни помнить, что в долгу перед ней. Если бы только Жозефина любила его так, как любит его этот ребёнок! Жозефина! Жозефина! Он сел за стол и быстро, едва разборчиво написал жене письмо, стараясь отогнать встававшие перед глазами картины парижских вечеринок, её томную чарующую улыбку, подаренную какому-нибудь разряженному щёголю.
Всего несколько драгоценных минут он потратил на письмо, затем вызвал секретарей и принялся, расхаживая взад и вперёд по комнате, диктовать им.
«Седьмого жерминаля, год Четвёртый. Генерал-майору Бертье. Ускорить реорганизацию полков. Я нахожу, что большинство ещё не достигло предписанного укрупнения. Оно необходимо, в противном случае мы начнём кампанию с бригадами, в которых нет порядка. Прикажите генералу Серюрье сосредоточить войска тремя группами — в Гарессио, в Ормеа и слева от Ормеа, вдоль Танаро. Дайте уполномоченному по провианту письменное распоряжение ускорить обеспечение этих остро нуждающихся бригад продовольствием. Прикажите генералу Ожеро сосредоточить основную часть своей дивизии между Финале и Лоано и принять все меры к её обеспечению. Кроме того, он должен выдвинуть легковооружённый полк к Фельино. Дайте указание генералу Массена оставить бригаду генерала Пижона в Вольтри до дальнейших распоряжений и наладить с ней постоянную связь, а также поддержать передовой отряд, движущийся на Монтеледжино и Кадибонский перевал, обеспечив взаимное оповещение и единство действий. Одновременно он со своим интендантом должен принять все меры по сбору припасов и достаточного количества вьючных животных в Савоне.
Штаб оставит Ниццу тринадцатого жерминаля и расположится в Альбенге пятнадцатого жерминаля...»
И так далее, и тому подобное — быстро, тщательно, с большим количеством самых подробных распоряжений.
Он неутомимо работал час за часом, а секретари, склонившись над бумагой, зевали от усталости. Ни одной минуты не должно быть потеряно. Время! Время!
Десятого жерминаля, ещё находясь в Ницце, он быстрым, небрежным почерком написал письмо гражданке Бонапарт, по-прежнему именуя её «гражданкой Богарне».
«Париж, улица Шантерен, № 6.
Я не провёл ни дня, не любя тебя. Я не провёл ни ночи, не сжимая тебя в объятиях. Я не выпил ни чашки чая, не проклиная своё честолюбие и жажду славы, которые удерживают меня вдали от смысла моей жизни. Я по горло в делах, стою во главе армии, объезжаю военные лагеря, но все мои мечты и помыслы только о тебе, обожаемая Жозефина; ты одна в моём сердце... Если я встаю среди ночи и принимаюсь за труды, то только потому, что это может приблизить день приезда моей нежно любимой, а ты в своих письмах от двадцать третьего и двадцать шестого вантоза называешь меня на «вы». Сама ты — «вы»! Ах, негодница, как ты могла написать такое письмо! Сколько в нём холода! Кроме того, от двадцать третьего до двадцать шестого — четыре дня. Что же ты делала, раз не писала своему мужу?., Ах, любовь моя, это «вы» и эти четыре дня заставляют меня жалеть о своём прежнем спокойствии и равнодушии... День, когда ты скажешь мне «я люблю тебя меньше», будет последним днём моей любви и моей жизни. Если моё сердце столь ничтожно, что я не могу рассчитывать на ответную любовь, то я разорву его на куски своими собственными зубами.
Жозефина! Жозефина! Помни то, что я тебе говорил: природа дала мне сильную и решительную душу. Тебя она создала из кисеи и кружев. Неужели ты разлюбишь меня? Прости, душа моей жизни: несмотря на то что в моём сердце столько обширных замыслов, оно целиком занято тобой, но страх за нашу любовь делает меня несчастным...
Прощай! Ах! Если ты стала любить меня меньше — значит, ты никогда не любила меня. И тогда я достоин только сожаления.
Бонапарт.
P.S. Войска в этом году неузнаваемы. Уже доставлены и распределены мясо, хлеб, фураж, и моя кавалерия скоро будет готова к наступлению. Солдаты проявляют ко мне невыразимое доверие. Ты одна огорчаешь меня. Ты одна и радость, и мука моей жизни. Поцелуй детей, о которых ты даже не упоминаешь. Это сделало бы твои письма в два раза длиннее и лишило бы ранних визитёров удовольствия видеть тебя в десять часов утра. О, женщина!!!»
Глава 3
Альбенга. Позади остались три дня утомительного пути по идущей вдоль берега извилистой узкой дороге, когда-то считавшейся знаменитой дорогой римского императора Августа. Улеглось беспокойство, с которым он всматривался в просторы Средиземного моря, боясь увидеть там английский флот, перехватывающий французские транспортные суда. Английские корабли могли обстрелять и эту дорогу, по которой они тащили пушки практически волоком и на которой артиллерия не сумела бы быстро занять боевую позицию. Но все обошлось благополучно, и из нового штаба в Альбенге он писал, как делал это каждый день.
«Альбенга, 16 жерминаля.
Час ночи. Мне только что принесли письмо. Оно печально. Моя душа глубоко скорбит. Шове мёртв. Он был главным интендантом моей армии. Ты могла видеть его у Барраса. Любовь моя, я нуждаюсь в утешении... Что есть будущее? Что есть прошлое? Какая таинственная пелена окружает нас и скрывает то, что нам важно знать? Мы проводим наши дни, живём и умираем среди непостижимого...
Тем не менее я, как последний глупец, проливаю слёзы над нашей с ним дружбой, и кто дерзнёт сказать мне, что я не должен этого делать? Душа моей жизни, пиши мне с каждым курьером. Иначе я не смогу жить.
Я здесь очень занят. Болье двинул свою армию. Мы на чужой территории. Я немного устал. Целый день приходится ездить верхом.
Прощай, прощай, прощай. Я отправляюсь спать, ибо сон меня утешает. Он приносит тебя ко мне. Я сжимаю тебя в объятиях. Но увы, пробуждаясь, я по-прежнему оказываюсь страшно далеко от тебя!..
Бонапарт».
Два дня спустя он написал ей ещё одно письмо.
«Альбенга, 18 жерминаля.
Я получаю от тебя письмо, прерванное на полуслове, чтобы, как ты пишешь, поехать в деревню; и после этого ты делаешь вид, что ревнуешь меня — меня, который завален здесь делами и падает от усталости.
Ах, моя дорогая возлюбленная!.. Весна в деревне прекрасна; несомненно, там у тебя есть девятнадцатилетний любовник. Где уж тут тратить драгоценное время на письма тому, кто находится на расстоянии в три сотни лье, кто живёт только памятью о тебе, кто набрасывается на твои послания, как голодный охотник, проплутавший шесть часов по лесу, набрасывается на любимое кушанье. Я недоволен. Твоё письмо всего лишь дружеское. Я не нашёл там хотя бы искры страсти, которая, как мне иногда доводилось видеть, зажигается в твоих глазах... Страх быть не любимым Жозефиной, страх убедиться в её непостоянстве... но я сам придумываю себе беды и несчастья. Существует столько реальных несчастий! Неужели нужно самому создавать их? Не может быть, чтобы ты вдохнула в меня столь пылкую, столь безграничную любовь, не разделяя её сама. Имея такую душу, такой ум, ты не можешь в ответ на мою глубокую привязанность и абсолютную преданность нанести мне смертельный удар.
Ты ничего не говоришь о твоём обычном несварении желудка, наступающем в деревне. Я ненавижу его. Прощай, до завтра, моя сладкая любовь. Я желаю только двух вещей на свете — чтобы моя единственная жена помнила обо мне и чтобы исполнилось то, что определено мне судьбой. Думается, тот, кто каждое мгновение думает о тебе, тоже достоин памяти.
Мой брат здесь. Он с радостью узнал о нашей свадьбе и горит нетерпением познакомиться с тобой...
Ты получишь апельсины, духи и душистую воду из флёрдоранжа, которые я посылаю тебе.
Жюно и Мюрат почтительно кланяются.
Целую тебя ниже груди».
Глава 4
Ночь тонула во мраке. Дождь лил как из ведра.
Он стоял на круто вздымавшейся над деревушкой Альтаре высоте, обозначенной на карте как Капа-Бьянка, и смотрел на проплывавшие мимо клубы тумана, заметные только благодаря фонарю, который держал один из его помощников.
Время от времени до него доносился глухой звук выстрела австрийской пушки. Перед ним шла колонна пехотинцев, прятавших головы от дождя, ругавшихся, спотыкавшихся, скользивших, падавших, но всё же продвигавшихся по узкой неровной дороге. Офицеры подгоняли их криками. Люди возникали в тусклом свете фонаря и снова исчезали во тьме подобно привидениям. Вода ручьями стекала по его плащу. Он прокричал им: «Вперёд! Вперёд, мои храбрецы!»
Перед ним, растянувшись от Савоны до Кадибонского перевала, проходили промокшие от дождя батальоны Массена. Их командир стоял рядом и кричал офицерам, чтобы те велели колонне сомкнуться. Вдали, в темноте, к востоку от них, вверх и вниз по каменистым горным дорогам, которые дождь превратил в настоящие ручьи по щиколотку глубиной, тянулась дивизия Лагарпа. А на западе, довольно далеко отсюда, сражалась с ещё более трудными тропами, которые вели к Альтаре, дивизия Ожеро. Связной предупредил его, что выступление Ожеро задержалось из-за раздачи поздно прибывшей амуниции и оружия. К чёрту этих интендантов! Нервы его были на пределе. Казалось, сама ночь полна тревоги, ожидания и предчувствия важного события. Близился рассвет двадцать третьего жерминаля (или двенадцатого апреля).
Однако самое страшное уже произошло. Неизбежные задержки с доставкой продовольствия, реорганизацией войск, экипировкой солдат заставили его перенести начало кампании и назначить наступление, которое должно было немало удивить противника, на двадцать шестое жерминаля. Однако удивиться пришлось ему самому. Позавчера Болье атаковал его бригаду, стоявшую в Вольтри. Впрочем, это было не так уж страшно. Ожидая от австрийского главнокомандующего подобного шага, он заблаговременно дал соответствующие указания; бригада отступила и вчера днём благополучно вернулась в Савону. Там он произвёл ей смотр, заставил забыть об усталости и подбодрил людей горячей речью, проявив к ним доверие и поделившись всем, что его волновало и беспокоило. Однако более серьёзным — если не катастрофическим — было иное: его укреплённый аванпост в Монтеледжино, находившийся на высоте, с которой контролировались дороги его будущего наступления на Монтенотте и Каркаре, был совершенно неожиданно атакован и на целый вчерашний день осаждён австрийцами д’Аржанто.
Он никогда не думал, что у старого Болье столько прыти. Если бы Монтеледжино пал, весь план кампании рухнул бы не начавшись. Но Монтеледжино не пал. Занимавший его отряд под командованием доблестного Рампона (об этом офицере он отправит Директории похвальный отзыв и попросит для него повышения) героически выстоял. Опасность миновала. Войска д’Аржанто, прибывшие из района Акви, находились вдали от основных австрийских сил, штурмовавших Вольтри, и не смогли атаковать в полную силу. Болье, как обычно, не сконцентрировал части в решающем месте. У Бонапарта ещё было время, вполне достаточное для осуществления задуманного прорыва. Но двинуться пришлось тотчас, не думая о готовности частей. Весь вечер в его штаб-квартире, находившейся теперь в генуэзском порту Савоне (Генуя, придерживавшаяся в этой войне нейтралитета, невинно предоставила французским войскам только тамошнюю крепость), он проработал с Бертье, посылая курьеров со срочными распоряжениями дивизиям немедленно выступить в поход. Сам штаб ещё не прибыл из Альбенги; это сильно затрудняло им жизнь. Несмотря на опасность их положения, Бонапарт ни на мгновение не терял самообладания и решительности. Получая рапорты, прибывавшие каждую минуту, принимая приходивших за приказами и новыми сведениями генералов, склоняясь над разложенной на столе и освещённой несколькими свечами картой, он был энергичен, собран и... счастлив. Он быстро рассеял звучавшие в голосах генералов нотки тревоги и пессимизма. Риск и опасность всегда оживляли Бонапарта, приумножая силы его ума и воли. (Едва ли этого ждали от него Массена и другие старые генералы. Скорее наоборот: Наполеон был уверен, что они ухмылялись, довольные тем, что выскочку, не предусмотревшего действий противника, наказали по заслугам). В час ночи он сел на лошадь и вместе с Бертье и гражданином Саличетти поехал по ведущей вверх тёмной горной дороге через Кадибонский перевал, к тому месту, откуда открывался хороший обзор.
Теперь, стоя на этой окружённой тьмой высоте, мимо которой непрерывным потоком шли солдаты Массена, он мог чётко представить себе все силы, изготовившиеся к схватке. Он видел чётко и ясно. Болье бросил в атаку на Вольтри десять тысяч человек и остался там. Старикашка сам вышел из игры. Теперь он не сумел бы повлиять на события даже в том случае, если бы с риском для себя попытался штурмовать Савону. Ещё девять тысяч оставалось в резерве около Алессандрии, где от них было проку как от козла молока. Д’Аржанто мог получить подкрепление из Вольтри не раньше, чем через несколько дней, ибо оно должно было бы идти через Акви. Согласно заслуживавшим доверия донесениям, д’Аржанто готовился возобновить атаку на Монтеледжино и имел для этого около семи или восьми тысяч солдат. Против этих частей стоял хорошо окопавшийся Рампон с двумя с половиной тысячами; сейчас к нему на помощь шёл Лагарп, который вёл с собой ещё десять с половиной тысяч. Одновременно с этим четыре тысячи солдат Массена продвигались к высотам восточнее Каркаре, чтобы затем спуститься и обойти правый фланг д’Аржанто. У них был приказ ударить в критический момент, когда бой австрийцев с дивизией Лагарпа войдёт в решающую фазу. Можно было математически точно доказать, что д’Аржанто будет разбит. Ещё раз, продемонстрировав молниеносный расчёт и проницательность, Бонапарт превращал неудачу в преимущество.
Тем временем пять тысяч солдат дивизии Ожеро и бригады Доммартена двигались слева, чтобы выйти через Каркаре к Кайро и вбить клин в промежуток между австрийцами и пьемонтцами, который непременно возникнет с разгромом д’Аржанто. Если бы только Ожеро смог наверстать потерянное время и достичь Кайро в течение дня, он не только отрезал бы австрийцам путь к отступлению, но и непременно смял бы слабый, всё ещё разбросанный по фронту в четыре лье австро-пьемонтский центр. Далеко к западу, в районе Ормеа и Гарессио, мрачный старый Серюрье дал приказ провести ложные атаки и напугать пьемонтцев под командованием Колли, чтобы заставить их остаться в своих укреплённых пунктах для защиты Чевы.
С тайным восторгом он охватывал мыслью все эти дальние и невидимые передвижения огромных масс войск. Это была первая самостоятельно проводимая Бонапартом операция, первое сражение, вся ответственность за которое целиком ложилась на него. Он ясно представлял весь механизм этих передвижений и включил его, предварительно точно рассчитав взаимодействие частей, чтобы полностью парализовать волю врага. И хотя он был уверен в успехе, ночь перед рассветом должна была показать, оправдается ли его внутреннее убеждение в превосходстве французской армии. Хотя он тщательно предусмотрел все неожиданности, но даже идеально спланированные битвы проигрывались иногда по чистой случайности. Этой ночью, когда тьма скрыла от него всё, кроме проходивших мимо промокших войск, он сознательно бросил вызов судьбе, таинственному и неясному будущему. Нынешний феерический успех, о котором он мечтал, будет означать доверие Директории, будет означать всё. Его мысли перескочили на Жозефину, которая в этот час мирно спала в своей уютной, увешанной зеркалами спальне на улице Шантерен. Видела ли она его во сне? Он мог представить своего курьера, скачущего к ней по улицам Парижа с новостью о победе.
За его спиной один из штабных офицеров умудрился разжечь дымный костёр, прикрывая пламя плащом. Он отступил к огню, у которого обнаружил закутанного по уши в шарф Бертье. Тот был бодр, как всегда, несмотря на непрерывную работу в течение последних двадцати с лишним часов, и, как всегда, имел в голове чёткое представление о точном расположении каждого подразделения. Он был как раз таким начальником штаба, какой ему был нужен: точным и неутомимым. Единственное, чего хотел бы от него Бонапарт, это не грызть ногти. Вид толстых пальцев Бертье бросал главнокомандующего в дрожь. Он обменялся с начальником штаба несколькими бодрыми восклицаниями; говорить было не о чем. Их планы уже действовали, и вносить в них что-либо новое было поздно. Оставалось только ждать.
К нему подошёл Массена и заявил, что отправляется в авангард своих войск. Его голос, обычно такой язвительный, сейчас звучал необычно доброжелательно. Бывший контрабандист знал эти горы как свои пять пальцев. Бонапарт так же бодро попрощался с ним:
— До свидания, Массена. Помни, что надо дождаться, когда Лагарп займёт позиции — и тогда победа!
Но придётся вытерпеть ещё несколько часов. Нет, он не спустится вниз и не укроется в Альтаре, как предлагает Бертье. Он не мог отсутствовать ни минуты, это его дело. Он огляделся вокруг и заметил крестьянина средних лет, брата кюре из Альтаре, который очень неохотно проводил их до этого места. Очевидно, беднягу мучили подозрения, не являются ли эти французы, атеисты и смутьяны, посланниками самого дьявола. Чтобы преодолеть упрямство, пришлось пригрозить ему пистолетом. Говорить с ним, как и с любым человеком из простонародья, было очень трудно, и Бонапарту пришло в голову, что этому следовало бы специально учиться. Он подозвал к себе крестьянина и резким тоном задал ему несколько вопросов. В каком состоянии дороги, ведущие из Акви через Кайро и Дегр? Хороша ли дорога из Каркаре в Миллезимо? Каковы прилегающие дороги и мосты? Какой урожай был у них в прошлом году? Много ли осталось в амбарах? Есть ли в окрестностях богатые землевладельцы? Насколько сильны революционные настроения среди крестьян? (Согласно донесениям пьемонтских революционных агитаторов, которых он встречал в Ницце и Альбенге и которые щедро субсидировались Фейпу из Генуи, весь Пьемонт только и ждал сигнала к началу якобинского восстания). Как ладили они с австрийцами?
Крестьянин пытался отвечать как можно лучше, постоянно вдаваясь в путаные объяснения, которые приходилось прерывать. Он попросту очень боялся Бонапарта и мучился от терзавшего его беспокойства. Думает ли «синьор генерал», что сражение развернётся в Альтаре? Его жена, беременная шестым ребёнком, только что слегла в постель, и её нельзя вывезти. Большинство жителей деревни уже удрало. Французы, не в присутствии signor generale будь сказано, творили жуткие вещи, когда были там в позапрошлом году, несмотря на то что битва происходила далеко от этого места, в Дего. Жена его племянника сошла с ума из-за того, что они с ней сделали, а племянник повесился.
Наполеон сам побывал здесь в те времена, командовал артиллерией и хорошо помнил все эти сцены мародёрства и насилия. Он изо всех сил старался переубедить бедного селянина, говорил, что не допустит подобного и что не планировал никакого сражения в Альтаре.
Крестьянин покорно поблагодарил его и перестал трястись от ужаса при виде тщедушного молодого генерала, так хорошо говорившего по-итальянски.
— Покорнейше благодарим, signor generale! Я часто думаю, почему Господь допускает войну? В бытность моего дедушки здесь тоже шла война. Чужеземные солдаты приходят и убивают друг друга в наших деревнях. Конечно, война — это их дело, но сгорают наши дома, гибнет наш урожай и наши женщины подвергаются поруганию. Мой брат, священник, говорит, что на все воля Божья, но случаются вещи, signor generale, которые нельзя понять.
Бонапарт не мог объяснить ему, что здесь сталкиваются крупные национальные интересы, и эти конфликты не могут быть решены иначе как с помощью войны, уничтожающей их мирные поля с таким же равнодушием, как это делает сильная буря. Война является лишь частью тайны бытия. Почему его призванием стала именно война и почему она так разрушительна? Какие мистические силы проявляли себя в Александре Великом или в Цезаре? Он подумает об этом позднее, когда будет время пофилософствовать. Раньше он часто занимался этим, пока одиноко ютился в своей мансарде...
— Войны никогда не прекратятся, мой друг, — сказал он как можно мягче. — В один прекрасный день ты ещё похвастаешься тем, что помог мне одержать мою первую победу.
Он отвернулся и пошёл к Бертье. Лагарп уже должен был выйти на нужную позицию и соединиться с Рампоном. Австрийцы тихо залегли где-то в темноте к северу и северо-востоку. Если, конечно, не ускользнули под покровом ночи! Но нет, это невероятно. Д’Аржанто, получив достаточное подкрепление, попытается вновь атаковать эту стратегически важную высоту. Тем более что после вчерашнего боя число защитников Монтеледжино сильно поредело. Возможно, к нему подойдёт Болье, но войска из Вольтри старик подтянуть уже не успеет. Все произойдёт так, как он и наметил. Главнокомандующий с нетерпением ждал курьера от Ожеро с подтверждением того, что его войска приближаются и будут на месте вовремя, чтобы сыграть решающую роль в окончательной победе.
В небе забрезжил бледный рассвет. На горизонте среди низких облаков начали слабо прорисовываться вершины гор, а внизу всё было покрыто клубами тумана. Дождь прекратился. Ординарец принёс ему горячий кофе и кусок чёрствого хлеба. Хорошо! Он нуждался в этом. Бертье тоже выпил немного кофе и пожевал корочку. Снова появился Саличетти, давно отправившийся вниз поискать укрытия в Альтаре. Кое-кто расседлал лошадей и положил сёдла вокруг костра. Они с Бертье сидели на них и пили кофе. Оставалось только ждать. Саличетти, с беспокойством вглядываясь в туман, шагал взад и вперёд. Наконец он подошёл к командующему:
— Австрийцы странно притихли, Бонапарт. Не обходят ли они нас со стороны Савоны, чтобы отрезать путь к отступлению?
Он только рассмеялся в ответ. Саличетти, который доложит Директории всё, что он скажет или сделает, должен доверять ему полностью.
— Об отступлении не может быть и речи, мой друг, вот увидишь. Своё первое сражение я не проиграю, — бодро сказал он, хотя принял все меры предосторожности для этого отступления, если оно станет Необходимым.
Уже совсем рассвело. Бледно-золотистые лучи мутного солнца с трудом пробивались сквозь облака. Долины внизу были ещё полностью покрыты белёсым туманом. Шесть часов утра. Мимо прогрохотало несколько пустых санитарных повозок. Рядом с ними шли хирурги, направлявшиеся к месту своей будущей работы. Проследовали Телеги с продовольствием. На них вперемежку с бочонками коньяка тряслись взъерошенные маркитанты, которые подгоняли своих мулов и ослов, выкрикивали непристойные шутки и ругательства. Семь часов. Долины всё ещё полны тумана. Собравшиеся наверху напряжённо ждали, когда грянут первые выстрелы и раздастся пушечная канонада, но всё было спокойно. Зловещая, ничем не нарушаемая тишина нависла над всем вокруг. Лагарп ужасно запаздывал. Ему был дан приказ начать атаку за час до рассвета.
Внезапно, пронизывая эту тишину, прозвучал одиночный выстрел. Затем второй... третий, четвёртый, всё чаще и чаще. Началась невидимая в тумане перестрелка, словно пуля была лучшим средством нащупать едва различимого врага. Все повскакали с мест и, напряжённо прислушиваясь, стали вглядываться в том направлении, откуда доносились звуки. Австрийцы возобновили штурм Монтеледжино! Он поглядел в сторону этой высоты, выделявшейся среди зелёных холмов и окутанной по краям клубящимся маревом. На ней не было видно никаких признаков жизни. По долинам прокатилось эхо трёх или четырёх пушечных залпов. Австрийская артиллерия. В бинокль он увидел, как маленькое белое облачко выросло и на вершине Монтеледжино. Затем, спустя короткое время, которое он мог сосчитать, до него донеслись два раската. Отвечали две пушки, которые он распорядился затащить туда вчера вечером! Ещё несколько австрийских пушек открыло огонь, и залпы покатились вдогонку один за другим. Затем послышалась мелкая отдалённая трескотня мушкетных выстрелов.
Раздались три стройных оружейных залпа, и трижды по холмам и долинам прокатилось раскатистое эхо. На фланге Монтеледжино, чуть повыше полосы тумана, появилось облако белого дыма. Мало что можно было разглядеть, но он угадывал происходившее. Защитники Монтеледжино оставили свой редут и всеми силами контратаковали наступавших австрийцев. Это значило, что Лагарп занял свои позиции. Да! Внизу, слева, из туманной долины внезапно донеслись отрывисто-протяжные звуки артиллерийских залпов, и тотчас прозвучали ответные. Лагарп начал атаку. Бонапарт ничего не мог разглядеть в этом невидимом под покровом тумана столкновении. Артиллерия продолжала стрелять. Грохот выстрелов становился всё более и более частым. Вперемежку с орудийными залпами трещали мушкеты. Что происходит там, внизу?
Прискакал один из штабных офицеров и сообщил, что Ожеро смог выступить лишь в четыре часа утра. Он очень опоздал и сумеет захватить Каркаре не раньше полудня. Следовательно, его продвижение в Кайро наперерез возможному отступлению д’Аржанто в Дего и Акви будет возможно лишь вечером. Д’Аржанто будет разбит и начнёт отступление задолго до этого срока. Бонапарта охватило раздражение. Он научит эту армию, как проводить марш-броски! Но сейчас опоздание — это факт, которого нельзя изменить. Как бы то ни было, Ожеро окажется на таком расстоянии, с которого сможет быстро прийти на помощь. Решение можно будет принять позже. Он продолжал вглядываться в покрытые туманом долины, откуда всё ещё доносились и треск мушкетов, и тяжёлые раскаты артиллерийских залпов.
Как быстро летело время в напряжённом ожидании! Перевалило за восемь, почти половина девятого. На мгновение ветерок разогнал облака. Солнце, пробившись сквозь туман, быстро рассеяло его в клочья, и через несколько минут низина, лежавшая между двумя высотами, стала отчётливо видимой. Он мог разглядеть синие колонны французов. Их передние ряды, наступавшие разрозненными группами, были словно оторочены дымками выстрелов. По другую сторону виднелись беломундирные австрийцы. Их аккуратные ряды были выстроены под углом к французам. На заднем плане виднелось несколько домов селения Верхнее Монтенотте.
Синие колонны рвались вперёд. На таком расстоянии казалось, что они движутся очень медленно, но в действительности, как ему было известно, они атаковали с неистовой яростью. Он представлял себе их бешеные крики и бой барабанов. Аккуратные белые шеренги австрийцев, славившихся выправкой, были накрыты залпами. Французы стреляли побатальонно. Бухала артиллерия: неизвестно откуда в воздухе появлялись клубы дыма. Когда эти клубы поднимались и редели, он видел поле, кишмя кишевшее маленькими человечками, которые смешивались друг с другом, соединялись, разбегались, и всё это шевелилось в клубах дыма, озарявшегося оранжевыми вспышками пушечных выстрелов. Появляясь то здесь, то там, синие колонны продолжали пробиваться вперёд. Кое-где австрийцы явно отступали. Выстрелы мушкетов и канонада пушек указывали на ярость боя. Но не этот непрерывный грохот решающего сражения замечал он во время битвы. Эти неравномерные залпы, этот конвульсивный треск мушкетов были только внешним выражением многочисленных схваток, происходивших повсюду на очень большом пространстве.
Было уже почти девять. Солнечный свет заливал холмы и низины. Одетые в белые мундиры австрийские батальоны передвигались на новые позиции. Очевидно, д’Аржанто собирал их для последующей атаки. С другой стороны были видны разворачивавшиеся широкими рядами колонны французов. Дивизия Лагарпа сражалась отлично. И в этот момент бинокль Бонапарта уловил блеск оружия, сверкнувшего на холмах слева. Солнце высветило длинную вереницу людей, что появилась в рассеивавшемся тумане. Это был Массена!
Конечно, противник тоже увидел их и почувствовал угрозу справа. Шум сражения не стихал, но неожиданное усиление обстрела говорило, что австрийцы начали контратаку. Время от времени он видел, как полки Массена прорывались вперёд и сбрасывали с холмов группы солдат в белой форме. Затем они спускались в долину и исчезали сами: поле сражение целиком затянуло дымом. Всё смешалось так, что ничего нельзя было разобрать.
Он стоял слишком далеко от сцены. Нужно подобраться поближе, чтобы ясно видеть всё происходящее. Отдав приказ Бертье спуститься в штаб в Альтаре, он забрался на свою маленькую белую лошадь и велел проводнику показать наблюдательный пункт, откуда можно было бы легче наблюдать за сражением. После нескольких минут раздумий и сомнений крестьянин наконец сказал, что знает одно такое место.
— Кастелло-делла-Селла, signor generale! Оттуда обе деревушки Монтенотте как на ладони.
— Тогда быстрей!
Саличетти решил отправиться вместе с Бертье. Сопровождаемый только полудюжиной кавалеристов из своего эскорта — все адъютанты уже разлетелись с приказами, — Бонапарт направил лошадь по каменистой тропе, спускавшейся с этой высоты. Крестьянин торопливо семенил возле стремени.
Дорога была чудовищной. С неё сражения не было видно вообще. Канонада и мушкетная пальба всё не стихали, однако интервалы между залпами увеличились, да и грохот стал слабее. Путь казался бесконечным, но проводник уверял, что с Кастелло-делла-Селла он сможет увидеть всё.
Наконец они достигли этого места, представлявшего собой заброшенное строение в складке гор. Отсюда по-прежнему не было видно ни Монтенотте, ни поля сражения. Казалось, бой почти прекратился. Были слышны только отдельные залпы артиллерии. Бездействие доводило его до бешенства. В ярости он грозился повесить проводника. Пришедший в ужас крестьянин предложил отправиться по другой тропе. Рискуя жизнью, они двинулись по ней между скал и деревьев, пока та не исчезла в лесу.
Заикаясь от страха, крестьянин признался, что он заблудился. Бонапарту хотелось убить этого придурка. Не слушая больше никаких оправданий, он повернул лошадь. Он должен сам найти тропу и любой ценой выбраться куда-нибудь, откуда сможет увидеть, что происходит.
Они нашли другую дорогу. После небольшого подъёма тропа спускалась вниз и становилась неровной и крутой, почти непроходимой. На повороте стоял монах-доминиканец.
— Куда ведёт эта дорога? — спросил Бонапарт дрожащим от гнева голосом.
Доминиканец поднял глаза от чёток и, равнодушный к близкой битве, ответил:
— Она ведёт в простую лачугу, синьор офицер. Чуть подальше путь непроходим для лошадей.
Отчаявшись, Бонапарт развернулся и поскакал вверх. Крестьянин, спотыкаясь, бежал следом. Это было уж слишком. Просто абсурд! В ярости Бонапарт проклял всю нелепость своего положения. Не видеть собственного сражения! Как только он снова повернул к Кастелло-делла-Селла, то увидел скакавшего навстречу молодого штабного офицера, совсем мальчика. Лицо юноши почернело от пороховой копоти, рваный мундир покрылся грязью Он явно побывал в гуще сражения. Юный офицер радостно махал шляпой.
— Победа! Полная победа, генерал! — с восторгом кричал офицер, — Генерал Массена приказал мне найти вас и сказать, что разбитый наголову враг в беспорядке бежит к Дего. Мы взяли тысячи пленных, знамёна и пушки!
Тут мальчик опомнился, отдал честь, достал из кармана послание Массена и вручил его главнокомандующему. Всё было так, как он сказал. Массена докладывал о полной победе и тысячах пленных.
— Это была великолепная атака, генерал! — сказал мальчишка, которого всё ещё распирало воодушевление боя. Он смеялся, опьянённый победой. — Вы бы только видели этот штурм, этих голодранцев, карабкающихся по заросшим каменистым склонам с криками: «Да здравствует Франция! Да здравствует Республика!» Всё было сделано на бегу. Австрийцы улепётывали как зайцы. Едва кто-то поворачивался и пытался оказать сопротивление, его тут же обходили с флангов и окружали. Чудесно было оказаться там, генерал! Сегодня Итальянская армия одержала свою первую победу!
Испытывая огромное облегчение, Наполеон на мгновение замер на лошади. Австрийцы бегут к Дего. Какая досада, что там нет Ожеро, чтобы отрезать им путь к отступлению, как он задумал! Сделан лишь первый шаг на том пути, который отчётливо вырисовывался в его сознании. Нужно было отдать огромное количество срочных приказов.
— Назад, в Альтаре! — скомандовал он. — И как можно быстрее! Кратчайшей дорогой!
Крестьянин на лету поймал брошенную ему серебряную монету. Бонапарт дал бы и золотую, но такой не имел. Две тысячи золотых луидоров — всё, что сумела выделить ему казна при отправке — были давно истрачены на нужды армии. Даже своим генералам он не смог дать больше четырёх луидоров каждому.
С отчаянной удалью, едва не падая с лошадей на мокрых, крутых поворотах тропы, переходя всюду, где только было можно, на размашистый галоп, они неслись по склону вниз, к Альтаре. Победа! Его первая победа! Он едва осознавал, едва верил в это. Всё казалось таким маленьким и незначительным, таким далёким от него... Но это был свершившийся факт, открывавший перед ним огромное поле будущих свершений. Он раздавил врагов в месте их основного соединения, на гребне Апеннин. Внизу раскинулись долины Италии. Солнце вновь спряталось за низкие тёмные тучи. Сырой туман полз по сумрачным холмам, но для него весь мир казался расцвеченным яркими красками. Бонапарт был готов смеяться от переполнявшего его ликования. Он нёсся вскачь, и плащ развевался у него за спиной. Победа! Его первая победа! Вся его предыдущая напряжённая жизнь была только подготовкой к этому моменту. Его ждала новая судьба.
Глава 5
Деревушка Альтаре представляла собой убогое горное селение. Её единственная утопавшая в грязи улица заполнила кавалерия, совершенно бесполезная в этой лесистой, сильно пересечённой местности. Казалось, кавалеристы то ли не понимали, Что одержали победу, то ли были к ней абсолютно равнодушны. Свой вклад в разгром врага они вносили тем, что грабили дома сбежавших крестьян. Облачённые в грязные, рваные голубые мундиры, они злобно ругались и готовы были изрубить друг друга в куски из-за пары найденных кем-то булок. На него никто не обращал внимания. Безобразно тощие лошади, привязанные к оконным рамам или дверным косякам, стояли понурив головы. Такая кавалерия была не способна вести военные действия.
Развевавшийся над большим домом трёхцветный флаг указывал на присутствие штаба. В дверях стояли адъютанты — его младший брат Луи, Жюно и молодой Лемарруа. Старший брат Жозеф — полный и, как всегда, добродушный — стоял с ними рядом в качестве простого гражданского наблюдателя.
— Привет, Малыш! — снисходительно бросил Жозеф. — Я слышал, сегодня утром всё прошло хорошо. Массена разгромил австрийцев под Монтенотге.
Несмотря на спешку, он остановился и почтительно пожал брату руку: тот считался главой семьи.
— Да. Всё идёт чудесно, братишка. Ещё одно или два таких сражения, и дорога на Италию будет свободна! А теперь извини, у меня много дел.
Он протиснулся между ними и вошёл в дом. Бертье уже расквартировал штаб и целиком погрузился в работу. Он поднял свою огромную курчавую голову и улыбнулся молодому главнокомандующему.
— Мои поздравления, генерал! Мы полностью разбили врага. — (М ы разбили. Таким снисходительным тоном, будто он сам сделал это, в одиночку. Бертье всегда говорил покровительственно. Ба! Что за важность, если он хорошо работает и точно исполняет приказы?) — Полные отчёты ещё не прибыли. Массена и Лагарп собирают свои войска. Они очень растянулись. Третий лёгкий батальон только что выбил австрийские посты из Каркаре.
Несмотря на опьяняющую радость победы, его ум оставался холодным и трезвым. Он уже решил, какими должны быть последующие шаги. Старомодный обычай, когда после сражения обе армии отправлялись на отдых зализывать раны, не годился для него. Он намеревался продолжать военные действия, не давать врагу никакой передышки, сбивать его с толку молниеносными ударами, а самому в это время накапливать силы на левом и правом флангах. Бонапарт говорил отрывисто. В минуты спешки его корсиканский акцент становился сильнее обычного.
— Хорошо. Прикажите генералу Массена прикрыть Каркаре одним батальоном. Штаб переедет туда сегодня вечером. Скажите, что я буду ждать его там. Прикажите ему занять Кайро и наложить на жителей контрибуцию: надо вытянуть из них как можно больше. Пусть прикажет Лагарпу занять сильные высоты справа от себя, откуда тот сможет угрожать и Дего, и Сасселло. Лагарп обязан провести разведку этих мест. Там разместить батальон для поддержки связи с Каркаре. Тотчас же найдите Ожеро. Он по-прежнему в тылу. Велите ему ускорить продвижение. Дивизия обязана во второй половине дня разбить лагерь между Каркаре и Кайро. А где генерал Жубер? Его бригада должна была прибыть сюда ещё вчера вечером. Прикажите ему расставить усиленные посты на дорогах, ведущих в Миллезимо и Коссерию, и немедленно докладывать о любом передвижении пьемонтцев. Свяжитесь с Доммартеном.
Бертье оторвал голову от своих записей.
— Очень хорошо, генерал! Предоставьте это мне, — На его лице по-прежнему играла снисходительная улыбка, как будто он обращался к юноше, который хотя и подавал большие надежды, но должен был ещё многому научиться. Неужели этот новичок не вызвал у него вчера удивления в Монтеледжино? Бонапарт читал мысли штабного ветерана, словно они были написаны у него на лбу. Бертье указал на открытую дверь. — Для вас, генерал, в соседней комнате накрыт лёгкий завтрак. Приятного аппетита.
Бонапарт рассмеялся:
— Я совсем забыл о еде! Хорошо, перекушу, пока вы пишете приказы.
Он поспешил в соседнюю комнату. Хозяин дома, готовивший им еду, раскланялся и расшаркался перед ним. Его звали синьор Лоди. Он комично, но не без патетики выразил надежду, что штаб останется здесь надолго и это защитит его дом от разбоя. Бонапарт прогнал от себя назойливого дурака. Разговаривать ещё и с гражданскими, когда времени и так в обрез? Нет уж, увольте! За столом сидел Саличетти и жадно поглощал еду. Когда Наполеон садился, представитель Директории улыбнулся ему.
— Отлично, Бонапарт! Дело идёт? Массена основательно отделал австрийцев. Говорят, он уничтожил их. Нам есть что доложить Директории. Этот разгром — первая победа, которых мы давно не одерживали ни на одном фронте. Господа из Люксембургского дворца будут довольны — им нужно несколько побед. И Франции тоже! — Он засмеялся и наполнил бокал вином из графина. Судя по виду стола, несчастный синьор Лоди был вынужден подать не один такой графин. — Кажется, ты тоже доволен. Ты хорошо начинаешь, но, признаюсь, я перепугался, когда вчера атаковали Монтеледжино. Это могло кончиться чертовски неприятно.
Бонапарт тоже потянулся за графином. Плеснув в бокал немного вина, он долил воды и залпом выпил. Его мучили жажда и голод.
— Не было никакой опасности, мой друг, — ответил он, скрывая правду. Ему придётся работать с Саличетти рука об руку, но он никогда не будет доверять ему. — Я предусмотрел все неожиданности. Сама атака д’Аржанто дала мне прекрасную возможность разгромить его. — Он жадно набросился на еду. — Это только начало. Будет ещё много побед. Ты увидишь.
— Будем надеяться! — засмеялся Саличетти. — Хочется поскорее добраться до Италии. Если твои чудесные планы осуществятся, я выжму её как лимон!
В это можно было поверить. Почти все корсиканцы были жадными и бессовестными, но он никогда не встречал человека более жадного и бессовестного, чем Саличетти. Тот ненавидел Италию, и желание отомстить зародилось в нем ещё в юности, во времена жизни в Пизе, где он изучал право и практиковался в нем. Саличетти всё ещё поддерживал с Директорией хорошие отношения, и пока он мог похлопотать за старого знакомого (как Бонапарт похлопотал о нём), земляк мог грабить Италию сколько угодно. В этой оборванной армии не было никого — от генерала до барабанщика, — кто не мечтал бы всласть пограбить, оказавшись по ту сторону гор. Бонапарт сам сделал всё возможное, чтобы вдохновить их на это.
Он снисходительно фыркнул.
— Ты думаешь только о богатстве, мой друг! Я же сражаюсь ради славы!
— Ах! — добродушно сказал объевшийся Саличетти (синьор Лоди постарался на славу). — Какое громкое слово! Вечно у тебя в голове вздор. Я вспоминаю те времена, когда в салоне мадам Пермон ты произносил возвышенные речи, а у самого куска во рту не было. Слава и патриотизм — вот лучшие слова, чтобы заставить толпу глупцов плясать под свою дудку. Поверь мне: я видел изнанку вещей с самого начала Революции...
Что ж, всё верно. Саличетти был прав. Будучи членом Конвента, он вращался в высших кругах и принадлежал к лицам, которые дёргали за верёвочки в первые годы политических потрясений.
— Деньги — единственная стоящая вещь, и я хочу получить их как можно больше! Последуй моему совету и делай то же самое.
Спорить с Саличетти было бесполезно. Этот человек жил в другом измерении. Однако он мог быть как полезен, так и очень опасен, а посему следовало сохранять с ним дружеские отношения.
— Возможно, ты прав, мой друг. Как бы то ни было, в Италии у тебя появятся хорошие возможности. — Второпях закончив еду, он поднялся из-за стола. Дорога была каждая минута. — Я собираюсь съездить на поле боя. Не желаешь отправиться со мной?
Он стремился осмотреть то место, где его выношенные в одиночестве планы подверглись испытанию и воплотились в первую победу. Он хотел видеть это поле, как отец хочет видеть своего первенца.
Саличетти принял приглашение. Делать ему было нечего: он уже понял, что вытянуть контрибуцию из нищей деревушки Альтаре не удастся.
Вернувшись в комнату, где без устали трудился Бертье, Бонапарт подписал уже готовые приказы и продиктовал новые, в частности — на поставку продовольствия из Савоны. Должно быть, армия страшно голодает. В горах нечем поживиться. Он знал это по предыдущим кампаниям.
Луи и Жозеф всё ещё разговаривали на улице. Прекрасно, что в такой важный момент Луи оказался вместе с ним. Как не похоже это на те далёкие времена, когда он делил с этим ребёнком своё лейтенантское жалованье. Он не возьмёт его с собой на поле сражения. До завершения кампаний парнишке и так доведётся насмотреться ужасов. Но Жозеф, испытывавший болезненное любопытство штатского, непременно хотел туда поехать. Бонапарт сел на коня и крикнул капитану, чтобы тот дал эскорт в полдюжины человек.
Несколько минут спустя он, Саличетти и Жозеф, рысью выехав из деревни, перешли на короткий галоп и поскакали в нужном направлении. Позади ещё виднелась заполненная кавалерией деревня, когда они свернули направо и пустили лошадей по глинистой дороге, которая вела в Монтенотте.
Победа! Он всё ещё не осознавал действительного смысла этого слова, которое могло означать что угодно. За исключением взятия Тулона, это было единственное успешное сражение, в котором он принимал участие. Теперь же ему предстояло увидеть место своей первой собственной победы. Нужно использовать эту победу как можно полнее. Он ехал медленно, что-то подсчитывая в уме. Где был Болье со своим основным корпусом? Оставил ли он Вольтри? Успеют ли австрийские части под командованием д’Аржанто перестроиться после отступления? Что представляет собой генерал Провера и его австро-пьемонтский центр? Будет ли Провера двигаться на Дего? Как жаль, что не успел подойти Ожеро! Тогда разгром стал бы полным. А Колли с пьемонтцами, стоявший в горах слева... Двигался ли он, или Серюрье всё-таки приковал его к месту? Главнокомандующий по-прежнему плавал в тумане. И ни один дозорный ещё не сообщил о возвращении разведки.
Погода вновь ухудшилась. Окружающие горы скрывались в тучах. Дождь перешёл в настоящий ливень. Это страшно затрудняло передвижение по горным дорогам транспорта с продовольствием. От самого побережья по крутым, узким тропам растянулась длинная колонна тонувших в грязи телег, запряжённых волами и другими вьючными животными...
Но вот и поле сражения — седловина между горами, через которую тянулась дорога из Савоны в Дето. Позиция была стратегически важной. Возвышающиеся позади редуты Монтеледжино не позволят врагу продвинуться к Савоне. Находись они в руках австрийцев, это сильно помешало бы его продвижению. Но австрийская армия исчезла. Здесь и там виднелись только французские мундиры. Небольшие отряды, маршировавшие под дождём, появлялись и снова исчезали среди кустов и пролесков, на склонах оврагов и возвышенностей сильно пересечённой местности. Это становилась боеспособным формированием дивизия Лагарпа, чересчур растянувшаяся в ходе сражения. Перед Бонапартом стояло несколько жалких лачуг. Селение Верхнее Монтенотте. Нижнего Монтенотте, расположенного левее, отсюда видно не было.
Он подъехал к Верхнему Монтенотте. Да, битва произошла нешуточная... Земля была усеяна телами в белой форме. Одни лежали неподвижно, другие ползли и махали руками, взывая о помощи. Виднелись среди них и солдаты в голубых мундирах. Тут и там валялись то завалившаяся на бок пушка с разбитым колесом, то брошенный фургон с амуницией, то мёртвая лошадь. Земля казалась усеянной оружием, брошенным военным снаряжением, пушечными ядрами, простреленными барабанами, кусками размокшей от дождя бумаги — всё это громоздилось где и как попало. Когда всадники проезжали мимо раненых, до них донёсся многоголосый хор стонов и выкриков. Было видно, что селение Верхнее Монтенотте взято приступом. Двери убогих жилищ были разнесены вдребезги, крыши сожжены. Землю покрывали тела в белом, но голубых мундиров здесь было больше.
Он повернул в направлении Нижнего Монтенотте. Между двумя селениями лежали мёртвые и раненые австрийцы. Здесь их окружили. Поваленным забором из белых комлей они окаймляли территорию, которую защищали, пока не дрогнули и не побежали. Здесь, как и в большинстве других мест, голубых мундиров было меньше. Должно быть, неожиданная яростная атака захватила австрийцев врасплох, а быстрое передвижение численно превосходящих сил заставило их пуститься в беспорядочное бегство.
Раскинувшаяся под серым небом с низко плывущими дождевыми облаками, эта картина не производила яркого впечатления. Но он не обращал внимания на бесцветный пейзаж. Это была его победа, его первая победа! Она была славной, нет, изумительной, но этого недостаточно. Он обернулся к Саличетти и начал объяснять ход сражения, насколько о нём можно было судить по этой заваленной трупами и хламом земле: вот здесь Лагарп перешёл в наступление, там Массена спустился с гор и атаковал правый фланг австрийцев, а вон там Рампон у Монтеледжино заставил австрийцев свернуть их левый фланг. Там, там и там выстроившиеся в линию австрийские полки были окружены и уничтожены. А успех обеспечила заранее разработанная тактика, и успех этот был неизбежным — именно таким, какого он и ожидал. В его взволнованном описании это короткое сражение выглядело как одна из величайших битв в истории, как шедевр хорошо продуманной стратегии. В своём отчёте Директории Саличетти должен будет сказать то, что сам он сказать не сможет. И это только начало!
— Ты видишь, мой друг! — говорил он Саличетти, в то время как ничего не понимавший комиссар вглядывался в сумрачную даль. — Я уничтожил австрийский центр почти без потерь с нашей стороны — именно так, как и планировал! Эта битва войдёт в историю!
Саличетти с сомнением кивнул.
— Ты ловкий чертёнок, Бонапарт, и всегда был таким. Я думаю, что всю эту огромную работу ты проделал заранее. В любом случае я доложу Директории о том, что ты сделал: мы, корсиканцы, должны держаться друг за друга! — смеясь, закончил комиссар.
Повернувшись к Жозефу и увидев лицо старшего брата, Бонапарт тоже засмеялся.
— А ты что думаешь о моём победоносном сражении, Джузеппе?
Жозеф был смертельно бледен и выглядел так, словно ему вот-вот станет плохо. Это зрелище было для него слишком впечатляющим.
— Я думаю, что это ужасно, — вздрогнув, ответил он. — Это твоё ремесло, Малыш, но мне оно омерзительно — я не рождён солдатом. — Он говорил с превосходством старшего брата, который удачно женился и мог обойтись без этих грязных дел.
Бонапарт и сам слегка поёживался от открывшегося перед ним зрелища. Последствия битвы всегда глубоко ранили его чувствительную натуру — лужи крови, сотни раненых, ставших калеками, содрогавшихся в агонии, взывавших о помощи, которой большинство из них никогда не дождётся; сотни и сотни мёртвых солдат... Ничего не поделаешь: неизбежные издержки. Война всегда влечёт за собой смерть и раны, но подавляет воплощённую в солдатах волю врага. Его разум честно и мужественно воспринимал это, но чувства восставали против такой боли и такого ужаса...
Они насмотрелись достаточно. Назад, в Альтаре! Ему ещё многое предстояло сделать. Нельзя терять времени. Он пустил лошадь в галоп, значительно опередив остальных. Когда перепаханная сражением земля осталась позади, когда скрылись из виду залитые кровью тела, когда стихли позади жалобные стоны и крики, он вздохнул с облегчением. Они проехали мимо колонны еле волочивших ноги австрийских пленных в белой форме. В своём отчёте он завысит их число... До Франции далеко, а когда пленные прибудут к месту назначения, никто не станет сверять цифры. Тем временем к ним прибавятся и другие: это ведь не последняя его победа. Самое главное — поразить воображение парижан, заставить этих дураков из Директории осознать, что во Франции наконец-то появился гениальный полководец...
В Альтаре и вправду ждала нелёгкая работёнка. У Бертье скопились кипы ждавших обработки рапортов и сводок. Их нужно было обдумать, перенести данные на карту, сравнить с другими отчётами и составить из всего этого точную картину расположения и мощи врага. Кроме того, необходимо было отдать уйму приказов и распоряжений. Если силы Массена и Лагарпа были более-менее собраны и подошли вплотную к врагу, то большая часть его армии, раздробленная на отряды, всё ещё с трудом двигалась среди гор. Передовые полки Ожеро наконец добрались до Альтаре, но арьергард задержался в дороге. Где находился Доммартен? Что собирался предпринять Серюрье в горах Ормеа? Заставил ли он пьемонтцев не высовывать носа из своих укреплений в Чеве? Жубер застрял где-то в лесах, нащупывая врага, которого ему придётся атаковать завтра утром. В этих условиях справиться с задачей ежедневного снабжения рассыпанных частей продовольствием мог бы только титан. Он работал и слышал, как снаружи хлещет нескончаемый дождь. Входили вестовые в насквозь промокших накидках, и там, где они стояли, разливались лужи.
Стемнело рано. В той комнате, где он работал, где в раздумье склонялся над картой, где диктовал двум падавшим от усталости секретарям, уже давно таяли свечи.
Вечером он приказал Бертье отправиться со штабом вперёд, в Каркаре, где ждала новая квартира. Сам он ненадолго останется с секретарями здесь, чтобы принять гонцов из отставших отрядов и разослать приказы интендантам на побережье. Похоже, войска Болье всё ещё находились в Вольтри. Пришло сообщение, что эскадра английских кораблей под командованием знаменитого Нельсона подошла к берегу и наладила связь с этим городом. Возможно, Болье и Нельсон уже обсуждают план наступления на Савону. Но если это так, то слишком поздно они спохватились. Связь австрийцев с их союзниками уже утрачена. Волей-неволей Болье придётся отступить и отказаться от любых замыслов против французской береговой базы — если, конечно, он не захочет, чтобы его окружили между горами и морем и наголову разгромили. Конечно, Болье был дряхлым старым дураком, но не законченным тупицей. Вероятнее всего, он выведет из Вольтри свои десять тысяч солдат и окружной дорогой через горы отойдёт с ними к Акви, в тыл Дего. Но прибудет он туда не раньше, чем через два дня. А пока он этого не сделает, австрийцы не смогут начать наступление с севера, используя свой резерв в Алессандрии. Значит, завтрашний день свободен для обхода слева и удара по Колли и пьемонтцам.
Было почти девять вечера, когда, покинув Альтаре, он смог отправиться в Каркаре. Темень стояла — хоть глаз выколи. Дорогу, утопавшую в грязи, можно было рассмотреть только при свете фонаря, который нёс впереди спешившийся кавалерист. Бонапарт очень устал. Почти сорок часов он непрерывно двигался, командовал, был переполнен эмоциями. Но он был счастлив. Глубокая, всепроникающая радость смывала усталость, поддерживала его. Победа! Он добился своей первой победы! Завтра он одержит другую. Бонапарт ехал верхом, а мысли его были заняты передвижением войск, построением диспозиций, которые обеспечат завтрашний успех.
Он поравнялся с одной из колонн Ожеро. Еле передвигая ноги, солдаты в темноте брели к Каркаре. Повсюду шли люди с горящими факелами, свет которых выхватывал отдельные лица из тёмной, сплочённой массы. По пояс в грязи, держа от усталости мушкеты как попало, в потерявших от дождя форму чёрных головных уборах, лишь некоторые в шинелях и немногие в ботинках, эти люди были совершенно истощены, но продолжали упрямо идти вперёд. Они шли маршем по каменистым горным тропам, и их долгие остановки изнуряли их больше, чем движение вверх и вниз по горам. Вдобавок они были голодны. Они ничего не ели со вчерашнего дня. Когда Бонапарт проезжал мимо, эти спотыкавшиеся от изнеможения «босяки» вглядывались во всадника и при свете факелов узнавали его.
Послышались выкрики:
— Эй, Бонапарт! Замухрышка! Где наша еда? Мы голодны! Давай хлеб! Давай обувь! Где наше жалование?
Этих голодных, измождённых людей не волновали ни слава, ни победа. Они были настроены бунтовать. От их криков у Бонапарта окаменели скулы. Как бы они ни негодовали, им придётся выступить завтра и добыть ему ещё одну победу. Их усталость, их мучения не лишат его воли к победе. Они лишь инструмент этой воли.
Обгоняя колонну, он обратился к солдатам со словами ободрения.
— Да здравствует Республика! Да здравствует Франция! Ещё одно небольшое усилие, мои храбрецы! Я знаю, дорога была тяжёлая, но вы уже почти в Каркаре. Там вас ждёт отдых и еда. — Правда ли это? Он и сам не знал. Ладно, еду они как-нибудь раздобудут. Главное — привести их туда и расположить на позициях для завтрашней операции. — Сегодня мы одержали великую победу! Итальянская армия покрыла себя славой! Завтра мы добьёмся ещё одной победы, и дорога на Италию будет открыта! Италию, где вы получите всё, что пожелаете! Один раз мы уже победили! Вы — Итальянская армия! Ваше мужество превосходит всё! Так завоюем завтра ещё большую славу!
Голодные, со стёртыми от долгой ходьбы ногами, солдаты взвыли ему вслед:
— Дерьмо твоя слава! Не морочь нам голову своей Италией!
Бедняги... Но всё равно им придётся идти вперёд. Он был доволен, что успел въехать в Каркаре ещё до того, как к ней подтянулась колонна.
Каркаре... Он помнил эту большую деревню, стоявшую на перекрёстке двух дорог, ещё по кампании Второго года. Одна дорога вела в Миллезимо, где сейчас стояли отряды пьемонтцев; другая в Дего, селение, которое, по последним донесениям, всё ещё оставалось в руках недобитого противника. Сейчас деревня была полна испуганных, жалких пленных австрийцев. Их сгоняли в колонны для отправки в Савону. Они уже лишились башмаков и мундиров, с них сняли всё, что представляло ценность для победителей. Передвижению по узким улицам, освещённым горящими факелами, мешали раненые — в большинстве австрийцы, — лежавшие в грязи там, где упали, беспомощные и истекавшие кровью. В некоторых домах работали хирурги. Освещённые факелами и фонарями, они походили на мясников. Другие дома были захвачены голодными французами и варварски разграблены. Кое-где слышались истошные крики и женский визг. Его армия ничем не отличалась от шайки бандитов. Правда, они слишком долго голодали, были оборванными и нищими...
Он добрался до дома, где расположился штаб Бертье. В комнатах горели свечи. Бертье поднял голову от заваленного документами стола и сообщил окончательные сведения об одержанной победе. Австрийцы потеряли около трёх тысяч убитыми и ранеными и примерно две тысячи пленными. Должно быть, корпус д'Аржанто перестал существовать. Его остатки в панике бежали. Потери французов — благодаря быстроте и ярости атаки — были сравнительно невелики. Если бы не опоздание Ожеро, который должен был полностью уничтожить врага, отрезав ему путь отступления к Дего, это была бы идеальная победа. Ах, Ожеро, Ожеро... Интересно, где сейчас он сам?
Бертье сообщил, что Ожеро находится в соседней комнате, вместе с Массена и Лагарпом, как было приказано. Хорошо. Ещё из Альтаре, после краткой поездки на поле сражения, он послал Лагарпу и Массена письменное поздравление. Они уже знали, что Бонапарт оценил их боевые заслуги.
Их первая встреча после триумфальной победы будет приятной. Он представил их себе в хорошем настроении. Прежняя угрюмость и строптивость будут забыты. Эти генералы ещё смотрели на него как на неопытного, скороспелого юнца из компании парижских политиканов, умеющих держать всех в руках только за счёт большей осведомлённости, для которых они, боевые генералы, будут завоёвывать всё новые и новые победы. Все они продолжали негодовать и возмущаться им, даже Ожеро, пытавшийся выразить ему свою преданность во время встречи в Ницце.
Он вошёл в комнату. В очаге ярко горело пламя. Рядом грелись три генерала. Все трое были в грязи и пороховой копоти. Лагарп был достаточно высок, но Ожеро возвышался над ним как башня. Очевидно, шёл крупный разговор, и складывался он явно не в пользу Ожеро. Они тут же умолкли и приветствовали главнокомандующего, причём Ожеро и Массена сделали это нарочито небрежно.
Ожеро выдвинулся вперёд. Настроение у него было ужасное, и его можно было понять. Совершить труднейший переход и прийти на поле битвы после того, как сражение уже закончилось...
— Генерал, моя дивизия на подходе, — сказал он. — Очень жаль, что мы опоздали. — Тон его был вызывающим. — Но я хотел бы напомнить вам, что войска не могут двигаться без продовольствия и обуви. Мои люди сделали всё, что было в их силах, но не сумели добиться невозможного.
Бонапарт не собирался выслушивать дерзости ни от Ожеро, ни от кого-либо другого. Он посмотрел прямо в грубо вытесанное лицо вздымавшегося над ним ветерана.
— В этой кампании, генерал, — резко сказал он, — им придётся научиться делать невозможное. По дороге сюда я видел ваши отряды. Они непростительно распущены и не имеют никакого понятия о дисциплине. Это не солдаты, а сброд. Но я ожидаю, что к следующему сражению они окажутся в указанном им месте вовремя.
Ожеро покраснел от гнева. Но прежде чем он успел ответить, вмешался Массена. С язвительной улыбкой на худом, смуглом, хитром лице он задал вопрос:
— Вы битву-то видели, генерал? Я слышал, что вы заблудились.
Бонапарт не ответил на дешёвую издёвку. Он был не чета этим людишкам.
— Я видел, как ваши части спускались с гор, Массена. Очень вовремя. С этого момента сражение было выиграно. В отчёте Директории я сообщу о ваших заслугах. — Таким способом он старался привлечь на свою сторону этих грубых, невежественных солдат, почти бандитов. Он будет превозносить и преувеличивать их подвиги так, чтобы они, до сих пор не известные стране, стали знаменитыми, чтобы они почувствовали, что добились славы благодаря ему. — А Лагарп со своей дивизией дрался выше всяких похвал. — Он повернулся к этому офицеру старой королевской армии, старейшему из всех них, честному швейцарцу, который не за страх, а за совесть выполнял самые немыслимые приказы и никогда не занимался интригами. — Генерал, я непременно доведу до сведения Директории, что вы провели операцию просто блестяще.
Лагарп улыбнулся, благодарный за похвалу.
— Я лишь выполнял ваши приказы, генерал. Это был славный денёк!
— Да, день действительно славный, — с холодным превосходством промолвил Бонапарт. — День, который войдёт в историю. Теперь за дело! Победа бесполезна, если из неё не извлечь всей выгоды. Австрийцы выведены из строя на сутки. Значит, завтра нам надо наголову разбить пьемонтцев.
Бонапарт разложил на столе карту и попросил ещё несколько свеч. Он любил работать при ярком свете.
— Ожеро, вы на рассвете с двумя полками и артиллерией продвинетесь через Миллезимо к Монтецемоло. Я предполагаю, что на подступах к Миллезимо вы найдёте только слабые австро-пьемонтские силы Провера. Вы отбросите их и захватите высоту Монтецемоло, где Колли держит одно подразделение. Бригады Жубера, Рюска и Доммартена объединятся с вами для атаки на Монтецемоло, подойдя с других сторон, как я объясню вам позже. Став хозяином высоты, вы продвинетесь вперёд и захватите все доминирующие позиции вокруг Чевы. Проведёте операцию с предельной быстротой. Помните, скорость — это всё!
Он повернулся к Массена:
— Вы, Массена, с Двадцать первым полком перед самым рассветом продвинетесь к северу. Выгоните австрийцев из Дего и проведёте разведку боем в направлении Спиньо. Таким образом вы задержите любых австрийцев, которые будут пытаться помешать мне. Постарайтесь быть осторожным и не навлечь на себя удар основных сил: там могут находиться австрийские резервы. Вы наложите на Дего контрибуцию в двадцать четыре тысячи ливров — насколько я помню, это богатая деревня — и конфискуете всех мулов, которых найдёте.
Не дожидаясь комментариев Массена, он повернулся к Лагарпу.
— Лагарп, вы тоже выступите на рассвете и к девяти часам достигнете высот возле Кайро. Оставите на высотах один батальон, а с остальными займёте город. — Когда генералы приблизились к карте, он медленно обвёл их взглядом. — Штаб останется в Каркаре.
Суть его плана заключалась в том, чтобы после разгрома австрийцев мгновенно переключиться на пьемонтцев и прежде, чем они разберутся в происходящем, внезапной атакой отбросить их, полностью разъединив с союзниками. Уступая в силе, они должны рискнуть и, если угодно, компенсировать этот риск быстротой передвижений. Он снова и снова повторял это, стараясь убедиться, что они всё хорошо поняли.
Генералы отдали честь и пожелали ему спокойной ночи. Маленький и тщедушный по сравнению с ними, он принял их приветствие.
— Спокойной ночи, господа. Бертье пришлёт вам письменные приказы. Завтрашний день должен стать таким же славным, как и сегодняшний.
Они вышли. Бонапарт услышал донёсшийся из-за двери казарменный выговор Ожеро, выражавший неохотное, но неподдельное восхищение:
— Чёрт возьми! Этот замухрышка знает, что делает!
Бонапарт позвал секретарей. Заложив руки за спину, он расхаживал взад и вперёд, слово за словом диктовал указания Бертье, резюмировал свои устные указания, а в завершение велел составить приказ по армии.
«Да здравствует Республика! Сегодня, двадцать третьего жерминаля, дивизия генерала Массена и дивизия генерала Лагарпа атаковали австрийцев численностью в тринадцать тысяч человек под личным командованием генерала Болье и генералов д’Аржанто и Роккавина, занимавших важные позиции в Монтенотте. Республиканцы полностью разбили австрийцев, убив и ранив около трёх тысяч из них. В числе раненых генерал Роккавина. Убито несколько подполковников и младших офицеров. Дополнительные подробности будут сообщены армии, когда поступят полные сведения об этом славном событии».
Приказ был не совсем точен. Конечно, Болье там и не ночевал, а австрийцев было не тринадцать тысяч, но какая разница? Важно было поднять боевой дух армии. В своём рапорте в Париж он завысит и это число. Бонапарту надо было во что бы то ни стало создать себе репутацию, и он не стеснялся в средствах.
Когда Наполеон закончил диктовать и отправился в приготовленную для него скудно освещённую спальню, уже давно перевалило за полночь. Он зевнул, стянул с себя мундир и отдал его ординарцу, велев почистить к утру. Лёжа в кровати, он какое-то время воскрешал в памяти события этого славного дня. Что подумает о нём Жозефина, когда услышит об этой победе? Он оправдывал своё бахвальство.
С улицы доносились стоны несчастных раненых и непристойная ругань солдат, продолжавших заниматься грабежом. Какой-то офицер громко приказал конвою с австрийскими пленными трогаться в путь. Бонапарт повернулся на другой бок и мгновенно уснул.
Глава 6
Бонапарт проснулся от непрерывного дребезжания оконных стёкол. Мысли его быстро пришли в порядок, и он восстановил в памяти драматические события, свершившиеся по его воле.
Ожеро атаковал.
Это его пушки били на подступах к Миллезимо. Или пушки Массена у Дего? Недавно взошедшее солнце окрасило трубу дома напротив в огненно-красный цвет. Хорошее предзнаменование, решил он. Значит, сегодняшний день будет таким же удачным, как и вчерашний. Ещё не было и пяти утра. Он вылез из кровати и позвал ординарца. Тот вошёл с тазиком горячей воды. Наполеон поспешно и неловко побрился — у него никогда не хватало терпения для такого пустякового дела. Затем он торопливо натянул мундир, расчесал и пригладил свисавшие на щёки длинными «собачьими ушами» темно-каштановые волосы. Ординарец передал ему несколько только что прибывших донесений. Запивая горячим кофе кусочек хлеба с маслом, он увлечённо читал эти небрежно заполненные клочки бумаги, набросанные на скорую руку на каком-нибудь седле при свете головешки. Брови генерала нахмурились.
Армию охватила анархия. Об этом кричало каждое донесение. Массена и Лагарп докладывали, что из-за полного отсутствия продовольствия, их люди занялись грабежами, и теперь солдат не собрать никакой силой. Далее Массена писал, что Дего по-прежнему находится в руках австрийцев и что он вынужден остановиться до тех пор, пока Лагарп не придёт к нему на помощь. Днём Массена легко мог бы отогнать их на север, как было приказано; в это время Ожеро, которому приказали провести ночную атаку левее, чем было предписано вначале, разбил бы Провера и открыл дорогу через ущелье Миллезимо к Монтецемоло. Затем он соединился бы с Серюрье, которому также был дан приказ наступать. Значит, успех атаки Ожеро становился делом первостепенной важности.
Разбив Провера, он должен нанести удар по Колли, которому будет одновременно угрожать с фланга Серюрье, отбросить пьемонтцев на позиции, ещё более удалённые от их союзников, прежде чем австрийцы — у которых до сих пор был введён в действие только один корпус — смогут собрать все силы в Акви и напасть на него с севера. Было бы правильным вбить клин между его врагами, как он уже начал делать. Они не должны опомниться, не должны перейти к совместному наступлению силами, значительно превосходящими его собственные. В противном случае он попадёт в клещи и будет раздавлен. Надо вынудить эти клещи широко раскрыться, а затем сломать один из зубов.
Пришло ещё одно донесение. Самое ценное и долгожданное — от Ожеро. Оно было написано на рассвете, и в нем сообщалось, что дивизия выдвигается для атаки на Миллезимо, как было приказано. Значит, он не ошибся: били пушки Ожеро.
Он спустился в комнату, где уже работал Бертье. В течение следующего часа они решали неотложное дело — как раздобыть продовольствие для голодающей армии. Это было жизненно необходимо. Если люди будут продолжать грабить, армия развалится. Она уже разваливалась, распадалась на кучки мародёров, не признающих никакой дисциплины. С другой стороны, не было никакой возможности полностью снабдить её продовольствием. Каждый транспорт, медленно ползущий через горы, приходилось защищать конвоем от вездесущих «барбетов» — членов еретической секты вальденсов[32], прятавшихся в засадах. Всё равно его армия останется голодной, но будет продолжать наступать и сражаться.
Прибыл офицер от Массена.
Генерал настаивал на немедленном разговоре с главнокомандующим и хотел бы встретиться с ним на дороге между Кайро и Дего. Какая досада! Теперь придётся отложить запланированную поездку к Ожеро. Ничего не поделаешь... Бонапарт попросил дать ему лошадь и эскорт.
Гул военных действий не долетал до дороги, по которой он ехал к небольшому городку Кайро, обнесённому древней крепостной стеной, над которой возвышался полуразрушенный замок. Проехав через живописные ворота, охранявшиеся французскими часовыми, он попал на узкую средневековую улочку. Двери домов и магазинов все были распахнуты настежь. Трупы жителей городка валялись прямо на дороге. Было пустынно, и над всем нависала зловещая тишина. В глубине боковой улицы он заметил группку кравшихся солдат, что отстали от своих частей, а также бандитского вида мужчин и женщин — воронья, которое следует за любой армией в поисках еды или чужого добра. Бонапарт поспешил выбраться из этого зловещего места.
Когда он выехал в долину, начинавшуюся за северными воротами города, то увидел банды других дезертиров, в беспорядке бродивших по полям. Клубы дыма поднимались над охваченным огнём крестьянским домом.
Ему то и дело попадались группы оборванных, измождённых солдат, отставших от своих подразделений, чтобы найти съестное. Некоторые тащили за собой плачущих деревенских девушек. И все эти бандиты выкрикивали ему в лицо грубые и оскорбительные ругательства, получившие широкое распространение со времён Революции.
— Эй, Малыш, где еда, которую ты обещал? Где этот хлеб и мясо? Вы-то, чёртовы генералы, небось хорошенько набиваете себе брюхо!
Он сердито приказал им вернуться в свои батальоны; ему ответили откровенным хохотом.
Далеко на западе слышались нерегулярные залпы пушек Ожеро; было ясно, что они не изменили своих позиций. Он сам должен был увидеть, что задерживало наступление, но вначале надо было встретиться с Массена и выяснить, что происходит у него.
Вот и Массена, спешившийся возле одинокого дерева на обочине дороги. Лагарп тоже был здесь. Бонапарт подъехал и спросил, не скрывая неудовольствия:
— В чём дело, генерал? Почему вы не продвигаетесь вперёд?
У Массена настроение было ничуть не лучше.
— Потому что у меня не хватает сил, генерал! Я с трудом удерживаю на месте один-единственный полк. Похоже, все забыли, что солдатам надо есть. — Он обвёл рукой возвышенности вокруг Дего и указал на место, которое нельзя было не заметить: над холмами вздымалась похожая на замок или корону скала Роккетта. — Там, за скалой, австрийцы. Полюбуйтесь на их земляные укрепления! Мне они кажутся неприступными. По данным перебежчиков, которых я допросил лично, они очень крепкие и сделаны надёжно. Они говорят, что деревня тоже хорошо укреплена и там большой гарнизон с мощной артиллерией. Моих лазутчиков сильно обстреляли. Я предпочёл бы, чтобы вы сами, генерал, взглянули туда, прежде чем бросать мои небольшие силы в атаку, которая — верьте моему опыту — закончится провалом.
За корректностью фраз скрывалась явная насмешка.
— Разве Лагарп не поддержит вас?
Лагарп пожал плечами и указал на многочисленных грабителей, рыскавших по полям правее Монтенотте. Некоторые из них даже перебрались вброд через реку, протекавшую параллельно дороге, и теперь мелькали на другом берегу, далеко в долине.
— Моя дивизия там, генерал, — сказал он. — Во всяком случае, её большая часть. Они двое суток не получали довольствия, и теперь ничто не помешает этим беднягам разыскать для себя съестное. Младшие офицеры так же плохи, как и солдаты. Некоторые из этих беглецов начинают объединяться. Я послал сильные патрули, чтобы вернуть их в строй. Через пару часов я надеюсь быть на позиции и смогу поддержать Массена.
Массена злобно улыбнулся.
— Когда Лагарп будет готов помочь мне, я атакую эти позиции. Если, конечно, вы не отмените приказ.
Бонапарт слегка задумался. Пушки Ожеро грохотали на прежнем месте: очевидно, ему оказали неожиданно сильное сопротивление. Главнокомандующему не нужны были два сражения одновременно.
— Очень хорошо, — резко сказал он. — Генерал Лагарп соберёт свою дивизию и, как только будет возможно, приведёт её к вам на помощь. Выдвиньте авангард поближе к Дего и прощупайте позиции противника, но сами не атакуйте. Я собираюсь отправиться к Ожеро. Выясню, что там происходит, и вернусь сюда. Встретимся на Этом месте в час дня.
Бонапарт повернул лошадь и вместе с эскортом поскакал мимо банд дезертиров по дороге в Кайро. Он вновь проехал мимо того места, где шёл грабёж (на пустынной улице стояла и истошно кричала растрёпанная женщина, видно, сошедшая с ума), и погнал лошадь по дороге, ведущей в Каркаре. Затем он свернул на запад, в направлении Миллезимо. Артиллерия всё ещё вела обстрел. Были слышны раскаты выстрелов. Две или три мили дорога была пустынна. Затем он наткнулся на повозки маркитантов, бесполезно простаивавшие в тылу сражавшихся войск. Миновав их, он увидел пехотинцев, с примкнутыми штыками располагавшихся вдоль дороги. Некоторые стояли, опершись на свои мушкеты, другие составили ружья пирамидками у обочины. Он направил лошадь к командиру.
— Где генерал Ожеро?
Офицер указал на холм, возвышавшийся справа от дороги, и Бонапарт погнал туда лошадь. Пушки грохотали совсем близко. В паузах между залпами раздавались ружейные выстрелы. На высотке размещался Ожеро и весь его штаб.
Подъехав к ним галопом, Бонапарт спрыгнул с лошади.
— Что происходит, генерал?
Ожеро показал на возвышавшийся в полукилометре крутой холм, увенчанный развалинами старинного замка. Над древними стенами вызывающе развевался пьемонтский флаг. Французская пехота расположилась у основания холма по всей окружности. Скрываясь за невысоким кустарником, припав к земле, цепи стрелков пытались вести прицельный огонь по стенам. Оттуда доносилась ответная пальба.
— Это Кастелло ди Коссерия, генерал, — сказал Ожеро, сморщив громадный нос.
Он тоже был не в духе. В то утро все были не в духе.
В грубоватых казарменных выражениях он прояснил ситуацию:
— Этот дурак Провера там, а я даже не знаю, сколько у него людей. Возможно, тысячи две. Сегодня утром мы бросились на Миллезимо и взяли укрепления штурмом. Батальоны Провера в беспорядке драпанули на север. Во время боя всё смешалось. Наконец, оказавшись в окружении, Провера рванул к этим развалинам. Они, как видите, господствуют над дорогой. Его огонь причинил нам дьявольские потери, пока я не увёл большую часть войск в безопасное место.
Бонапарт помрачнел. Что за нелепость — зависеть от такого пустяка! Ему не терпелось как можно скорее выйти за Миллезимо и, соединившись с Серюрье, использовать день для схватки с Колли. Было чуть больше восьми утра.
Он кивком подозвал стоявшего рядом генерала Банеля, командовавшего одной из бригад:
— Предложите Провера сдаться. Скажите ему, что он полностью окружён и всякое сопротивление бессмысленно.
Банель вскочил на лошадь и помчался выполнять поручение. У подножия крутого зелёного холма он слез с лошади, достал из кармана белый платок и пошёл вверх пешком, держа платок в вытянутой руке и размахивая им. Огонь прекратился. Бонапарт следил за тем, как его парламентёр медленно поднялся к замку и остановился перед стеной. На полуразрушенном бруствере появились два офицера и начали переговоры, растянувшиеся на целую вечность. Наблюдая за противником в подзорную трубу, Бонапарт нетерпеливо ёрзал и бормотал какие-то ругательства. О чём можно было говорить столько времени? Ситуация была совершенно ясной и не требовала никакого обсуждения. Была дорога каждая минута!
Вдруг внутри развалин раздалась дробь барабанов. Парламентёр начал спускаться с холма. Боже, как медленно он двигался! Можно было подумать, что у него целый день в запасе! Наконец он подошёл к своей лошади, сел на неё и поскакал к ним.
— Они отказываются сдаваться, генерал!
— Что они сказали?
— Ваше послание, генерал, я передал лично Провера. Он начал спорить. Пока мы пререкались, в разговор нагло вмешался какой-то офицер. «Знай, что ты имеешь дело с пьемонтскими гренадерами, которые никогда не сдаются!» — заявил этот офицер. Это он приказал бить в барабаны.
Озадаченный Бонапарт крепко задумался.
— Ты уверен, что видел самого Провера? — Провера был австрийским генералом на службе у Пьемонта и командовал объединёнными австро-пьемонтскими вспомогательными силами.
— Да, генерал. Старик в конце разговора склонялся к сдаче, но требовал гарантии свободного отступления войск с оружием и обозами. Офицер, который перебил его, был молодым пьемонтским полковником.
Какая разница! В то утро Бонапарт был в чудовищно плохом настроении, и испортил его Массена. Он Не собирался останавливаться перед горсткой людей, засевших в средневековых развалинах. Где-то в глубине, под этим плохо сдерживаемым нетерпением, его расчётливое, вечно бодрствующее «я» советовало не тратить время на это пустяковое препятствие, а просто окружить холм достаточными силами и двигаться дальше. К тому же карабкаться по этим голым склонам было нелёгким делом, тем более под дулами неприятельских ружей и пушек. До сих пор всё складывалось так легко... Он повернулся к повесившему клюв Ожеро.
— Возьмите мне эту развалюху! Штурм!
Ожеро взглянул на него с удивлением и замешкался — видимо, готовый возразить.
— Штурм! — повелительно повторил Бонапарт, — Вы собираетесь проторчать здесь целый день?
Ожеро отдал честь.
— Как прикажете, генерал! — Он повернулся к Банелю, отличному вояке, прослужившему тридцать лет и начинавшему ещё в рядах королевской армий. — Штурм проведёт ваш Восемнадцатый полк, генерал Банель. Идите!
Они оба, оставив высоту, поскакали по направлению к голубым толпам французской пехоты, отдыхавшей на недосягаемом для выстрелов расстоянии. Бонапарт нетерпеливо следил, как полк укреплял ряды и осуществлял различные манёвры для подготовки к наступлению. Тем временем пушки Ожеро, ведя хаотичный обстрел, пытались сокрушить замок, но без особого успеха. Они не могли целить так высоко, чтобы ядра долетали до шпиля, на котором развевался пьемонтский флаг.
Наконец силы для атаки были подготовлены. Под быструю дробь барабанов они двинулись вперёд беспорядочными колоннами, напоминавшими скорее толпу, чем наступающие французские части. Во главе отрядов отчётливо выделялся Банель. Подбадриваемые офицерами, солдаты кричали: «Да здравствует Франция!» Из развалин ударил жёсткий прицельный огонь. Повсюду падали и катились вниз люди. Товарищи переступали через них и продолжали подниматься по склону. Солнце сверкало на штыках. Три колонны приблизились к вершине и сошлись в одной точке. Атака развивалась успешно. Они были всего в двадцати шагах от полуразрушенных стен.
Внезапно замок окутался дымом. Ужасный грохот залпов, следовавших один за другим, донёсся с вершины. В одно мгновение головные части трёх колонн превратились в месиво из опрокинутых, корчащихся в предсмертных судорогах людей. Оставшиеся в живых пробивали себе дорогу сквозь дым. Первая шеренга дрогнула и остановилась под губительным градом ядер, а затем вся масса не выдержала и побежала. Только на флангах несколько человек в голубых мундирах прильнуло к земле и мстительно стреляло вверх. Большинство бросившихся бежать солдат в смятении столпилось внизу. Офицеры, размахивая саблями, что-то приказывали им, но те отказывались снова идти в атаку на эти смертоносные склоны.
Отряды, потерявшие каждого десятого, были вновь выстроены в неровные шеренги и расположились на недосягаемом для выстрелов врага расстоянии.
Ожеро галопом влетел на высоту и обратился к главнокомандующему.
— Вот, мой генерал, — мрачно сказал он, едва сдерживая гнев из-за устроенной Бонапартом бессмысленной бойни. — Штурм отбит. Он дорого нам обошёлся. Банель убит. Кто следующий?
Много времени было потрачено впустую. Шёл одиннадцатый час. Драгоценный день проходил даром. Бонапарт заскрипел зубами. От его рассудительности не осталось и следа. Либо эти развалины немедленно сдадутся, либо их возьмут штурмом, а дерзкая горстка их защитников будет поставлена к стенке. Он достал блокнот и нацарапал официальное обращение к Провера.
«Monsieur, вы окружены со всех сторон. Сопротивление повлечёт за собой бессмысленное кровопролитие. Если через четверть часа вы все не сдадитесь в плен, я не пощажу никого.
Одиннадцать часов утра, тринадцатое апреля.
Бонапарт».
Он вырвал листок и подозвал штабного офицера.
— Вручите это маркизу де Провера лично!
Он сердито наблюдал, как его посланец спустился с высоты, на которой они находились, и начал, размахивая платком, подниматься по склону холма, заваленного телами; кое-кто из них полз, другие лежали неподвижно. Парламентёр добрался до вершины и некоторое время постоял, разговаривая с офицером, появившимся на полуразрушенной стене. Затем, после раздражающей задержки, посланец вновь начал спуск. Когда он вернулся, на часах было почти двенадцать.
— Итак? — раздражённо спросил Бонапарт, — Ответ! — Сколько драгоценного времени потеряно из-за этих несчастных развалин!
— Маркиз де Провера не посылает письменного ответа, генерал. Он говорит, что готов немедленно сдать позицию при условии, что ему будет позволено беспрепятственно вывести свои войска вместе с оружием и обозом и присоединиться к своей армии.
Бонапарт негодующе вскрикнул. Какая наглость!
— Идите обратно и скажите Провера, что если он сейчас же не сдастся без всяких условий, я перебью их всех до последнего человека!
Опять штаб-офицер отправился в путь. Эти задержки сводили его с ума. Потеряно уже полдня! Он давно бы соединился с Серюрье и навалился на Колли. Его совсем не радовала красота этого живописного пейзажа — ни полуразрушенный замок на вершине, зелёного холма, ни речушка, быстро струившаяся слева по перевалу Миллезимо, ни залитые солнечным светом вершины окружающих гор.
Неожиданно откуда-то далеко справа, от деревни Ченджо, донеслась стрельба. Что это? Неужели Колли решил атаковать с фланга Лагарпа и Массена, расположившихся перед Дего? Его охватила тревога... Именно этого он и боялся. Нужно немедленно отправиться туда и всё увидеть своими глазами.
Он подозвал Ожеро:
— Генерал, действуйте в соответствии с моим ультиматумом Провера. Либо он тотчас же безоговорочно сдаётся, либо вы берёте крепость штурмом и не даёте никому пощады. У вас более чем достаточно сил, чтобы захватить проклятые развалины и сделать это быстро. Я собираюсь взглянуть, что происходит справа. Если я не вернусь — значит, уехал в Каркаре.
Он снова сел в седло и погнал лошадь галопом. Стрельба казалась серьёзной, но прежде чем он достиг Ченджо, всё прекратилось. Встретив генерала Менара, командовавшего бригадами правого фланга, он узнал, что это была всего лишь разведка боем, проведённая Колли, и что её без труда отразили. Он воспринял это с облегчением. С огромным облегчением.
День был в разгаре. Ему нужно было успеть встретиться с Массена на дороге между Кайро и Дего. Он развернул лошадь и поскакал по скверной дороге прямо в Каркаре. Его эскорт, звеня шпорами, нёсся следом. Эта проклятая груда руин в Коссерии! Ожеро скоро захватит её. Тогда можно будет совершить марш-бросок и соединиться с Серюрье. Узкий перевал Миллезимо был уже занят и больше не служил препятствием.
Он добрался до Каркаре, на короткое время остановился в штабе, наскоро перекусил, сообщил Бертье о положении дел на этот час, а затем вновь помчался по дороге из Кайро в Дего. За Кайро он обогнал несколько батальонов Лагарпа. Эти самые дисциплинированные части его армии двигались на север.
Близ Роккетта, на полпути между Кайро и Дего, он увидел ждавшего его Массена. Генерал по-прежнему язвительно спросил его, одержал ли Ожеро свою долгожданную победу, и выразил удивление, что средневековый замок смог стать непреодолимым препятствием даже для главнокомандующего. Сам он готовился провести серьёзную разведку района Дего. Вражеские аванпосты находились прямо за Роккетта. С ним только две тысячи солдат, но Лагарп наконец-то подходит на помощь. Оправдываясь за неудачу атаки, Массена упомянул, что в Дего на одной из высот находится мощный форт. Бонапарт никогда об этом не слышал и не поверил ни единому слову. Всё это сказка! Массена пожал плечами и подозвал капитана Тринадцатого гусарского полка, который только что вернулся из разведки и стоял в ожидании, держа повод своей измождённой клячи.
— Капитан, вы были в Дето в качестве парламентёра полтора года тому назад. Есть ли в Дего форт?
Капитан — смышлёный с виду молодой человек — красиво вытянулся по стойке «смирно» и с военной прямотой ответил:
— Да, генерал. Над деревней, на вершине скалы, есть крепость.
Массена злобно улыбнулся:
— Спасибо, капитан. Вы свободны.
Недолго придётся ехидному Массена торжествовать. Быстрота была необходима, жизненно важна для успеха каждого манёвра в этой пока ещё рискованной кампании.
Он мог позволить себе нанести удар здесь и сейчас, поскольку в любой момент от Ожеро мог прискакать гонец с долгожданным известием о взятии проклятой Коссерии. Он говорил резко и властно.
— Есть крепость или её нет, не важно. Генерал, пусть ваши люди немедленно начинают наступление. Уже почти два часа. День проходит. Возможно, мы ещё успеем взять Дего приступом.
— Очень хорошо, генерал. Я сделаю всё, что в моих силах, — сказал Массена и со своей неизменной злобной ухмылкой ускакал отдавать приказы.
Бонапарт решил сам проехать вперёд вместе с авангардом. Отдыхавшие батальоны встряхнулись; голубые мундиры и сверкавшие на солнце штыки заполнили дорогу между Рбккетта и рекой. Впереди шла рота оборванных, грязных пехотинцев. Их собранные в хвостики волосы выбивались из-под побитых дождём бесформенных шляп. Многие шли босиком. Он вместе с ними миновал узкий проход, который австрийцам ничего не стоило перекрыть, хотя они по неясной причине не сделали это. Они вышли на небольшую, окружённую горами холмистую равнину. Сам Дего, прятавшийся в низине, был отсюда не виден.
Вражеские аванпосты немедленно обстреляли их. Массена бросил вперёд отряд стрелков, которые, перебегая от одного укрытия к другому, вели ответный огонь. Неприятель отходил короткими перебежками, и белые мундиры исчезали один за другим.
Основная колонна продолжала продвигаться по почти ровной дороге к Дего и к горам, между которыми бежала река. До деревни оставалось не больше мили, но её по-прежнему не было видно.
Массена ехал впереди. Бонапарт пришпорил коня, чтобы догнать его, и увидел, что от группы Массена отделился штабной офицер и куда-то поскакал. Батальоны, шедшие в авангарде, свернули с дороги направо. Несколько батарей также свернуло и заняло позицию на небольшом возвышении. Другая бригада двинулась налево, к реке.
Массена демонстрировал свои силы, выстраивая их в боевую линию на небольших возвышенностях вдоль дороги, вне досягаемости огня противника. Стрелки продвигались вперёд. Далеко справа другие легковооружённые отряды короткими перебежками перемещались от одного укрытия к другому и обстреливали гребень, тянувшийся между Дего и Роккетта. Поравнявшись с Массена, Бонапарт одобрил расположение его сил. Генерал знал своё ремесло. Было необходимо заставить врага раскрыться и обнаружить свои силы. Артиллерия с позиции на возвышенности произвела несколько выстрелов в направлении Дего.
Одновременно окутался белым дымом и противоположный склон горы. Донёсся грохот артиллерийских залпов, вой летящих пушечных ядер, треск ружейных выстрелов. Враг нерасчётливо выдал расположение и протяжённость своих позиций. Прекрасно. Массена указал в ту сторону.
— Видите, генерал? — язвительно бросил он.
Позиции были слишком хорошо защищены, чтобы он мог взять их штурмом только своими силами. Но Лагарп был уже на подходе.
— Вижу, — ответил Бонапарт. — Немного нажмите на них, генерал, но не вступайте в открытый бой.
Штабной офицер Массена галопом ускакал прочь. Вражеские пушки и мушкеты продолжали палить, напрасно пуская дым и создавая шум. Бригада пехоты слева двинулась к реке и тщетно попыталась перейти её вброд; в воду с плеском шлёпались пушечные ядра. Стрелки усилили огонь, а основной корпус красовался на виду, будто готовясь к немедленной атаке.
Время шло. Вражеская канонада, не принося французам никакого вреда, продолжалась уже два часа. Штабным офицерам удалось приблизиться к позициям противника и осмотреть их в подзорные трубы. Неприятельские укрепления не были такими неприступными, какими казались издали, да и численность их защитников не казалась устрашающей.
Подъехал Лагарп. Вся его дивизия наконец подошла и могла выступить в поддержку Массена. Одновременно прибыл офицер от Ожеро, который доложил, что штурм Коссерии захлебнулся в крови. За четверть часа они потеряли сотни людей. Ожеро готовился к новой атаке. У осаждённых кончались боеприпасы, и они бросали вниз камни и куски скал. Чёртовы руины! Перевалило за четыре. До конца светлой части этого апрельского дня оставалось всего несколько часов. Слишком поздно предпринимать здесь что-либо решительное, особенно когда в тылу остаётся невзятая Коссерия. Впрочем, к утру там всё закончится.
Он тщательно изучил мощную оборону противника вокруг Дего. Этот обстрел был попыткой обмануть их. Завтра хватит времени для победы. Они непременно возьмут Дего. Бонапарт повернулся к Массена:
— Довольно, генерал. Отводите свои войска. Вы наступаете завтра. Возвращайтесь на вчерашние биваки. Мои приказы получите позднее.
Массена улыбнулся в ответ. Бывали мгновения, когда Бонапарту хотелось задушить его за эту холодную, злую, намекающую на превосходство усмешку.
— Очень хорошо, генерал! Вы все видели сами и убедились, что в моём положении было бы сплошным безумием атаковать сегодня.
Он раздражённо ответил:
— Да, но сегодняшний день потерян. Завтра вы получите подкрепления. Однако запомните: Дего должен быть взят любой ценой!
Поздно ночью Бонапарт устало снимал с себя одежду, чтобы поспать пару часов. Он был в сильном раздражении. День, этот важный день оказался безвозвратно потерянным. Взять Дего не удалось. Приводило в бешенство то, что его первоначальные приказы были абсолютно правильны. Перебежчики сообщали, что утром в Дего было всего тысяча двести солдат, но затем к ним прибыло подкрепление. Днём там насчитывалось уже четыре-пять тысяч, а завтра будет ещё больше. На другом направлении атаки аванпосты Ожеро по-прежнему находились у Миллезимо. Соединиться с Серюрье не удалось. И Коссерия не была взята. Ожеро доложил, что он предпринял ещё один штурм, который обошёлся также дорого, как и предыдущий. Теперь он вёл переговоры с Провера и вновь отказался от условия свободного выхода из крепости, которое выдвинул маркиз. Ночью Ожеро готовился к новой атаке. У врага почти кончились боеприпасы; кроме того, в крепости не было воды.
Всё это было бы неплохо, но он даром потратил целый день — один из тех бесценных дней, каждый момент которого мог сыграть решающую роль в его судьбе. Он сознавал свою вину. Сегодня он потерял самообладание, поддавшись событиям, а не руководил ими. Атака в Коссерии оказалась дорогостоящей ошибкой. Ему надо было просто изолировать это место и постепенно добить австрийцев. Сейчас бы он уже был на высотах вокруг Чевы, и Колли был бы разбит. Но первое же дерзкое сопротивление его воле заставило Бонапарта прийти в слепую ярость.
Никогда больше он не потеряет самообладания, не останется глухим к доводам рассудка. Если бы Колли так же отреагировал на отчаянное сопротивление французов в Монтеледжино, ситуация могла бы стать очень опасной. Но Колли не использовал эту возможность. Бонапарт видел противника растерянным, нервничающим, боящимся за свои фланги и тылы и неспособным к решительным действиям. Не скоро Колли выпадет второй такой случай. Но Бонапарт и сам сплоховал. Он не использовал свои возможности, оказался недостойным своей судьбы. Эта мысль приводила его в неистовство. Он ненавидел ухмылки Массена. Какой негодяй донёс ему, что в тот день Массена обозвал его идиотом?
Он лёг в постель. Завтра будет новый день. Что делала в это время Жозефина? Жозефина, Жозефина... Возможно, он увидит её во сне.
Глава 7
Когда наступил закат следующего дня, двадцать пятого жерминаля, и золотые, пурпурные и алые тона изумительно расцветили голубое апрельское небо, он находился уже в Дего, только что захваченном после длившегося весь день сражения.
Массена предпринял широкий обходной манёвр справа, в направлении мощного каменного редута на плато, служившего ключевой позицией в обороне противника: именно редут, а не древняя крепость, был тем фортом, о котором говорили перебежчики. Лагарп продвигался из Кайро по берегу Бормиды; перейдя реку вброд за Дего, он атаковал слева. Его пехота вскарабкалась на высоты и напала на редут с другой стороны, отрезав противнику путь к отступлению. Те из врагов, кто не был убит, ранен или взят в плен, в панике бежали, сметая опоздавшие батальоны австрийцев.
Потери французов, против всех ожиданий, оказались поразительно малыми. Впервые за кампанию оборванные, босые батальоны атаковали с такой отвагой, с таким воодушевлением, что значительно превосходившие их числом австрийцы не смогли толком организовать сопротивление. Он честно мог приписать эту заслугу лично себе. Прямо за Кайро, перед началом марша, он объехал ряды и воодушевил их новостью о взятии Коссерии. (Проклятые развалины. Они сдались только в четверть девятого утра). Он заставил их поверить, будто Коссерия — это могучая современная крепость, и солдаты кричали от радости и воодушевления. Неужели они позволят людям Ожеро превзойти их? «Снова к победе, мои храбрецы! Бегом! Слава ждёт вас! Да здравствует Республика!» Они подхватили его призыв! Полки один за другим начинали с невероятной скоростью двигаться в направлении Дего. Воодушевление нарастало. Пару часов спустя, когда, достигнув этого опорного пункта обороны врага, батальоны поднялись на высоты и вступили в схватку с противником, крики французов ещё были слышны, пока грохот не заглушил их голоса. Он начал управлять этой недисциплинированной толпой, которую представляла собой его армия, превращать её в послушный инструмент.
Теперь, когда победа была одержана, он ехал по старинной мощёной улице, которая вела к центральной площади Дего, украшенной несколькими деревьями грязно-зелёного цвета. Налево шла дорога к мосту через Бормиду. Высоко над его головой, почти на самом верху располагавшейся на скале крепости, развевался трёхцветный французский флаг. (В этой крепости находился женский монастырь, с обитательницами которого солдаты обошлись не слишком вежливо,) В воздухе всё ещё стоял пороховой дым, наполнявший ноздри едким запахом, хотя в самой деревне боя практически не было. Жители исчезли. Те, кто не успел спастись бегством, прятались по домам с запертыми на засовы дверьми и плотно закрытыми ставнями.
Когда он остановился в центре площади, с дороги в деревню хлынула толпа солдат. Выкрикивая богохульства и ругательства, отпихивая друг друга, они бросились на эти запертые дома, выбивая двери прикладами мушкетов, нетерпеливо расстреливая замки и запоры. Начался повальный грабёж.
Он был неспособен остановить его. Это была война, это была победа. Он видел, как старшие офицеры уводили австрийских лошадей и мулов. В эту минуту у него не было ни сил, ни власти остановить своих людей, опьянённых победой.
Массена прибыл в деревню на лошади. За ним следовала группа всадников. Его худое смуглое лицо потеряло выражение обычного язвительного спокойствия.
— Ещё один славный денёк, генерал! — неистово завопил он. (Можно было подумать, что он тоже пьян). — Мы ночуем сегодня в Дего, как вы приказали! Три или четыре тысячи пленных, шестнадцать орудий! Остальных преследует Лагарп по дороге в Спиньо. Мюрат с той кавалерией, какую смог собрать, наступает им на пятки. Кровопийца этот ваш адъютант. Старик Болье долго не будет нас беспокоить! А что вы думаете об этом трофее? — Он указал на необычайно хорошенькую девушку, ехавшую на коне следом за ним. Одетая в изящную амазонку — очевидно, знатная дама, — она не знала, плакать ей или заискивающе улыбаться этим грубым солдатам, и только сжимала в руке какой-то амулет.
— Это собственность какого-то австрийского офицера — не знаю, то ли жена, то ли любовница. Какая разница? — Он громко расхохотался. — Красотка, не правда ли? Не чета этим деревенским девкам! — Расшитый золотом мундир, сильно запачканный грязью во время сражения, делал Массена потрясающе похожим на лихого разбойника или, вернее, бывшего пирата. — Вам, генерал, следует найти себе девушку, — засмеялся он. — У этих австрийских аристократов при себе много первоклассных женщин. Вы сможете подобрать себе подходящую. Только не эту! — Массена снова засмеялся и послал пленнице воздушный поцелуй.
— Я возвращаюсь в Каркаре, генерал, — ответил Бонапарт. — В штаб. Завтра нам надо одержать ещё одну победу. Встретимся в Кайро в десять вечера. Захватите с собой Лагарпа и бригадных генералов. Мы проведём совещание, и я объясню вам план дальнейших действий. Вы были сегодня великолепны. Директория узнает об этом.
Он развернул лошадь и покинул это омерзительное шумное место. В горных деревушках вокруг Дего картина будет точно такой же.
Оставив небольшой городок Кайро в восьми милях позади, он въехал в Каркаре, когда уже стемнело. Ужинал он в компании Бертье, Жозефа, юного Луи и Жюно. Было приятно обсудить события дня. Победа была достигнута умело и была полной. На сей раз ничто не испортило её. Армия Болье была уничтожена по частям. Очевидно, даже сейчас австрийцы не смогли объединить силы и действовали разрозненными корпусами, отрезанными друг от друга горами. После такого разгрома им, конечно, потребуется некоторое время, чтобы возобновить военные действия. Все согласились с этим, желая польстить ему. Бертье потерял часть своей сдержанности опекуна и начал, хотя и с неохотой, но искренне восхищаться его военными талантами. Кажется, старик понемногу начинал верить в него и становился идеальным начальником штаба. Если не считать этой мерзкой привычки грызть ногти!
После торопливого ужина Бонапарт прошёл в соседнюю комнату. Его внимание привлекла кипа только что прибывших бумаг, всевозможных отчётов и рапортов. Он быстро пробежал их глазами. Его ум работал с быстротой, которая доставляла удовольствие ему самому. Затем он принялся диктовать секретарям набившие оскомину приказы. Сегодня вечером среди них были приказ о пленных из Коссерии (к его неудовольствию, Ожеро был вынужден сохранить жизнь гарнизону. Он никак не мог простить генералу эту мучительную задержку), приказ командиру лёгкой кавалерии обыскать дома вокруг Коссерии в поисках французских дезертиров, приказ генерал-адъютанту Виалю выслать вперёд полевой госпиталь, приказы различным интендантам, ответственным за доставку продовольствия с побережья, приказ относительно пленных, захваченных в Дего, приказы всем командирам дивизий и армейским интендантам, запрещающие под страхом военно-полевого суда самовольный захват артиллерийских лошадей и мулов, отбитых у противника, приказ арестовать генерал-адъютанта Галлезини (несмотря на то что тот был другом Саличетти), показавшего пример такого грабежа, и большое количество других приказов, касавшихся дел, с которыми надо было разобраться как можно быстрее, а затем скинуть Бертье для придания им окончательной формы.
Массена останется в Дего один, защищая его от маловероятного наступления австрийцев с севера; с дряхлым стариком Болье на ближайшие дни покончено. Лагарп немедленно двинется на запад правее Ожеро. Серюрьё подойдёт к Биестро с юга, а Жубер — с юго-востока. Завтра же будет предпринято совместное наступление на Монтецемоло, которое так долго откладывалось. Затем он раздавит Колли, напав на Чеву с тыла, и усилит наступление на пьемонтцев. Уже сегодня австрийцы дали ему такую свободу действий, о которой он и не мечтал... Пока он продолжал шагать взад и вперёд, взвешивая каждую предстоящую акцию, обдумывая её и быстро воплощая мысль в слова, которые усталые секретари записывали при свечах, в комнату заглянул Бертье. Пора было уезжать в Кайро для встречи с Массена и другими генералами.
Они вместе поехали по тёмной дороге, теперь совершенно свободной от войск. Где-то у них за спиной позвякивал шпорами эскорт. Небо затянулось низкими облаками. Собирался дождь. Далеко над Дего поблескивало зарево пожаров. Какие ужасные сцены оно освещало? В тишине, нарушавшейся только стуком конских копыт, ночь, окутавшая всё тёмной пеленой, казалось, делала их соучастниками какого-то зловещего преступления.
Они въехали в Кайро. Здесь и там горели факелы: это работали вспомогательные службы. Они вошли в большой дом на главной улице, где была назначена встреча. Генералы уже находились там. В приготовленной для него комнате потрескивал огонь. Генералы прошли за ним. Не теряя времени на праздные разговоры, он повернулся к подчинённым. По сравнению с тщедушным Бонапартом все мужчины казались крупными и высокими. Массена, хотя и выпятил грудь, тоже не годился в великаны.
— Теперь, господа, к делу! Спасибо за доблестную службу. Я доведу это до сведения Директории. Болье разбит по всем статьям. Довольно долго он не сможет мешать нам. Завтра мы крупными силами двинемся на пьемонтцев. — Он положил карту на стол, где уже стояли зажжённые свечи. — Вы, Массена, останетесь на позициях вокруг Дего на случай возможного возвращения австрийцев. Убедитесь в том, что ваши аванпосты сохраняют предельную бдительность. После сегодняшней победы солдаты и офицеры могут подумать, что теперь им позволено немного отдохнуть и поразвлечься. — Он многозначительно улыбнулся. — Вышлите дозорных во все стороны и проведите рекогносцировку местности, особенно в направлении Спиньо и к северо-востоку. Во время следующих операций в вашем ведении будет тыл армии. Вы, Лагарп, двинетесь правее Ожеро вот сюда... — И он указал маршрут на карте. За исключением Серюрье, стоявшего в Ормеа, вся армия действовала на пятачке в восемь квадратных миль, и он легко мог перебросить силы в ту или иную сторону. — Вы немедленно переведёте свои войска в Кайро — они должны перебазироваться в течение ночи, — а отсюда двинетесь в Саличето. — Люди Лагарпа только что вышли из боя, но их усталость значения не имела. Его армия должна научиться маршировать день и ночь напролёт. — Завтра как можно раньше — самое позднее в девять утра — вы двинетесь в западном направлении из Саличето на Монтецемоло. Вы, Доммартен, выйдете из Санта-Джулии в Ченджо, а затем к Монтецемоло. Ожеро будет приказано двигаться к Монтецемоло из Миллезимо. Жубер направится в Монтецемоло из Биестро. Серюрье выступит туда же со своих южных позиций и охватит его с фланга. Вся артиллерия выступит в пять часов утра по дороге из Каркаре в Миллезимо. Резерв с пятьюдесятью тысячами зарядов двинется следом тем же путём.
Похоже, сегодня генералы до смерти устали; они принимали все без возражений, позёвывали и порывались уйти. Они были не похожи на него. Он никогда не уставал и жил только ради военных действий, которые вели к победе.
Массена ухмыльнулся.
— На этот раз, генерал, мне не нужно выступать. Я прошу предоставить мне возможность хорошенько отдохнуть нынче ночью, — и он послал в пространство воздушный поцелуй. — Это как раз то, что мне нужно. Воевать каждый день весьма утомительно. Вам, генерал, тоже следует немного расслабиться... немного отвлечься... особенно в вашем возрасте, когда страсти достигают наивысшей силы. Вопрос здоровья! — Он ухмыльнулся и подмигнул всем. — Разве какая-нибудь из этих хорошеньких девушек не пришлась вам по душе? Должно быть, вам нелегко угодить, генерал! Там было несколько настоящих красавиц! — Он снова подмигнул, и остальные с трудом подавили улыбки. Похоже, Бонапарт снова становился объектом насмешек.
Сразу почувствовав себя неопытным мальчишкой рядом со старыми циниками, берущими женщину, как бокал вина, он резко возразил:
— Мне приходится думать о других вещах, генерал!
Массена хрипло засмеялся.
— Чёрт возьми! Это именно то, за что мы воюем! Трофеи и женщины. Что ещё может дать война? Мы же не молокососы! — Он оскорбительно захохотал, взял свою треуголку, надел её и небрежно отдал честь. — Итак, спокойной ночи, генерал. Приятных вам сновидений!
Похоже, Массена изрядно хлебнул в честь победы. Он был до глупости самодоволен и, глядя на себя в висевшее на стене зеркало, восхищался своим новым раззолоченным мундиром. Затем генерал дотронулся до плеча Бертье.
— Если у вас найдётся свободная минутка, хотелось бы перекинуться парой слов.
Бертье встал и вместе с ним вышел из комнаты.
Другие генералы — Лагарп, Менье, Менар и Доммартен — отдали главнокомандующему честь.
— Спокойной ночи, генерал! До завтра! — На их лицах была всё та же затаённая улыбка. Какую шутку они придумали?
— Спокойной ночи, господа!
Они вышли, оставив его одного. Бонапарт вновь подошёл к столу и углубился в изучение карты. Он взял циркуль, чтобы разметить на карте однодневный марш по этой труднопроходимой, испещрённой тропинками мулов местности. Если бы Лагарп выступил вовремя и продвинулся вперёд...
Неожиданно в комнату заглянул Массена. Он по-прежнему улыбался.
— О! Генерал! — насмешливо сказал он, — Здесь офицер с подарком для вас. Ваша доля добычи! — Он засмеялся. — Я пришлю её сюда.
Ему некогда было возиться с подарками. Он наклонился над картой, измеряя расстояние.
Было слышно, как Массена втолкнул кого-то в комнату и закрыл дверь.
Возможно, вошёл какой-то чересчур застенчивый молодой лейтенант. Лучше заняться им прямо сейчас и побыстрее отделаться...
Бонапарт выпрямился и остолбенел. Перед ним в полумраке стояла прекрасно одетая молодая девушка изумительной красоты. Накидка ниспадала с её плеч. Это зрелище привело его в изумление. Так вот какова шутка Массена — шутка, в секрет которой он посвятил других! Они выбрали её, чтобы испытать его мужские качества. По крайней мере, то, что они под этим понимали. Бедное дитя! Она выглядела такой испуганной. Ей было не больше девятнадцати. Конечно, итальянка — большие, сверкающие глаза, на дрожащих губах вымученная улыбка. Поразительная красавица!
Пока он разглядывал её, первый порыв отослать её прочь угас. Он едва не поддался искушению, но ни за что не признался бы в этом. Она обладала такой мягкой, такой соблазнительной красотой... Сама юность цвела в ней. Он мог поступить с ней как захочет — она была его пленницей по всем законам войны. Она тоже это понимала. Внезапно он почувствовал неловкость. Откуда-то издалека доносился смех Массена и его приятелей, издевавшихся над нелепой, целомудренной сдержанностью командующего. Он всегда был таким робким с женщинами — с любыми женщинами, кроме Жозефины, на которую он молился.
Преодолев неловкость, он заговорил с девушкой на понятном ей языке.
— Ты итальянка, синьорина?
— Да, signor generale. — Похоже, она его смертельно боялась.
— Не замужем? — Глупый вопрос! Как будто это что-то меняло!
— Нет, signor generale.
— Как ты здесь оказалась?
Она силилась дать подробное объяснение, рискнула даже улыбнуться, хотя голос её звучал почти сквозь слёзы.
— Я была с австрийским офицером, signor generale. Меня взяли в плен, когда французская кавалерия захватила сегодня весь обоз. Молодой, красивый офицер с длинными вьющимися волосами и золотыми галунами на кителе поскакал за моей повозкой и поймал меня, signor generate.
— Должно быть, это был Мюрат...
Неужели она заплачет? Нет, она справилась со слезами и снова испуганно улыбнулась.
— Твой любовник тоже попал в плен? — спросил он с большей бесцеремонностью, чем намеревался.
Она покачала головой.
— Нет, signor generale. Другие австрийские офицеры... пленные... сказали мне, что он отступил со своими солдатами.
Его расспросы были нелепы. Он постарался говорить мягче.
— Подойди сюда, дитя. Позволь взглянуть на тебя.
Она боязливо подошла и оказалась в круге яркого света.
Свечи озаряли её ошеломляющую смуглую юную красоту. Бонапарт почувствовал, что у него защемило в груди. Она была его законной добычей — ведь война разрешала всё. Если он не возьмёт её, то будет последним дураком и настоящим «молокососом», как выразился Массена. Его нерешительность была нерешительностью юноши.
— Как тебя зовут?
— Джулия, signor generale. — Глаза девушки робко, но с любопытством смотрели на него, теперь тоже полностью освещённого. Её грудь чувственно вздымалась. Бонапарт улыбнулся, хорошо зная, что улыбка его при желании может быть обворожительной.
— Я похож на того, каким ты меня представляла?
Она вздохнула.
— Нет, signor generale. Вы... — Она смущённо запнулась и заворожённо посмотрела на него, — Вы так молоды. Я думала, что все завоеватели — люди старые. По крайней мере, старше вас. — Девушка вновь смутилась. Она была восхитительна.
Бонапарт засмеялся.
— Разве я недостаточно стар?
— Нет... да... извините... Вы не такой... — Она поправилась: — Я не могла поверить, что вы такой молодой. Все в нашей армии говорят только о вас.
Он улыбнулся.
— Ты меня боишься?
— Да. — Её тёмные глаза уставились на него. Она не произносила слова, а скорее выдыхала их. — Нет... я... я не знаю, signor generale...
Они стояли очень близко друг к другу. Внезапно в нем пробудилось желание. Кровь с новой силой забурлила от этой близости. Эта девушка принадлежала ему.
Они молчали. Девушка смотрела на него пристально и удивлённо. Губы её приоткрылись. Отношения завоевателя и пленницы были ясны им обоим. Никто не мог сказать ему «нет». Но хотела ли она сказать ему «нет»? Женщины оставались для него загадкой. Внезапно его охватило желание силой прижать её к себе и поцеловать в губы. Он инстинктивно почувствовал, что она ждала от него этого в женском порыве отдаться, принадлежать ему целиком. Ужасы войны уничтожили в них всё естественное, заставив помнить только две вещи: «здесь» и «сейчас». Жизнь властно говорила в них, видевших сегодня столько смертей. А почему бы и нет? Его целомудренная погружённость в работу была нелепа. С тех пор как он расстался с Жозефиной, он не поцеловал ни одной женщины.
Он подумал, не сознавая, что говорит вслух:
— Что же мне с тобой делать, Джулия?
Девушка взглянула на него. Губы её дрогнули, но она ничего не ответила.
Они стояли почти рядом. Непреодолимое желание влекло их друг к другу, юность стремилась к юности — ведь они оба были так молоды... Их губы встретились почти случайно. Почему бы и нет?
Что это? Ему послышался хриплый смешок за окном. Они наблюдали за ним, эти генералы! Он мгновенно пришёл в себя. Кем было это дитя по сравнению с Жозефиной?.. На какой-то миг он даже забыл о её существовании, забыл её ласки, столько значившие для него. А эти генералы следили за ним, сделали из него шута! Завтра об этом будет известно всей армии. Его долгом было показать этой дикой орде разбойников пример полной безупречности. Он лично покажет им этот пример. Кто знает, не встретится ли на его честолюбивом пути — пока ещё неясном — тот, кто Сможет упрекнуть его? Кроме того, у него сейчас не было времени на женщин. Все его способности были напряжены до предела и направлены на кровавое дело войны.
Он отступил от девушки и заговорил совершенно другим тоном.
— Ты очаровательное дитя, крошка Джулия, — с улыбкой сказал он. — Славная девушка. Никто не причинит тебе вреда. Тебя отправят обратно в сопровождении хорошего эскорта. Вот и всё!
Она пристально поглядела на него. Как ни странно, в этом взгляде сквозило невольное разочарование, которого она не смогла скрыть. Это его позабавило.
— Вы действительно хотите отправить меня обратно, signor generale?
Он подумал, что Джулия готова броситься к его ногам. Но теперь он знал, как защититься. Он был холоден и замкнут.
— Синьорина, — любезно сказал он, — я счастлив служить вам. — Джулия стояла и по-прежнему странно смотрела на него. Он подошёл к двери и громко позвал дежурного офицера. — Отправьте эту даму под хорошей охраной на аванпост и оттуда под белым флагом доставьте её австрийскому офицеру, к которому она желает вернуться! Обращайтесь с ней с должным уважением!
Он распахнул перед ней дверь.
— Спокойной ночи, синьорина. Счастливого пути и удачи!
Она прошла мимо, пристыженно опустив голову и отвернув лицо, но в дверях замешкалась, грустно поглядела на него, многозначительно вздохнула и промолвила:
— Спокойной ночи, signor generale... Прощайте! — Последнее слово прозвучало у неё с сожалением.
Джулия вышла, и он услышал за дверью её голос, назвавший имя, звание и полк её австрийского любовника. В этот миг его кольнуло сожаление. Возможно, он поступил как дурак... Наконец он повернулся к своей карте. Так будет лучше. Никакие посторонние воспоминания не отвлекут его от Жозефины. Жозефина! Если бы только она приехала к нему! После очередной победы... Он поглядел на часы и увидел, что потратил на эту глупость больше четверти часа. Пора возвращаться в Каркаре.
Да, хорошо, что он отправил её назад. Будет о чём рассказать Жозефине. Он докажет ей, как сильно её любит.
Глава 8
Следующее утро выдалось пасмурным. Дождь лил как из ведра. Туман, окутавший холмы вокруг Каркаре, почти скрывал деревню, наполняя воздух промозглой сыростью.
Улица была совершенно пуста, если не считать кавалеристов штабной роты, которые стояли в топкой грязи возле дрожавших от холода лошадей. Совсем не подходящая погода для затеянных им марш-бросков. Войска с разных сторон подтягивались к Монтецемоло. Хоть и с трудом, но всё же продвигались. Промокшие до нитки гонцы, прибывавшие на грязных по брюхо лошадях, докладывали, что Лагарп находится на пути из Кайро в Саличето, что Доммартен продвигается к Ченджо, что Жубер двигается из Биестро, что Ожеро только и ждёт, когда к нему справа и слева подойдут остальные, чтобы выступить на Монтецемоло. Артиллерия уже давно спустилась из Каркаре в Миллезимо. Его приказы выполнялись. Он мог представить себе всю трудность этих переходов по холмистой, поросшей мхом пересечённой местности, по дорогам, которые дождь превратил в болота... И всё же ничто не помешает ему сегодня одержать ещё одну победу. Он покончит с Монтецемоло, разобьёт пьемонтцев, заставит их отойти. Теперь, когда северная группировка австрийцев отброшена, это легко сделать. Массена, оставленный в Дего, был гарантией того, что они не смогут вернуться и помешать ему.
Около полудня он лично отправится в Миллезимо. К этому времени колонны выйдут на позиции для атаки. А пока у него много дел в штабе. По-прежнему не хватало продовольствия. Интенданты на побережье не проявляли должных усилий. На дорогах в Савону и Лоано образовались пробки из транспортов с продуктами и амуницией, что ужасно задерживало доставку. Австрийские продовольственные склады в Дего были разграблены изголодавшимися войсками. Местная реквизиция в этом бедном краю, к тому же опустошённом мародёрами, ничего не приносила.
Было немногим более девяти утра. Хлопнула входная дверь. Он поднял глаза и увидел вошедшего в комнату офицера. Тот, покрытый грязью с головы до ног, отдал честь и доложил:
— Мой генерал, мы потеряли Дего!
Бонапарт чуть не подпрыгнул от неожиданности.
— Что? Потеряли Дего?
Это было невероятно...
— Да, мой генерал. Наши войска бежали обратно к Роккетта. Генерал Массена пытается собрать их. Он послал меня, чтобы сказать вам это.
Бонапарт боялся даже подумать о последствиях этой катастрофы.
— Но как... как это случилось?
— Около семи часов утра австрийцы неожиданно атаковали нас. В тумане и под дождём наши аванпосты не заметили их приближения. Большинство из них спало. После вчерашнего дня всё было в беспорядке. Солдаты всю ночь пьянствовали и предавались оргиям, а утром крепко спали. Никому и в голову не приходило, что поблизости могут быть австрийцы. Все считали, что с ними покончено. Когда началась атака, войска в панике бежали, бросая всё. Многие были застрелены или заколоты штыками, так и не успев схватиться за оружие... — Офицер не мог смотреть Бонапарту в глаза.
— Но разве там не было ни одного командира? Где находился Массена?
Офицер заколебался.
— Он отсутствовал, мой генерал. В момент неожиданной атаки его не было на месте.
— Где же он был?
У гонца забегали глаза. Он не решался сказать о происшедшем. Бонапарт топнул ногой.
— Отвечать!
Несчастный посланец совсем струсил.
— Генерал Массена находился в доме за деревней. Говорят, он проводил ночь в приятной компании. Австрийская атака застигла его врасплох. У него даже не было времени одеться. Он удрал, прыгнув в окно и спрятавшись в овраге. Но даже там австрийцы чуть не поймали его. — Рассказывая об этом комичном случае, офицер с трудом сдерживал улыбку. — Если уж называть вещи своими именами, то все солдаты знают об этом. Они смеялись над генералом, когда тот пытался их собрать. — Тут офицер вспомнил про субординацию и спохватился. — Генерал Массена делает всё, чтобы перестроить свои силы, мой генерал.
Это было ужасно. С самого начала кампании Массена причинял одни неприятности. Ох уж эта его страсть к женщинам... Он никогда не размещал свой штаб там, где не было хотя бы одной хорошенькой девушки.
— Где он сейчас?
— В Роккетта. Все наши позиции в Дего оставлены.
Бонапарт стиснул зубы. Дего надо отбить. Немедленно и любой ценой. И всё же катастрофа была невероятной. Он не мог представить себе, откуда взялись эти австрийцы.
— Что это были за войска? Какой численности? Кто ими командует?
— Не знаю, мой генерал. Их отряды выглядели очень многочисленными. Атака была неожиданной, а все были в таком смятении.,. — Офицер растерянно развёл руками. — Никто ничего не знает. Австрийцы смели нас, как лавина. Потеряны даже захваченные вчера пушки. У генерала Массена не осталось никакой артиллерии.
Бонапарт со свистом втянул воздух через ноздри, собрался и принял решение.
— Хорошо! — категорично сказал он. — Отправляйся назад к генералу Массена и вели ему привести войска в боевую готовность. Я приеду к нему на помощь. Дего надо взять сегодня же!
— Слушаюсь, мой генерал. — Офицер отдал честь и поспешно вышел из комнаты, радуясь, что его неприятная миссия закончена.
Бонапарт повернулся к Бертье, который смотрел на него во все глаза.
— Итак, Бертье, — сказал он. — Все начинаем сначала. Соберите весь штаб.
Некоторое время он ходил взад и вперёд по комнате, чтобы как следует обдумать происшедшее. Эта катастрофа разрушила все его планы. Войска, готовые к наступлению на Монтецемоло, придётся отозвать. Теперь австрийцы угрожали всему тылу его армии. Он не мог представить себе, что за силы осуществили эту атаку. Неизвестны были ни их численность, ни кто ими командует. Наверняка это был не д’Аржанто, которого вчера они окончательно разгромили. Впрочем, какая разница? Он немедленно займётся этим, поправит положение дел контратакой, для которой соберёт всех, кого удастся найти, и до конца дня вновь захватит Дего. Чудовищная наглость врага заставила его рассвирепеть. Нельзя терять ни минуты. Нужно ехать к Дагарпу и повернуть обратно колонны, марширующие на Монтецемоло. Не Ожеро. Он оставит Ожеро лицом к лицу с пьемонтцами. Жубер тоже останется на месте. Нельзя бросать тыл открытым для внезапной контратаки пьемонтцев. К счастью, близ Каркаре ещё находилась бригада Виктора, да и Стенжель со всей своей кавалерией был рядом. В Карретто располагался Восемнадцатый полк, как связующее звено между Массена и Лагарпом. Он поднимет их и двинется вперёд. Вся его воля собралась для уничтожения этого дерзкого, неведомо откуда взявшегося врага, лишившего его с трудом добытых завоеваний, разрушившего его планы в тот момент, когда они уже начали осуществляться. Эта ярость пересилила даже его гнев, направленный на Массена.
Он снова взглянул на Бертье, который сидел и беспокойно грыз ногти в предчувствии дурных вестей.
— Приказы, Бертье! Передайте Лагарпу, что он должен немедленно и как можно быстрее возвратиться в Кайро. Доммартен также должен вернуться. Пошлите приказ Виктору...
Он решительно и чётко диктовал одно распоряжение за другим, не упуская из виду ни одной мелочи. Горько было приказывать Ожеро, Жуберу и Серюрье стоять на месте, но этого уже не избежать. Сейчас ничто не имело значения, кроме взятия Дего.
Вошёл Саличетти. Он услышал новости и ужасно встревожился. Неужели они будут раздавлены между молотом и наковальней? Ах! Саличетти был всего лишь несчастным гражданским! Отвлёкшись на мгновение от своей бурной деятельности, Бонапарт бросил ему словечко:
— Успокойся, мой друг! К ночи Дего снова будет нашим. Австрийцы опять потерпят поражение!
На подготовку к наступлению ушло много времени. Потребовалось несколько часов, чтобы дивизия Лагарпа и бригада Доммартена вернулись на исходные позиции. Уже перевалило за полдень, когда он из Каркаре выехал на покрытую грязью дорогу, ведущую к Кайро. Дождь прекратился, выглянуло солнце. За ним и его штабом рысью скакали три сотни кавалеристов — первое подкрепление для Массена. Это была не лучшая часть его кавалерии, а крайне распущенный отряд, к тому же — на забракованных лошадях, по этой причине отстранённый от боевых встреч с вражеской кавалерией. За этой частью (какая есть, такая есть) маршировала бригада Виктора. За ней шёл Шестьдесят девятый полк. Позади этих колонн тянулась длинная вереница мулов, нагруженных боеприпасами, оружием и той амуницией, которую удалось наскрести поблизости. Они двигались вперёд, конвоируемые четырьмя сотнями всадников под началом старика Стенжеля, командовавшего всей кавалерией армии.
В Кайро он узнал, что дивизия Лагарпа не только успела вернуться сюда, но уже выступила в Дего и шла сейчас вдоль левого берега Бормиды по дороге, которую с боем брала вчера. По горным тропам подходил из Карретто лёгкий Восемнадцатый полк. Он оставил для них приказы. Вперёд! Вперёд! Дего нужно было отбить ещё до наступления темноты (он до сих пор не знал, какие вражеские силы и в каком количестве находились там) для исправления того бедственного положения, в которое поставил армию Массена. Бонапарт приходил в ярость при одной мысли о нём. Что ему сделать с этим мерзавцем при встрече? Разжаловать в назидание другим? Но в бою Массена был лучшим из его генералов. Вперёд! Вперёд!
Галопом он вёл в бой свою никуда не годную кавалерию. Ему не терпелось поскорее прибыть на место. Бонапарт оставил распоряжение, чтобы бригада Виктора и Шестьдесят девятый полк шли вперёд без остановки, чтобы четыреста всадников Стенжеля во главе с их командиром оставили транспорт с амуницией, поскольку опасности нет, и как можно скорее присоединились к нему. Какова бы ни была численность австрийцев, они едва ли могли продвинуться далеко за Дего. Во всяком случае, спасавшихся бегством голубых мундиров на дороге не было. Значит, австрийцы отказались от попытки преследования беспорядочно отступавших солдат Массена.
Подъехав к скале Роккетта, у которой только вчера разыгралось кровавое сражение, он увидел, что Массена уже начал атаку. Штабной офицер, поджидавший его на обочине дороги, сказал, что Массена раздобыл где-то старый мундир, надел его и обратился к войскам с гневной речью. Он обозвал их жалкими трусами, пристыдил за паническое бегство и призвал кровью смыть свой позор. Генерал и сам мог бы предпринять подобную попытку: ему было что смывать своей кровью. Конечно, теперь Массена действовал с быстротой и энергией, столь характерными для него в час сражения. Вся равнина пестрела скрывавшимися в клубах дыма голубыми мундирами, но сегодняшний бой не имел ничего общего со вчерашним, тщательно продуманным обходным манёвром справа. Это была свирепая лобовая атака на противника, засевшего в селении и встречавшего батальоны мушкетными выстрелами.
Далеко слева, на другом берегу Бормиды, между холмами пробирались колонны дивизии Лагарпа. Один полк намного опередил остальных и уже спускался к реке. Очевидно, он повторял вчерашний манёвр и собирался перейти Бормиду вброд за Дего. Штабной офицер, прискакавший от Лагарпа, сообщил, что это был полк под командованием генерала Косса. Дивизии Лагарпа было приказано действовать так, как она действовала вчера. Перейти вброд реку, подняться на высоты с другой стороны и атаковать большой каменный редут на плато, который по-прежнему оставался ключевой позицией. Но, взглянув в сторону этого слишком рьяного полка, так сильно опередившего своих товарищей, Бонапарт нахмурился. Чересчур стремительное продвижение было опасно. Необходимо было подождать остальных. Но отделённый от Косса большим расстоянием и рекой, он не мог влиять на быстроту его передвижения. К счастью, на пути полка противников было немного. Большая часть австрийских сил, как видно, сосредоточилась в деревне и на плато над правым берегом Бормиды.
Во главе кавалерии он подошёл вплотную к Дего и теперь чётко видел происходящее. Массена очистил деревню, повернул направо и пробивал путь к плато. Там грохотало несколько австрийских пушек. Снизу слева, от домов, им отвечали другие пушки. Новый штабной офицер от Массена сообщил, что это орудия, захваченные утром австрийцами, а теперь вновь отбитые у них французами. В отсутствие артиллеристов их обслуживали гренадеры, но не слишком успешно. Бонапарт осадил лошадь. Теперь не было никакого смысла рваться вперёд. Он подождёт здесь бригаду Виктора, Шестьдесят девятый полк и кавалерию Стенжеля. Этот единственный резерв останется под его командованием. Австрийцы отчаянно защищали оба фланга, так что было ещё рано решать, чем закончится сражение и где его вмешательство сможет сыграть решающую роль.
Прошло с полчаса, прежде чем Виктор доложил о прибытии его бригады. Стенжель и Шестьдесят девятый также были на месте. Он приказал Стенжелю разместить свою кавалерию сразу за деревней и ждать приказов.
Бонапарт сам поведёт на Дего бригаду Виктора и Шестьдесят девятый полк.
Деревня представляла собой страшное зрелище. Её улицы были завалены мёртвыми и ранеными — как французами в голубом, так и австрийцами в белом. Продырявленные, развороченные дома носили следы отчаянной схватки, когда люди убивали друг друга пулей, штыком или ударом мушкетного приклада. Мощёная дорога стала скользкой от растёкшейся крови. Он спустился на маленькую, усаженную грязно-зелёными деревцами деревенскую площадь и повернул к мосту через Бормиду. Здесь расположится его командный пункт. Он и представить не мог, что снова окажется здесь в подобной ситуации. И всё это произошло из-за Массена, Массена, который пренебрёг своим долгом, разрушил все его планы и вызвал ненужное кровопролитие. Но теперь было не время думать об этом.
С того места, где на плато находился невидимый отсюда редут, доносился не прекращавшийся ни на секунду шум ожесточённого боя. Несколько ядер взревело над его головой и пронеслось дальше, со свистом рассекая воздух. Полк Косса уже давно перешёл реку вброд и прокладывал себе дорогу прямо перед высотами. Но, несмотря на то что он был усилен другими батальонами дивизии Лагарпа, полк, очевидно, столкнулся с сильным сопротивлением. Отбившиеся от своих частей раненые, которые могли передвигаться сами, небольшими группами тащились назад по дороге. Он увидел, как высоко справа, на горном отроге, соединявшем крепость с плато, неожиданно развернулся полк солдат в белых мундирах и, ощетинившись штыками, словно на плацу, начал атаку. В беспорядке поднимавшиеся по отрогу французы, попав под беглый огонь, вначале остановились, а потом стремительно побежали вниз. Одни бросились налево — туда, где, как они знали, располагалась деревня Пиано; другие — направо, спускаясь вниз по горе под крепостью по направлению к крошечному предместью Верменано. Они увлекли за собой другие французские части, которые торопливо поднимались по склону. Вопли доносились оттуда сквозь грохот залпов.
В этот критический момент проницательность обострилась. Было важно, чтобы зараза паники не перекинулась на других. С такой дисциплиной, как в его войсках, невозможно было заранее предсказать, когда начнётся беспорядочное бегство и где и когда оно закончится. Подозвав офицера штаба, он отдал ему депешу для Стенжеля и велел скакать галопом. Генерал со своей кавалерией должен был немедленно миновать Верменано, обойти Дего и быстро двинуться к Пиано. Этот поток всадников обязан был прикрыть локальное отступление и задержать бежавших. Затем он повернулся к Виктору — толстому, низкорослому генералу с красным и весёлым лицом. Этот Виктор в своё время командовал одной из колонн, штурмовавших Тулон, а теперь стоял рядом, вслушиваясь в доносившийся из деревни нестройный шум. Кажется, надвигалось поражение.
— Вперёд, Виктор! Быстрее! Через деревню, а затем развернитесь направо! Наступайте вверх по склону, в направлении плато! Шестьдесят девятый последует за вами!
Виктор побежал отдавать приказания.
Несколько минут спустя его бригада пошла в стремительную атаку. Солдаты, потрясая штыками, во всю глотку орали: «Да здравствует Франция!» Оборванные, почти босые, эти люди уже были опьянены безумством битвы. Шестьдесят девятый полк, получивший тот же приказ, во главе со штабным офицером следовал за ними по пятам.
Как только они скрылись за деревней, оттуда донёсся грохот следовавших один за другим мушкетных залпов. Люди Виктора столкнулись с австрийцами, и, судя по всему, вовремя. Он прислушался к шуму и заметил, что тот начинает отдаляться. Наступил решающий момент сражения. Вся его воля была сосредоточена на том, чтобы разбить врага, сопротивлявшегося сегодня гораздо упорнее, чем вчера. На плато ружейная стрельба перемежалась залпами орудий, перекрывавшими треск мушкетов. Орудия были австрийскими. Весь резерв Бонапарта уже участвовал в деле.
В эту минуту на мосту через Бормиду появилась одна из бригад Лагарпа под командованием Червони — того самого генерала, который во время первой схватки с врагом привёл бригаду из Вольтри. Он энергично помахал Червони, ехавшему во главе колонны.
— Вперёд, генерал! На плато! Займите позиции рядом с Массена! — прокричал он и послал своего адъютанта, чтобы тот проводил их до места.
Эти войска с марша уходили в бой. Поток оборванных, кричащих людей двигался между домами, пробивая себе дорогу сквозь толпы раненых, бредущих с поля боя.
Мимо него на носилках несли офицера в промокшем от крови генеральском мундире. Он подошёл к раненому. Это был генерал Косс, ветеран королевской армии, полк которого так стремительно бросился в атаку, не дожидаясь поддержки. Испытывая искреннее сострадание, Бонапарт спросил у нёсших носилки, серьёзно ли ранен генерал. Впрочем, с первого взгляда было ясно, что рана смертельна.
Умирающий открыл глаза:
— Дего взят, генерал?
— Да.
— Теперь я умру спокойно. — Ветеран сделал страшное усилие. — Да здравствует Республика!
Героя (он не забудет его) понесли дальше, к санитарной повозке.
Но если сам Дего и большая часть поля были захвачены, то наверху, на плато, австрийцы продолжали яростно отбиваться. Сидя верхом на лошади, он с трудом пробрался сквозь толчею, царившую в деревне, и выехал на заваленную телами убитых и раненых дорогу, которая вела наверх. Всё должно было решиться именно там.
Наконец он выехал на плато и в нескольких сотнях ярдов от себя увидел большой каменный редут, в котором располагалась австрийская артиллерия. Бруствер был окутан дымом, вздымавшимся при каждом залпе орудий. Вокруг редута и нескольких жалких лачуг соседнего селения развернулось отчаянное сражение. Колонны французской пехоты с криком кидались вперёд, но под кинжальным огнём австрийских пушек, изрыгавших потоки картечи, ломались и откатывались обратно в поисках укрытия. Он узнал Массена. Его бросавшаяся в глаза фигура выделялась на поле боя. Он галопом носился туда и сюда, собирая в дыму отступавших, выгоняя солдат из-за каменных валов и маленьких домиков, где они прятались от картечи, строил их в ряды и снова гнал вперёд. Бонапарт взирал на это с одобрением. Не щадя себя, Массена делал всё возможное, чтобы исправить то катастрофическое положение, в которое он поставил армию. Его беспорядочные колонны бежали вперёд. Снова раздавались залпы австрийских пушек, французы снова останавливались и, дрогнув, поспешно отступали. Массена в ярости метался между ними, пробивая своей огромной лошадью дорогу среди бегущих.
Слева на плато появилась бригада Червони. Командир ехал впереди и размахивал шпагой. Нестройными шеренгами бригада двинулась вперёд, а затем, ускоряя шаг, с дикими криками, со штыками наперевес бросилась к редуту. Залпы картечью остановили её, кося всех направо и налево и рикошетом ударяя по бегущим. Офицеры могли перестроить людей заново только тогда, когда те оказывались за пределами огня.
С трудом удерживая лошадь, норовившую встать на дыбы от рёва пушечных ядер над головой, он с досадой наблюдал за неудачами наступавших. Редут следовало взять, и взять немедленно! Он вспомнил, что в тылу, недалеко отсюда, сразу же за плато, стоит бригада Доммартена, и послал штабного офицера привести её. Кроме как на редуте и в селении, австрийцы небольшими группами защищались по всему полю. Наступил тот момент, когда надо было бросить в бой хоть какие-нибудь свежие силы:
На плато показались батальоны Доммартена. Массена галопом поскакал к ним, размахивая шпагой и неистово жестикулируя. Он умело перестроил их для атаки и приказал двигаться на помощь к двум наскоро сколоченным и приготовившимся к атаке разрозненным батальонам. Затем он понёсся к другим рассеянным отрядам и также присоединил их к этой великолепной штурмовой колонне. Это был Массена во всём блеске, главенствующий на поле боя. В этот переломный момент сражения ему не было равных.
Генерал руководил теперь огромными массами людей, что-то горячо говорил им, указывая шпагой в направлении австрийцев. Солдаты, потрясая штыками, громко кричали в ответ. Затем он соскочил с коня и, размахивая шпагой, встал впереди. Колонна с криками двинулась вперёд. От редута их отделяло небольшое селение. Над домами появились клубы дыма — это засевшие там австрийцы снова начали стрельбу. Массена выбрал кратчайший путь к редуту и двинулся прямо на это селение. Шагах в ста перед деревушкой он взмахнул шпагой, и солдаты в неудержимом порыве бегом устремились вперёд.
Австрийцы, не ждавшие столь яростной атаки, выскакивали из домов и удирали без оглядки.
Во время наступившей паузы Массена перестроил свою колонну, готовя её к решительному штурму. Но командующий редутом тоже наблюдал за захватом селения. Во всех других местах плато австрийцы уже были разбиты. Защитники редута оставались единственными, кто держал оборону. Очевидно, их командир твёрдо решил не рисковать последними боеспособными частями. Наблюдая за редутом, всё ещё окутанным дымом выстрелов, Бонапарт заметил, что оттуда в походном порядке выходят войска в белых мундирах и стройными рядами маршируют к ущелью. Колонна Массена находилась ещё слишком далеко, чтобы помешать отступлению. На протяжении всего плато, куда бы он ни посмотрел, можно было видеть бегущих австрийцев.
Бонапарт наблюдал за этой сценой, слышал последние разрозненные выстрелы, раздававшиеся всё дальше и дальше, и испытывал какое-то мрачное облегчение. Победа — эта совершенно лишняя победа — была одержана. Дего был взят снова, но на сей раз гораздо более дорогой ценой, чем накануне. Ценой, которую он вряд ли мог себе позволить.
Верхом на огромной лошади к нему галопом подскакал Массена. По его закопчённой физиономии струился пот. Бонапарт криво усмехнулся: на сей раз его подчинённый обошёлся без расшитого золотом великолепного мундира. На генерале был старый, поношенный китель.
— Итак, мой генерал, — мрачно сказал Массена, пытаясь скрыть растерянность. — Вот и мы! Всё кончено!
Очевидно, генерал ждал, что его начнут распекать.
Но он не будет делать этого. Своей храбростью, своими героическими усилиями Массена искупил вину — конечно, насколько её было можно искупить. Ладно, как бы то ни было, победа одержана. Зачем ворошить прошлое и портить друг другу настроение? Его ждёт ещё немало трудностей. Надо дорожить такими верными соратниками, как Массена.
— Отлично, мой генерал. Мои первоначальные приказы действительны. Вы остаётесь на этих позициях. Проверьте состояние ваших аванпостов. Они должны быть очень бдительны!
Бонапарт отвернулся и краем глаза заметил, что Массена облегчённо вздохнул. Теперь с ним не будет трудностей. По крайней мере на время. По дороге назад он слегка улыбался, представляя себе, как полуголый Массена стремглав удирал от этих некстати вторгшихся австрийцев. Возможно, это послужит ему уроком. Уроком на всю оставшуюся жизнь. Как хорошо, что вчера вечером он, Бонапарт, отправил эту девушку назад! Зато теперь у него перед Массена есть моральное преимущество. И пусть этот ехидный генерал только попробует ещё раз ухмыльнуться!
Когда, вернувшись в Каркаре, он получил данные допросов пленных, выяснилось, что австрийская атака была нелепым недоразумением, следствием ошибки, которая была допущена в приказе д’Аржанто. Перед вчерашним поражением австрийский генерал приказал своему заместителю Вукассовичу, командовавшему корпусом из пяти батальонов, двинуться к Дего «завтра» и пометил приказ четырнадцатым апреля. Наверно, д’Аржанто писал приказ в полночь, поэтому и ошибся в дате на один день. Он хотел, чтобы Вукассович подошёл к Дего четырнадцатого, в день их первого сражения. (Если бы он так и поступил, французам пришлось бы совсем не сладко). Вукассович прекрасный, но исключительно педантичный солдат, — прибыв в тумане и под дождём на рассвете пятнадцатого, напал на спящих пьяниц Массена и обратил их в бегство.
Как бы то ни было, а подвергать себя ещё каким-нибудь неприятностям и сюрпризам Бонапарт не собирался. Он оставит Массена и Лагарпа в Дего и будет держать их там, пока не удостоверится, что в этом районе больше не осталось ни одного австрийца. Он мог позволить себе такую роскошь, поскольку офицер из штаба Ожеро доложил ему, что прошедшей ночью Колли трусливо оставил позиции в Монтецемоло и отвёл войска в Чеву. Теперь эту командную высоту не придётся брать штурмом — дорогостоящим развлечением, которого он больше не мог себе позволить. Ожеро сообщил, что его авангард находится за Монтецемоло и что лазутчики уже прощупали пьемонтский укреплённый лагерь. Теперь, когда он точно знал, как обстоят дела, можно было заняться этим лагерем.
Его воображению ярко представился другой вариант развития событий. Если бы он оказался на месте Колли, то тут же вмешался бы в сражение у Дего! Опасность такого нападения исподволь тревожила его весь день, нелепо потерянный у старых развалин замка Коссерия. Лишённый предприимчивости, слишком осторожный Колли избавил его от этой реальной угрозы. Это означало, что он уже достиг морального превосходства над пьемонтцами, а также то, что их командующий гораздо больше думает о собственной безопасности, нежели о нанесении ответного удара. Однако вероятность того, что Болье объединит свои силы и предпримет наступление с севера, всё ещё оставалась. До тех пор, пока Бонапарт не будет уверен, что этого не случится, он не двинется из Каркаре. Если вчера он свято верил, что с австрийцами покончено, то после полученного урока его одолевала боязнь, что Болье может предпринять последнюю отчаянную попытку, предпринять её с яростью в душе...
Бонапарт с удовольствием повторял про себя: «С яростью в сердце». Он использует эту фразу в докладе Директории. Более того, он употребит её в отчасти личном письме члену Директории Карно[33], «организатору победы» 1792 года. В этом письме он преувеличит и подчеркнёт всю рискованность занимаемой им позиции и те невероятные опасности, с которыми он успешно справился. Это сделает подвиги Бонапарта ещё более ошеломляющими и придаст вес его настоятельным просьбам в подкреплениях. Его армия понесла куда более серьёзные потери, чем это утверждали официальные источники. Если здесь он не мог толком накормить войска, то, когда они выйдут на равнины Италии, ему срочно понадобятся подкрепления, а их нельзя прислать быстро.
Глава 9
Утром после повторного взятия Дего, опустив голову и погрузившись в расчёты, он ехал по равнинной дороге из Каркаре в Миллезимо.
Пошёл пятый день с того момента, как он начал своё наступление из Савоны, а он всё ещё путался в этих горах вместе с голодной армией. Ему приходилось всё делать самому, лично разбираться во всех мелочах. Вот и сегодня, как только рассвело, в страхе, что Болье предпримет-таки отчаянную попытку восстановить положение, он вынужден был скакать на позиции в Дего, где Неподвижно стояли дивизии Массена и Лагарпа. Австрийцы всё ещё могли собрать примерно тридцать тысяч человек. (Если бы он был на месте Болье, то атаковал бы немедленно, используя каждого солдата и орудие). Затем он на короткое время вернулся в штаб в Каркаре, чтобы заняться утренними рапортами от командиров и дать Бертье указания по ведению обычных рутинных дел. Теперь, горько сожалея об отсутствии в штабе дельного офицера инженерных войск, он трясся на лошади в оставленный вчера Колли Монтецемоло, чтобы с этой командной высоты изучить местность и поискать пути подхода к Чеве. Ехать самому было настоящим сумасшествием. Он уже пожаловался Директории на нехватку толкового сапёра. Пожаловался заодно и на своего дряхлого командующего артиллерией: надо было, чтобы тот в случае новой тревоги, подобной вчерашней катастрофе в Дего, всегда был под рукой.
Неразбериха не мешала ему обдумывать более отдалённые, но от этого не менее серьёзные планы. В депешах из Генуи от Фейпу сообщалось, что эта республика, разрываясь между ненавистью представителей элиты и симпатиями простого народа к революционной Франции, могла в любой момент отказаться от своего нейтралитета, вступить в союз с Австрией и нанести удар по прибрежной дороге на Савону, которая служила основной коммуникацией Бонапарта. Нужно было принять предупредительные меры. Он пошлёт в Савону Четырнадцатый полк Червони с указанием провести разведку в Вольтри. Он скажет Червони, чтобы тот, если Вольтри свободен от австрийцев, направил туда сотню кавалеристов. Пусть эти кавалеристы прикрепят к шляпам лавровые ветви и, продвигаясь к Генуе, как можно громче кричат о славных победах французского оружия. Это позволит ему убить двух зайцев: укрепить тыл в Савоне и обезопасить себя от генуэзцев. Если же австрийцы больше не будут угрожать Дего и дадут ему возможность свободно двигаться на запад, он сможет оставить дорогу Савона — Каркаре и сделать своей основной коммуникацией куда более короткий и удобный путь Лоано — Бардинето. Он прикажет Червони эвакуировать склады из Савоны и ускорить отправку артиллерии — в частности, осадных орудий — в Лоано на случай, если пьемонтцы будут цепляться за Чеву.
Теперь, решая эти задачи, он подошёл к той черте, за которой начиналось явное и открытое неподчинение Парижу, на которое он втайне решился ещё до начала кампании. Подробные письменные инструкции Директории категорично требовали оставить пьемонтцев в покое, если последние уберутся с его пути, и сосредоточить все силы на выдворении австрийцев из Италии. Теперь наступил момент, когда исходя из конечных целей он мог это сделать и направить армию на разгром уже трижды битого Болье. Он же намеревался сделать нечто прямо противоположное: сначала покончить с пьемонтцами и полностью вывести их из борьбы. Последние шаги Бонапарта должны были открыто и недвусмысленно заявить о его бунтарских намерениях. Это требовало огромного мужества — даже несмотря на то что у него был Саличетти (можно ли ему доверять?), который защитил бы его перед Директорией (хотя пока он не скажет об этом Саличетти ни слова). Для молодого, малоизвестного генерала вроде него такой поступок был крайне опасен. После предательства Дюмурье на поле сражения французское правительство не слишком благосклонно относилось к генералам, которые не повиновались его указаниям. Но надо было идти на риск. Все его мечты о будущем — неясные, но ослепительные — были построены на этом. Он ехал, сжав губы и нахмурившись. Эти дураки в Париже не понимают, что он не может сражаться с австрийцами в Ломбардии, имея в тылу и на флангах враждебно настроенных пьемонтцев; сокрушив же их, он будет иметь сравнительно прямые и короткие пути коммуникации с Францией. Он всё так ясно представлял себе... Чего бы это ни стоило, он будет придерживаться этого секретного плана и поставит на карту свою карьеру. Это был Рубикон Бонапарта; рано или поздно он перейдёт его.
Судьба! Что за судьба ждала его? Ещё полгода назад он бедствовал, лишённый какой бы то ни было поддержки. Теперь, командуя целой армией, Бонапарт обладал такими возможностями, которые тогда ему и не снились. События, неподвластные его воле, сделали эти мечты реальностью. Какие невидимые силы играют человеческими жизнями, лепят из них такие же непонятные фигуры, какие ветер лепит из облаков? В письме, которое было написано под влиянием потрясения, вызванного внезапной гибелью молодого Шове, он сказал: «Мы живём среди непостижимого». Это было верно. Он всегда чувствовал нечто подобное. Ах! Он не будет погружаться в эту метафизику. Куда полезнее вернуться к размышлениям о Серюрье, который сообщил, что его продвижение приостановилось из-за снегов, всё ещё лежавших на высокогорных перевалах.
Бонапарт проскакал мимо замка Коссерия, крутые подступы к которому были завалены мёртвыми телами, и въехал в деревню Миллезимо, где солдаты из арьергарда Ожеро запоздало рылись в уже разграбленных, напоминавших вскрытые склепы старых лавках. Затем он повернул налево, переправился через бурную речку рядом с разрушенным мостом ещё римских времён и начал долгое восхождение на горный массив Монтецемоло. Здесь и там на дороге собирались группами солдаты и разбивали биваки, чтобы приготовить на кострах что-нибудь съестное. Справа от него чернели в тени перевалы. Зато вершины гор ослепительно сияли в золотом свете солнца. Хотелось вполне насладиться этими изумительными красотами. Но теперь эти горы говорили только о трудностях, которые приходится испытывать его армии.
Неровная, узкая дорога вела всё выше и выше, и всё новые и новые горизонты открывались перед его взором. Он обогнал поднимавшийся в гору батальон оборванных солдат. Они едва взглянули на него, и только один набрался храбрости прокричать ему вслед:
— Эй! Малыш! Когда мы увидим твою хвалёную Италию, где будет много еды?
Он бодро крикнул в ответ:
— Мужайся, храбрец! Ещё одно усилие! Ещё одна победа!
Да, одна решительная победа над Колли откроет им дорогу и даст всё. Но совершенно необходимо разгромить его как можно скорее. Он мог посочувствовать этому босому и оборванному солдату, миля за милей тащившему на себе тяжёлые боеприпасы и мушкет, но его железная воля заставляла солдат маршировать, голодали те или нет. Как бы то ни было, с такими храбрецами он завоюет Италию. Он не сомневался.
Монтецемоло лежал на высоте семисот метров. Должно быть, Бонапарт почти достиг вершины, когда впереди показался Ожеро. Огромный, на огромной лошади, с огромным орлиным носом, грубым, обветренным, посиневшим от холода лицом, Ожеро напоминал чудовищных размеров хищную птицу.
— Добрый день, генерал! — сказал этот грубый кавалерист. — Вы поднимаетесь наверх для обзора? Чертовски много стоит увидеть, когда сюда карабкается такой молодой человек, как вы! Хотя мои босоногие канальи этого не оценят.
— Отчасти для обзора, генерал, — с улыбкой ответил Бонапарт. — А отчасти посмотреть, как у вас идут дела. Вы связались с Серюрье?
— Да.
Их легковооружённые отряды поддерживали связь. Серюрье продвигался западнее, по долинам, которые вели прямо к Чеве. Несмотря на то что дивизия была ещё далеко, её наступление развивалось в полном соответствии с приказами об оставлении Монтецемоло. Ожеро также готовился идти на Чеву, но с востока. Одна из его бригад собралась немного раньше остальных и теперь строилась в походную колонну.
— Вам надо бы подняться на самый верх. — сказал Ожеро. — Оттуда всё видно лучше.
Они вместе поехали по крутой ухабистой дороге. За поворотом стояла бригада, выстроенная в длинную колонну и готовая к маршу. Пробиваясь сквозь ряды, Ожеро отчаянно сквернословил:
— Парни, прочь с дороги! Вы думаете, мы птицы, чтобы лететь у вас над головами? Хотел бы я ей быть! Как бы я тогда нас... вам сверху на макушки!
Солдаты смеялись и расступались в стороны.
Они заехали за выступ замшелой скалы, казавшейся удивительно зелёной на фоне пронзительно голубого неба, и Бонапарт от удивления осадил лошадь. Там, далеко на горизонте, виднелась цепь высоких гор, казавшихся почти нереальными. Покрытые снегом вершины ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца. Белый цвет снега переходил в розовое и аметистовое, а подножия казались окутанными голубой дымкой. Альпы! Ожеро ухмыльнулся.
— Недурно, да? И всё равно я променял бы эту красоту на вид с Монмартра... особенно если бы обнимал при этом хорошенькую девочку! — Куда бы ни забрасывала Ожеро романтическая судьба, в нем всегда были живы воспоминания беспризорного парижского детства.
Бонапарт не обращал внимания на Ожеро. Очарованный открывшимся видом и охваченный пафосом, повернулся к стоявшим на дороге солдатам и с неподдельным воодушевлением, с чувством вершителя судеб Истории помахал им рукой.
— Солдаты! — крикнул он, указывая на горы, — Смотрите! Перед вами Альпы! Перед вами Италия! Чтобы попасть сюда, Ганнибалу пришлось перейти Альпы, а мы обошли их!
Солдаты Революции, за последние семь лет республиканства хорошо усвоившие историю Древнего Рима, дружно подхватили эти слова. Они размахивали мятыми шляпами и восторженно кричали.
Офицер, командовавший колонной, громко отдал приказ о выступлении в поход. Потрёпанный, видавший виды оркестр с сильно побитыми медными инструментами грянул «Марсельезу». Колонна двинулась вперёд, и сильные мужские голоса, прорезавшие этот чистый горный воздух, стали постепенно затихать вдали:
— Вперёд, сыны отчизны! День славы наступил!
Он радостно наблюдал, как бригада, над которой развевались высоко поднятые трёхцветные знамёна, прошла по узкой горной дороге и скрылась внизу. Затем, словно вспомнив о своей цели, он проехал мимо оставленных военных укреплений к самой вершине, где трава всё ещё была покрыта зимним снегом. В подзорную трубу он тщательно рассмотрел холмы и долины перед Чевой, скрупулёзно сверив их с картой.
Сама Чева была прекрасно видна отсюда. Он знал этот окружённый старыми стенами небольшой городок в долине Танаро, но теперь на холмах севернее города виднелось длинное зигзагообразное укрепление — многоугольные редуты. Это был известный укреплённый лагерь, куда Колли отвёл свои силы. Серюрье наступал на него с юга, хотя был ещё далеко: до лагеря оставался день пути. Зачем терять часы, когда необходимо как можно скорее пробиться через эти голые холмы? Он презирал пьемонтцев: после поражения австрийцев они превратились в ничто. Ожеро нужно немедленно атаковать, выкурить пьемонтцев из лагеря, прежде чем они соберутся с силами, запугать осторожного Колли и принудить его к дальнейшему отступлению. Это подсказывал ему опыт командующего. Нужно было только как следует прижать пьемонтцев.
И снова в подзорную трубу он осмотрел вражеские форты. Было видно, что высота, обозначенная на карте как Ла Педаджера, является ключом к укреплённому лагерю. Если её взять, противник не сможет удержать позицию. Он повернулся к Ожеро и отдал приказ. Бригада Жубера должна двинуться прямо на Ла Педаджеру. Бригада Бейрана пойдёт слева и возьмёт редуты Ла Педаджеры на фланге. Бригада Рюска поддержит Бейрана и, продолжая окружной манёвр, создаст угрозу отсечения защитников лагеря от самой Чевы. День только начинался. Было вполне достаточно времени, чтобы совершить этот трудный марш-бросок, приблизиться к отдалённым позициям, начать приступ и завоевать победу относительно простой тактической уловкой.
Он уверенно напутствовал Ожеро:
— Одна стремительная атака, генерал, и Чева наша! Тогда мы выйдем на равнины!
Ему очень хотелось увидеть эту битву самому, но надо было возвращаться в Каркаре. Со стороны Дего не доносилось никаких звуков, возвещавших о боевых действиях, но он по-прежнему был сильно встревожен.
Вечером, когда он ужинал вместе с частью штаба, которая оставалась на месте, прибыл гонец от Ожеро. Генерал атаковал, как было приказано, но получил жестокий и кровавый урок. Позиция пьемонтцев оказалась сильнее, чем предполагалось, и защищались они на удивление отчаянно.
Уверенный в победе, Бонапарт откинулся на спинку стула и в приступе внезапного гнева смял послание. Было очень важно одержать её, эту победу, и открыть голодающей армии путь на равнину. Но эти несчастные пьемонтцы осмелились преградить ему дорогу! Возможно, он перенапрягся, слишком устал от лежавшей на плечах огромной ответственности. Он яростно обругал врагов, а заодно и Ожеро. Ничего не удавалось, когда его не было на месте.
Бертье кусал ногти.
— Что случилось, генерал? — спросил он. Другие только глазели на Бонапарта, не смея произнести ни слова. Он свирепо глянул на начальника штаба.
— Ожеро получил отпор! Дела плохи!
Жюно потянулся за графином с вином.
— Ха! Ха! Значит, эти пьемонтцы всё же умеют воевать! — легкомысленно сказал он. — А мы-то думали, что это будет простая прогулка... Тем лучше! Ещё несколько сражений! Я презираю всё это хождение взад и вперёд. Оно не соответствует моим представлениям о войне. Мне подавай хорошенький бой, вроде вчерашнего!
Жюно был набитым дураком... симпатичным парнем, но круглым болваном.
— Что ты понимаешь в войне? Помалкивал бы лучше!
Жозеф, всегда деликатно державшийся в стороне, попытался успокоить его:
— В конце концов, братишка, нельзя рассчитывать на победы каждый день. Это ещё не удавалось ни одному полководцу на свете.
Слово старшего брата, главы семейного клана Буонапарте, возымело своё действие. Раздражение Наполеона слегка улеглось.
— Ты штатский человек, Джузеппе. Тебе не понять, что я должен одерживать победы каждый день!
Снаружи донёсся голос Саличетти. Будь он проклят со всеми его доносами Директории!
— Саличетти ничего не говорить, — поспешил предупредить он, — Я быстро улажу это небольшое дельце.
Зачем же сообщать комиссару о неудачной атаке, если её просто можно скрыть? Он и сам не будет рапортовать об этом Директории. Руководству следует знать только о победах. Он не испортит помпезный список одержанных им ежедневных викторий, который уже был отправлен в Париж. Шутка ли, пять побед за пять дней: Монтеледжино, Монтенотте, Миллезимо и дважды Дего (в своём сообщении о Дего он очень умело расположил упоминание о провале Массена между двумя описаниями своих побед и говорил о неудаче только потому, что было необходимо объяснить причину повторной победы в одном и том же месте). Когда человек молод и по-прежнему, несмотря на все свои заслуги, мало кому известен, нельзя рисковать и полагаться на случай...
Он повернулся к начальнику штаба:
— Бертье, надо будет отдать несколько приказов. Сейчас я их продиктую.
Бонапарт направился в соседнюю комнату, где за двумя маленькими столиками сидели секретари, сложил руки за спиной и принялся расхаживать взад и вперёд, как делал всегда во время сосредоточенных раздумий. Он всё ещё злился на пьемонтцев и Ожеро, но в глубине души уже знал, что заслужил эту неудачу, проявив нетерпение и заставив Ожеро атаковать хорошо защищённого противника примерно одной с ним силы. Так же глупо было обнаруживать свою досаду перед штабом. Больше они таким его не увидят. Надо всегда выглядеть бодрым и уверенным.
Официальный отчёт Ожеро о потерях — более шестисот человек убитыми и ранеными — просто ошеломил его. Он не мог позволить себе бессмысленно терять столько людей. Армия катастрофически таяла, таяла у него на глазах. Эта глупая лобовая атака была недостойна его гения. Только такой болван, как Жюно, мог сказать, что презирает «хождения туда и сюда» и предпочитает им хорошее сражение. Жюно — просто безмозглый рубака и ничего не понимает в войне. Именно передвижениями войск он одержит все свои победы, а не тем, что будет заставлять людей умирать в сражениях ради сражений...
Он ходил взад и вперёд, время от времени останавливаясь и изучая карту. Его ум лихорадочно работал, пытаясь как можно тщательнее скоординировать манёвры войск, которые позволят вышвырнуть пьемонтцев из Чевы, отогнать их на запад и очистить путь для выхода на равнину. Но в данный момент с этими действиями придётся подождать. Ожеро должен занять крепкую позицию, а Серюрье осторожно подтянется к Чеве. Пока Бонапарт не будет полностью уверен, что Дего больше не угрожает опасность и что австрийцы не станут атаковать его с севера, он не рискнёт двинуться вперёд.
Прежде чем лечь спать, он, как делал это каждый день, написал письмо Жозефине. Рука Наполеона летала по бумаге, покрывая её неразборчивыми строчками; он изливал жене свою душу. Он ничего не писал Жозефине о делах армии (они ей были неинтересны), а говорил только о своём нестерпимом желании видеть её, о своей тоске по ней, не покидавшей его ни ночью, ни днём. Жозефина! Жозефина! Он живо представлял себе, как жена очаровательно улыбается ему, как томно подставляет свои губы, как сладостно уступает его неукротимому напору. Она была так далека от него в своём Париже! Что она делала в свободные дни... или ночи? Может быть, даже не вспоминала о нём? Он не позволит себе думать об этом. Она любит его. Она должна любить его! Сегодня курьер доставил от неё письмо, состоявшее из нескольких ничего не говоривших строк. Он поднёс листок к лицу и поцеловал его. Бумага пахла духами, её духами. Жозефина! Жозефина! Она должна приехать к нему, скоро, скоро!.. Прогнать эти мучительные сомнения одним своим присутствием, ответить страстью на его страсть. После новых побед! Не было никаких причин, которые помешали бы ей приехать после нескольких новых побед.
Ночью Бонапарта разбудил штабной офицер Франчески, которого он отправил к Лагарпу для тщательной рекогносцировки местности к северу и северо-западу от Дего. Франчески, щурясь на огонь свечи, доложил, что австрийцы исчезли. Они не обнаружили никаких признаков белых мундиров. Крестьяне сказали, что вся австрийская армия отошла в направлении Акви и даже не оставила дозоров.
Бонапарт вскочил с кровати и кликнул секретаря. Этого он и ждал! Опасность, исходившая от австрийцев, опасность, которая два дня сковывала его действия, иссякла. Болье, озабоченный только своей армией, очевидно, отступил к базе в Алессандрии и отказался от дальнейших попыток помочь союзнику. Теперь наконец он мог с лёгкой душой направить все свои силы против пьемонтцев.
Завернувшись в халат, он расхаживал по комнате и быстро, чётко диктовал приказы. Он уже всё обдумал. Лагарп останется в Дего, проведёт разведку во всех направлениях и прикроет их с тыла и правого фланга. Массена, Ожеро и Серюрье послезавтра утром поведут массированное наступление на Чеву. Завтрашний день уйдёт на то, чтобы занять позиции для атаки. Массена двинется из Дего в Момбаркаро, к северу от Чевы, угрожая левому флангу пьемонтцев и любым зажатым между ними австрийцам, которые могли оказаться в этом районе. Ожеро поведёт наступление с востока. Серюрье будет наступать тремя колоннами: правой — через Приеро, между Монтецемоло и Чевой; центральной — прямо на Чеву и левой — в северо-западном направлении, беря лагерь в клещи. Завтра, двадцать восьмого жерминаля, штаб переедет в Миллезимо, откуда он будет непосредственно руководить сражением. Снова ложась в постель, он услышал, как первые гонцы понеслись в ночь с его приказами, а затем мгновенно уснул.
Глава 10
Когда на следующее утро Бонапарт в сопровождении Бертье, Жозефа и Саличетти проезжал мимо заваленной смердящими трупами Коссерии к месту нового расположения штаба, дождь хлестал с небес. Похоже, погода надолго изменилась к худшему. В тёмных тучах, плывших над холмами и закрывавших их лесистые вершины, не было видно ни малейшего просвета.
Всадники обогнали медленную процессию мулов, навьюченных тюками с амуницией. Погонщики мулов кутались в длинные плащи с капюшонами. Осталось позади стадо грязного, тощего скота, предназначенного на убой и перегонявшегося через Кадибонский перевал из Савоны. Погонщики сообщили, что дорога через перевал полностью разбита и находится в ужасном состоянии. Ливень сделает её ещё хуже. Далеко справа, за покрытыми туманной дымкой холмами, вверх и вниз по отвратительной окольной дороге длиной в двадцать пять с лишним миль — через Кайро и Момбаркаро — двигался Массена. Его измученные войска должны были завтра на рассвете выйти к намеченным рубежам. Можно было не сомневаться: Массена приведёт их туда вовремя. После катастрофы в Дего он стал необыкновенно усерден. Далеко впереди, за Монтецемоло, сейчас перестраивается Ожеро, приходящий в себя после страшных вчерашних потерь, а тем временем его дозорные под дождём ведут перестрелку с защитниками лагеря. На юго-западе Серюрье пробивается через горные долины, чтобы выйти на фланг Ожеро. Всё осложняет плохая погода. Но завтра он непременно проведёт Мощную атаку и выбьет пьемонтцев из Чевы.
Они выехали на главную улицу Миллезимо, спускавшуюся к продолговатой площади, которую обрамляли ряды лавочек. Вывешенный на одном из домов трёхцветный флаг указывал местонахождение штаба. Когда всадники слезали с лошадей, к ним, галопом промчавшись через всю деревню, подскакал штабной офицер от Ожеро. Бонапарт взял депешу, вскрыл её, быстро пробежал глазами и вскрикнул от изумления. Тщательно готовившейся атаки на Чеву уже не требовалось! Защитники лагеря отступили! Несмотря на оказанный вчера Ожеро кровавый приём, ночью Колли отвёл свои войска на запад, оставив лишь крошечный гарнизон в городской крепости. Это меняло всё.
Он засыпал вопросами штабного офицера, не обращая внимания на лившиеся с неба потоки воды. Куда ушёл Колли? Штабной офицер не знал. Дозорные вышли вперёд с первыми лучами рассвета и обнаружили пустые укрепления. Позже они наткнулись на пьемонтский арьергард, были обстреляны, отступили и потеряли противника из виду... Бонапарт поспешил в штаб, чтобы срочно отправить приказы находившимся на марше колоннам. Следовало немедленно определить местонахождение Колли. Пока Бонапарт не будет знать, куда направился враг, он ничего не сможет предпринять.
Жозеф и Саличетти, всегда пользовавшиеся привилегиями, заняли лучшую комнату в доме. Когда он вошёл к ним, Жозеф стоял и мрачно смотрел на дождь за окном. Саличетти, вытянув ноги, сидел в кресле и задумчиво хмурился, похлопывая себя по грязным сапогам.
Жозеф повернулся ему навстречу.
— Привет, Малыш! — покровительственно воскликнул он по-итальянски. Этот язык им обоим до сих пор был ближе французского. — Какая скверная погода! В этой отвратительной стране дождь идёт почти каждый день. В результате восхитительная триумфальная прогулка, в которой ты пригласил меня участвовать, оказалась не очень приятным занятием. Я промок до костей!
— Извини, братишка, — сокрушённо сказал Бонапарт. — На войне не приходится ждать хорошей погоды. Что бы ни было, а выступать в поход нужно.
Саличетти поднял глаза.
— Я тут подумал, Бонапарт... Если Колли вывел свои войска из Чевы на запад, то нет ничего, что помешало бы тебе двинуться на Болье и выгнать его из Италии. Не так ли? На этот счёт существуют недвусмысленные инструкции. Теперь у тебя есть полная возможность выполнить их.
Прежде чем ответить, он благоразумно помедлил. Нет, пока ещё рано доверяться Саличетти.
— Я не могу оставить недобитого Колли в тылу, друг. Сначала я должен разгромить его. Кроме того, — хитро добавил он, — преследуя его, я захвачу Мондови и находящиеся там огромные склады с продовольствием, так необходимым нашей армии. Да и контрибуцию мы получим с них немалую. Это богатый город. А потом мы выйдем на пьемонтскую равнину, где заберём всё, что пожелаем.
— Это верно, — отозвался Саличетти, глаза которого загорелись от жадности. Как только у него появится возможность пограбить, уж он своего не упустит! — А то в этих бедных деревушках и взять нечего.
— Если мы двинемся за Болье, на всём пути до самой Алессандрии нас ждут только голые холмы, а когда дойдём до крепости, нас остановят. Вот почему Болье отступает туда. Он очень заинтересован в том, чтобы мы шли по его следам. Это входит в его замысел. Но согласно логике войны нам надо продвигаться через пьемонтскую равнину. Можешь сообщить об этом Директории, когда будешь писать очередной отчёт.
Он соблазнит Саличетти, и тот станет его помощником в этом продвижении. Раз корсиканец начал грабить, он не успокоится! Пусть как следует обдумает эту перспективу...
Бонапарт повернулся к Жозефу:
— Я собираюсь осмотреть позиции вокруг Чевы, брат. Не желаешь поехать со мной?
Жозеф раздражённо покачал головой:
— Спасибо, Малыш, не хочется. Не в такую погоду!
Под проливным дождём Бонапарт проехал через Монтецемоло и спустился вниз, к Чеве. Войска Ожеро располагались вокруг старых городских стен, за которыми высилась неприступная крепость. Как он узнал, пушки этой крепости вывели из строя несколько французских батарей, располагавшихся на ближайших высотах.
Он нашёл Ожеро неподалёку от города, в доме, находившемся вне досягаемости ядер врага. Лазутчики генерала сообщили, что обнаружили местонахождение Колли. Пьемонтец занял сильную позицию за Курсальей. Бонапарт развернул карту и склонился над ней. Курсальей назывался приток реки Танаро, протекавший на север где-то милях в десяти к западу от Чевы. Смысл этого шага стал понятен Бонапарту с первого взгляда. Заняв эту позицию, Колли намеренно оставил без прикрытия дорогу на Кераско и Турин. Но и сам Бонапарт не мог отважиться вступить на эту дорогу, оставляя в тылу и на левом фланге сильного противника. Что ж, Колли был искусным воином, хотя и чересчур осторожным. Поступив так, он сближался с большими пьемонтскими силами на западе и прикрывал свои склады в стоявшей на берегу реки горной крепости Мондови. Не оставалось никаких сомнений. Нужно было следовать за Колли и разгромить его.
Неподалёку отсюда находилась дивизия Серюрье; одна её бригада уже была на дороге из Чевы в Лезеньо, близ слияния Курсальи и Танаро. Серюрье следует выступить по левому берегу Танаро к Курсалье и выйти на позиции Колли. Ожеро необходимо идти по правому берегу Танаро, поддерживая связь с Массена, двигавшимся далеко справа. Таким образом, за рекой Курсалья на фланге Колли должна была сложиться мощная группировка. Что же касалось крепости в Чеве, то он не повторит дорого обошедшейся ему ошибки со штурмом Коссерии. Если крепость немедленно не сдастся, как было предложено, он просто изолирует её и пройдёт мимо.
Было уже поздно. В эту плохую погоду на передвижения по ужасным дорогам уйдёт много времени. Значит, он сможет атаковать Колли не раньше, чем послезавтра.
В полдень следующего дня, восемнадцатого апреля по пьемонтскому календарю, Бонапарт ехал под проливным дождём (этот потоп не прекращался ни на минуту!) на встречу, которую он назначил Серюрье и Ожеро. Он только что прибыл из Чевы, где крепость по-прежнему не желала сдаваться, несмотря на повторный ультиматум, грозивший в случае сопротивления беспощадным уничтожением. Он оставил Рюска, командовавшего бригадой в дивизии Ожеро, блокировать крепость наспех собранными силами. У Рюска — крупного, цветущего итальянца — было много тайных связей с пьемонтскими революционерами, и это сыграло свою роль: гражданские власти уже сдали город. Тем временем Серюрье менял диспозицию; он разворачивался налево, к Лезеньо. Войска Ожеро располагались вдоль правого берега Танаро, за местом её слияния с рекой Курсалья. Лагарп шёл из Дего напрямик к неприступному хребту Сан-Бенедетто ди Бельбо за Момбаркаро и таким образом предотвращал всякую возможность соединения Болье и Колли, если австрийцы всё же попытаются его осуществить. Массена оставался в Момбаркаро, готовый действовать в любом направлении.
Эта погода была его злейшим врагом. Она уже создала ему серьёзные трудности. Если ненастье затянется надолго, дело кончится катастрофой. Доставка продовольствия и других грузов становилась невозможной. Горные дороги превратились в реки, а проходившие ниже — в болота. То немногое, что можно было найти в этой местности, тут же разворовывалось мародёрами, в которых превращалась каждая воинская часть (по дороге он встретил множество таких банд — изголодавшихся, несчастных, в грязных, изорванных мундирах, насмехавшихся над дисциплиной и приказами. Эти люди только и знали, что кричать: «Еды! Еды!» — и ради неё не остановились бы перед убийством). Если он не сможет быстро вывести своих солдат из этой горной местности, армии у него не будет. Это было очевидно. Но было очевидно и другое: прежде чем он сможет выбраться из этих предгорий, придётся сразиться с пьемонтцами, которые готовы напасть на него с фланга, если он попытается пройти мимо.
Нелёгким будет это дело. Сегодня утром Ожеро и Серюрье провели рекогносцировку позиции Колли. Оба докладывали, что она очень сильна. Пьемонтский центр располагался на плато, обозначенном на карте как Ла Бикокка и доминировавшем над слиянием Курсальи и Танаро, которые омывали его с двух сторон. Обе реки разлились от дождей и талого снега, который кое-где ещё лежал на высокогорьях. Левое крыло пьемонтской армии стояло за Танаро. Все мосты здесь были разрушены. Правое крыло занимало бастион Сан-Микеле, нависший над Курсальей. В этом месте через реку были перекинуты два узких полуразрушенных моста, подступы к которым простреливались пьемонтской артиллерией. У французов почти не было пушек, если не считать нескольких лёгких пехотных орудий. Основная артиллерия находилась далеко в тылу, за Чевой. Она могла прибыть не ранее чем через два дня; доставка была отложена из-за плохого состояния дорог. Но он не мог ждать так долго. Как быть? Только его дерзость — дерзость, которая отказывалась считаться с препятствиями, — могла помочь делу.
Он подъехал к бедному крестьянскому дому, где уже ожидали Ожеро и Серюрье. Снаружи стояли их лошади и эскорт. Дождь заливал холмы. На небе не было ни просвета.
Он спрыгнул с лошади и вошёл в дом. Тот был дочиста разграблен. Жители деревни исчезли без следа. Ожеро и Серюрье стояли в совершенно пустой кухне. Низкие потолки делали обоих великанами. Уставшие, грязные по пояс, они были в подавленном настроении.
— Добрый день, генерал! — поздоровался Ожеро. — Какая свинская погода. Разве в этой проклятой стране дождь когда-нибудь кончается? — Он разразился потоком ругательств, проклинавших и эту страну, и эту погоду. — Если не прояснится, мы никогда не дождёмся артиллерии, а без неё тут нечего делать.
— Поддерживаю, — мрачно согласился Серюрье; шрам на его скуле стал ещё более заметным. — Позиции Колли чертовски сильны. Я только что снова осмотрел их. Река разлилась, а те немногие мосты, которые не разрушили пьемонтцы, простреливаются их артиллерией из конца в конец.
Бонапарт нахмурился. Эти старые генералы пытались навязать ему своё мнение, пользуясь его молодостью или, как они выражались в узком кругу, «желторотостью». Он не потерпит этого настроения, этого чрезвычайно опасного в нынешних обстоятельствах уныния. Сейчас жизненно важным было желание победить, которое невольно передавалось от Генералов солдатам. Эта вера не умирала в нем ни на мгновение. Он перестал хмуриться и рассмеялся в лицо возвышавшимся над ним великанам.
— Вы преувеличиваете трудности, господа! — сказал он. — Позиции Колли не так хороши, как кажутся. Не бывает идеальных позиций. И завтра утром вы возьмёте их штурмом... не дожидаясь артиллерии.
Он достал карту и разложил её на широком подоконнике. Генералы заглядывали через его плечо. Он чувствовал их молчаливое несогласие, вот-вот готовое перейти в открытый спор, и, не дожидаясь этого, принялся знакомить их с диспозицией.
— Вы, Серюрье, наступаете слева. Одну бригаду вы бросите на мост в Торре, что на левом крыле. Две другие бригады двинете на два моста напротив Сан-Микеле. Как только овладеете Сан-Микеле, подниметесь правее и атакуете врага на плато Ла Бикокка. Вы, Ожеро, со своих позиций наступаете по правому берегу Танаро. Перейдёте реку вброд — дно у Танаро и Курсальи каменистое — и возьмёте штурмом высоты, главенствующие над Ла Бикоккой. Если Серюрье столкнётся с сильным сопротивлением, то возьмёте плато вместо него. Если же вы сами встретите более серьёзный отпор, то Серюрье захватит высоты вместо вас. Мы собираемся разгромить правый фланг и центр врага, взяв их в клещи. На нашем правом крыле Массена форсирует Танаро, обойдёт левый фланг пьемонтцев и отрежет им дорогу на Турин. Могу рассказать вам, как будут развиваться дальнейшие события. Если наша атака окажется достаточно мощной, Колли вновь начнёт отступать. Я хорошо изучил его стиль! Мы выбьем врага с позиций одним броском, выгоним его на равнину и там уничтожим. — Он засмеялся. — Завтра в это же время мы похвастаемся перед Парижем ещё одной победой!
Серюрье нахмурился. Он был мрачнее и угрюмее, чем когда бы то ни было; шрам на его щеке побагровел.
— Всё будет не так просто, как вы думаете, генерал. Курсалья сильно разлилась. У нас нет артиллерии, чтобы подавить огонь неприятеля.
Ожеро кивнул; его гигантский рост служил серьёзным аргументом в пользу Серюрье.
— Я согласен, генерал. Чёрт возьми! Такие позиции голыми руками не возьмёшь. Было бы лучше дождаться артиллерии. Любой опытный генерал скажет вам то же самое. Впрочем, отсутствие артиллерии — это полбеды. Я сомневаюсь, что солдаты пойдут вперёд без еды. Вы, должно быть, сами видели — бедные парни голодают. На каждый приказ они отвечают требованием хлеба.
Как всегда, он сразу же ухватил суть возражения и мгновенно вспылил.
— Где я возьму для них хлеба? Разве вы, опытные генералы, не понимаете, что именно поэтому мы должны наступать, не считаясь с потерями? — Его злила их тупость. У этих людей не было воображения. Внезапно он успокоился и стал совершенно серьёзен. — Мы должны выбраться из этих гор! Нельзя позволить себе задержаться здесь ни на один лишний час! Вы говорите, что армия голодает. Но в такую погоду и по таким дорогам доставить продовольствие невозможно. Каждый день, проведённый здесь, лишь усугубляет положение. За позициями Колли лежит пьемонтская равнина, на которой есть всё, что нам нужно. Если мы достигнем её, то будем спасены. Мы и так потеряли в этих горах слишком много времени. Стоит позволить себе потратить впустую день или даже полдня, как в армии начнётся повальное дезертирство! Мы обязаны пробиться на равнину. Теперь понимаете? — Бонапарт заглянул им в глаза. И вновь его тон стал резким и властным. — Вы наступаете завтра на рассвете. Приказы в письменном виде я пришлю вам из Саличето. Сегодня штаб переедет туда.
Ему не терпелось уехать (ждали тысячи неотложных дел), но генералам хотелось поговорить, проникнуться его уверенностью и, не подвергая сомнению авторитет главнокомандующего, уточнить детали этого двустороннего наступления.
Он не мог тратить на них время. Сухо попрощавшись с недовольными командирами дивизий, он вышел из дома, забрался в седло и под непрекращающимся дождём тронулся в путь. Чего бы это ни стоило, завтра они пойдут в атаку и выбьют пьемонтцев с занимаемых ими высот! Эти тугодумы во всём видели только трудности. Но препятствия и созданы для того, чтобы их преодолевать. Они должны быть преодолёны!
Глава 11
Дождь прекратился, хотя небо оставалось по-прежнему затянутым тучами. В одиннадцатом часу утра он стоял на высотах Сан-Паоло, озирая Курсалью и раскинувшийся на её противоположном берегу Сан-Микеле. Прямо напротив него эта деревня круто поднималась вверх по склону; берег был превращён в террасы с разбитыми на них виноградниками. Реку пересекали два моста. Далеко внизу Серюрье выстраивал войска для атаки. (Серюрье запаздывал: ему стоило большого труда поднять на ноги изголодавшуюся бригаду). Солдаты выстроились в две колонны. Левая должна была двинуться к селению Торре. Правая нацеливалась на два моста перед Сан-Микеле. Однако сначала ей предстояло оттеснить легковооружённые отряды пьемонтцев, загодя выдвинувшиеся на этот берег реки и занявшие на нём плацдарм.
Облачка белого дыма поднялись над противоположным берегом. Стрелки открыли огонь. Выше, над двумя редутами, прикрывавшими Сан-Микеле справа и слева, возникли густые облака дыма и, словно воздушные шары, стали подниматься вверх. Тяжёлый гром канонады эхом отозвался в предгорьях, и ядра со свистом полетели в направлявшуюся к мостам колонну Серюрье. Тут же открыла прицельный огонь и другая батарея, стоявшая в самом Сан-Микеле. Под прикрытием этого огня отступавшие пьемонтцы бежали по мосту и в беспорядке карабкались по склону.
Французы бросились их преследовать. Вражеская канонада тут же усилилась. Батареи Сан-Микеле начали стрелять по мостам картечью. Передовые ряды атакующих были сметены в мгновение ока, а оставшиеся в живых бросились назад. Щепки разлетались от мостов, фонтанами вздымалась кипевшая от пуль река. Ни один француз не смог достичь противоположного берега. Батареи били залпами с необыкновенной точностью (как опытный артиллерист, он с одобрением отметил отличную работу орудийных расчётов).
Переправа по мостам стала невозможной, но Серюрье, твёрдо вознамерившийся форсировать реку, послал группы солдат вверх и вниз по течению в поисках брода. Наблюдая за происходящим с высоты, Бонапарт видел в подзорную трубу, как отважные стрелки постепенно погружались в воду по пояс, по грудь, а затем начинали взмахивать руками и пятиться подальше от опасных глубин; кое-кого течение сносило прочь.
Целый час он следил за этими тщетными попытками перебраться через реку. Прекратив безнадёжное дело, солдаты в голубых мундирах стали в беспорядке толпиться на берегу, а на другой стороне тем временем бухали батареи редутов, и ядра со свистом летели над поверхностью воды.
Он сел на лошадь и поехал вниз. Небольшой эскорт следовал сзади. Атака должна была завершиться успехом! Спуск с холма по тропе отнял много времени и был раздражающе медленным. Наступил полдень, когда он подъехал к войскам, сгрудившимся у большего из двух мостов. Серюрье галопом подскакал к нему. Бывалый командир дивизии был в ярости.
— Я говорил вам, генерал! — закричал он. — Без поддержки артиллерии это невозможно! Неприятель простреливает оба моста. Река слишком глубока, чтобы перейти её вброд. Бригада Гюйо отброшена от Переправы в Торре — несмотря на то что я отдал ему обе свои лёгкие пушки. Редуты держат нас на прицеле. Нам остаётся только отступить!
Бонапарт разозлился. Серюрье обращался с ним как с мальчишкой. Надо было настоять на своём. Его голос стал резким.
— Ничего подобного вы не сделаете, генерал! Приведите ваших солдат в порядок! В любой момент мы можем услышать, что Ожеро перешёл реку вброд справа от вас. Когда он пойдёт в атаку на плато, то перетянет часть вражеского огня на себя. Тогда у вас появятся хорошие возможности.
Бонапарт ещё не закончил говорить, когда к нему подбежал офицер.
— Генерал! Генерал! Бригада Гюйо нашла пешеходный мостик через реку! Солдаты пробираются по нему гуськом, их барабаны бьют атаку! Стрелки уже на другой стороне, они штурмуют большую батарею!
Бонапарт засмеялся в лицо Серюрье.
— Вот так, генерал! Никогда не надо отчаиваться! Настал ваш час! К мостам!
Серюрье, размахивая шляпой и выкрикивая приказы, галопом поскакал прочь.
Сообщение было верным. Слева за рекой он заметил солдат бригады Гюйо, перестраивавшихся для атаки. Некоторые уже поднимались по террасам в направлении Сан-Микеле; впереди бежали стрелки. Пьемонтцы растерялись и начали отступать.
Дико крича, французы ринулись на мосты и через несколько минут захватили их. Только два или три пушечных ядра с воем и грохотом обрушились на солдат. На пьемонтской батарее началась сумятица. Их собственная пехота своим паническим бегством мешала артиллерии вести огонь.
Не слезая с лошади, Бонапарт наблюдал за атакой двух бригад под командованием Серюрье, перебрасывавшего батальоны на другой берег. Он видел, как клубы дыма стелились над крышами домов. Пьемонтская батарея прекратила огонь. Дым медленно отползал всё дальше и дальше за деревню. Французские стрелки теснили врага по всему плато. Пехотные батальоны двигались за ними. Стоявший наверху старый замок был взят. На этой части поля пьемонтцы отступили. Как быстро летело время! Была уже половина второго. Если бы только Ожеро выполнил приказ и одновременно начал штурмовать плато с другой стороны, победа была бы окончательной. Но где же он? Почему справа стоит зловещая тишина?
Надо было срочно выяснить это! В сопровождении свиты он поскакал к Лезеньо. Путь до того места, где развернулись три бригады Ожеро и небольшой отряд кавалерии, был неблизким. Надо было Добраться до Лезеньо, перейти в этом месте реку Танаро по некоторому подобию моста, свернуть на правый берег реки и проехать по нему ещё одну или две мили. На это потребовалась уйма времени. Пересекая мост в Лезеньо, он ещё слышал отголоски боя в Сан-Микеле, но со стороны колонн Ожеро не доносилось ни звука. Наконец на дороге, тянувшейся вдоль Танаро, он наткнулся на одну из бригад Ожеро. Люди, сложив оружие, стояли без дела. Некоторые узнали его и принялись что-то кричать, требуя хлеба. Офицер сообщил ему, что никто не смог перейти реку, и подсказал, где искать Ожеро.
Тот стоял на берегу, возвышаясь над штабными офицерами. Подъехав к нему, Бонапарт сердито крикнул:
— Генерал, почему вы не перешли реку вброд и не атаковали плато? Серюрье захватил Сан-Микеле. Он преследует врага, отступившего на Ла Бикокку. Если вы пойдёте в атаку, мы уничтожим пьемонтцев!
Сердитый Ожеро, пересыпая свою речь «свиньями» и «отбросами», сказал, что пытался переправиться во многих местах, но везде оказалось слишком глубоко. А на другом берегу засели пьемонтские стрелки. Там, где французский берег был слишком высок, войска не могли спуститься к воде, а там, где он был пологим, оказывался слишком крутым противоположный берег. Но Жубер со своей бригадой всё же пытается перейти реку неподалёку отсюда. Отчаявшись, Бонапарт вместе с Ожеро поскакал искать Жубера. Они проехали мимо стоявшей без дела пехоты и у самой реки обнаружили генерала. С его насквозь мокрого мундира лились потоки воды. Этот высокий, худой офицер был явно не в духе и страшно ругал стоявших рядом пехотинцев. С другого берега их обстреливали пьемонтцы. Пули со свистом щёлкали вокруг.
— В чём дело, Жубер? — закричал Бонапарт. — Не можете переправиться? — Это приводило его в бешенство.
Жубер отдал честь.
— Не могу, генерал. Это невозможно. Мои люди пытались не один раз, но все возвращались. Наконец я сам пришпорил лошадь и решил показать пример... но и мне не удалось это сделать. Я чуть не утонул. Мою лошадь унесло течением. Было слишком глубоко даже для неё, не говоря о пеших. Только чудом нам удалось выбраться назад — такую пальбу подняли мерзавцы, засевшие на том берегу...
Бонапарт подъехал вплотную к воде. Поднявшаяся от дождей река, кружа водоворотами, быстро неслась мимо. Конечно, здесь она была непроходима. Пули пьемонтских стрелков свистели, жужжали над головой, щёлкали рядом.
Ожеро взялся за уздечку его коня.
— Не лучше ли вам отъехать в безопасное место, генерал? Эти парни плохо стреляют, но не ровен час...
Главнокомандующий презирал опасность. Единственное, что его беспокоило, — это как переправить войска Ожеро на другой берег.
— Генерал, ещё не отлили ту пулю, которая попадёт в меня! — Он был фанатично убеждён в своей правоте. Со времён Тулона эта отговорка стала для него обычной. — Нужно попытаться найти брод в другом месте. Где-то же через неё можно перебраться? — Он посмотрел вверх, на край плато. Там, невидимый отсюда, Серюрье преследовал пьемонтцев. Как нужен был Ожеро, чтобы довершить это поражение полным разгромом! Вдали, ниже по течению, послышались орудийные выстрелы.
— Я послал вниз по реке часть своей кавалерии, чтобы она попыталась найти переправу, — сказал Ожеро. — Это их обстреливает пьемонтская батарея. Если уж не сможет переправиться кавалерия, то пехоте это и подавно не удастся.
Со стороны Сан-Микеле донёсся шум возобновившегося боя. Что произошло?
Оставив Ожеро искать переправу, он в волнении поскакал к Серюрье. В чём дело? Пока главнокомандующий ехал назад, шум постепенно утих. Над полем боя воцарилась полная тишина, странная и тревожная.
За Лезеньо его встретил гонец от Серюрье.
Оказалось, что в то время, пока одна из бригад Серюрье закончила захват деревни, солдаты рассеялись по всему Сан-Микеле, занялись грабежом, перепились и начали бесчинствовать «хуже, чем в Дего». Какая-то взятая в плен пьемонтская пехотная часть, видя, что пьяные конвоиры валяются на земле, захватила их оружие и приколола беспомощных солдат штыками. Офицеры быстро построили солдат и атаковали всех, кого встречали на пути. Они освободили других пленных, построились в колонны и пошли в наступление, сея панику среди перепившихся грабителей. Тут собрались с силами пьемонтцы, засевшие на плато. Они нанесли сильный контрудар бригаде, выдвинувшейся вперёд, и сбросили оказавшихся без поддержки французов вниз, в охваченную сумятицей деревню. Там не нашлось и роты, которая могла бы оказать врагу организованное сопротивление. Обе бригады бросились к мостам и опять попали под мушкетные залпы и картечь пьемонтских пушек. Теперь они, полностью деморализованные, вновь оказались на своём берегу реки. Все завоевания сегодняшнего дня были потеряны. Генерал Серюрье приказал передать главнокомандующему, что вести войска в новую атаку сегодня невозможно.
Бонапарт хмуро выслушал эту страшную весть. Поражение... Проклятые мародёры! Как можно воевать, когда под его началом служат не солдаты, а шайка разбойников! Он стиснул зубы. Надо дать им урок. Часть мерзавцев придётся расстрелять без всякой пощады.
Впрочем, едва ли это поможет. Солнце садилось; его последние лучи пробивались сквозь просветы в облаках. Что ж, придётся смириться с этим предательским ударом судьбы, с чудовищной потерей ещё одного дня. Он отправил офицера обратно к Серюрье с приказом вывести дивизию из-под обстрела и вечером лично явиться на совет в Чеву. Подобные же приказы были посланы с адъютантами Массена и Ожеро. В своём рапорте Директории он ничего не сообщит об этой катастрофе и ни словом не обмолвится о ней другим командующим. Никогда не следует приходить в уныние. Так он рассуждал, поворачивая назад, к Лезеньо. Он уже отдал приказ о переводе туда штаба армии. Из Лезеньо будет удобнее руководить завтрашним наступлением.
Шёл одиннадцатый час вечера. Он с тремя командирами дивизий находился в одном из домов Чевы, сидя над разложенной на столе картой. Нависшая над городом крепость по-прежнему оставалась в руках неприятеля, но никаких звуков из неё не доносилось. Рюска договорился с комендантом, что они не будут обстреливать друг друга. Все три генерала были крайне утомлены и расстроены. Ни один из них как следует не ел уже несколько дней (Бонапарт и сам не ел, но это его ничуть не беспокоило). Серюрье и Ожеро поднялись сегодня на рассвете, и для каждого из них день сложился крайне неудачно. Массена, дивизия которого всё ещё стояла в тылу, пришлось проехать много миль по ужасной дороге, чтобы добраться сюда. В тот момент, когда он вошёл, три генерала ожесточённо спорили. Массена присвоил себе транспорт с амуницией; которая предназначалась не только для него. Это подлило масла в огонь. Теперь, сидя вместе с ним за столом, они продолжали ссориться уже вчетвером. Тут тщедушный и измождённый Бонапарт поднялся и властно произнёс:
— Довольно, господа! Вы выбрали неподходящее время для ссор и взаимных упрёков. Армия в отчаянном положении. Мы должны трудиться все вместе, как товарищи. Не нужно говорить мне, что ваши солдаты голодают, что они не соблюдают дисциплину, что всякий порядок и организация рушатся. Все мы знаем об этом. Что же касается атаки на Сан-Микеле, предпринятой без поддержки артиллерии, то я беру ответственность за это на себя. Главной нашей задачей было и остаётся как можно скорее спуститься в долину. Если мы не добьёмся этого, армия прекратит своё существование. Я приказал начать атаку сегодня, потому что мы не можем ждать подхода артиллерии. До определённого момента наступление развивалось удачно. Генерал Серюрье может объяснить вам, что помешало закрепить успех. Придётся атаковать завтра, снова без артиллерии, но на сей раз мы добьёмся полной победы. — Он был слишком молод, чтобы командовать этими ветеранами, и тем не менее обязан был взять над ними верх. — Господа, я не собираюсь сваливать на кого-нибудь ответственность за армию. Я терпеть не могу военные советы. Но это не военный совет. Вы старше меня и обладаете большим опытом. Я буду рад выслушать вас. Массена, каково ваше мнение?
На худом, смуглом лице Массена, измученном усталостью и лишениями последних дней, не было и тени его привычной язвительности. Он был явно обеспокоен.
— Чёрт побери, генерал! — сказал он. — Тут двух мнений быть не может. Мы должны прорваться через эти горы, или у нас не останется солдат.
Ожеро тоже вставил слово:
— А может, не плясать вокруг этого Колли, а по правому берегу Танаро выйти прямо на Кераско?
Бонапарт сразу же поставил крест на этой идее:
— И позволить пьемонтцам беспрепятственно ударить нам в тыл и во фланг? Вы представляете себе, чем кончится такая атака для нашего голодного, недисциплинированного сброда? В этом случае мы также потеряем армию.
Ожеро мрачно кивнул крючковатым носом:
— Пожалуй, вы правы, генерал. Мы обязаны предпринять ещё одну атаку. Дьявольщина! Иного не дано...
— А вы, Серюрье?
— Я согласен, генерал. — Шрам придавал лицу Серюрье особенно мрачное выражение. — Надо вырваться отсюда. И как можно скорее. Но если мы хотим сражаться, то должны найти способ восстановить в армии дисциплину. — Приверженец старой школы был в ужасе от сегодняшней катастрофы. — Я предпочёл бы скорее отказаться от командования дивизией, чем вести в бой эту толпу бандитов.
«Толпа бандитов» была республиканской армией с революционными традициями свободы, равенства и братства. Свободы от моральных норм и равенства в праве каждого хватать то, что плохо лежит. Без добровольного и обоюдного согласия генералов было бесполезно и даже опасно издавать указы о суровых наказаниях, которых будет вполне достаточно, чтобы обуздать этих оборванных и голодных подонков. Само восстановление наказаний потрясёт их до глубины души.
Массена поднял голову.
— Я согласен! Именно мои негодяи напились в Дего и положили начало всему. — Ему тоже было на что сердиться. — Какой прок одерживать победы, когда эти негодные гуляки пускают их на ветер!
Хорошо! Сам дьявол порицал грех!
— А вы, Ожеро? Ваше слово...
Ожеро сморщил огромный нос.
— Я с удовольствием расстрелял бы сотню-другую своих парней, отбившихся от рук. У меня в строю нет и трети дисциплинированных солдат.
Бонапарт воспользовался этим единодушием.
— Очень хорошо! Все вы согласны, что при таком состоянии дисциплины невозможно извлечь выгоду даже из побед. Серюрье получил сегодня ещё одно кровавое доказательство нашей правоты. Значит, необходимы крутые меры. Так?
Все решительно кивнули.
— Отлично! — сказал Бонапарт. — Тогда, если никто не возражает, я предлагаю немедленно подготовить приказ по армии, что каждый — будь то офицер или солдат — застигнутый за мародёрством будет арестован и отдан под трибунал. Если его признают виновным, то он будет тотчас же расстрелян перед своей частью. Командир части несёт персональную ответственность за поведение своих подчинённых. Следует установить такой порядок и безжалостно соблюдать его. Вы согласны?
Все дружно согласились, и это доставило Бонапарту такую радость, как будто он одержал очередную победу над врагом.
— Значит, решено. Теперь перейдём к диспозициям на завтрашний день. Вы, Массена, наступаете справа от Ожеро. Вы, Ожеро, наступаете через Танаро с вашей сегодняшней позиции. Поскольку дождь прекратился, уровень воды должен снизиться. Вы обеспечите отряды переносными лестницами, чтобы люди могли карабкаться на крутые берега. Серюрье, вы тоже начнёте атаку с того места, на котором остановились...
Почти час он продолжал объяснять генералам план предстоящей операции. Он не сомневался в себе и щеголял уверенностью в успехе. В конце концов положение пьемонтцев было ничуть не лучше их собственного. Отступая в плохую погоду, они потеряли много людей только из-за болезней; ещё больше солдат разбежалось в ужасе перед стремительным наступлением французов. Так докладывали лазутчики. До сих пор пьемонтская армия так и не смогла собраться целиком. Позиции удерживало менее пятнадцати тысяч человек. Французы же могли противопоставить им двадцать тысяч. Одна решительная атака — и Колли будет разбит. Крепость в Чеве тоже падёт и перестанет угрожать им с тыла. Рюска уже наладил связь с революционно настроенными заговорщиками и другими их соотечественниками, которые были втайне на стороне французов. Весь Пьемонт только и ждал сигнала к началу якобинской революции. Ещё одна победа, и Пьемонт будет принадлежать им... со всем его изобилием. Колли держался за эту позицию только потому, что в Мондови находились склады. Они прогонят Колли и захватят их.
Генералы забыли о плохом настроении, их уныние как рукой сняло. Он смог взволновать их, воодушевить на завтрашний бой. С артиллерией или без неё, но они будут атаковать!
Близилась полночь, когда совет закончился и он в полной темноте поехал по направлению к Лезеньо.
Поднявшись на рассвете, он снова отправился на высоты Сан-Паоло и принялся всматриваться во вражеские позиции за Курсальей. Ожеро подъехал сюда одновременно с ним. В подзорную трубу Бонапарт разглядывал великолепные пьемонтские батареи. За ночь неприятель разрушил все мосты, включая и те два, которые находились перед Сан-Микеле. Река по-прежнему стояла выше обычного.
Только на крайнем левом фланге бригада Гюйо сохраняла контроль над хлипким пешеходным мостиком.
— Так вот вы где, генерал, — резко сказал Ожеро. Его тон граничил с грубостью. — Теперь вы сами видите, что без артиллерии нам не справиться. Придётся ждать орудий, нравится это нам или нет, иначе войска не двинутся с места. Мои бедолаги отказываются и пальцем пошевелить, пока их не накормят. И я не осуждаю их! Атаковать сегодня — это полное безумие.
Он и сам видел, что безумие. Но эта беспомощность, ставившая под угрозу всё его будущее, приводила Бонапарта в ярость. Неужели он никогда не выберется из этих проклятых предгорий? Однако форсировать реку без мостов и предварительной артиллерийской подготовки было невозможно. Придётся ждать орудия. Он уже приказал собрать все пушки в Лезеньо, но их не могли доставить туда раньше завтрашнего утра. Завтра! Ещё один день потерян! Нет, быстро подумал он, надо превратить неудачу в выигрыш. Он прикажет Массена продвинуться справа, перейти Танаро по ближайшему мосту, подтянет Лагарпа и сделает завтрашнюю победу более полной.
Он повернулся к Ожеро и решительно сказал:
— Хорошо, генерал! Завтра вы будете наступать с артиллерией. Приказ об этом вы получите из Лезеньо. Но времени мы не потеряем. Завтра я либо вытесню противника широким обходным манёвром, либо уничтожу его, если он останется на прежних позициях.
Ожеро не должен был догадываться об охватившей командующего тревоге. Бонапарт не имел права позволить, чтобы эта тревога овладела его разумом и помешала подготовке операций, которые обеспечат завтрашний успех. Ещё никогда в жизни он не оказывался в таком одиночестве. За исключением адъютантов, в этой армии у него не было ни одного друга. Банда изголодавшихся разбойников насмехалась над ним, считала его безрассудным и неопытным выскочкой, ввергнувшим их в авантюру, издевалась над его молодостью. Даже стихии ополчились против него. Он с жаром поклялся себе, что добудет победу — победу, от которой зависит его будущее. Он ещё покажет этим смеющимся и не верящим в него генералам. Он докажет это и Жозефине, казавшейся такой далёкой в своём Париже, Жозефине, которая тоже ещё не верила в него!
Глава 12
На рассвете он ездил смотреть, как стрелки перебирались через Курсалью, уровень которой со вчерашнего дня сильно упал. С противоположного берега не донеслось ни выстрела, хотя Колли, конечно, по-прежнему стоял на Ла Бикокке и в Сан-Микеле. Затем он возвратился в штаб-квартиру, располагавшуюся в Лезеньо. В половине восьмого утра обычный крестьянский дом наполнился офицерами и ординарцами. Солнце проглядывало и вновь пряталось за облака, бежавшие по апрельскому небу. Погода определённо улучшалась. Прибыла артиллерия. Гаубичная батарея занимала всю деревенскую улицу. Усталые пушкари чистили стволы орудий. Прискакал и старик Стенжель. Несмотря на жалкий вид его кавалерии, она могла отрезать дорогу на Турин, сделав победу окончательной. Теперь Колли попался в его когти. Сегодня пьемонтцы будут вдребезги разбиты. Им не удрать.
Массена, чуть позади которого должен был следовать Лагарп, предстояло форсировать Танаро и широким обходным манёвром охватить деревню справа. Ожеро, солдаты которого были обеспечены лестницами, должен был снова перейти реку и атаковать Ла Бикокку. Серюрье предстояло двигаться на Сан-Микеле левее, через Торре. Вчерашнее позорное бегство его дивизии станет только «прелюдией к победе». За ночь Бонапарт много написал ему, желая показать свою власть и предлагая на этот раз взять «блистательный реванш». Угрюмый, суровый, иногда слишком методичный вояка — конечно, этот старый генерал приложит все усилия, чтобы смыть мучительный позор; особенно после столь ловкого напоминания о конфузе. Все войска пришли в движение. Теперь Бонапарту не оставалось ничего иного, как ждать первых сообщений.
Вскоре, торопясь, вошёл Бертье — маленький, квадратный, в слишком роскошном мундире — и сообщил то; во что ещё сам не мог поверить:
— Генерал, пьемонтцы снова ушли! И Серюрье, и Ожеро докладывают, что ни в Сан-Микеле, ни на Бикокке нет и признаков врага!
Проклятье! Колли, конечно, был мастером по части отступлений. Как ловко он выскользнул из сдавивших его клещей! Но куда он ушёл? Возможно, на северо-запад, на какие-нибудь позиции возле Карру, прикрывавшего дорогу на Турин. Если он решился бросить Мондови на произвол судьбы, то, значит, полностью или частично очистил его склады. Тогда у французов будет немного времени, чтобы перехватить хотя бы несколько обозов. Он кликнул секретарей и продиктовал приказ Серюрье двигаться прямо на Мондови и заставить крепость сдаться. Другой приказ он отправил Массена: идти вперёд по направлению к Карру в поисках неприятеля и немедленно доложить, как только враг будет обнаружен. До тех пор, пока Бонапарт точно не узнает, где находится Колли, он не будет менять позиции и останется здесь. Досадно. Даже более чем досадно! Он беспокойно метался по комнате: Если бы только у него была быстрая и предприимчивая кавалерия!
Через полчаса галопом прискакал другой штабной офицер и сообщил, что Колли не отступал на Карру. Он вывел свои войска прямо на запад и, по-прежнему прикрывая Мондови, собирался занять позиции на высотах перед ней — последних горных отрогах перед равниной. Как заявил офицер, пьемонтцы ещё не пришли в себя после отступления и только собираются расположиться на этих высотах. Если бы он мог действовать достаточно быстро, то захватил бы их врасплох! Волнение охватило его. За ними! За ними! Серюрье и Ожеро должны как можно скорее двинуться прямо вперёд и начать атаку сразу же, как только встретят врага. Массена должен круто повернуть к Бриалье на левом фланге пьемонтцев.
Он искал на карте командную высоту, с которой мог бы руководить сражением, нашёл её, попросил подать лошадь, созвал адъютантов и эскорт и наспех дал несколько последних инструкций начальнику штаба. Бертье он оставил в Лезеньо.
Галопом он помчался из этой бедной деревушки, перебрался через Курсалью по шаткому мостику, который передовые отряды навели наспех в то утро, и направился вверх через плато Ла Бикокка, на котором ещё тлели бивачные костры противника. Если бы успеть захватить Колли до того, как медлительные пьемонтцы займут оборонительные позиции! Но едва ли это удастся... Далеко впереди слева слышался слабый треск одиночных выстрелов. Затем от деревни Вико, церковь которой вздымалась над этими нагорьями, внезапно донёсся шум боя.
Наконец он достиг своего наблюдательного пункта, находившегося на пересечении двух горных отрогов. Здесь стояла старая молочная ферма — двухэтажный деревянный дом с примыкавшими к нему коровьими стойлами, окружённый высокой стеной. Бонапарт соскочил с лошади, в сопровождении адъютантов вошёл в дом, обитатели которого ёжились от страха, и поспешил на второй этаж. Да, с этого места было видно все поле боя. Перед ним открывалось широкое пространство, занятое невысокими, но крутыми холмами, склоны которых, превращённые в многоступенчатые террасы, были сплошь засажены виноградом. Прямо перед ним на вершине холма подозрительно одиноко высилась крепость Мондови, похожая на корону. Справа от неё раскинулась деревня Бриалья, к которой должен был подойти Массена. Через плато Ла Бикокка маршировала бригада Ожеро. Слева находилась деревня Вико, где одна из бригад Серюрье уже вела ожесточённый бой. К югу от Мондови тянулся гребень — заметно более высокий, чем все остальные. Определив по карте, что он называется Брикетто, Бонапарт понял, что это самое сильное место в обороне пьемонтцев. Там суетились солдаты, поспешно возводившие брустверы.
Среди ближних холмов шло беспорядочное сражение. Французы атаковали в рассыпном строю, и везде им удавалось захватить пьемонтцев врасплох. Некоторые части противника ещё находились в походном строю, другие только формировались и не успели развернуться в боевой порядок. Несколько батальонов, пытавшихся оказать сопротивление, было тут же смято. На само сражение ушло гораздо меньше времени, чем на то, чтобы добраться до поля боя. Он заметил, что деревня Вико была взята. Какая-то батарея — конечно, французская — изрыгала клубы дыма поблизости от большой церкви с огромным барочным куполом — знаменитой Сантуарио, располагавшейся в низине под Вико. Защитники деревни беспорядочно отступали к гребню Брикетто. Очевидно, там Колли собирал остатки своей развалившейся армии, готовясь построить последнюю линию обороны. К Брикетто уже подступали колонны Серюрье.
В подзорную трубу он чётко видел гребень, видел, как пьемонтская пехота бегом занимала позиции на засаженных виноградниками террасах, как пьемонтские батареи быстро поднимались наверх. Бежавшие из Вико толпились среди этих формирующихся отрядов. Он видел, что большинство солдат, не обращая внимания на своих офицеров, отчаянно размахивавших шпагами, продолжали бегство. На всём протяжении поля большая часть пьемонтской армии беспорядочно отступала к Мондови. Крепко держались только те, кто был на Брикетто. Неожиданно гребень холма окутался дымом. До его ушей донёсся грохот орудий и яростный треск ружей. Серюрье начал атаку.
Это наступление разворачивалось у него на глазах. Две колонны Серюрье двигались вперёд необыкновенно чёткими и стройными рядами. Серюрье использовал кое-что из построений старой школы и решил сегодня не полагаться на случай. Колонны начали подниматься с разных концов холма, гоня перед собой остатки пьемонтской пехоты. Атака развивалась медленно. С террас один за другим гремели залпы. Пьемонтские батареи стреляли так часто, что едва успевали перезаряжать орудия. Французские колонны медлили, колебались, и как только пьемонтцы переходили в штыковую атаку, поворачивали и скатывались к подножию холма.
Он смотрел на извилистую линию пехоты Серюрье, окаймлённую дымом выстрелов. Замешательство недопустимо! Каждая потерянная минута означала, что ещё одна часть армии Колли благополучно ускользнёт от них. Он послал к Серюрье офицера с приказом немедленно начинать вторую атаку.
Одновременно он направил приказ Стенжелю, находившемуся со своей кавалерией далеко на севере. Тому следовало перейти реку Эллеро, протекавшую мимо Мондови, обойти крепость, снова форсировать реку и ударить в самый центр беспорядочной массы войск, скопившихся за Брикетто, что вызвало бы среди пьемонтцев ещё большую панику.
Тем временем Серюрье методично собрал всю артиллерию, которую мог найти, и разместил её среди виноградников напротив Брикетто. Его орудия уже били по пьемонтским батареям на гребне. За исключением бригады, занимавшей левый фланг и пытавшейся обойти упрямых защитников гребня, каждый французский батальон, находившийся на этом участке поля, собирался для новой атаки. И снова, окутанные клубами дыма, колонны двинулись наверх. Они достигли вершины, на которой встретили яростное сопротивление. Их начали теснить. Завязался рукопашный бой. И всё же французы потеснили врага и вновь начали подниматься вверх, пока наконец гребень холма не покрылся только голубыми мундирами. Пьемонтцы скатились по противоположному склону.
Из цитадели, возвышавшейся над городом, крепостные орудия открыли яростный огонь по занятому французами склону Брикетто. Несколько пьемонтских полевых орудий было брошено отступающими на самом гребне, но поблизости не нашлось ни одного французского артиллериста, чтобы использовать их. Бонапарт оглянулся на небольшую группу своих адъютантов, находившихся с ним на верхнем этаже дома, и увидел Мармона, который присоединился к нему всего несколько дней назад. Мармон, его старый друг, был артиллерийским офицером. Он кивнул ему, и тот, стремглав бросившись к лошади, поскакал по направлению к Брикетто. Бонапарт только что видел, как французская пехота поднимала и поворачивала лафеты этих пьемонтских пушек и пыталась стрелять. Маленькие облачка дыма вздымались над городскими домами, куда попадали выпущенные ими ядра.
Между гребнем Брикетто, захваченным французами, и холмом, на котором находилась крепость Мондови, лежала равнина, сплошь заполненная толпами отступавших пьемонтцев. Все они бежали к мосту Брео, пересекавшему реку Эллеро под самым склоном холма. Французские колонны разрезали на части эти беспорядочные толпы. Вдали были видны вереницы повозок: Колли эвакуировал склады. Никаких признаков приближения кавалерии Стенжеля не наблюдалось...
Всё закончилось. Это сражение было выиграно легко, но отняло много времени. Кончался третий час дня.
На Брикетто, усеянном мёртвыми и ранеными, устланном разбитыми пушками и сломанными мушкетами — всем, что оставляет после себя ожесточённое сражение, — его нашёл посланец Серюрье. Оказалось, что охваченный паникой город Мондови прислал двух представителей, которым было поручено найти победоносного главнокомандующего и уговорить его пощадить не столько город, сколько особо почитаемую в этой местности церковь Сантуарио в Вико. Один из посланцев добрался до Серюрье, и тот направил своего адъютанта, капитана Рено, с письмом к городским властям и гарнизону крепости с требованием немедленной и безоговорочной капитуляции. Однако Колли, вступивший в этот момент в город вместе с потоком отступающих, арестовал капитана Рено, отказываясь признать его парламентёром. Одновременно Колли приказал закрыть все городские ворота.
Выслушав офицера, Бонапарт нахмурился и заговорил резко и властно. Он не собирался терпеть подобные оскорбления от каких-то пьемонтцев.
— Поезжай в Мондови и потребуй немедленной сдачи... или я предам всех огню и мечу!
Офицер мгновенно исчез. Внизу, в долине, смолкли последние выстрелы. Везде стояла непривычная после столь шумного дня тишина. В подзорную трубу он видел белый платок своего парламентёра, поднявшегося к воротам города и скрывшегося за ними.
Прошёл час. Пушки крепости больше не стреляли, но его парламентёр не появлялся. Далеко слева от Мондови остатки армии Колли устремились за реку Эллеро. (Что могло случиться со Стенжелем и его кавалерией?) Бонапарт по-прежнему видел вражеские войска на бастионах крепости. Потеряв терпение, он выругался. Командующий гарнизоном в Мондови тянул время, зная об обозах, и отступавшие части Колли теперь успевали отвести их. Бонапарт подъехал к батареям, которые Мармон только что привёз на Брикетто, и велел как следует обстрелять город, чтобы вызвать у жителей Мондови панику.
Орудия сняли с передков, развернули и подготовили к стрельбе. Артиллеристы поднесли запалы. Пушки загрохотали, подпрыгивая на лафетах. Ядра с пронзительным воем полетели из стволов по высокой траектории. В Мондови послышались взрывы, за стенами стали подниматься облака пыли, а затем — столбы густого дыма, когда дом загорался от прямого попадания. Он мог представить себе, как устрашённые жители собираются в толпы и требуют сдать город. Равномерно, методично французские батареи посылали свои снаряды в направлении города. Парламентёр по-прежнему не появлялся.
Бонапарту оставалось только ждать. Вокруг него валялись убитые. Между трупами ползали раненые, пытались приподняться, и их стоны сливались в привычный хор с жалобными просьбами воды и помощи. Ухоженные виноградники на террасах были теперь разорены, разворочены, превращены в сплошное месиво. Какая таинственная судьба привела этих несчастных солдат к увечьям и смерти? Наступил их срок. Скоро их забудут, как если бы они никогда не существовали. Человечество быстро вырастит им на смену мириады таких же одинаковых и таких же лишних людей. Значение имели только немногие, обладавшие яркой индивидуальностью. Остальные были стадом ничего не понимающего, погоняемого хозяином скота. И было бы непростительной слабостью испытывать к ним жалость. Он должен закалить себя, держать нервы в повиновении. Не он развязал эту войну, не он нёс за неё ответственность. Он только старался вести её как можно успешнее. Судьба предназначила его для этого.
Он снова направил подзорную трубу на холм Мондови. Ах! Он увидел, как над крепостью спустился пьемонтский флаг и на его месте затрепетало белое полотнище. Он приказал батареям прекратить огонь. Из ворот крепости вышла небольшая процессия: городские власти. Мондови сдался! Была половина седьмого вечера.
Пришпорив лошадь, он направился к ним навстречу, проезжая сквозь толпы своих победоносных войск. Солдаты размахивали шляпами, потрясали мушкетами и радостно приветствовали его, воодушевлённые последней новостью. «Да здравствует генерал Бонапарт! Да здравствует Республика!» Пожалуй, впервые они выкрикивали его имя. Это было приятно. Возможно, они начинали верить в него! Он ответил им, размахивая треуголкой: «Да здравствует Республика!»
Пробившись сквозь горланящую солдатню, к нему галопом подскакал Саличетти.
— Победа, Бонапарт! Мои поздравления! Наконец-то мы спустились с этих проклятых гор!
Оба перевели лошадей на рысь и поехали бок о бок. Саличетти явно испытывал облегчение.
— Я уж было начал подумывать, что тебе это окажется не по зубам, — злобно улыбнувшись, сказал он, — и тогда конец всем нашим желаньям, верно? Мне это было бы чертовски обидно. Я предпочитаю Парижу Италию. Золотая страна!
Да, он мог себе представить, как беспокоился Саличетти: если бы Бонапарт потерпел в этих предгорьях поражение, тот в какой-то степени нёс бы за это ответственность. Обязанностью комиссара Директории было следить за тем, как командующие выполняют инструкции правительства; они же оказались здесь вопреки этим инструкциям. Причём он заранее спланировал это неповиновение. Саличетти был достаточно хитёр, чтобы почувствовать, куда дует ветер. Обмена доверительными разговорами, весьма рискованными в этой ситуации, не потребовалось. Саличетти волновало только одно: попасть в Италию и поскорее загрести сокровища. Комиссар и не хотел ничего знать. Если им будет сопутствовать успех, всё будет хорошо. А если не будет — он всегда сможет отпереться. Этот Саличетти был настоящим мерзавцем. Никогда Бонапарт не станет ему доверять.
Они остановились у подножия холма Мондови, чтобы встретить спускающуюся процессию. Бонапарт ясно различал членов городского совета в богатых одеяниях и двух церковных лиц, облачение которых говорило об их высоком сане. Все они явно удивлялись молодости генерала. Он должен был являться для них олицетворением дьявола. Священники, наверно, с радостью окурили бы его кадильницами и окропили бы святой водой...
Мэр города вышел вперёд, опустился на одно колено и, раболепно заикаясь, протянул городские ключи. Бонапарт испытал острое наслаждение. Впервые в жизни ему вручали ключи от города! Но он сохранил достоинство и не улыбнулся даже Саличетти. Молодой триумфатор, великодушный и столь же непреклонный, успокоил дрожавшего от страха мэра. Город будет пощажён и все его жители тоже. По крайней мере до тех пор, пока будут выполняться его приказы.
Ему представили священников. Это были викарий епископа и настоятель кафедрального собора. Они смотрели на него как на дьявола с рогами и хвостом, воплощение атеизма Революции, уничтожающего церковь. Смиренно, робко они просили его позволить свободно отправлять религиозные обряды и признать священное право частной собственности. С той же благосклонностью, говоря на своём родном итальянском языке, он обещал им это. Проявляя милосердие, он чувствовал, что наступил самый прекрасный и патетический момент военной драмы.
Коротким галопом спустился с холма парламентёр и привёз условия военной капитуляции. Сам Колли скрылся, оставив в городе довольно большой гарнизон. Этот гарнизон сдавался безоговорочно — полк пьемонтских гвардейцев, два других полка, множество крепостных артиллеристов и несколько графов в чине полковников — такой-то, такой-то и такой-то. Их перечисление великолепно украсит отчёт для Директории. Поборникам республиканского равенства очень нравилось, когда в списке пленных находилось несколько титулованных особ.
Когда в сумерках к воротам города подходили его оборванные батальоны, которых теперь было легко превратить в отборные войска, оркестр торжественно исполнил «Марсельезу». Саличетти, как представитель французского правительства, ехал рядом с ним. Въезд в захваченный город был поистине триумфальным.
Как только Бонапарт миновал ворота и оказался на узкой улице, которая вела к площади, толпы горожан, размахивавших кто чем мог, приветствовали его. Несомненно, среди пьемонтцев было немало сторонников якобинской революции, видевших во французах своих освободителей, способных полностью изменить их жизнь. Саличетти и Фейпу, находившийся в Генуе, имели много секретных агентов, которые действовали по всей стране и поддерживали с ними связь. Однако большинство шумно приветствовавших его людей было крайне напугано и унижалось перед ним просто из страха. Трусы! Трусы! Почти все люди трусливы. Стоит их припугнуть как следует, и они готовы приветствовать самого чёрта...
На большой площади, окружённой старинными готическими зданиями, был выстроен пьемонтский гарнизон для официального акта сдачи. Его возглавлял седовласый комендант крепости — генерал граф Деллеро ди Кортеранцо. Опытный воин, аристократ, он едва мог скрыть свои страдания, вызванные этим унижением. Держась благородно, что чрезвычайно смутило старого вельможу, который ожидал увидеть перед собой разбойника санкюлота[34], Бонапарт вернул графу его шпагу.
Время торопило. Бонапарт вошёл в городскую ратушу вместе с важными гражданскими лицами, безудержно льстившими ему. В зале заседаний генерал повернулся к ним лицом.
— Синьоры, я пощадил вас и не отдал город на разграбление, — сказал он и жестом погасил не в меру бурные выражения благодарности. — Но вы должны немедля начать снабжение моей армии всем необходимым. В течение двух часов жители Мондови должны сдать оружие, амуницию, запасы провизии и другое имущество, принадлежащее пьемонтской армии. Любой гражданин, утаивший что-либо из перечисленного, предстанет перед трибуналом и будет обвинён в краже имущества Французской Республики. Вы получите отпечатанные листовки с указом и расклеите их по всему городу. Доброй ночи, синьоры.
Бонапарт стремительно вышел из ратуши, сел на коня и выехал из города в направлении Лезеньо.
Чувство довольства и огромного облегчения, казалось, изменило весь его мир. Он мчался галопом, а за ним скакали весело смеявшиеся офицеры свиты.
Он спустился с этих нищих предгорий! Теперь его солдаты будут сполна обеспечены продовольствием! Армия Колли разбита, от неё не осталось и следа. Теперь надо двигаться к Турину. Если бы можно было так же запугать глупого, старого короля Пьемонта, заставить его прекратить военные действия и подписать мир, он достиг бы исполнения своей мечты. Будет ли Жозефина гордиться своим мужем и хвастаться им в Париже? Ему нужно больше. Она должна приехать к нему, и как можно скорее. Смешно было только рассказывать о ней своим генералам. Но как добиться этого? Жозефина! Жозефина!
Только одна новость омрачала этот великолепный день. Когда Бонапарт приехал в Лезеньо, Бертье сообщил ему, что старик Стенжель убит. Он погиб, ведя один из своих никудышных эскадронов в рукопашный бой с пьемонтской кавалерией. Эта потеря была невосполнима. Стенжель был единственным хорошим кавалерийским офицером на всю армию. Храбрый воин, он также был изумительным мастером разведки. Вчера по прибытии в Лезеньо старый гусар преподнёс блестящий урок того, как кавалерийскому офицеру следует собирать сведения о противнике. Он перехватил на почте несколько писем и перевёл их, допросил почтмейстера, священника и крестьян, разослал лазутчиков, нашёл проводников, исследовал броды, дороги, ущелья, разыскал еду и хорошую питьевую воду. Несмотря на то что штаб находился в деревне уже двадцать четыре часа, никому не пришло в голову сделать всё это. Нелегко будет найти замену этому близорукому, ворчливому старику Стенжелю...
Но зато он спустился в долину! Сегодня вечером у его солдат праздник. Если армия Колли и не полностью уничтожена, то полностью сломлена. Болье, находившийся за много миль отсюда, не в состоянии вмешаться.
Он начал составлять доклад для Директории.
«Я должен сообщить вам о захвате Чевы, о сражении у Мондови и нашем вступлении в этот город...»
Он ничего не сообщит ни о провалившейся атаке на Чеву, цитадель которой не сдалась до сих пор, ни о ещё более ужасном бегстве Серюрье из Сан-Микеле — или сведёт неудачи к ничего не значащему пустяку. Он нарочно спутает даты всех операций с тем, чтобы рассказать этим парижским дуракам красивую сказку.
Глава 13
Прошло три дня, и наступило пятое флореаля. Он находился в убогой деревушке Карру, в которую вчера перевёл свой штаб. Его войска, приближаясь к Турину, вышли на дорогу, которая вела к столице Пьемонта с юга. Сейчас он писал своё обычное ежедневное письмо Жозефине — писал, как всегда, торопливо и неразборчиво. Курьера в ближайшее время не предвиделось, но Жозеф, отправлявшийся в Париж, должен был захватить письмо с собой.
«Моей нежно любимой.
Это письмо тебе передаст мой брат. Я питаю к нему самые сердечные чувства и надеюсь, что он завоюет твоё дружеское расположение — он того стоит. (Тем не менее все его родные были крайне враждебно настроены против скоропалительного брака Наполеона с женщиной, которую они считали экстравагантной парижской искательницей приключений; если бы он смог склонить Жозефа установить с ней хорошие отношения, это сильно помогло бы делу). Природа наделила его мягким и неизменно добрым характером; он сплошь состоит из одних положительных качеств. Я пишу Баррасу, чтобы тот назначил его консулом в какой-нибудь итальянский порт. Он испытывает желание жить со своей жёнушкой вдали от суеты и суматохи. Рекомендую его тебе.
Я получил твои письма от шестнадцатого и двадцать первого. Ты уже много дней мне не писала. Чем же ты тогда занимаешься? Да, мой дорогой друг, я не ревнив, но иногда беспокоюсь. Приезжай скорее. Предупреждаю тебя: если ты задержишься, то застанешь меня больным. Постоянные тяготы и разлука с тобой — всего этого чересчур много для меня.
Твои письма скрашивают мои дни, а радостные дни выпадают нечасто. Жюно везёт в Париж двадцать два знамени.
Ты должна приехать с ним, понимаешь? Непереносимым ударом судьбы, безутешным горем, бесконечной болью будет для меня узнать, что он возвращается один. Мой обожаемый друг, он увидит тебя, будет дышать тебе в висок; возможно, ты даже одаришь его несравненной, бесценной милостью и позволишь поцеловать себя в щёку, а я — я буду один, и очень далеко. Но ты приедешь вместе с ним, ведь правда? Ты будешь рядом со мной, на моей груди, в моих объятиях, мои губы будут касаться тебя. Прилетай! Прилетай! И отправляйся налегке. Дорога длинная, плохая и утомительная. Если экипаж опрокинется или тебе суждено будет заболеть; если усталость... Приезжай со всеми удобствами, мой друг, и будь со мной почаще в своих мыслях. Я получил письмо от Гортензии. Она очень любезна. Я собираюсь написать ей. Я очень её люблю и скоро пришлю духи, которые она хочет иметь...
Целую твоё сердечко, затем немного ниже и ещё гораздо ниже!
Б.
Не знаю, нуждаешься ли ты в деньгах, поскольку ты никогда не сообщаешь мне о своих делах. Если нуждаешься, ты могла бы попросить немного у моего брата. У него сто моих луидоров.
Б.
Если у тебя есть кто-нибудь, кому нужна служба, можешь прислать его ко мне. Я найду ему место».
Эта неутомимая страсть к Жозефине часто посещала его во сне и терзала в часы пробуждения. При всей напряжённости его внешней жизни Бонапарт чувствовал, что его существование без неё бессмысленно. Иногда ему казалось странным, что эта женщина смогла так завладеть его душой. Воспоминания о её прикосновениях и ласках, о её стройном и чувственном теле, о её томной, полной очарования улыбке доходили до галлюцинаций. Он был от неё так далеко! Разделявшее их расстояние превращало Жозефину в отвлечённый идеал самой женственности, идеал, который он постоянно носил в душе. Она представлялась ему слабым и нежным созданием, единственным в своём роде воплощением женской сущности и всех связанных с этим чувств. Других женщин для него не существовало.
Не было мига, когда бы он не думал о Жозефине. Его душа была полна решимости покорить эту так любившую сдаваться женщину своим триумфом, который должен был поразить её, триумфом, который последует за этим бесконечно трудным утверждением его власти над ордой разбойников, называвшейся его армией, который последует за невероятно тяжёлым решением о наступлении на Пьемонт. Наступление завершится капитуляцией противника, ужаснёт королевский двор в Турине и откроет ему путь в Италию.
У него были заботы и другого рода. Его брат Жозеф должен был не только передать письмо Жозефине. Он вёз с собой пакет с сопроводительной запиской, адресованный Директории. От успеха этой миссии зависело теперь всё его будущее. Он отчётливо сознавал всю шаткость своего положения. Бонапарт не мог заранее знать, какой эффект произведут его довольно незначительные победы «местного значения», о которых он не без преувеличения рапортовал в высокопарных сводках. Одновременно с докладом Жюно должен был представить Директории вместе с двадцатью одним знаменем (а не с двадцатью двумя, как он писал Жозефине) трофеи, добытые в результате этих побед. Бонапарт затеял опасную игру. Он, один из самых молодых генералов, командовавших армиями Республики, был чуть ли не единственным, кто смел отвергать прямые указания правительства и собирался потребовать, чтобы в будущем ему предоставили полную свободу действий.
Но всё же он по-настоящему боялся того, что могли сделать эти ревнивые парижские политики. И хотя он намеревался представить Директории все события как свершившийся факт, который уже невозможно изменить, приказ об отходе на прежние позиции был бы для него катастрофой. Тонко, едва заметно он играл на психологии этих жадных карьеристов, по воле случая составивших правительство. Он начнёт на них наступление первым и, если понадобится, добьётся поддержки самых широких слоёв общества. Ещё одно письмо Жозеф вёз военному министру — письмо, которое можно будет в случае необходимости счесть всего лишь «неосторожным» — с жалобами на то, что правительство ради него палец о палец не ударило, что оно не послало ему артиллерию, которую он запрашивал, что отсутствие поддержки компрометирует «республиканскую армию», что из-за этого он потерял «храброго Стенжеля» и теперь его «сдерживает расположившаяся на равнине вражеская кавалерия, гораздо более многочисленная и оснащённая лучшими лошадьми, чем конница Итальянской армии». Поэтому все военные успехи с тех пор, как Республика одержала победу у Монтенотте, были достигнуты только благодаря его гению и вопреки политике правительства. Несомненно, в Директории прочтут это письмо и почувствуют таящуюся в нем угрозу. С другой стороны, намеренно краткий доклад будет доставлен Жюно вместе со знамёнами, «четыре из которых принадлежат королевской гвардии Сардинии»; это не сможет не польстить им. «Французская армия в Италии преподносит вам эти знамёна как свидетельство её отваги и поручает мне заверить вас в её преданности конституции и правительству, которое крепкой рукой держит в подчинении все клики, раздирающие нашу страну на части». Им не нужно бояться (как он презирал их!) его политического честолюбия. Они могут продолжать безнаказанно грабить страну до тех пор, пока не станут ему мешать.
Сопроводительная записка к докладу, посланная с Жозефом, была уклончиво краткой. В этом заключалась вся суть дела.
«Исполнительной Директории.
Штаб-квартира, Карру,
5 флореаля IV года.
Я посылаю вам предложение о приостановке военных действий, сделанное мне пьемонтским генералом, и прилагаю к нему ответ, который я дал. Надеюсь, что он совпадает с вашими намерениями.
Предложение о приостановке военных действий сроком на один месяц с условием, что мы остаёмся хозяевами всего, что завоёвано нашей армией, и получаем вдобавок к этому — для большей гарантии — две крепости, выгодно Республике. За это время я успею захватить всю оккупированную австрийцами Ломбардию вплоть до Мантуи и выдворить Болье из Италии.
Я посылаю моего брата Жозефа в качестве курьера с этой корреспонденцией в соответствии с принятым порядком, чтобы вы могли сообщить ему о ваших намерениях относительно изложенного.
Бонапарт».
Брат Жозеф также переговорит с Жозефиной и её влиятельными друзьями, встретится с людьми из газет. Если бы он выполнил это, весь Париж загудел бы от разговоров о его победах. Во всяком случае (Бонапарт мрачно улыбнулся про себя), перемирие с Пьемонтом будет подписано раньше, чем любой приказ о прекращении военных действий против пьемонтцев достигнет его; тем временем он уже будет на пути к новым победам.
Накануне рано утром, когда Бонапарт был в Лезеньо, до него дошли предложения Колли, из которых он узнал, что король Сардинии послал в Геную полномочных представителей для переговоров о мире при посредничестве Испании, предлагая тем временем прекратить военные действия либо на неопределённое время, либо на месяц, «чтобы избежать ненужного кровопролития». Бонапарт заставил Колли прождать целый день, пока не добрался до Карру, а затем написал ему ответ — подобающе скромный, но не имевший никакого отношения к сути дела. «Исполнительная Директория оставляет за собой право вести переговоры о мире; следовательно, вашему уполномоченному необходимо ехать в Париж или ожидать в Генуе приезда представителей французского правительства». Что же касается прекращения военных действий, то он заявил следующее: «ввиду неясности исхода переговоров» он не может отказываться от преимуществ занимаемых им позиций и останавливать продвижение войск. Тем не менее, если бы две из трёх крепостей — Кони, Тортона или Алессандрия — были переданы ему, он бы приостановил военные действия до тех пор, пока не определится исход переговоров. Колли отказался взять на себя ответственность за передачу этих двух крепостей: ещё оставалась надежда на то, что австрийцы во главе с Болье смогут прийти на помощь своим союзникам — и поэтому просто передал ответ французской стороны своему правительству.
Очень хорошо. Бонапарт зловеще улыбнулся и двинул свои войска вперёд, принуждая Колли к дальнейшему отступлению. Через своих шпионов в Турине он точно знал, что происходило в пьемонтском правительстве. Король и его министры пребывали в панике. Надо было только усилить нажим. Королевство, подточенное тайными якобинскими организациями, поддерживаемыми и субсидируемыми Парижем, могло в любой момент рухнуть под напором Революции. Двор слишком хорошо сознавал это. Независимо от того, будет ли пьемонтская монархия сметена восстанием или спасётся, предав союзников, он был твёрдо настроен вывести Пьемонт из войны, самому захватить эти крепости и обеспечить тыл для наступления на австрийцев в Ломбардии.
Бонапарт приоткрыл дверь комнаты и позвал простодушного Жозефа. И всё же он всегда с почтением относился к старшему брату, который номинально являлся главой их семейного клана.
— Извини, что заставил тебя ждать, Джузеппе. Ты готов ехать?
Жозеф был не в духе. Вопреки привычке ему пришлось подняться очень рано — на рассвете.
— Да. Жюно уже ждёт в экипаже. А я битый час слоняюсь без дела. Ты наконец закончил свои письма, Малыш?
— Все они здесь, в дорожной сумке. Мне надо было написать так много... Только передай письмо Жозефине сразу, как только приедешь, ладно? А когда будешь разговаривать с Директорией, не забудь почаще упоминать о тех миллионах, которые я скоро пришлю им.
Жозеф широко улыбнулся.
— Хорошо, Малыш. Я попытаюсь запомнить то, что ты сказал, хотя от всего этого у меня гудит голова. Ты чертовски умён. Я не могу понять и половины твоих замыслов, но полагаю, ты знаешь, что делаешь. Не откусывай больше, чем сможешь проглотить. И не дай себя убить.
Бонапарт улыбнулся.
— Ничего не бойся, братец. Со мной случится только то, что на роду написано. Передавай привет маме и девочкам, когда увидишь их в Марселе. Счастливого пути! — Они по-братски обнялись на прощание. — И постарайся настоять, чтобы Жозефина приехала вместе с Жюно!
Когда они направились к двери, Жозеф засмеялся.
— Ты без ума от этой женщины, Малыш. Должно быть, она колдунья. Не забыть перекреститься от дурного глаза, когда войду к ней! — Он снова засмеялся. — Я не сомневаюсь, что она очаровательна. Всё, что ты рассказывал о ней, подтверждает это. И я сделаю то, что в моих силах, чтобы убедить её приехать. Но я ни за что не поверю, будто светская дама может считать поле сражения более подходящим для себя местом, чем Париж.
Бонапарт оставался непреклонен.
— Я настаиваю, чтобы она приехала, брат! Она должна приехать! И скажи ей, что к её приезду я уже буду в Милане.
Жозеф покровительственно похлопал его по спине.
— Ты всегда считал, что вишни за стеной соседского сада в твоих руках, мой дорогой. До Милана ещё далеко. Но Бог с тобой! До свидания!
Жозеф сел в экипаж, где уже находился молодой и красивый Жюно, прихвативший все неприятельские знамёна. Прощание закончилось; Жюно был взволнован мыслями о том, что ему предстояло увидеть и сделать в Париже.
— До свидания, мой генерал! — весело крикнул Жюно. Он радовался поездке. С каким важным видом он будет расхаживать среди столичных дам! Сколько любовных побед он одержит! — Удачи! К новым победам!
Форейторы щёлкнули кнутами. Экипаж покатился по убогой деревушке, мимо утопавших в грязи домов. Какие-то оборванные солдаты прокричали вслед путешественникам несколько непристойных шуток. Не грешно посмеяться над этими важными шишками из начальства армии Республики.
Он с тоской наблюдал за тем, как экипаж удалялся и наконец исчез за поворотом дороги, которая вела в далёкую Савону и ещё более далёкую Францию. Они увидят Жозефину!
Однако пора было ехать на встречу с Массена, который продолжал теснить пьемонтцев к крепости Кераско.
Он приказал подать лошадь и кавалерийский эскорт для сопровождения.
Погода опять испортилась, затрудняя продвижение его войск. Он поскакал по изрытой колеями, залитой водой дороге вдоль живой изгороди из распускавшегося по весне кустарника. Местность была ровной как стол. Далеко слева и позади едва проглядывались горы с висевшими над ними серовато-белыми облаками. Как хорошо было оказаться на этой равнине, хотя его проклятая кавалерия не шла ни в какое сравнение с прекрасной пьемонтской конницей! Необходимо было найти для кавалерии нового командира, которому можно было бы доверить повести её в разведку, а потом и в атаку, командира, который сам бы бросался впереди всех на врага, а не занимался бы оправданными военной наукой ретирадами. Какая жалость, что убили старого Стенжеля, хотя старик и не любил его и даже несправедливо обвинял перед смертью в своей гибели. Никто в этой армии не любил его, за исключением близких друзей. Правда, некоторые начинали уважать его и считать, что он был вовсе не глуп.
На дальних полях блуждали солдаты. Мародёры! Он нахмурился. Все его усилия не могли остановить это зло, тем более непростительное, что город Мондови хотя и неохотно, но исправно снабжал его армию всем необходимым (в счёт контрибуции он получил также миллион наличными). Однако теперь эти разбойники грабили всех подряд с ещё большей жестокостью, чем делали это в горах. Кишевшее вокруг армии воронье скупало их трофеи за гроши и Подбивало на новые грабежи. Не было в окрестностях ни одной деревни, ни одного дома, которые не подверглись бы разграблению, порой проходившему с такими ужасными зверствами, что это, как написал он в докладе Директории, «заставляло его краснеть за человечество». В Дикой Охоте за наживой войска рассыпались по всей захваченной территории. Он перепробовал всё: приказы, расстрелы, воззвания к этим бандитам, вызывавшим злобу и презрение у более стойких к искушениям товарищей, которых было меньшинство, но которые тем не менее всегда оставались на своём посту и выносили всю тяжесть сражений. Он ничего не мог поделать с этой ордой разбойников, оправдывавшихся тем, что им обещали отдать Италию на разграбление. А теперь они находились в Италии. Возможно, это был его промах.
Он подъехал к убогому селению, из которого доносились крики и жалобные вопли. Перед одним из домов стояла повозка, на которой сидела отвратительного вида женщина — одна из тех старых ведьм, которые вечно увязываются за армией. Повозка была уже доверху нагружена разной домашней утварью. Трое солдат, застряв в дверях, протаскивали через них кровать. Две растрёпанные крестьянки, истошно вопя, старались помешать им. Женщина на повозке смеялась.
— Порядок, ребята! Держите кровать крепче! Я дам вам за неё бутылку коньяку! — Она оглянулась и, увидев генерала с эскортом, неожиданно закричала совсем другое: — Эй, ребята! Бегите в поле! Это замухрышка! Это Бонапарт!
Как следует стегнув своего осла, она пустилась наутёк. Солдаты бросили кровать и побежали в поле. Крестьянки, вцепившись в уздечку его коня, из последних сил причитали:
— Синьор генерал! Ради Бога, защитите нас от этих солдат. Они утащили из дома всё, что только можно. Даже распятие со стены украли!
Бонапарт послал часть эскорта в погоню за старухой, а другую — на поле, за убегавшими солдатами. Ждать, пока тех доставят назад, пришлось недолго. Старая карга на повозке поносила его непристойной бранью. Она следовала за армиями во всех революционных кампаниях. Теперь она вопила, что никто и никогда не мешал ей, кроме этого проклятого сопляка-генерала. Он ничем не лучше какого-нибудь аристократишки! Небось его жена — эта потаскушка, от которой Баррас избавился, — сплавив его в армию, крепко наставляла ему рога в Париже!
Насмешки этой жалкой старой гадины задели его до глубины души. Из каких слухов она черпала эту мерзость? В армии не место сплетням. Старуха продолжала бесноваться. Он сурово приказал двум офицерам из эскорта остаться и проследить, чтобы всё похищенное было возвращено женщинам, а потом препроводить эту мегеру в город и передать в руки военной полиции. Ещё двум офицерам он приказал отправить арестованных мародёров в штаб.
Сердито, почти гневно главнокомандующий обратился к этим трём оборванным, обозлённым негодяям:
— Вы не солдаты! Вы разбойники! Разве вы не слышали моих приказов? Сколько ещё уроков я должен вам дать? Мои распоряжения надо выполнять! Завтра вы будете расстреляны перед строем. Вы будете навеки опозорены и обесчещены. Вы грабите в то время, когда ваши товарищи сражаются. Вы недостойны быть солдатами французской армии!
Все трое были пьяны и глупы, но один из них оказался ещё и наглецом.
— Что ты болтаешь, Малыш! И это республиканец? Стало быть, в этой армии красть дозволено только офицерам? Они могут тащить целыми фургонами, а бедный солдат не имеет права заработать на стакан вина? Ба! — Он сплюнул. — Прощай, равенство! Это я говорю тебе, дерьмо!
Бонапарт поехал своей дорогой. Эта скотина сказала правду. Офицеры грабили без стыда и совести, а высшее начальство вывозило награбленное целыми обозами. Ничто не могло изменить положение. Они плевали на самые суровые приказы и снова шли на разбой. Полицейских подразделений, которые он создал, явно не хватало, да и были они ничем не лучше других. Вся таившаяся в людях мерзость прорвалась наружу и вылилась в разнузданный грабёж. Можно ли было ценой таких преступлений, дававших выход самым отвратительным страстям, добиться славы, к которой он стремился? Но если посмотреть на всё это с другой стороны, то он не нёс ответственности за людей, которые оказались в его распоряжении. Нужно пользоваться тем, что есть.
Настал следующий день, шестое флореаля. Снова шёл дождь. Закутавшись в плащ, Бонапарт ехал по длинной, широкой, мощённой булыжником улице Кераско, заканчивавшейся высокой триумфальной аркой семнадцатого века.
Сильная крепость, окружённая стеной с палисадом, сдалась без боя. После нескольких пушечных выстрелов небольшой гарнизон Колли поспешил очистить Кераско, даже не дожидаясь, пока заклепают пушки. Дивизия Массена вошла сюда по приглашению насмерть перепуганного магистрата в одиннадцать часов утра. Теперь его солдаты разбили привал на берегах реки Стура, прямо у городского моста.
С тонкой проницательностью Бонапарт взвешивал преимущества своего положения. У него не было желания начинать осаду Турина. Войска и так стояли достаточно близко от столицы Пьемонта, чтобы напугать до судорог королевский двор. Усиливая моральное давление, он послал Ожеро в сопровождении двух видных пьемонтских революционеров занять находившийся далеко справа город Альбу. Мятежники докладывали, что охваченный революционным брожением город с радостным нетерпением ждал поддержки французов, чтобы создать свободную республику по французскому образцу. Кроме того, захват Альбы был первым стратегическим шагом к следующему акту кампании против Болье, который должен был начаться после капитуляции Пьемонта. Он по-прежнему стойко препятствовал любой попытке австрийцев прийти на помощь союзникам и семь раз отмерял перед тем, как один раз отрезать.
Довольный собой, он ехал по улице, битком забитой людьми. Собравшимся не терпелось увидеть молодого завоевателя, которому приписывалась нечеловеческая сила и который, как уверяли многие благочестивые, религиозные люди, являлся воплощением самого Сатаны.
Пара смельчаков размахивала шляпами и кричала:
— Да здравствует Освободитель! Да здравствует Революция!
Однако большинство жителей наблюдало за ним молча и прижимало к себе детей. Бонапарт не обращал на них внимания. Едва ли эти люди вообще существовали для него. Ум его был занят другим.
Теперь, когда открылась более короткая дорога во Францию через Тендский перевал, он приведёт с побережья бригады Маккара и Гарнье и усилит ими действующую армию. Бригада из дивизии Серюрье осуществит связь с ними и прикроет их подход. Он перебросит дивизию Серюрье налево, к Кони, и отрежет эту крепость от Колли. Он не будет избегать передвижений, которые облегчат наступление на Пьемонт в случае провала переговоров. Но переговоры не сорвутся. Затем он немедленно освободит пьемонтских военнопленных, чем убьёт сразу двух зайцев: во-первых, освободится от необходимости кормить их, а во-вторых, куда бы ни направились эти пленники, от их рассказов люди будут ужасаться при одном упоминании его имени. Он направит их в Турин, чтобы увеличить панику в столице. Но он должен быть готов в любую минуту отречься от пьемонтских революционеров, отказаться от поддержки молодой и слабой республики, которую эти якобинцы собираются провозгласить в Альбе, если королевский двор в Турине вовремя капитулирует и передаст ему требуемые крепости. Он скорее предпочтёт иметь дело с опытным, устоявшимся монархическим правительством, чем взбаламутит революционный хаос...
Завтра, когда король и его министры услышат о событиях в Альбе, они уступят ему. Но теперь он потребует не две крепости, а три: Кони, Тортону и Алессандрию. А вдобавок — свободного доступа к переправе через По в Валенце. Это введёт австрийцев в заблуждение относительно его настоящих планов, о которых он ещё никому не говорил.
Он спрыгнул с лошади возле большого дома на главной улице. Трёхцветный флаг, развевавшийся над домом, и группа собравшихся у входа адъютантов указывали на то, что Бертье расположил здесь свой штаб. Это был не дом, а настоящий дворец — палаццо Сальматориса[35], построенное в форме каре. Внутренние покои выглядели великолепно. Стены были покрыты богатыми лепными украшениями и множеством панно, имитировавших фрески.
Наверху, на бельэтаже, в расписанной подобным же образом комнате уже сидел за работой Бертье. Неутомимый Бертье!
Два дня спустя, в половине одиннадцатого вечера, когда он уже лежал в постели, из Турина прибыли представители короля. Бертье разбудил его и сообщил это приятное известие. Начальник штаба был по-детски взволнован. Бонапарт решил не торопиться. Пусть немного подождут. Вреда это не причинит. Послы не должны догадаться, с каким нетерпением он дожидался их приезда.
Он медленно и тщательно одевался, беседуя с Бертье и выспрашивая, что за люди эти послы. Оказалось, что их всего двое, но они наделены всеми полномочиями. Старший — типичный пожилой военный, как выразился Бертье, довольно глупый и закореневший в предрассудках «старорежимный» генерал-лейтенант барон Саллье де Латур. Другой, красивый мужчина лет сорока, гораздо более умный и сообразительный, был полковником маркизом Коста де Борегаром, начальником штаба пьемонтской армии.
Узнав должность последнего, Бонапарт одобрительно кивнул. Штаб Колли работал превосходно, особенно во время отступления. Всё говорило о том, что возглавлявший его офицер обладал ясным умом. Да что за разница, кто они такие! Они не смогут добиться изменения требований, которые Бонапарт уже во второй раз выдвинул сегодня в два часа ночи в ответ на запрос, доставленный гонцом короля. Его решение оставалось твёрдым.
Генерал заканчивал одеваться, когда в нем проснулся актёр... Он не наденет ни официальной трёхцветной перевязи, ни шпаги, ни треуголки главнокомандующего: вполне достаточно простого генеральского мундира. Приглаживая свои темно-каштановые волосы, чёлкой спадавшие на лоб, а позади убранные в хвостик, Бонапарт посмотрел в зеркало и заметил, что они сально блестят. Нет, он не будет их пудрить — пудра сделает его старше. А им следует видеть, как молод их завоеватель. Это только украсит складывающуюся о нём легенду. Вид у него был ужасно бледный и изнурённый. Глаза покраснели от усталости.
Он вошёл в большую комнату со сводчатым потолком, стены которой были изысканно декорированы большими панно и парадными портретами. Здесь его ждали гревшиеся у камина послы. С ними был красивый, щеголеватый Мюрат (который уже успел заставить посланцев короля поверить, будто он, сын владельца постоялого двора в Кагоре, является отпрыском аристократического гасконского рода). Бертье официально представил их. Пьемонтцы отдали честь: более молодой офицер — очень красивым военным жестом, а пожилой — закостенело небрежно, выказывая явное недовольство порученными ему переговорами с молодым выдвиженцем Революции.
Бонапарту это не понравилось, и он начал говорить сухо и кратко:
— Добрый вечер, господа! Переговоры будут вестись на французском — языке победителей.
Старый генерал де Латур открыл церемонию высокопарно и чопорно, начав с помпезной преамбулы. Смысл её сводился к тому, что при определённых обстоятельствах его величество король соблаговолит принять условия перемирия.
Что за чушь! Бонапарт бесцеремонно перебил де Латура.
— Вы ознакомились с условиями, которые я послал его величеству? Король принял их? Это всё, что необходимо обсудить. Я не собираюсь менять в них ни буквы!
Старый генерал споткнулся на полуслове. Бонапарт продолжал негодовать:
— Я первым предложил эти условия, поскольку это я захватил Кераско, это я захватил Фоссано, это я захватил Альбу. И я требую совсем не так много. Вы должны признать, что мои претензии очень скромны.
Старик пришёл в себя и попытался продолжить беседу в прежнем высокопарном тоне:
— Его величество, мой повелитель, должен с уважением относиться к своим союзникам. Его величество опасается, что ему придётся предпринимать действия, несовместимые с его принципами.
Какой омерзительный фарс! Но поскольку Бонапарт сам играл комедию, он торжественно и важно поднял руку.
— Бог не простит мне, если я потребую от вас чего-либо противоречащего законам чести! — «Много уважения видели пьемонтцы от своего бесценного союзника!»
Старый генерал перешёл к обсуждению второстепенных деталей и принялся торговаться по каждому пункту. Бонапарт отвечал ему с изысканной вежливостью, но не уступал ни «гроша».
— Но, генерал, — обратился к нему отчаявшийся старик, — я не вижу смысла в некоторых ваших требованиях. Например, зачем вам нужна переправа через По в Валенце?..
Бонапарт снова резко перебил его, и ответ был сокрушительным:
— Генерал, Республика, доверив мне командование армией, считает меня наделённым достаточной проницательностью, чтобы принимать самостоятельные решения, направленные на её благо, не советуясь при этом с её врагами!
Бесполезное препирательство продолжалось уже больше часа и грозило затянуться надолго. Время от времени в переговоры вмешивался более молодой и, пожалуй, самый умный из послов.
Давно миновала полночь. Главнокомандующий вызывающим жестом достал часы.
— Господа, предупреждаю вас, что на два часа ночи назначено генеральное наступление. Если я не буду уверен, что крепость Кони окажется в моих руках до конца суток, наступление не будет отсрочено ни на минуту. — Он сделал паузу, давая послам осознать, что им предъявляют ультиматум, а затем сухо и значительно добавил: — Мне случалось проигрывать битвы, но никто ни разу не видел, чтобы я понапрасну тратил время — как из самонадеянности, так и по лени.
Бонапарт взглянул на послов. Те не знали, что ответить. Он указал на Бертье и Мюрата.
— Эти офицеры сообщат вам волю французского правительства.
Он прошёл в конец комнаты и принялся расхаживать взад и вперёд. Квартет за столом продолжал обсуждать детали перемирия. Старый Латур спорил и постоянно ко всему придирался. Бонапарт продолжал вышагивать, не обращая на них никакого внимания. Он заговорил только раз, когда от короля приехали два адъютанта, чтобы узнать, как продвигается дело. Он насмешливо улыбнулся старому генералу.
— Похоже, вашему королю больше, чем вам самим, не терпится прекратить огонь!
В конце концов перешли к делу. Но весь фокус был в том, что генеральное наступление (он искренне восхищался собой) было чистейшей выдумкой. В ту ночь вообще не намечалось никаких передвижений войск.
К двум часам ночи все статьи были согласованы. Он и два пьемонтских представителя поставили под договором свои подписи. Сопровождавший посланников адъютант Колли помчался в Турин с копией документа. И только тут Бонапарт серьёзным тоном приказал отменить мифическое наступление.
Все устали. Старый де Латур спросил, нельзя ли ему выпить кофе. Во дворце кофе не оказалось. Бонапарт приказал, чтобы кто-нибудь съездил в город. Появившиеся в комнате офицеры штаба сначала робко, а затем всё более непринуждённо заговорили с бывшими врагами.
Затем все перешли в соседнюю комнату, где их ждало скудное угощение, основную часть которого составляло местное вино «асти». Это было всё, что удалось наскрести в нищем хозяйстве штаба. Почти все имевшиеся во дворце свечи горели в стоявшем на столе огромном ветвистом канделябре. Несмотря на яркое освещение, их трапеза не выглядела чересчур жизнерадостной. Пьемонтские гости были измучены и подавленны. Бонапарту всё больше нравился молодой начальник штаба, Коста де Борегар. Бывший соперник оказался хорошо образованным, умным человеком, с которым было приятно поговорить.
Когда все вышли из-за стола, он увёл маркиза на балкон и продолжил разговор. Опершись на балюстраду, они долго стояли и наблюдали за восходом солнца. Разгоралась историческая заря нового дня, а они все продолжали беседу. Их связывал профессиональный интерес бывших противников, заглядывавших теперь в карты друг друга и получивших возможность разобрать только что закончившуюся кампанию. Оба сошлись во мнении, что Бонапарт допустил ошибку в Коссерии; он был слишком нетерпелив. Пьемонтский полковник признался, что искренне восхищается им.
— Какая жалость, что я не могу объясниться вам в любви, генерал! — добавил Он.
Это признание не тронуло главнокомандующего. Пьемонтец был патриотом; его сердце обливалось кровью за родину. Бонапарт мог оценить это. Однако не пристало французскому генералу быть любимым его врагами.
Около шести часов утра появился Саличетти. Уже посвящённый в происшедшее событие, этот хитрющий представитель Директории, не успевший предотвратить дерзкого поступка своего товарища-корсиканца, притворился, что находит условия слишком мягкими. Бонапарт, продолжая разыгрывать комедию, с лицемерным сожалением развёл руками и сказал:
— Что же делать, мой друг? Всё уже подписано...
В семь часов галопом прискакал пьемонтский офицер с указом короля. Его величество принимал условия перемирия. Уполномоченным надлежало немедленно возвратиться в штаб-квартиру Колли.
Обменявшись дружескими рукопожатиями, Бонапарт и его штаб проводили посланцев к экипажу и отдали честь, когда в сопровождении эскадрона французских драгун, составлявшего почётный эскорт, те двинулись в путь.
Закончился первый акт драмы, которую он давным-давно — ещё будучи в Париже — разыграл в своём воображении. Впервые он подписал перемирие с позиции силы. Не скоро забудет он эту дату — девятое флореаля Четвёртого года, или двадцать восьмое апреля 1796-го...
На наружной стене дома Сальматориса было прикреплено воззвание к армии, которое он написал два дня назад. На пару мгновений Бонапарт задержался перед ним:
«Солдаты, за пятнадцать дней вы одержали шесть побед, захватили двадцать одно знамя, двадцать пять артиллерийских орудий, несколько крепостей, завоевали самую богатую часть Пьемонта. Вы взяли в плен пятнадцать тысяч человек, убили или ранили более десяти тысяч солдат противника. До сих пор вы сражались за бесплодные скалы, осенённые вашей славой, но бесполезные для отечества. Ныне вы своими заслугами сравнялись с армией в Голландии и на Рейне. Лишённые всего, вы сами позаботились обо всём. Вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, шли форсированным маршем без обуви, отдыхали без коньяка и часто без хлеба. Только республиканские фаланги, только солдаты свободы способны перенести то, что перенесли вы. Да возблагодарят вас за это, солдаты!..»
Далее следовало много прочего. Он пробежал взглядом по печатным строчкам и почувствовал удовлетворение. Каждая фраза была ещё жива в его памяти. Да, ему нравилось это воззвание. Оно вылилось из его души само собой. Он нашёл свой стиль.
На следующий день он написал Жозефине длиннейшее послание.
«Мюрат, который передаст тебе это письмо, объяснит, мой обожаемый друг, что я собираюсь делать и чего желаю. Я заключил временное перемирие с королём Сардинии. Три дня тому назад я отправил Жюно с моим братом; но они прибудут позднее Мюрата, который едет через Турин.
Я пишу тебе с Жюно, чтобы ты приехала и присоединилась ко мне; но сейчас я прошу тебя отправиться вместе с Мюратом и поехать через Турин; ты выиграешь на этом пятнадцать дней. Тогда я буду иметь возможность увидеть тебя через две недели; жильё для тебя готово в Мондови и Тортоне... Ты сможешь, если захочешь, посетить всю остальную Италию. Моё счастье в том, чтобы ты была счастлива; моя радость в том, чтобы ты была весела; моё удовольствие в том, чтобы доставить удовольствие тебе. Никогда ни одну женщину не любили более преданно, страстно и нежно. Никогда ни у одной женщины не было возможности целиком завладеть мужским сердцем и диктовать ему свои вкусы, пристрастия и отвечать на все его желания. Если с тобой всё происходит по-другому, я оплакиваю свою слепоту и оставляю тебя наедине с твоей совестью; если я не умру от горя, убиваясь до конца моих дней, сердце моё никогда снова не раскроется для чувства удовольствия... моя жизнь станет простым физическим существованием, поскольку, потеряв твою любовь, твоё сердце, твою обожаемую душу, потеряв всё, что делает мою жизнь приятной и милой мне, я потеряю и самого себя.
Ах! тогда я не буду более сожалеть о смерти и, возможно, найду её на поле чести. Неужели ты можешь представить себе — ты, которая являешься моей жизнью, — что я не буду огорчён? От тебя нет писем; я получаю их только раз в четыре дня, в то время как если бы ты любила меня, то писала бы дважды в день. Но тебе милее болтать с этими господчиками, что приходят в гости в десять часов утра, а затем выслушивать сплетни и глупости до часу ночи. В странах, где существует нравственность, в десять часов вечера все уже сидят по домам; и в тех странах жёны пишут своим мужьям, думают о них, живут ради них. Прощай, Жозефина, ты кажешься мне чудовищем, загадку которого я не могу разгадать; с каждым днём я люблю тебя всё больше и больше. Разлука лечит маленькие страсти, но превращает в болезнь большие. Целую твои губы... или твоё сердечко. Кто же, если не я? А затем целую твою грудь. Какой счастливчик Мюрат — ему достанется маленькая ручка... Ах! если ты не приедешь!!!»
И так далее, и так далее... Его перо отчаянно летало по бумаге. Не может быть, чтобы Жозефина не приехала! Чтобы она не бросила всё и не примчалась к нему!
И вдруг Бонапарт подумал о том, что, когда Жозефина получит это письмо, весь Париж будет пламенно восторгаться его победами.
Глава 14
Сплошной поток солдат ровным шагом двигался по дороге на восток. По сторонам от колонны галопом и рысью скакали кавалерийские части. Справа они появлялись и пропадали среди виноградников, террасами покрывавших холмистые склоны гор, которые в этих местах нависали над самой дорогой. Слева конница рысила по полям, простиравшимся до реки По, кое-где отклоняясь от дороги на несколько миль. Близился вечер семнадцатого флореаля, или шестого мая. Прошло восемь дней с тех пор, как он подписал перемирие в Кераско. Сто пятьдесят миль остались позади, и половину из них он проехал верхом на лошади.
Несколькими милями раньше они с Бертье обогнали дивизию Лагарпа. Оборванные в клочья, усталые и изнурённые солдаты, упрямо тащившие свои тяжёлые мушкеты, с трудом продвигались вперёд. Здесь и там солдат подбадривали расположившиеся вдоль всей колонны духовые оркестры. В потоке войск шли артиллерийские батареи и тяжело груженные фургоны с амуницией. Другая колонна, мимо которой они проезжали теперь, была новым авангардом армии — отборным отрядом, приказ о создании которого он отдал всего три дня тому назад. Каждой из четырёх дивизий было приказано сформировать по батальону гренадер из элитных рот полубригад и полубатальон стрелков — итого два отряда. Каждый батальон должен был состоять из шестисот пехотинцев, к которым добавлялись полторы тысячи кавалеристов и дивизион конной артиллерии.
Эти шесть батальонов гренадер и карабинеров были составлены из бывалых солдат, храбрецов, бесстрашных и готовых на всё. Командовали ими известные своей решительностью и смекалкой офицеры, подобранные таким же образом. Возглавлял авангард сорокатрёхлетний генерал Даллемань, участник войны за независимость Америки и офицер гренадер с начала Революции. Он только что присоединился к армии, оставив Тендский перевал, который прикрывал своими частями ранее. Этим элитным частям, которые собрались только вчера, и то в неполном составе, предстояло стать ударной силой Бонапарта в начинавшемся решительном наступлении.
После Кераско Болье вывел свою армию за По и расположился у места впадения её западного притока, Тичино. Таким образом он прикрывал Павию, Милан, Венецию и свои коммуникации к северу от По. К востоку от Пьемонта на всей реке был один-единственный мост в Валенце, а сама река благодаря разливу притоков становилась всё шире. Покоритель Пьемонта только для виду добился прав на мост в Валенце; он не был таким новичком, чтобы пытаться форсировать широкий водный поток под огнём врага. Болье, теперь уступая Бонапарту в численности войск, более чем компенсировал этот недостаток тем, что занял хорошую позицию и поджидал его на другой стороне По.
Но переправу в другом месте можно было бы осуществить только при помощи лодок и понтонных мостов, что заняло бы много времени, а в случае контратаки войскам был бы нанесён большой урон. Лодки и понтоны были пригодны только для ложного манёвра — и пусть Болье думает, будто Бонапарт собирается переходить реку в Валенце, в то время как он осуществит молниеносный бросок на противоположный берег в другом, достаточно удалённом от Валенцы месте. Это позволит ему переправиться раньше, чем Болье забьёт тревогу и двинется туда. Бонапарт остановил свой выбор на Пьяченце, находившейся по прямой в семидесяти милях от Валенцы. Если ему удастся перебросить здесь свою армию на северный берег, он не только обогнёт несколько глубоких притоков, которые могли бы послужить противнику отличным прикрытием, но и, кратчайшим путём попав в Милан, одним ударом перережет все коммуникации неприятеля.
Но это была рискованная операция. Со своих позиций Болье, используя внутренние дороги, мог меньше чем за день достичь того места реки, которое располагалось напротив Пьяченцы. Если же Болье разгадает его намерения, то прибудет в Пьяченцу раньше их. Впрочем, большой бедой это не обернётся. Его войска умеют совершать быстрые марш-броски; он изменит приказ на противоположный, бросит свои колонны обратно в Валенцу и перейдёт реку прежде, чем Болье сможет его остановить. Хотя в этом случае он неизбежно потеряет возможность перерезать коммуникации Болье. Опасность заключалась в том, что Болье мог подойти в то время, когда переправа людей через реку будет в полном разгаре — медленное, сложное дело, на которое понадобится целый день, а то и больше. Это обернётся уже полной катастрофой. Поэтому надо опередить Болье в Пьяченце по меньшей мере на два, а лучше три дня. Его войскам придётся маршировать так быстро, как никогда прежде. Он продумал каждую деталь этого обходного манёвра, тщательно рассчитал время, расстояние, взвесил всё, прежде чем решиться на такой рискованный шаг. Весь план он разработал накануне. Игра началась — кости брошены...
Теперь, когда они вместе с Бертье ехали верхом, догоняя свой авангард, Бонапарт был счастлив и уверен в себе. В самом деле, все эти недели, проведённые им в Италии (не считая нескольких кошмарных дней, когда он уже отчаялся вырваться из предгорий!), он словно летел по воздуху, летел на невидимом гребне успеха, и все препятствия падали перед ним сами собой. Все силы его никогда не устававшего ума впервые высвободились для решения достойной его задачи. Он был рождён для войны и намеревался вновь и вновь доказывать это.
Ему удалось обмануть старого Болье: тот не двигался с места. Дивизии Серюрье и Массена производили «пугающие манёвры» вблизи Валенцы. Дивизия Ожеро находилась на полпути к Пьяченце. Там она введёт Болье в ещё большее заблуждение и сможет легко передвигаться в любую сторону, как того потребуют обстоятельства. Не вызвав никаких подозрений у австрийцев, новый авангард Даллеманя, вся кавалерия под командованием Кильмэна, заменившего Стенжеля, и дивизия Лагарпа форсированным маршем приближались к Пьяченце. Авангард и кавалерия должны были сегодня днём достичь Кастель-Сан-Джованни, располагавшегося в двенадцати милях от города.
Да, конечно, Пьяченца принадлежала герцогу Пармы, который придерживался Нейтралитета, но Бонапарт предпочитал не Церемониться с этим ничтожным сувереном. По правде говоря (он думал об этом с немалой долей иронии), герцог Вскоре обнаружит, что гостеприимство, невольно оказанное Пармой французским войскам, обойдётся ему неожиданно дорого. В кармане главнокомандующего уже лежал подробный перечень всех богатств Пармы, включая список шедевров картинной галереи самого герцога. (Фейпу, приехавший из Генуи в Тортону, чтобы встретиться с ним, привёз с собой и этот перечень). Как Бонапарт написал Директории, «с этими карликовыми князьками следует обращаться без церемоний — только страх делает их такими честными и вежливыми, если не сказать жалкими».
Улыбаясь, он поделился этим соображением с ехавшим рядом угрюмым Бертье. Они пробирались сквозь заполнившую всю дорогу пехотную колонну. Последние несколько дней Бертье был мрачен. В недавно полученной правительственной депеше Директория поздравляла главнокомандующего с удачно проведёнными операциями, с похвалой отзывалась о нескольких генералах, но ни словом не обмолвилась о Бертье. Начальник штаба, проводивший за работой дни и ночи, чувствовал себя уязвлённым и, как утверждали сплетники, приписывал это отсутствие признания своему командующему, который, как говорят французы, «тянул одеяло на себя». Оставалось только посочувствовать Бертье, которым так несправедливо пренебрегли. Типичная проделка Директории, обожавшей сеять раздор между генералами. Он не намерен мириться с этим. Тем же утром он ответил Директории — даже несколько отодвигаясь в тень, дабы лучи славы упали и на Бертье, — что начальник штаба был во всех сражениях его правой рукой, что он работает ночами напролёт и что «невозможно представить себе большей активности, доброжелательства, мужества и знаний одновременно». В конце ответа он добавил: «Ради восстановления справедливости я передал ему половину тех лестных слов и той благодарности, которую вы выразили в своём послании». О, эти хвастливые парижские жулики, в каждом шаге которых сквозила ревнивая мелочность! Но бедняга Бертье не мог успокоиться. Весь день он провёл в хмуром молчании.
Бонапарт вновь улыбнулся ему.
— Веселей, Бертье! Завтра мы будем у Пьяченцы и форсируем реку! Чудесное местечко эта Пьяченца — я считаю её одним из приятнейших городов Италии. Если пожелаете послать домой хорошую картину, вам будет из чего выбрать. В герцогской галерее есть несколько прекрасных работ Микеланджело и даже шедевр Корреджо «Святой Иероним». Я постараюсь послать всё это в Национальный музей в Париже. Честно говоря, речь идёт о двадцати лучших картинах герцога. Парижане смогут прийти полюбоваться на них и убедиться в том, что мы действительно одерживаем победы! — Он жизнерадостно рассмеялся. Что угодно, только бы вывести Бертье из его мрачного состояния! — После того, что я написал сегодня в Париж, Директория снимет меня и поставит вас на моё место! Святая правда: я не смог бы обойтись без вас. Всемогущий Господь создал вас идеальным начальником штаба!
На уродливом лице Бертье наконец-то появилась улыбка.
— Спасибо, генерал. Я делаю, что могу. Но достигай мы всего только благодаря вашему гению.
В устах Бертье это значило очень много; он уже давно отказался от своего снисходительного тона.
Бонапарт указал на колокольню, окружённую домами довольно приличного по размерам селения.
— Это Кастель-Сан-Джованни! То-то обрадуются наши бедняги гренадеры! Кое-кто из них идёт без отдыха уже четырнадцать часов...
На грязной площади этого большого, неряшливого селения, окна которого горели в лучах заходящего солнца, они встретили Даллеманя. Это был высокий, крепко сколоченный мужчина с орлиным носом и выпяченными вперёд толстыми губами. Спокойный и подтянутый, он не отличался гениальностью, но был энергичным боевым командиром. Молодой капитан Буонапарте познакомился с ним ещё во время осады Тулона, когда Даллемань командовал гренадерами. Рядом с генералом стояли два его заместителя, оба гасконцы — маленький, свирепый на вид Ланюсс и невысокий, с весёлым лицом, Ланн, безрассудная храбрость которого сделала его живой легендой. Неграмотный крестьянин, он ничего не знал и умел только одно: бросаться со своим полком на врага.
Молодой главнокомандующий прозвал его «невеждой», но именно такой человек был нужен, чтобы вести несгибаемых гренадеров, готовых победить или умереть, на самые отчаянные дела.
Бонапарт улыбнулся Даллеманю.
— Итак, генерал, ваши гренадеры на подходе!
Даллемань отдал честь, и его толстые губы вытянулись вперёд.
— Только три из четырёх обещанных батальонов, генерал. И вот что ещё. Мне сулили две тысячи пар обуви. Я не получил ни пары.
Бонапарт кивнул ему без намёка на раздражение.
Даллемань делал своё дело и не привык ходить вокруг да около.
— Четвёртый батальон уже направляется к вам, генерал. Просто ему дольше идти. Что же касается обуви... — он беспомощно развёл руками. — Ваши бравые парни до сих пор шагали без них, так пусть потерпят ещё денёк. Все в Пьяченце. Будьте готовы выступить завтра в четыре утра. — Он повернулся к Бертье: — Вы видите какой-нибудь подходящий для штаба дом? Я должен написать наместнику Пьяченцы.
Чуть позже он подписал продиктованное им письмо.
«Наместнику герцога Пармского в Пьяченце.
Поскольку необходимо согласовать с вами, сударь, дела величайшей важности, соблаговолите немедленно прибыть в КасТель-Сан-Джованни. Необходимо, чтобы вы были здесь до двух часов ночи, поскольку позже я должен буду уехать.
Бонапарт».
Вот как следует поступать с этими бесполезными старомодными князьками, даже если они и носят прославленное некогда имя Фарнезе!
Вместе с Бертье, Даллеманем и Кильмэном он ехал во главе авангарда, приближавшегося к стенам живописного древнего города Пьяченца, открытого перед ним настежь до смерти напуганными властями. Они вышли из Кастель-Сан-Джованни в четыре часа утра.
Сейчас было девять. Он предложил не проходить с войсками через город, а пересечь реку По на подходе к нему, выше по течению. Там находился паром — большое неповоротливое сооружение, способное перевезти за раз до пятисот человек. Ланюсс уже захватил его. Кроме того, весь вчерашний вечер и всю ночь передовые отряды под командованием Ланюсса и офицера инженерных войск Андреосси собирали все лодки, какие могли найти на реках По и Треббия; в дополнение они реквизировали склад брёвен и досок, пригодных для сооружения моста.
Он ехал по берегу этой широкой, полной водоворотов реки и примечал на ней множество отмелей. На другой стороне коротким галопом разъезжала пара эскадронов австрийских гусар. Они гарцевали, похоже, обсуждая возможность переправы в этом месте. Откуда здесь взялись австрийцы? Это стало для него неожиданностью. Он обратился к Даллеманю.
— Генерал, немедленно начинайте переправу!
Даллемань отдал приказ.
Несколько минут спустя Ланн повёл своих гренадеров вниз к реке. Словно толпа возбуждённых мальчишек, солдаты карабкались на огромный паром и прыгали в находившиеся рядом утлые лодчонки.
Сам Ланн с немногими гренадерами залез в одну из лодок и оттолкнулся от берега. Несколько яликов последовало за ним. Паром быстро заполнялся и начинал медленно отползать, удерживаемый тросом. Сапёры лихорадочно суетились вокруг плавающих брёвен и досок, сбивали, связывали и мастерили из них плоты.
Не слезая с лошади, он наблюдал, как эта флотилия боролась с течением, как неуклюже и отчаянно гребли люди, как лодки сносило вниз по течению и как они застревали на песчаных отмелях. Ширина реки в этом месте составляла примерно пятьсот ярдов.
Австрийские кавалеристы засуетились, спрыгнули с лошадей и, сняв карабины, побежали занимать огневую позицию. Их было около ста пятидесяти человек. Над цепью поднялся дымок, послышались звуки выстрелов. Флотилия плыла вперёд. Бонапарт наблюдал за происходившим в подзорную трубу. Он отыскал лодку, в которой находился Ланн. Она двигалась немного впереди остальных. Вражеские гусары начали стрелять чаще, и вокруг лодок фонтанчиками закипела вода.
Он снова спросил себя, что это были за австрийцы. К каким частям они принадлежали? Это было очень важно. Авангард Даллеманя и дивизия Лагарпа, которые начали подходить по тянувшейся вдоль реки дороге, не смогли бы долго удерживать плацдарм на том берегу в случае серьёзной атаки. Он послал приказ Ожеро, находившемуся за двадцать миль отсюда, и велел ему форсированным маршем идти в Пьяченцу, чтобы в тот же день переправиться на другой берег. Тот же приказ был послан Массена, стоявшему в тридцати пяти милях, и Серюрье, который за семьдесят миль отсюда отвлекал противника под Валенцей. Если Массена постарается, то прибудет., завтра; но Серюрье — даже совершая длинные переходы, как предложил Бонапарт, написавший генералу, что «рассчитывает на его рвение» — никак не мог прибыть раньше ночи двадцать первого флореаля, то есть через три дня.
Флотилия приближалась к противоположному берегу. Лодка Ланна по-прежнему двигалась впереди. Гусары бросились назад, к своим лошадям, отъехали чуть подальше и снова спрыгнули наземь. Ланн выскочил из своего ялика; казавшийся отсюда совсем крохотным, он размахивал шпагой. Следуя его примеру, люди прыгали в воду, не дожидаясь, пока лодки пристанут к берегу, и быстро выбирались на сушу. Клубы дыма и треск выстрелов свидетельствовали о том, что австрийцы отчаянно сопротивляются.
Французские стрелки рассыпным строем бросились вперёд. Берег начинал окутываться дымом. Тем временем гренадеры сами построились в две колонны и стали подниматься вверх по склону. Внезапно шум стрельбы перекрыл какой-то скрежещущий звук, эхом полетевший над водой. Большой паром, кишевший людьми как муравьями, доставил живой груз и был отправлен за новым. Лодки тоже возвращались назад; в каждой из них сидело за вёслами двое гребцов.
Бонапарт послал за инженер-офицером Андреосси, приказал ему связать лодки и перебросить по ним плавучий мост. Необходимо было срочно переправить на тот берег как можно больше людей. Лодки и плоты действовали слишком медленно. Паром же, бравший на борт пятьсот человек, тем временем должен был продолжать перевозки, хотя на дорогу в один конец уходило полчаса. Находившиеся на том берегу австрийцы — пусть немногочисленные — очень беспокоили его. Так ли уж маловероятно появление Болье? Если огонь вели разведчики, высланные вперёд от крупного соединения, то вскоре ситуация могла стать критической. Он с тревогой наблюдал за тем, как вражеские гусары сели на коней и ускакали прочь. Передовой батальон Даллеманя, к которому присоединились солдаты, приплывшие на пароме и уже прибывшие со второй «флотилией», собрался на противоположном берегу и двинулся вглубь вражеской территории. Неужели это был только крупный разъезд, оторвавшийся от основных сил?.. Нечего ломать голову: скоро гренадеры возьмут в плен парочку австрийцев, и всё выяснится...
Он долго не покидал берег, наблюдая за этой рискованной операцией. Шёл уже третий час дня. Обстрела с другого берега не было. Паром продолжал ползать туда и сюда. Большая часть пехоты Даллеманя уже переправилась. В сторону другого берега тянулся плавучий мост из стоявших одна за одной лодок, через которые были перекинуты доски. Около моста лихорадочно суетились сапёры. Слева от Бонапарта расположилась на поле дивизия Лагарпа. Почти все солдаты, измученные бесконечными переходами, спали мёртвым сном. Как только мост будет закончен, они начнут переправу. Нужды в его присутствии здесь больше не было. Покинув поле кипучей деятельности, за которой вместе с ним наблюдала толпа горожан, он поехал к выходившим на реку воротам Боргетто, миновал внизу поросшие дёрном, облицованные кирпичом стены и оказался в Пьяченце.
Как всегда, Бертье опередил командующего. Он со штабом обосновался в палаццо Скотти. Бонапарт въехал во двор огромного дворца эпохи Возрождения с таким видом, словно этот дом был его собственностью, и по лестнице поднялся в комнату, где уже работал начальник штаба.
— Даллемань переправился! — заявил главнокомандующий, сияя от удовольствия. Только теперь он осознал всю степень мучившей его тревоги. — Андреосси наводит плавучий мост для Лагарпа. Сегодня к вечеру все передовые части окажутся на той стороне. — Он вспомнил об австрийских гусарах. — Стоило промедлить день, и было бы уже поздно. Нам крупно повезло, что Пьяченца сдалась без боя. — Он бросил треуголку на стол. — Где наместник? Вы доставили его в целости и сохранности?
Когда сегодня ночью наместник Пьяченцы граф ди Сан-Витале, сердитый и недоверчивый, собственной персоной явился в штаб, располагавшийся ещё в Кастель-Сан-Джованни, Бонапарт резко заявил этому вельможе, что собирается двинуть войска на Парму, дабы наказать герцога за его участие во враждебных действиях против Франции. Единственная возможность для герцога избежать расплаты заключается в немедленном прекращении военных действий и проведении мирных переговоров в Париже на условиях, которые он продиктует позже. Тем временем он вежливо, но решительно предложил графу остаться с ним, «дабы самому убедиться в том, что со стороны города Пьяченцы не последует никакого сопротивления».
Уродливое лицо Бертье расплылось в улыбке.
— Он здесь, генерал.
Бонапарт потёр руки, как поступал всегда, когда дела шли удачно.
— Приведите его.
Бертье немедленно поднялся, зашёл в соседнюю комнату и вскоре вернулся с их невольным гостем. Это был моложавый человек, одетый в длинный камзол и узкие штаны до колен в стиле «старого режима». Граф ди Сан-Витале принадлежал к самому знатному роду Пармы и хорошо сознавал это. Он высоко и надменно держал аристократическую голову, всем своим видом показывая, с каким презрением относится к окружавшим его грубым революционерам.
— Вы желали видеть меня, генерал? — Он небрежно стряхнул пылинку с камзола и поклонился. — Имею честь быть в вашем распоряжении.
— Прошу садиться, господин граф. — Гость проигнорировал приглашение и остался стоять. — Сегодня рано утром я дал вам знать, что ваш повелитель имеет только один шанс избежать справедливого гнева Французской Республики, а именно заключить немедленное перемирие на условиях, с которыми я и хочу вас ознакомить.
Итальянец иронически улыбнулся.
— И каковы же эти условия, генерал?
Бонапарт обернулся к Бертье:
— Вы подготовили проект, генерал?
Начальник штаба передал ему листок бумаги.
— Вот эти условия, синьор граф, — и он начал резко и чётко читать с листа:
— «Статья первая. Военные действия между армией Французской Республики и армией Герцогства Парма прекращаются до тех пор, пока не будет заключён мир между договаривающимися сторонами. Герцог Пармский пошлёт своих представителей в Париж для встречи с представителями Исполнительной Директории.
Статья вторая. Герцог Пармский заплатит военную контрибуцию размером в два миллиона ливров французскими деньгами, из которых пятьсот тысяч будут выданы в течение пяти дней, а остальные в последующие десять дней.
Статья третья. Он передаст французской армии тысячу двести упряжных лошадей с полной сбруей и хомутами, четыреста кавалерийских лошадей с полной сбруей и сотню верховых лошадей для высшего офицерского состава.
Статья четвёртая. Он передаст по выбору главнокомандующего двадцать картин из тех, что имеются в герцогстве на сегодняшний день.
Статья пятая. В течение пятнадцати дней он доставит на склады армии в Тортоне десять тысяч центнеров пшеницы, пять тысяч центнеров овса и в течение того же срока передаст в распоряжение главного интенданта две тысячи волов для нужд армии.
Статья шестая. При условии выплаты вышеупомянутой контрибуции Герцогство Парма до момента окончания переговоров в Париже будет считаться нейтральной стороной».
Он бросил взгляд на молодого наместника, который слушал его очень внимательно.
— Таковы мои условия, синьор граф. Полагаю, вы понимаете, что я мог сделать их более жёсткими.
Граф ди Сан-Витале слегка поклонился.
— Весьма вам признателен, синьор генерал. По-моему, такие условия ничем не отличаются от разбоя.
Бонапарт резко и гневно возразил ему:
— Я не собираюсь обсуждать их с вами! Вам предлагается без задержки передать их вашему повелителю! — Он протянул листок.
Граф принял бумагу, взглянул на неё, а затем тщательно сложил, прикасаясь к ней кончиками пальцев, словно боялся испачкаться в плебейской грязи.
— Следовательно, синьор генерал, я больше не являюсь вашим пленником и наконец волен удалиться?
Какими нелепыми казались эти вычурные, манерные фразы в устах столь жалких, беззащитных людишек! Бонапарт с нескрываемым раздражением ответил:
— Вы совершенно свободны, синьор граф. Только немедленно передайте этот документ своему герцогу!
Но граф ди Сан-Витале так и не оставил своих надменных манер.
— Я сделаю это, синьор генерал. — Он поклонился и сказал по-французски: — Честь имею, месье!
Затем граф не торопясь повернулся и вышел из комнаты. Бонапарт проводил его взглядом, а затем, обернувшись к Бертье, усмехнулся.
— Щенок! — бросил он.
Всю оставшуюся часть дня Бонапарта продержало в штабе множество неотложных дел. Пришлось выполнять уйму обязанностей: всё в этой армии держалось только на нём — у главнокомандующего не было подчинённых, которым он хотя бы на минуту мог доверить вопросы снабжения и транспорта, размещения складов, организацию госпиталей и санитарных служб, улаживание дел с местными властями, разработку многочисленных требований к проведению реквизиций. Пришло сообщение о том, что десятитысячная Альпийская армия Келлермана движется к нему на подкрепление через Пьемонт, по Валь д’Аоста и долине Стуры. Вызывали беспокойство постоянные жалобы на грабежи. В Пьяченцу пробрались дезертиры, всегда рыскавшие в тылу своих частей, взломали лавки и надругались над жителями. Сообщалось, что некоторые офицеры крали лошадей. Эти новости привели его в ярость. Придётся расстрелять ещё несколько этих негодяев! Его всегда преследовал страх, что местные жители, страдающие от мародёрства, не выдержат и поднимут против французов восстание.
До самого наступления темноты он так и не нашёл времени спуститься к реке. Картина, открывшаяся перед ним в наступивших сумерках, была живописной. Огромные костры, разведённые у беспорядочной вереницы маркитантских повозок, освещали тысячи гусар и драгун в медных шлемах, лошадей, шумно хрупавших реквизированным в Пьяченце кормом... Группы осмелевших горожан стояли и глазели на этих ставших легендарными солдат. В свете костров, располагавшихся через каждые десять ярдов, по наведённому мосту, который раскачивался на поддерживавших его лодках, шли на другой берег кавалеристы, ведя в поводу своих коней.
Он удостоверился в том, что дивизия Лагарпа полностью переправилась и уже двинулась на поддержку к Даллеманю. К нему подъехал адъютант и доложил, что дивизия Ожеро нашла другой паром в трёх милях вверх по течению и переправляется как с его помощью, так и на нескольких груженных солью баржах, которые удалось приспособить для переправы.
Тем не менее позиция всё ещё оставалась уязвимой. Он немедленно отдал приказ, чтобы инженер-офицеры, сапёры и рабочие были переправлены на левый, северный берег реки для постройки там оборонительных укреплений — на случай, если старый Болье всё же атакует его чересчур растянувшиеся силы. Две дивизии французов всё ещё находились в тылу, на этой стороне реки. Пленные утверждали, что мешавшие переправе гусары были передовым дозором австрийского соединения из семи батальонов и шести эскадронов, которым командовал генерал Липтай. Болье, всё же заподозривший, что серьёзной попытки форсировать По в Валенце не будет, и тревожившийся за свои коммуникации, перпендикулярные дороге Пьяченца — Лоди, послал их на разведку три дня назад. Это сильно обеспокоило Бонапарта. Он приказал Андреосси работать всю ночь над более капитальным мостом, по которому без задержки можно было бы перебросить безнадёжно застрявшую в глубоком тылу артиллерию. Здесь у него не было ничего, если не считать шести орудий авангарда и ещё трёх пушек, которые он велел «любыми правдами и неправдами» перебросить из Кастель-Сан-Джованни. Австрийские батальоны Липтая маневрировали где-то поблизости...
Через тёмный, наполовину средневековый, наполовину ренессансный город Бонапарт поехал обратно в штаб. Худшее осталось позади. Он переправился через По и занял плацдарм на другом берегу. В случае завтрашней атаки Липтая Даллемань, Лагарп и Ожеро сумеют удержаться своими силами. Да, но каков Болье? Значит, этот семидесятилетний противник был вовсе не такой дурак, как думалось, и вовсе не такой ротозей, как хотелось верить. Вполне возможно, что он с основными силами маршировал где-нибудь неподалёку. Конечно, гонцы Липтая уже давно неслись к нему, чтобы сообщить о появлении французов на северном берегу По и об угрозе австрийским коммуникациям. Если бы Болье уже выступил, не нашлось бы никакой возможности перерезать его пути снабжения, и тогда австрийцы могли бы спокойно готовиться к генеральному сражению. А он сумел бы собрать свои силы не раньше двадцать первого флореаля, то есть через три дня, когда к Пьяченце подошли бы дивизии Массена и Серюрье, форсированным маршем двигавшиеся из далёкого тыла. И даже те войска, артиллерия и обоз, которые были с ним, закончат переправу не ранее завтрашнего дня. Успех рискованного предприятия всё ещё висел на волоске.
Прибыв в штаб, он продиктовал несколько приказов. Срочный приказ Лагарпу он впервые позволил сформулировать и подписать Бертье, поскольку буквально валился с ног и намеревался перехватить часок-другой сна.
«Главнокомандующий уполномочил меня, мой дорогой Лагарп, предупредить вас, что вы должны собрать всех солдат и не позволять им заниматься грабежом, дабы не случилось так, что они будут разбросаны, когда появится враг и начнёт беспокоить их. Успех нашего перехода зависит от дисциплины, которую вы установите в своих войсках. Соберите также всю кавалерию; позвольте только одним лазутчикам удаляться от своих частей; займите позиции возле переправы — в том месте, которое покажется вам наиболее удачным. Проявите заботу о том, чтобы ваши дозорные не спали; как вы понимаете, всякая ложная тревога, когда за спиной река, может стать очень опасной, если войска не соблюдают строжайшего порядка».
Был ещё один приказ, адресованный Кильмэну:
«Генерал Кильмэн отдаст приказ генералу Бомону немедленно переправиться через По и взять на себя командование всеми кавалерийскими отрядами по мере того, как они будут переправляться на другой берег. В намерения главнокомандующего входит то, чтобы генерал Кильмэн остался на переправе, где должен присутствовать для обеспечения порядка и ускорения перехода всей кавалерии — за исключением одного полка, остающегося при штабе. Переправа будет продолжаться всю ночь».
Было ещё несколько приказов сходного содержания, продиктованных и оставленных Бертье. День затянулся. Бонапарт оставался на ногах с двух часов ночи, а следующий день тоже совсем не годился для отдыха...
Через полчаса глубокий сон главнокомандующего был прерван: пришло письмо от испанского министра в Парме. Не поднимаясь с постели, он быстро продиктовал ответ.
«Месье, я получил ваше письмо. Поскольку ни в моей душе, ни в намерениях французского народа нет ни малейшего желания причинять бессмысленное зло другим народам, я соглашаюсь приостановить все военные действия против герцога Пармского и отказаться от наступления на Парму (у него никогда не было ни малейшего желания наступать на Парму), однако герцог должен в течение ночи прислать ко мне своего представителя для заключения перемирия. Я с несколькими полками кавалерии и бригадой пехоты стою в трёх милях от Пьяченцы (это напугает их); это не должно причинять герцогу Пармскому никакого беспокойства с того момента, как он примет условия, о которых мы договорились (ни о чём они ещё не договорились; он только представил герцогу свои краткие условия). Я несказанно рад предоставившейся мне возможности засвидетельствовать вам свои чувства глубокого уважения, почтения и прочее.
Бонапарт».
Он не собирался позволять испанскому правительству вмешиваться в его частное маленькое дельце с герцогом Пармским. Пусть почтенный министр поймёт это.
Он подписал поданный секретарём листок. Ординарец доложил, что на другом берегу всё тихо и что кавалерия продолжает переправляться.
Он повернулся на другой бок и мгновенно уснул.
Глава 15
Стояло жаркое майское утро. Бонапарт и Бертье осторожно двигались по длинному, колеблющемуся мосту из лодок, по которому вчера переправились дивизия Лагарпа и кавалерия. За ними поспевали адъютанты и эскорт с лошадьми в поводу. Люди Андреосси, призвав на помощь сотни рабочих из Пьяченцы и трудясь всю ночь, так и не успели навести более надёжный мост на более надёжных опорах. За мостом раскинулась подозрительно тихая местность. Он знал, что на том берегу должны быть австрийцы, но те не выдавали себя ни единым мушкетным выстрелом. Не было и намёка на то, что тысячи французов находятся совсем рядом. Посадки тополей, обрамлявшие полузатопленные рисовые поля, скрывали равнины северного берега. Поля, разделённые сетью оросительных каналов, местами достаточно широких и глубоких, по сообщению разведчиков, представляли собой серьёзное препятствие. Дороги и просёлки тянулись по дамбам. В этой местности, где было невозможно развернуться, численность войск почти не имела значения; даже маленький, но решительный отряд трудно было бы выбить с занимаемой им позиции. Прямо перед ними, на небольшом удалении от столбовой дороги, тянувшейся от Пьяченцы до Лоди, раскинулись две деревни — Гвардамилья и Фомбио; справа от Фомбио лежало большое селение Кодоньо. Через Кодоньо с запада на восток тянулась главная коммуникация Болье, связывавшая его с Павией.
Разведчики доложили, что шесть-семь тысяч австрийцев под командованием Липтая превратили занятые им деревни Гвардамилья, Фомбио и Кодоньо в сильно укреплённый лагерь. Пока ещё оставалось время, нужно было немедленно выбить их оттуда и перерезать коммуникации Болье. Судя по донесениям, сам Болье находился где-то на западе, довольно далеко отсюда.
Миновав мост и собираясь сесть на лошадь, Бонапарт с удивлением заметил высокую фигуру Лагарпа, появившуюся из каких-то кустов. Что Лагарп делал здесь, вдали от своей дивизии? Это было на него не похоже. Лагарп всегда был впереди своих людей, в самом опасном месте. Бонапарт был поражён странно изменившейся внешностью дивизионного генерала. Обычно спокойный и жизнерадостный, теперь он выглядел бледным, осунувшимся и расстроенным.
— Что случилось, Лагарп? — окликнул его Бонапарт.
Лагарп подошёл и отдал честь.
— Что-то мне не по себе, генерал. — Его взгляд странно блуждал по сторонам, а затем остановился на лице командующего. — Сегодня я не в своей тарелке — сам не знаю почему... — Он на секунду запнулся и поднёс руку ко лбу. — Должно быть, предчувствие...
Бонапарт коротко хохотнул, пытаясь подбодрить его.
— Ерунда, генерал! У каждого солдата временами бывают предчувствия, но это ровным счётом ничего не значит. Где ваша дивизия?
— В полумиле отсюда, на дороге, генерал. Впереди кавалерии.
— Скорее возвращайтесь к своим. Сейчас я найду Даллеманя и отдам ему приказ немедленно атаковать Гвардамилью и Фомбио. Вы окажете ему всемерную поддержку. После взятия Фомбио свернёте направо и захватите Кодоньо. Я отдам приказ кавалерии одновременно обойти Кодоньо справа. Через час ваша дивизия должна быть готова к атаке, — Он смерил Лагарпа испытующим взглядом.
Да, определённо, сегодня утром тот был не в себе. Возможно, заболевал. Очень жаль, если так. Лагарп был незаменим.
Он улыбнулся генералу.
— Как всегда, вы смело поведёте их вперёд и завоюете новую славу. Сегодня Кодоньо должно быть в наших руках. Я полагаюсь на вас. — Его тон был подчёркнуто сердечным. Бонапарту искренне нравился Лагарп.
Лагарп отдал честь; его взгляд слегка прояснился.
— Хорошо, генерал. Я вас не подведу.
Дивизионный генерал заторопился к лошади, которую держал под уздцы конный ординарец, прыгнул в седло и галопом поскакал по дороге, поднимая облако пыли.
Бонапарт и Бертье сели верхом и рысью затрусили вперёд. Позади них позвякивали уздечками адъютанты и эскорт.
— Я никогда не видел Лагарпа в таком состоянии, — сказал он Бертье. — Надеюсь, он не заболеет. Прекрасный офицер! У него большое будущее. — Его мысли тут же вернулись к предстоящему делу. — Передайте Ожеро, чтобы он тщательно разведал местность, но не менял позиции, пока не получит новый приказ.
Ожеро форсировал реку левее и по-прежнему держался вблизи неё. Он занимал хорошую позицию для поддержки выдвинутых вперёд отрядов. Поэтому Бонапарт не хотел, чтобы Ожеро ввязывался в самостоятельный бой с Болье, который мог неожиданно появиться с запада. Первым делом следовало очистить дорогу.
Бертье придержал коня, набросал приказ, подозвал адъютанта и велел ему живо скакать к Ожеро.
Они проезжали мимо кавалеристов Кильмэна. Солдаты расположились между тополей, справа и слева от дороги; за исключением нескольких кукурузных полей, в округе не было ни клочка твёрдой земли, на которой можно было бы встать лагерем. Он послал офицера разыскать Кильмэна. Новый командир кавалерии был неважной заменой погибшему Стенжелю. Ни он, ни его заместитель Бомон не обладали той инициативой, которая требовалась от начальника кавалерии. Никто из них не любил риска. Тем не менее Кильмэн был толковым парнем со склонностью к штабной работе. При первой же возможности надо будет перевести его в подручные к Бертье...
Кильмэн рысью подъехал к нему. Это был суровый с виду, но приятный в общении ирландец со светлыми волосами, живыми голубыми глазами и лицом, слегка побитым оспой.
— Кильмэн, авангард при поддержке Лагарпа должен сейчас же атаковать Гвардамилью, Фомбио и Кодоньо. Немедленно перебросьте вашу кавалерию по просёлку на правый фланг и обойдите Кодоньо. Вы встретите там австрийскую кавалерию. Пусть ваши парни померятся с ними клинками. Им нужно обрести уверенность в себе. Без задержки перебрасывайте ваши эскадроны. Я жду, что они проявят храбрость.
Кильмэн вспыхнул от скрытого упрёка и отдал честь.
— Хорошо, генерал.
Начальство вновь зарысило вперёд. Эта кавалерия была почти бесполезна, она не могла воевать. Конечно, в самом начале кампании против Пьемонта их лошади представляли собой ходячие скелеты, но в последнее время фуража хватало. Чего ей не хватало, так это боевых офицеров. Солдаты есть лишь то, что делают из них офицеры...
Они подъехали к пехотинцам Лагарпа, толпившимся справа и слева от насыпи. Очевидно, Лагарп уже прибыл и принял командование. Трубили горны, били барабаны. Люди бросали свои импровизированные биваки, бежали и строились в колонны.
Неподалёку от Гвардамильи Бонапарт встретил Даллеманя в сопровождении двух его заместителей — Ланюсса и Ланна. Даллемань — огромный, плотный, с толстыми, гротескно выпяченными губами — сообщил ему, что враг забаррикадировался не только в стоявших в центре деревни колокольнях, но и в некоторых домах. А на просёлочной дороге у Фомбио занимали позицию австрийские пушки.
Бонапарт коротко кивнул и посмотрел на раскинувшуюся впереди местность, расчерченную дамбами.
—Отлично! Немедленно атакуйте, генерал. К вам на помощь движется Лагарп.
Даллемань тоже присмотрелся к ландшафту.
— Очень хорошо, генерал. Я ждал приказа. В атаку пойдут три колонны: Ланюсс по дороге, Ланн по обочине слева, а я сам — по тропинкам справа.
Даллемань был самым подходящим человеком для того, чтобы командовать авангардом. Он никогда не мешкал и никогда не перечил.
— Отлично, генерал! Выступайте!
Бонапарт натянул поводья и съехал на обочину. То же сделала и свита. Карабинеры и гренадеры уже построились в шеренги. Не составило труда сформировать из них три колонны. Через несколько минут густые цепи карабинеров бегом двинулись вперёд, смело ныряя в раскинувшиеся перед ними рвы и переходя вброд затопленные рисовые поля. Дав карабинерам отдалиться, на пыльную дорогу ступила центральная колонна. Неистово били барабаны, люди возбуждённо смеялись и кричали, предвкушая близость схватки. Справа и слева по обочинам продвигались другие колонны; голубые мундиры солдат мелькали среди тополей.
Сидя верхом, он ждал и шутливо говорил Бертье:
— Я слышал, что наши интенданты очень удобно устроились в Пьяченце. Наверно, они думают, что мы собираемся здесь зимовать. Как же, должно быть, разочаруются эти вороватые канальи, если завтра мы уйдём отсюда! — Внезапно он стал серьёзным. — Это мне кое о чём напомнило. Пошлите приказ нашему другу наместнику Пьяченцы — пусть не обращает внимания ни на какие требования или счета за реквизиции, не подписанные либо главнокомандующим, либо начальником штаба, а также главным интендантом или Саличетти. Пусть не принимает требования интендантов или их поставщиков. Если те будут настаивать, пусть немедленно предупреждает военного коменданта, то¥ арестует их и направит в штаб-квартир! Это подрежет им крылышки; Рано или поздно мне придётся повесить кое-кого из этих мошенников. — Он посмотрел на Бертье, который заканчивал набрасывать проект приказа. — Добавьте, что губернатор должен немедленно, сообщать мне обо всех замеченных проступках, чтобы я мог принять соответствующие Меры. Сообщите ему, что я настоятельно приказываю уважать права личности, собственность и религиозные убеждения.
Прошло около часа. Даллемань был далеко впереди; лишь несколько разрозненных мушкетных выстрелов выдавало его присутствие. Теперь мимо них проходила передовая полубригада Лагарпа. Проехал и сам Лагарп верхом на коне. Бонапарт помахал рукой отдавшему честь дивизионному генералу.
— Удачи, генерал! Вы идёте за новыми лаврами!
К нему галопом подскакал адъютант.
— Генерал Даллемань докладывает, что враг покинул Гвардамилью и отошёл к Фомбио. Сейчас генерал направляет свои колонны к Фомбио и будет атаковать деревню с ходу.
В этот миг землю сотрясла мощная канонада. Началась битва за Фомбио.
— Едем, Бертье! — воскликнул Бонапарт. — В Гвардамилью! — Нужно было взглянуть на происходящее с высоты колокольни.
С адъютантами и свитой позади они рысью поскакали по дороге, обгоняя маршировавшую пехоту Лагарпа. Эти ветераны, чей дух окреп после победоносного форсирования По, были настроены по-боевому.
— Да здравствует генерал! — кричали они ему. — Да здравствует Бонапарт! Эй, Малыш, у тебя нет для нас ещё одной реки?
— Да здравствует Республика! Вперёд, мои храбрецы! — кричал он в ответ.
Эти оборванные пехотинцы начинали понемногу заражаться его духом.
Гвардамилья была убогой деревушкой, состоявшей из нескольких тонувших в навозе лачуг и совершенно неотличимой от других таких же жалких селений. Дверь колокольни была открыта. Высоко в стенах были пробиты амбразуры, но австрийских наблюдателей возле них уже не было. Труп одного из них валялся у церкви. Бонапарт и Бертье вошли в колокольню, по пыльным ступенькам вскарабкались туда, где между стропилами висел колокол, И в крошечное окошко стали вместе наблюдать за Фомбио.
В той деревне разыгрывался нешуточный бой. Оттуда доносился слитный треск мушкетных выстрелов, перемежавшийся тяжёлыми ударами пушек, которые скрывались под пологом поднимавшегося ввысь белого дыма. Казалось, эти залпы как ветром сдули центральную колонну: дорога была пуста. Насколько можно было различить, левая колонна, которую вёл Ланн, сверкая штыками, бежала к ближайшим домам. Им навстречу вырывались тонкие струйки дыма. Справа по всему полю наступали батальоны Даллеманя, проводившие обходной манёвр.
Видимо, колонна Ланна ворвалась в деревню, потому что внезапно оттуда донёсся шум, едва различимый с такого расстояния. Затем показались французы и преследующие их австрийцы в белых мундирах. Откатившись на сотню ярдов, люди Ланна остановились, сбились в нестройную колонну и, дав несколько залпов, снова ринулись вперёд. Колонна опять ворвалась в деревню, опять послышались сдавленные крики рукопашного боя, а затем во второй раз французы беспорядочно откатились назад. Бонапарт видел офицеров с обнажёнными шпагами, пробивавших себе дорогу среди отчаянно толкавшихся солдат, видел гренадеров, шеренга за шеренгой сплачивавшихся в колонну. Должно быть, где-то посреди этой кутерьмы сыпал чудовищными гасконскими проклятиями Ланн. Гренадеры снова двинулись вперёд; теперь они рассыпались на отдельные отряды, наступавшие справа и слева. Казалось, на сей раз Ланн сумел обеспечить командование и повёл атаку более методично.
Бонапарт перевёл подзорную трубу вправо. Даллемань всё ещё наступал, всё ещё окружал Фомбио. Казалось, за деревней, ближе к Кодоньо, вела бой кавалерия; в дело вступил Кильмэн. Там же виднелись небольшие кучки беломундирной пехоты Липтая. Враг явно намеревался защищать Кодоньо.
Он снова посмотрел на Фомбио. Похоже, Ланн одерживал верх: деревня постепенно переходила в его руки. Желтовато-белый дым больше не вздымался над крышами домов, мушкетная пальба стихала. Колонна Ланюсса свернула с мощёной дороги направо и по просёлку двинулась к Кодоньо. Бросив взгляд вниз, он увидел, что у подножия колокольни собираются солдаты Лагарпа и выступают по главной дороге.
Пора было самим переходить в Фомбио. Они с Бертье поспешно спустились по ступенькам колокольни и сели на лошадей.
Селение, пропахшее пороховым дымом, усыпанное трупами солдат — главным образом французов, — переполненное ранеными, окончательно перешло в руки Ланна. Однако эта победа далась дорогой ценой. Не обращая внимания ни на погибших, ни на взывавших о помощи раненых товарищей, гренадеры уже ломились в запертые дома. Казалось, все жители деревни в панике бежали.
Он поскакал направо, к Кодоньо, откуда доносилась яростная мушкетная пальба — резкие хлопки французских ружей и характерные дружные залпы австрийцев. Однако прежде чем он успел достичь деревни (оказавшейся куда больше, чем можно было ожидать), стрельба стала стихать и отдаляться. Его разыскал офицер Даллеманя и доложил, что два батальона в панике бегут на север, в направлении Лоди, а остальные — во главе с самим Липтаем — организованно отступают к Пиццигеттоне.
Нельзя было позволить им найти укрытие в крепости. Сойдясь в схватке с австрийцами, он твёрдо решил рассеять их как пыль по ветру, не дать им времени опомниться, Он приказал Лагарпу преследовать врага, а Кильмэну — галопом скакать к Пиццигеттоне и попытаться до подхода отступающих взять крепость штурмом. Это была крошечная и плохо укреплённая цитадель; никто и предположить не мог, что сюда придут французы...
Позднее, когда солнце уже клонилось к закату, он сам поехал в Пиццигеттоне. Батальонам Липтая удалось сдержать натиск Лагарпа и прорваться в убежище. Драгуны Кильмэна столь яростно наседали им на плечи, что едва не ворвались в крепость: нескольких кавалеристов сбросили прямо с поднимавшегося моста. Кильмэн докладывал, что крепость можно будет взять только правильной осадой. Нужно было съездить и взглянуть на неё самому.
Уже в сумерках он подъехал достаточно близко, чтобы рассмотреть высокие каменные стены со старыми брешами, заложенными кирпичом. К цитадели, стоявшей на другом берегу Адды, вёл деревянный мост. Подъёмный мост надо рвом торчал вверх; над парапетом развевался австрийский флаг. Не успела многочисленная свита главнокомандующего остановиться, как полдюжины стоявших на стенах пушек с грохотом изрыгнули пламя и дым. В воздухе раздался вой, скрежет, и пушечные ядра взрыли землю вокруг отряда. Лошади встали на дыбы, испуганные штабники рассыпались в стороны. Снова взревели крепостные пушки, снова в воздухе раздался угрожающий свист и железные ядра ударили в землю. Он оглянулся и увидел, что остался один. Трусы! Как будто они не знали, что человека нельзя убить, пока не настал назначенный ему час! Бонапарт в сердцах обругал этих малодушных вояк. Он в одиночку поехал дальше, остановил лошадь там, откуда крепость была видна лучше всего, и придирчиво оглядел её стены с выступающими бастионами. Пушки на парапетах продолжали греметь, изрыгая языки пламени. Вокруг свистели и завывали падающие ядра, ударялись в землю и выделывали смертельные рикошеты. Не обращая внимания на обстрел и сдерживая испуганную лошадь, он продолжал разглядывать крепость. Надо было показать пример этим штабным крысам. Ещё не отлито то ядро, которое убьёт его! Он с досадой понял, что рапорт Кильмэна был верен. Насколько можно было понять при этом скверном освещении, Пиццигеттоне нельзя взять одним генеральным штурмом.
Он повернул лошадь и присоединился к свите, прятавшейся за какими-то сараями.
— Прекрасно, господа! — ехидно заметил он. — Кажется, вы ещё не привыкли к пушечным ядрам. На войне частенько приходится сталкиваться с ними. Однако, как видите, шуму от них больше, чем вреда.
До утра здесь делать было нечего. Он приказал дивизии Лагарпа располагаться на ночлег в Кодоньо, а Бертье со свитой велел оставаться в Гвардамилье (на предмет каких-нибудь ночных недоразумений). Сам же он вернётся в Пьяченцу. Завтра утром надо будет подписать это пресловутое перемирие с герцогом Пармским.
На следующее утро к нему в Пьяченцу прибыл Бертье с горестной вестью. Всё произошло до ужаса нелепо. Едва закончился вчерашний бой, люди Лагарпа, как обычно, бросились грабить Кодоньо и близлежащие хутора. Около десяти часов вечера в Кодоньо, не встретив по дороге ни одной живой души, вступила небольшая австрийская колонна, посланная с запада на подкрепление к Липтаю и ничего не знавшая о разыгравшемся сражении. В то же время на главную улицу Кодоньо вошла французская Девяносто девятая полубригада, продвигавшаяся вперёд без всяких предосторожностей. После взаимного изумления началась яростная пальба. Услышав треск выстрелов, Лагарп, ужинавший в доме, который он выбрал для постоя, выбежал наружу, вскочил на лошадь и в сопровождении поскакал на площадь. Ночь была хоть глаз выколи. Кто-то догадался зажечь солому. На большой площади шло отчаянное сражение. Французы рассыпались на одном её конце, австрийцы сбились в кучу на другом, у лавок. Девяносто девятая полубригада стреляла залпами. Австрийцы, которых было всего около трёх сотен сапёров, сдались. Только после этого хватились, что Лагарп куда-то исчез. Его нашли мёртвым, убитым в сердце шальной пулей — французской пулей.
Однако другая часть австрийской колонны сражалась почти всю ночь. Бертье, прискакав из Гвардамильи, собрал пьяных солдат, метавшихся в панике, и вызвал на подмогу две полубригады, расквартированные в Фомбио. Наконец австрийцы, разбитые в беспорядочном бою на тёмных улицах, отступили к Касальпустерленго — несомненно, для того, чтобы соединиться там с войсками Болье.
Он хмуро внимал этому подробному рассказу. Опять это проклятое мародёрство! Как будто недостаточно было Дего и Сан-Микеле! Но на сей раз оно стоило ему Лагарпа. Это была ужасная потеря. Бедный Лагарп! Его предчувствие оказалось верным. Значит, ему действительно было на роду написано погибнуть глупо, случайно, от руки собственного солдата, в бессмысленной потасовке. Ирония судьбы! А вот он сам уцелел под градом ядер, сидя на коне у стен Пиццигеттоне. Жизнь — тайна; смысл её скрыт от нас пеленой. Видно, такова была судьба Лагарпа — бесславно погибнуть в этой глухой деревне. А для чего хранила судьба его, Бонапарта? Давала себя знать суеверная корсиканская натура. Бедный Лагарп! Эта утрата болью отдавалась в его сердце; смелый и честный, Лагарп был рыцарем без страха и упрёка. Траурным крепом оказалась повита его победа при форсировании По. «Траурным крепом» — именно так он выразится, докладывая об этом Директории. Что ж, волей-неволей придётся сделать перестановки. Надо будет отдать дивизию Лагарпа Менару, а Мессена назначить командующим всей ударной группировкой.
Он тут же засадил Бертье за работу. Французские патрули, которым было поручено не только поддерживать порядок в Пьяченце, но и собирать отставших, отправляя их в части, оказались совершенно беспомощными. Среди сброда, следовавшего за армией, царило самое разнузданное воровство. Был арестован французский офицер, дочиста разграбивший охраняемый им обоз и продавший большинство товаров на сторону.
Приходилось командовать ордой разбойников! Эти свиньи даже понятия не имели о том, что такое воинская честь. Поразительно, что он ещё чего-то добился с такими людьми...
Вошёл ординарец и доложил, что прибыло представительство от герцога Пармского. Бонапарт потёр ладони.
Сейчас они подпишут договор! Он не уступит им ни гроша и получит свои два миллиона и те двадцать картин!
Он улыбнулся Бертье:
— Теперь мы докажем Парижу, что действительно одержали множество побед!
Глава 16
На следующий день ещё до рассвета он с Бертье и Саличетти выбрался из Пьяченцы и подъехал к новому мосту, возведённому Андреосси. Мост был загромождён телегами. Он проталкивался между повозок, в то время как свита на все корки Честила медлительных, неуклюжих возниц, выкриками подгонявших своих неповоротливых тварей. Сегодня, двадцать первого флореаля, или десятого мая, предстояло свершиться великому делу.
Согласно сообщениям, враг отступал на всех фронтах, торопясь форсировать Адду, чтобы укрыться от французов за рекой. За исключением отряда Липтая, запертого в Пиццигеттоне, пунктом сбора сил Болье, очевидно, являлся Лоди. Нельзя ли перехватить его? Бонапарт был уверен, что можно. Болье всегда был медлителен. Австрийцы не умели совершать таких быстрых марш-бросков, каким он научил своих солдат.
На левом фланге наступала дивизия Ожеро. Она двигалась перпендикулярно дороге, связывавшей Лоди и Павию. Однако ни в коем случае нельзя было позволять Ожеро ввязаться в отдельное и бесполезное сражение. В авангарде уже шёл Даллемань со своими гренадерами. Должно быть, следом за ним двигалась передовая дивизия Массена, которой теперь командовал Жубер — второй по старшинству офицер. Им было приказано выступить из Пьяченцы сегодня в четыре часа утра. За Пьяченцей находилась дивизия Серюрье, торопившаяся сюда из Кастель-Сан-Джованни, которого она достигла прошлой ночью после давшегося огромными усилиями марш-броска; сегодня днём она могла бы форсировать По. Менар, которому было поручено командовать дивизией Лагарпа (бедный Лагарп!), оставался на правом фланге, прикрывая Пиццигеттоне. Бонапарт успешно управлялся со своей армией. К завтрашнему дню она будет собрана в один кулак. Но завтра Болье уже успеет пересечь Адду в районе Лоди. Бонапарт не мог ждать, пока скопятся все силы. Даллеманя, Жубера и Ожеро будет вполне достаточно, чтобы разбить Болье — если, конечно, того удастся перехватить.
Первые лучи зари начинали окрашивать ясное небо в бледно-жёлтые тона. День обещал быть чудесным, но чересчур жарким. В стоявшей у перекрёстка дорог небольшой деревне Касальпустерленго (дорога направо вела к Кодоньо и Пиццигеттоне; дорога налево уходила к Павии) он нашёл Массена и Кильмэна. Массена — холодный, сосредоточенный, намного более вежливый, чем раньше, и начавший проникаться уважением к своему поразительно молодому главнокомандующему — сообщил ему последние сведения. Несомненно, враг осуществлял генеральное отступление. Ночью Болье подошёл справа почти вплотную к Касальпустерленго; обнаружив, что дорога перерезана французами, он развернулся и куда-то исчез. Массена добавил, что вся местность ближе к Павии очень опасна, так как кишит множеством разрозненных австрийских отрядов.
Иметь с ними дело предстояло Ожеро и Кильмэну. Он дал Кильмэну чёткий и краткий приказ. Вперёд, к Лоди!
Наконец они нагнали Даллеманя, скакавшего во главе своих карабинеров и гренадеров. Бонапарт поехал вместе с ним во главе колонны, продолжавшей движение вперёд.
От Кильмэна, кавалерия которого шла слева, прибыл офицер и доложил, что в Сант-Анджело, на дороге между Павией и Лоди, они обнаружили брошенный австрийцами огромный обоз. Все его погонщики и конвой сбежали. Он посмотрел на Бертье и засмеялся. Добрый знак! Этот брошенный обоз говорил о том, что австрийцев охватила неописуемая паника. Все шпионы доносили, что страна охвачена ужасом и что при малейшем слухе о его приближении жители спасаются бегством. Этот повальный исход должен сильно затруднить продвижение австрийцев. Вперёд, вперёд! Позади гремели барабаны авангарда, выбивавшие дробь марш-броска.
Было девять часов. Внезапно впереди — там, где шли разведчики — послышался треск мушкетов. Вскоре оттуда прибежал карабинер. В маленькой придорожной деревушке стояла сильная застава австрийских гренадеров. С ними была и кавалерия.
Он обернулся к Мармону, велел ему взять полк гусар, сопровождавший авангард, и отогнать австрийскую кавалерию. Тем временем Даллемань зычно выкрикивал приказы гренадерам. Когда Мармон с гусарами скрылся в облаке пыли, вслед за ними выступил Ланн с батальоном гренадеров. Впереди ахнула пушка. Непрекращавшаяся мушкетная пальба стала громче. Очевидно, австрийский арьергард упорно держался за эту деревню, позволяя основным силам достичь моста в Лоди.
Батальон за батальоном устремлялись вперёд, мелькая между тополями и с криками преодолевая простреливаемые участки. Потянулись назад первые легко раненные. Свежие упряжные лошади промчались мимо с пушками, остановились в сотне ярдов впереди, развернулись, и залп всех четырёх орудий слился в чудовищный грохот. Массена, чьё обычное сардоническое спокойствие сменилось в громе битвы яростным возбуждением, проскакал мимо, крикнув, что он собирается разведать позицию врага. Он возвратился несколько минут спустя.
— Противник хорошо окопался, генерал! — крикнул он. — Нужно провести обходной манёвр!
И он тут же ускакал отдавать приказы.
На манёвр потребовалось время. Провести пехоту через полузатопленные поля справа и слева от дороги оказалось тяжёлым делом. Трещали мушкеты, бухали пушки, а Бонапарт нетерпеливо ждал. Спереди доносилась яростная пальба. Этих австрийцев было не так легко выбить.
Часы тянулись невыносимо медленно. Наконец прискакал один из гусар Мармона и отдал честь.
— Генерал, майор Мармон докладывает, что он атаковал и обратил в бегство неприятельскую кавалерию. Гренадеры захватили деревню и преследуют врага. Майор Мармон также начал преследование.
Вперёд! Вперёд! Драгоценное время уходило в песок. Вместе со свитой он рысью поскакал по дороге, миновав маленькую грязную деревушку, переполненную убитыми и ранеными; в стенах домов зияли свежие пробоины от пушечных ядер. На земле валялась всевозможная австрийская амуниция. Им даже удалось захватить одну вражескую пушку.
Вперёд! Вперёд! Миля за милей, миля за милей! То и дело впереди возобновлялась мушкетная стрельба; гусары и гренадеры Даллеманя преследовали врага, не давали ему времени опомниться, гнали его к Лоди. Жара усилилась, душила пыль, но он ни на миг не позволял себе думать о том, что можно удержать погоню; надо было захватить мост до подхода основных сил Болье.
А вот и Лоди! Внезапно он оказался рядом с древними стенами и средневековыми круглыми крепостными башнями. У подножия стен разгорячённые гусары Мармона преследовали австрийскую кавалерию. В воротах скопилась толпа австрийцев в белой форме, стремившихся пробиться внутрь; за ними гнались больше похожие на шайку бандитов, чем на регулярные войска, французские гренадеры и в жестоком рукопашном бою живо расправлялись с самыми неповоротливыми.
Австрийская пехота вместе с частью французских гренадеров оказалась в воротах Лоди. Другие отряды французов бежали справа и слева, быстро перелезали через местами обрушившиеся старые стены и исчезали за ними.
Наступил полдень. Бонапарт последовал за опьянёнными горячкой преследования гренадерами Даллеманя, ворвавшимися на узкие улицы Лоди с криками «Да здравствует Республика!», обгонявшими и уничтожавшими пулей, штыком или прикладом мушкета тех немногих австрийцев, которые пытались сопротивляться. Эта погоня привела его на большую площадь, загромождённую перевёрнутыми походными котлами. Другие австрийские отряды были захвачены врасплох во время дневной трапезы. Попав в самую гущу дико вопивших гренадеров, он вместе с; ними достиг длинной вымощенной булыжником улицы, начинавшейся под аркой в дальнем углу площади. По этой улице, заканчивавшейся средневековыми воротами, стремглав бежали австрийцы.
Пришпорив лошадь, он пробился сквозь толпу возбуждённых солдат и проехал через портал. Прямо перед ним раскинулся длинный мост через Адду. На его дальнем конце ещё виднелись последние отряды во всю прыть удиравших австрийцев.
Тут же над противоположным берегом взвился дым, и земля вздрогнула от грохота. В воздухе раздался дикий вой, и мост осыпала картечь, сразив на месте с полдюжины солдат. В диком ужасе толпа метнулась назад. Гренадеры, оказавшиеся на мосту, не чувствуя поддержки, повернулись и побежали обратно. А на другой стороне реки снова и снова раздавался тяжкий грохот, сопровождавшийся воем картечи. К нему присоединился свист пуль стрелявшей залпами вражеской пехоты. Толпящиеся, толкающиеся французы устремились обратно в ворота, ища укрытия за крепостными стенами.
Бонапарту стало ясно, что он опоздал и Болье успел переправиться, но надо было взглянуть, какие силы им противостояли. Перед мостом возвышалась статуя какого-то святого. До этого места было довольно далеко. Он придержал лошадь. На другом берегу, ещё затянутом дымом, хотя пушки перестали стрелять, он заметил выстроившуюся в колонну беломундирную пехоту. Очевидно, австрийцы всерьёз намеревались защищать мост. У них было много пушек; он ещё не мог сказать сколько. Часть их простреливала мост из конца в конец. Сам мост пока ещё уцелел, и было важно сберечь его.
Бонапарт тут же вспомнил о нескольких сопровождавших авангард пушках, которые стояли с другой стороны ворот. Но отправить приказ было не с кем: в этой толпе он оказался отрезанным от своего штаба. Бонапарт пришпорил лошадь, немного отъехал от ворот, проложил себе дорогу через толпу и увидел пушки, две лёгкие пушки со свежими упряжными лошадьми. Он пробился поближе и помахал рукой.
— Артиллерия, вперёд!
Офицер, командовавший батареей, прокричал приказ. Погонщики щёлкнули кнутами. Стоявшие на дороге пехотинцы шарахнулись в стороны. Бонапарт снова крикнул:
— Пушки, вперёд! Следуйте за мной! — На мгновение он снова стал простым артиллерийским офицером.
Они проехали через арку ворот и снова услышали вой и скрежет вражеской картечи, поливавшей всё вокруг смертельным ливнем. Он едва замечал это.
— Вперёд! Вперёд!
Его опьянил азарт. Он подскакал к статуе и поднял руку.
— Стой! Батарея, к бою! Беглый огонь! Картечью!
Упряжки развернулись и встали. Орудийная прислуга соскочила с пушек и зарядных ящиков, погонщики поспешили в укрытие. Офицер чётко выкрикивал команды. Все лихорадочно взялись за работу: одни подтаскивали ближе зарядные ящики, открывали их и доставали боеприпасы, другие наводили стволы, прочищали их банниками и шомполами, третьи торопливо подносили снаряды, прижимая их к груди. Снаряды представляли собой шарообразные связки пуль, скреплённые железными обручами. Артиллеристы бросились заряжать орудия. Два солдата чиркнули огнивами и подожгли запалы, в то время как наводчики проверили наклон ствола и прочистили запальное отверстие проволокой. Над их головами завывала картечь, рядом свистели вражеские пули. Один человек упал ничком, второй опустился наземь, как мешок.
— Готов!.. Готов!
Офицер выкрикнул приказ:
— Огонь!
Пушки подпрыгнули и откатились назад, из стволов вылетели два толстых жгута оранжевого пламени, и тут же всё окуталось густой пеленой дыма. Пока артиллеристы готовились к следующему залпу, банили стволы, заряжали и поджигали запалы, в воздухе снова завыла вражеская картечь.
Бонапарт властно сказал молодому офицеру, командовавшему пушками:
— Любой ценой уберечь мост! Сейчас сюда подвезут другие пушки. Удерживать позицию до последнего человека!
Он галопом поскакал к воротам, возле которых теперь никого не было, проехал под аркой и встретил свою свиту, в гуще которой был и Бертье. Саличетти тоже находился здесь; его оливково-зелёное штатское платье, которому придавала официальность трёхцветная перевязь, странно выделялся среди военной формы окружающих.
Бонапарт крикнул своим офицерам:
— Тащите сюда всю артиллерию, которая вам попадётся! Как можно скорее! Расставьте её по берегу реки!
Адъютанты поскакали врассыпную и мгновенно исчезли в растерянной толпе, оставив генерала наедине с Бертье и Саличетти.
Яростная решимость овладела им.
— Они не уйдут от меня! — воскликнул он. — Мост ещё не разрушен!
Саличетти с тревогой посмотрел на него.
— Генерал, вы что, действительно собираетесь пробиться по мосту?
Безобразное лицо Бертье стало угрюмым и налилось кровью.
— Это будет убийственное дело, — заметил он. — Гренадеры в один голос говорят, что мост длинный и простреливается насквозь.
Бонапарт не ответил. Несмотря на твёрдую убеждённость в своей правоте, он пока не принял окончательного решения. Ещё не поздно было отступить. Он поискал Даллеманя, чья огромная фигура возвышалась над толпой.
— Высылайте ваших стрелков, Даллемань! Пусть займут позицию на берегу и в домах, выходящих на реку! Вести беглый огонь! Не давать врагу разрушить мост!
Даллемань усмехнулся; его толстые губы растянулись от уха до уха. Даллемань любил хорошую драку, и чем она была ожесточённее, тем лучше.
— Слушаюсь, мой генерал!
Командир авангарда зычно выкрикнул команду. Два отряда карабинеров проскочили через ворота, осыпаемые вражеской картечью. Время от времени с воем прилетали пушечные ядра и ударяли в стену, обрушивая наземь куски кладки.
Он оглянулся по сторонам в поисках места, откуда можно было бы вести наблюдение, увидел неподалёку от ворот высокую колокольню церкви Святой Магдалины и заторопился к ней, сопровождаемый Бертье и Саличетти.
Все трое поспешно взбирались по ступенькам, пока не оказались на открытом верхнем ярусе, обнесённом каменной балюстрадой; над их головами висел огромный колокол. Да, отсюда всё было видно как на ладони!
Прямо под ними раскинулся деревянный мост, протянувшийся от города до другого берега реки. На вражеском берегу у самого моста и немного правее него возвышалось несколько крепких каменных зданий. Рядом с ними, выстроившись в колонну, стояла австрийская пехота в белых мундирах. Немного поодаль, за нависавшей над мостом складкой местности, скрывавшей их от огня французов, накапливались другие австрийские войска. Там же стояла и выстроившаяся поэскадронно кавалерия. (Если это была вся армия Болье, то надо было признать, что она сильно поредела за время стремительного отступления). Справа и слева от моста, как и прямо против него, располагались австрийские батареи. Они вели беспорядочный огонь, и Бонапарт никак не мог определить, сколько же пушек защищает проход. На широком, покрытом галькой берегу в две сотни ярдов длиной, дальний конец которого, видимо, заканчивался мелководьем, рассыпались австрийские стрелки. Укрываясь за всем, что годилось для этого, они вели огонь по городу.
Французские стрелки отвечали им. Две его пушки теперь занимали позицию немного правее первоначальной, отмеченной несколькими трупами, но по-прежнему обстреливали другой конец моста, находившийся в руках австрийцев. К этим двум прибавилось несколько новых орудий. С колокольни Бонапарт увидел, что командование принял старший артиллерийский офицер. Возможно, это он приказал первым двум пушкам сменить позицию. Австрийцы, прижатые к земле непрекращавшимся огнём, даже не пытались разрушить мост.
Бонапарт увидел достаточно. Он отвернулся от балюстрады. Сам не сознавая того, он пришёл к решению, как будто это сделал за него его гений. Теперь он мог ответить на вопрос Саличетти.
— Я попытаюсь. Почему бы и нет? Солдаты испытывают упоение от победы. Они готовы на что угодно. И если они сумеют сделать это, то станут неодолимы. Австрийцы больше никогда не устоят перед нами. Вся Ломбардия поразится этому подвигу и капитулирует! Но нужно подготовиться к атаке. Пошли! — Пока они спускались по ступенькам, Бонапарт продолжал думать о главном. — Бертье, пошлите Ожеро приказ ускорить марш на Лоди. Прикажите Жуберу поторопиться: его передовая бригада должна быть на подступах к городу. Направьте приказ Бомону взять кавалерию, найти на севере, выше по течению, брод и ударить на врага с фланга!
Они вышли на улицу и присоединились к ожидавшим их офицерам штаба. Бертье отобрал адъютантов и отослал с ними приказы. На глаза Бонапарту попался командующий артиллерией.
— А вот и ты, Сюньи! Тащи сюда все пушки, какие сможешь! Ставь их справа и слева от моста! Торопись! — Он повернулся к остальным, — Давайте поднимемся на стены и оценим позиции врага с этой высоты.
Чуть левее ворот стояла круглая башня с лестницей, которая вела на крепостной вал. Сопровождаемый Бертье, несколькими офицерами и Саличетти, он поднялся по винтовой лестнице, дрожавшей от грохота стоявших совсем рядом пушек. С крепостного вала открывалась прекрасная панорама. Справа от них тянулся узкий деревянный мост на скреплённых между собой опорах, между которыми оставалось очень неширокое пространство для прохода судов. Сейчас на мосту не было ни души. На дальнем конце в безоблачное голубое майское небо вздымался белый дым австрийских батарей. Теперь они снова вели беглый огонь. Глядя в подзорные трубы, Бонапарт с Бертье пересчитали изрыгавшие картечь пушки: их было не то четырнадцать, не то пятнадцать. Шесть орудий простреливали мост; восемь или девять, разместившиеся поодаль, могли вести перекрёстный огонь. Рядом с домами всё ещё стояла колонна австрийской пехоты. Отсюда не было видно других австрийских отрядов, скрывавшихся за складкой местности. Вдоль берега расположились непрерывно палившие австрийские стрелки.
На французской стороне существенно прибавилось артиллерии. Справа и слева от моста стояло больше дюжины пушек, которые вели огонь по врагу. Другие ещё только подтягивались. Внизу, прямо под ними, лошади рысью провезли ещё четыре пушки, которые тут же заняли позицию. Позади них громоздились на склоне горы дома Лоди, возвышавшиеся над крепостным валом. С каждой крыши, из каждого окна и с берега стрелки вели непрерывный огонь по врагу. Сейчас у австрийцев шансов разрушить мост оставалось ещё меньше. Воздух дрожал от орудийных залпов, но казалось, что ни канонада, ни мушкетный огонь не причиняли серьёзного вреда ни одной из сражающихся сторон.
Он твёрдо решился захватить этот мост в опровержение всех канонов войны. Совершить обходной манёвр и форсировать Адду в другом месте можно было только в Кассано, находившемся в двух днях пути к северу. К тому времени Болье (он был уверен, что на том берегу находится именно Болье, возглавляющий остатки своей разбитой армии) ускользнёт из его рук и сохранит войска. Правда, переправившись через Адду, Болье оставил открытой дорогу на Милан. Но он и сам не рискнул бы вступить на эту дорогу, не отогнав Болье подальше от своего фланга. Раз уж он не сумел перехватить врага и покончить с ним, следовало оттеснить австрийцев с линии обороны на Адде, овладеть Пиццигеттоне и под угрозой окружения заставить Болье отступить к Минчо. Только тогда у него будут развязаны руки для захвата Милана. Если бы он выбил Болье с его позиций манёвром через Кассано, пришлось бы гнать его на восток — подальше от Пьемонта. Мирный договор с пьемонтцами ещё не был подписан, и если бы переговоры в Париже сорвались, ему пришлось бы быстро повернуть на Турин. Все эти соображения молнией пронеслись в его мозгу, пока он осматривал позиции.
Он должен взять этот мост. Внезапно экзальтация взяла верх над его обычным благоразумием, и Бонапарта охватила уверенность в победе. Как будто его демон, его гений полностью овладел им, наполнив душу безграничной дерзостью, привёл в такое состояние, когда человек с дрожью убеждается в том, что способен на всё. Не было на свете ничего, что было бы ему не по плечу. Эта оборванная армия могла добиться чего угодно, пока он вёл её вперёд, заражая солдат своим собственным, непреодолимым, как стихия, стремлением к поставленной цели. Вся Ломбардия, вся Италия, изумлённая этим беспримерным подвигом, склонится к его ногам. Его армия, со времён Дего не сталкивавшаяся в серьёзном бою с австрийцами, почувствует себя непобедимой. И напротив, австрийцы окончательно падут духом. Как он часто говорил, на войне боевой дух — это всё.
Он обернулся к Бертье:
— Нужно подождать, пока не подтянутся Ожеро и Жубер. Однако сообщите Даллеманю, чтобы его гренадеры наполняли патронами подсумки и строились в штурмовую колонну. Пусть держит их в укрытии, пока я не отдам приказ.
Бонапарт снова посмотрел в подзорную трубу, тщательно изучая все детали позиций противника. Он видел кавалерийские части, рысью скакавшие по берегу. Но неприятель не вводил в дело подкрепления — ни пехоту, ни артиллерию. Неужели ему противостоял всего лишь сильный арьергард? Он бы ни за что не сказал этого своим войскам. Пусть думают, что перед ними вся австрийская армия. Он знал, что подавляющее большинство его солдат составляют пылкие, возбудимые уроженцы Южной Франции. Если он втравит их в это дело, они должны воспламениться до безумия и свято уверовать в собственную непобедимость. Однако нельзя торопиться. Надо дождаться, когда подтянется Ожеро и когда вышедшая из Пьяченцы дивизия Жубера поддержит штурмовую колонну. Нужный момент настанет только тогда, когда его кавалерия пересечёт реку выше по течению и отвлечёт на себя правый фланг австрийцев. Час за часом грохотали пушки. Теперь на французском берегу их насчитывалось уже тридцать.
Было пять часов. Простреливаемый пулями мост всё ещё оставался пустым. Статуя святого давно лишилась головы, снесённой пушечным ядром. Бертье докладывал, что Даллемань уже сформировал штурмовую колонну и что первая бригада дивизии Жубера, еле живая после форсированного марша, входит в город. Ожеро также был неподалёку: он двигался снизу по Боргеттской дороге. Бонапарт сложил подзорную трубу. Решающий момент приближался. Он может дать Жуберу и Ожеро час на то, чтобы прийти в себя и немного отдохнуть; кавалерии Бомона он даст на отдых чуть больше времени. А пока можно спуститься к штурмовой колонне, поговорить с людьми, передать им частичку собственного духа; эта отчаянная атака моста не могла, не должна была захлебнуться.
Вместе с Саличетти и Бертье он спустился по лестнице. Когда они оказались на улице, гусарский лейтенант доложил, что Бомон нашёл брод. Он приказал передать Бомону, чтобы тот немедленно начинал переправу. Бомон был мямлей до мозга костей. Разведать брод и не решиться форсировать реку — это как раз в его стиле. Если бы на его месте был Стенжель!
Широкая эспланада между барочной церковью Сан Джакомо и воротами, выходившими на Адду, была забита пехотой, карабинерами и гренадерами колонны Даллеманя. Три с половиной тысячи солдат стояли в тесном строю. Там был и Массена, смуглое лицо которого горело от близости схватки; Даллемань, Ланюсс и Ланн заканчивали последние приготовления. Едва Бонапарт, сопровождаемый Бертье, двинулся в сторону Массена, как к командующему приблизился неправдоподобно высокий офицер с длинным, жёлтым лицом и отдал честь. Он хорошо знал этого человека. Швейцарец Дюпа командовал вторым батальоном карабинеров. Он славился на всю армию как своей смелостью, так и комичной торжественной мрачностью.
— Что, храбрец? — спросил его Бонапарт. Он готов был обнять каждого из своих солдат.
Дюпа снова торжественно отсалютовал ему.
— Хочу подать жалобу, мой генерал. Во главу колонны поставили гренадеров. Эта привилегия принадлежит моему отряду. Я имею честь требовать её соблюдения, мой генерал. — И гигант снова отдал честь, оставаясь предельно серьёзным.
Бонапарт улыбнулся:
— Конечно, майор! Это право стрелков. Никто не лишит вас славы, к которой вы стремитесь. Массена! Второй батальон карабинеров настаивает на том, чтобы возглавить колонну. В такой просьбе отказать нельзя. Пропустите батальон вперёд!
Дюпа снова торжественно отсалютовал.
— «Спасибо, мой генерал!
Этот случай потряс его до глубины души: вот тот дух, который он — и только он — сумел разжечь в этих оборванных, готовых взбунтоваться солдатах, встреченных им в Ницце. За какой-нибудь месяц они полностью переменились. С такими частями, требующими послать их на почти верную смерть, можно завоевать весь мир! Он стоял среди гренадеров, которые при его виде смеялись и громко кричали:
— Ну когда же мы пойдём в атаку, генерал? Дьявол! Мы. схватим простуду, пока дождёмся приказа!
Он тоже смеялся, стоя в самой гуще своих солдат.
— Конечно, я мог бы отдать приказ хоть сейчас, мои храбрецы! Но какой в этом толк? На середине моста вы остановитесь и устроите перестрелку с врагом, а тогда пиши пропало — всё пойдёт насмарку! Мне нужны парни, которые пройдут мост из конца в конец и которых ничто не сможет остановить!
Тут вся толпа громко завопила:
— Приказывай, генерал! Приказывай! Сам увидишь! Мы не остановимся! Мы вышибем этих проклятых австрияк! Загоним им штыки в брюхо! — Они заверяли его в своём яростном желании идти в атаку, выкрикивая самые непристойные ругательства и угрозы в адрес врага. Неистовое возбуждение пылало в нем, толкало его тщедушную фигурку туда и сюда. Они с таким азартом требовали приказа, как будто их ждала не смерть, а неслыханно сладострастная оргия.
Момент приближался. Он позвал Бертье и приказал ему отправить приказ Сюньи усилить артиллерийский огонь.
Грохот пушек заглушал слова, но он всё ещё ходил между этими людьми, горячечно, фантастически возбуждёнными близостью неминуемой смерти, навстречу которой им предстояло идти.
Он смеялся, говоря с ними, и сам преображался под влиянием овладевшего им душевного опьянения.
Внезапно Бонапарт изменил тон. Он больше не шутил.
— Ничто не может остановить нас, мои храбрецы! Что значит этот мостик, эта речушка для таких солдат, как вы? Мы выбьем австрийцев, этих трусливых наёмников, с той стороны, вышибем их из Италии! Я обещал повести вас к славе! Сегодня вы завоюете славу — славу, которая разнесётся по всей Европе и обессмертит ваши имена!
Они подхватили это слово, полное таинственного очарования, и по рядам понеслось:
— Слава! Слава! Давай приказ, генерал! Давай приказ!
Их крики заставили Бонапарта безумно расхохотаться.
Это было общее помешательство, которое коснулось и его.
— Ждите! Не будьте нетерпеливыми! Я отдам приказ в нужное время! Вы получите свою славу! Если что-то и принадлежит Итальянской армии, так это честь быть авангардом, честь быть элитой! Вы ринетесь по мосту, не останавливаясь ни на шаг, и сметёте этих австрийцев! Во всех французских армиях не останется ни одного солдата, который не узнает о вашей славе! Ваши дети и внуки будут греться в её лучах!
Он ощутил, что сам теряет самообладание от этого хриплого рёва:
— Слава! Слава! Да здравствует Республика!
Было шесть часов. Наверно, Жубер и Ожеро уже готовы поддержать атаку. Он поискал взглядом командиров авангарда. Они стояли во главе колонны гренадеров, сразу за Дюпа и его карабинерами. Там был Массена со своими адъютантами, там были Даллемань, Ланн, Ланюсс, Моннье со знамёнами в руках. Незадолго до того он приказал закрыть ворота, чтобы защититься от какого-нибудь шального пушечного ядра. По приказу командиров колонна подравняла ряды и внезапно притихла, тревожно ожидая сигнала открыть ворота и рвануться вперёд. Снаружи беспрерывно громыхали пушки Сюньи; один раскат переходил в другой. Казалось, что австрийский огонь стал не таким плотным.
Момент настал. Он выхватил шпагу и взмахнул ею.
— Барабаны, бейте атаку! Вперёд!
Его голос утонул в треске барабанов и диких, восторженных криках ринувшейся вперёд колонны. Ворота распахнулись настежь. Бонапарт видел, как в них исчезали командиры, видел, как колонна быстро заворачивала налево. Он обернулся к стоявшему рядом начальнику штаба.
— Бертье, будьте готовы собрать их, если они дрогнут! — Крикнув это, он бегом поднялся по лестнице на крепостной вал. Саличетти последовал за ним.
— Генерал, неужели они смогут это? — спросил Саличетти.
— Смогут и сделают! — яростно ответил Бонапарт. Его душа была с ними.
Как они шли! С крепостного вала он хорошо различал головную часть колонны, вступившую на мост. По обе стороны от них били французские пушки. На том берегу раздался страшный грохот. Он видел, как картечь хлестала по деревянному мосту, срывая щепки, видел людей, падавших впереди, справа и слева. Но колонна рвалась вперёд, а гигант Дюпа потрясал трёхцветным знаменем, подбадривая своих неистовых карабинеров. Трах, трах, трах! Австрийская картечь взорвалась ниже, превратив голову колонны в кучу распростёртых людей. Дюпа всё ещё размахивал знаменем. Оставшиеся в живых перепрыгивали через трупы и бежали вперёд. Каждая австрийская батарея, каждый австрийский стрелок палили так быстро, что едва успевали заряжать. Клубы дыма застлали мост. В них всё ещё виднелись французские знамёна. Трах! Этот залп был оглушительным. Он с тревогой увидел, что голова колонны заколебалась и отпрянула. Вокруг стоял адский грохот.
Гренадеры попятились. Вот-вот могла начаться паника. Он увидел выбежавшего из ворот Бертье, размахивавшего знаменем, увлекавшего за собой тех, кто был рядом, и пробивавшегося вперёд.
Минуту-другую на мосту продолжалось смятение; знамёна над колонной то вздымались, то опадали. А затем карабинеры и гренадеры снова бросились вперёд. Глядя на среднюю часть моста, он увидел, что десятки людей съезжают по опорам, прыгают в воду и по мелководью бегут к берегу. Выбравшись на покрытую галькой сушу, они начинали палить по австрийским пушкам, простреливавшим мост. Орудийный огонь слабел. Главная колонна пробивалась, уже исчезая в клубах дыма. Они прошли! Если бы только в этот момент появилась кавалерия Бомона и вклинилась в австрийцев с фланга!
Однако кавалерии не было. Мост заполнился опьянёнными близкой победой гренадерами.
Бонапарт заметил, что несколько австрийских пушек уже отведено прочь.
За мостом уже закипела яростная схватка. Австрийская кавалерия атаковала гренадеров, у которых не было ни места, ни времени, чтобы построиться в каре. Гренадеры сплачивались в небольшие группы и открывали огонь, окутываясь дымом выстрелов. Когда всадники начали вылетать из седел, вражеская конница повернула назад. Тут из-за складки местности показались стройные ряды австрийской пехоты, до поры стоявшие в засаде. Французская канонада тут же усилилась; ядра, летевшие с противоположного берега, пробивали в шеренгах врага широкие бреши. В подзорную трубу Бонапарт видел, как гренадеры Даллеманя, рассыпавшись более широким фронтом и держа патроны в зубах, лихорадочно заряжали мушкеты. Схватка становилась всё более ожесточённой, берег окутался дымом. Когда же дым рассеялся, он обнаружил, что гренадеры подались назад, знамёна опали, а окружившая их австрийская кавалерия отчаянно работает саблями. Несколько улан даже въехало на мост, покрытый распростёртыми телами. Прошло несколько тревожных минут, когда казалось, что гренадеры вот-вот побегут обратно; их героизм начинал иссякать. Но французы всё же сумели перестроить свои тонувшие в дыму ряды. Их трескучие залпы отвечали залпам австрийских мушкетов. Вражеская кавалерия тоже исчезала в дыму.
В этот момент из города вышла первая бригада Жубера и бурным потоком устремилась по улице, которая вела к мосту. Первым из ворот показался размахивавший знаменем Червони. Бешено стуча в барабаны, издавая дикие крики, колонна бросилась на заваленный трупами мост. Она быстро достигла противоположного берега, свернула направо и сразу вошла в дело. А по мосту уже устремилась вперёд вторая бригада. Её возглавлял сам Жубер со шпагой в руке.
— Да здравствует Республика!
От их криков стыла кровь в жилах. Эта бригада также добралась до дальнего конца моста, заняла позицию слева и принялась стрелять залпами.
Несмотря на плохую видимость, было заметно, что австрийцы отброшены. И тут наконец-то на другой стороне, на тянувшейся вдоль берега дороге, показалась французская кавалерия, полк конных егерей! Размахивая саблями, мерцавшими в лучах заходящего солнца, егеря галопом мчались на правый фланг австрийцев.
В воротах показались новые отряды. Это была дивизия Ожеро, пришедшая в город после долгого марш-броска. Во главе их на громадной лошади ехал потрясавший знаменем гигант Ожеро. На тропинке, которая вела под мост, Бонапарт заметил какой-то рьяный батальон, который бросился в воду, решив преодолеть реку вплавь.
Он больше не мог утерпеть. Он должен руководить боем! Бонапарт сбежал со стены, сел на лошадь и рысью поскакал по изрешеченному картечью, усеянному убитыми и ранеными мосту. Саличетти не отставал: оказывается, ему было не занимать смелости. На другой стороне Бонапарт встретил Бертье. Тот ехал верхом на захваченном коне, его лицо и роскошный мундир были чёрными от копоти. Бертье рассказал, что помог повернуть на врага отбитую у австрийцев пушку и принял участие в атаке французских егерей. В один день ему пришлось побывать гренадером, артиллеристом и кавалеристом. Ай да Бертье! Ему просто цены нет! Бонапарт осыпал его восторженными комплиментами. Директория обязательно узнает об этом!
Битва ещё продолжалась, и напряжение её не слабело. Вокруг него свистели пули и пушечные ядра. Однако вскоре австрийская пехота явно начала отступать. Это отступление прикрывала кавалерия: она атаковала, поворачивала и атаковала вновь. Шедшая в арьергарде австрийская артиллерия бешено отстреливалась. Где была остальная французская кавалерия? До поля боя добрался лишь один полк егерей. Его кавалерией командовали безнадёжные олухи! Настал самый удобный момент, чтобы наброситься на отступающего врага, а эскадроны Бомона как сквозь землю провалились!
Он поехал вперёд и велел Ожеро и Жуберу усилить атаку. Враг отступал всё дальше, всё быстрее; вездесущая конница успешно прикрывала пехоту. И тут к нему подскакал покрытый пылью гусарский лейтенант. Брод оказался трудным, Бомон надолго задержался, но теперь наконец прибыл и сразу устремился в атаку на отступавших австрийцев. Он уже взял в плен несколько отрядов, отбил у врага обоз и несколько пушек. Бонапарт приказал Бомону продолжать преследование — «для доклада о победах».
Пехота, измученная долгим маршем и атакой с ходу, была не в состоянии гнаться за противником. Он послал Массена и Ожеро приказы разбить биваки на захваченных позициях.
Теперь он шагом ехал среди перемешавшихся полубригад. Измученные солдаты сидели и лежали, хмуро делились содержимым своих фляжек. Несмотря на крайнюю усталость (Бедные черти! На них было жалко смотреть), при его приближении они оживали и приветствовали командующего радостными возгласами. Какой-то нетвёрдо державшийся на ногах гренадер подбежал к его лошади, размахивая медвежьей шапкой, и закричал:
— Да здравствует Бонапарт! Да здравствует Малыш! Да здравствует Маленький Капрал!
Другие солдаты подхватывали этот клич, размахивали шляпами и выкрикивали — наполовину в шутку, наполовину восторженно:
— Да здравствует Маленький Капрал!
Кличка ему понравилась. Значит, эти грубые, ожесточившиеся солдаты всем сердцем полюбили своего молодого командира и безгранично восхищались им.
Он разыскал Саличетти и вместе с ним поехал в сумерках к мосту.
Когда копыта коней застучали по деревянному настилу, он обернулся к представителю правительства.
— Итак, Саличетти, мы сделали невозможное! Надеюсь, твоя чёртова Директория оценит это. Ломбардия наша!
Хитрый корсиканец (как хорошо он его знал!) искоса посмотрел на своего соотечественника и тоном заговорщика сказал:
— Бонапарт, все эти годы я только наполовину верил в тебя. С сегодняшнего дня я твой сторонник. Можешь рассчитывать на меня: я напишу Директории как надо. Отныне у нас с тобой одна судьба. Я убеждён: нет ничего, что ты не смог бы сделать, нет такой высоты, которая была бы тебе не по плечу. Ну, а сейчас, — добавил он с неприятным смехом, — мы как следует потрясём эту «прекраснейшую Италию» и начнём с Лоди. В здешнем кафедральном соборе хранится множество ценностей — так же, как и в других храмах. Но в первую очередь я хочу наложить руки на местный ломбард, где все эти синьоры закладывают своё серебро и драгоценные камни, а богачи — и приданое дочерей. Когда мы прибудем в Милан, то найдём там неизмеримо больше. Мы осыплем золотым дождём этих мошенников из Люксембургского дворца. Тогда они не посмеют вмешиваться в твои дела. А ты как думал, товарищ? Теперь мы будем вместе ковать своё счастье!
Отвратительная неразборчивость Саличетти (этот человек жил только ради денег) покоробила Бонапарта. И это в такой момент! Сам он думал только о славе — славе, которую наконец-то завоевал. Но в словах этого ловкача, некогда сторонника террора, была доля правды. Сейчас Саличетти мог оказаться полезным как никогда: возможно, Директория уже начинала побаиваться его побед и его известности. Конечно, Саличетти был негодяем, но мир полон негодяев. Нужно принимать людей такими, как они есть, и использовать их. Однако пусть гражданин Саличетти знает, что его место во втором ряду.
Было уже совсем темно, когда они спустились с моста и поднялись по склону крутого холма в Лоди. Их встретил кавалерийский офицер и проводил до самой штаб-квартиры. Бертье облюбовал для этой цели палаццо Питолетти.
На тёмной средневековой площади Саличетти распрощался с ним.
— Спокойной ночи, генерал! Приятного сна! — Он вновь засмеялся, и вновь неприятно. — А я ещё не собираюсь ложиться. Хочу немедленно взяться за реквизицию, пока эти синьоры не припрятали свои сокровища!
Бонапарт был рад избавиться от него. Саличетти был просто разбойником, не имевшим никакого понятия о славе.
Он поужинал вместе с Бертье и его радостно оживлённым штабом. Дворец Питолетти был огромен. (Приписанная к штабу кавалерия живописно расположилась в его внутреннем дворе с колоннадой эпохи Возрождения). Во время ужина в палаццо прибыла депутация от местного епископа. Епископ покорнейше просил генерала оказать ему честь и прибыть завтра на обед. Впервые в жизни его приглашали на обед к епископу. Он даже и не видел ни одного из них со времён Революции. Его солдаты — все как на подбор санкюлоты, атеисты и отчаянные республиканцы — не преминули бы ответить на это приглашение оскорблением. Но ему предстояло править Ломбардией — Ломбардией, которую подарила ему сегодняшняя победа. Бонапарт не испытывал ненависти к епископам. Он принял приглашение с изысканной вежливостью.
После ужина он оставил Бертье копаться в бумагах и поднялся в приготовленную для него комнату, озарённую множеством свеч. Ему нужно было побыть одному. Сегодня вечером он был странно беспокоен и напряжён. Дневное возбуждение ещё не совсем оставило его. Сейчас он мог предаться своему обычному занятию. Ночь ещё только начиналась. Как бы то ни было, а измученным отрядам завтра придётся отдохнуть. Генерал стоял перед зеркалом и рассматривал своё отражение, озарённое свечами. Он был измождён ещё сильнее, чем обычно, волосы свисали на щёки, в глазах горело мрачное, лихорадочное пламя. Но он по-прежнему выглядел мальчишкой. Таков был человек, который сегодня совершил славный подвиг. Человек, которого живущая в далёком Париже легкомысленная Жозефина, наверно, уже давно забыла. Эта мысль причинила ему боль.
Он запретил себе думать об этом и подошёл к высокому окну, выходившему на балкон. Выбравшись наружу, он облокотился об украшенную скульптурами балюстраду. Было приятно побыть одному в тишине. Майская ночь так тепла... Раскинувшееся над головой тёмное небо было усеяно мириадами звёзд. Другой берег реки был озарён пламенем лагерных костров. Около них веселились солдаты, пили итальянское вино и хвастались совершенными сегодня подвигами. (Они прозвали его своим Маленьким Капралом. Это всё ещё грело его душу). Что ж, им было чем похвастаться.
С такой армией человек вроде него мог добиться чего угодно. Человек вроде него... Да, внезапно он с непреодолимой силой, которой не ощущал в себе раньше, почувствовал и ясно понял, что отличается от всех прочих. У него было то, чего не имели другие: его гений-хранитель. Гений подарил ему этот великий день, который никогда не забудется. Что собой представляла эта дремлющая в нем сила, эта огромная внутренняя сила, в существовании которой он всегда был подспудно убеждён, которая время от времени нашёптывала ему странные, неясные намёки на ожидавшее его великое будущее? Он был особенным человеком. Не было ничего, чего бы он не смог сделать. Его ум не был поглощён одной войной. Он разбирался в искусстве, в литературе, в науке, в делах управления государством. Он чувствовал в себе такую душевную полноту, такую непонятную мощь, что это чувство вновь начинало походить на экстаз. Ах, как искусно он правил бы какой-нибудь страной! Он бы показал миру, что такое искусство управления. Взять хотя бы Ломбардию, завоёванную за пять дней, считая с того момента, как он отдал войскам приказ маршировать к Пьяченце! (Через два дня ему предстояло взять Пиццигеттоне и Кремону, прогнать австрийцев до самой реки Минчо, а после нескольких дней отдыха и реорганизации армии в Милане вообще выбить их из Италии).
Да, он достойно управлял бы большой страной, но какой? Италией? Он мог бы завоевать все эти карликовые государства с их продажными правительствами и политической неустойчивостью за полгода, объединить их и отказаться от подчинения парижской Директории. (На мгновение он задумался над этой возможностью). И всё же это не то. Даже его гений не сможет сразу превратить Италию в действительно великую страну. Он мог бы освободить Италию — сейчас в нем говорила итальянская кровь — от австрийской тирании и объединить её. Однако понадобится одно, а то и два поколения, чтобы утвердить в ней дух единства. И всё же, несмотря на всю свою итальянскую кровь, он был в Италии чужим; он ощущал себя французом и только французом. По крайней мере с тех самых пор, как закончилось его детство. Отчизной ему служила Франция.
Франция! В мечтах он видел себя правителем Франции. Какой невероятной, какой далёкой ни казалась такая возможность, она всё же существовала. Что значили по сравнению с ним эти пигмеи, бесчестные кабинетные политики? Его защищала сила, смертельная, уничтожающая военная сила, непреодолимая, как и его гений. Если бы он правил Францией! Он позволил себе предаться этой фантастической мечте. Он видел, как сделает французов величайшим на свете народом... Он видел, как искусно побеждает гидру раздиравшей страну анархии, даёт Франции справедливые законы и твёрдое, честное, пользующееся уважением правительство; как залечивает её раны и создаёт новую Францию, в которой не будет ни фанатиков-республиканцев, ни чванных аристократов, но только Французы с большой буквы. Он видел себя предводителем непобедимых армий этой преображённой Франции, разбивающим её смертельных врагов — врагов, которые взрастили анархию и искусно пользовались её плодами; видел себя ведущим свой народ к несказанным вершинам сияющей славы.
Эти грёзы приводили его в экстаз. В неслыханно далёкие времена люди будут вспоминать об этой славе так же, как вспоминают о славе Александра или Цезаря. Тот же гений горел и в нем. Его судьба заключается в том, чтобы сделать эту мечту явью. Конечно, не сразу. Он должен быть осторожным, должен тщательно рассчитывать каждый шаг. Но однажды он станет править всей Францией — и править так, как не правил ни один из великих королей!
Вошедший в комнату Бертье окликнул его. Когда он обернулся, Бертье, ничуть не уставший от великих подвигов, свершённых им в этот день, улыбнулся. Уродливое лицо начальника штаба покрыли лукавые морщинки.
— Вы счастливы, мой генерал? Сегодня вечером вы выглядите совсем иначе. В вашем лице, в ваших глазах появилось что-то такое...
Он благодарно похлопал Бертье по плечу.
— Это отсвет славы, мой друг, — славы, которую мы уже завоевали и которую нам только предстоит завоевать!
На следующий день он испытал чувство, совершенно обратное этому ощущению собственного величия и безграничной свободы. Обедая во дворце епископа, он увидел картину, на которой была изображена Адда и перекинутый через неё мост. Какое-то время он задумчиво смотрел на неё, а затем заговорил, обращаясь скорее к себе, чем к другим.
— Вовсе не такая большая... — сказал он.
Да, река была совсем не так велика, как ему недавно казалось.
Глава 17
Шёл третий день после незабываемой битвы на мосту. Полчаса назад он вернулся из Пиццигеттоне, блистательно захваченного вчера с первого же штурма. (Болье в крайней спешке отступал в Мантую, за рекой Минчо). Он прошёл в свою комнату в палаццо Питолетти и сел писать Жозефине.
«Штаб-квартира в Лоди,
24 флореаля Года IV Французской
Республики, единой и неделимой.
Значит, это правда, что ты беременна. Так пишет мне Мюрат и добавляет, что едва ли благоразумно подвергать тебя тяготам долгого путешествия. Значит, я буду лишён счастья держать тебя в своих объятиях! Значит, я обречён ещё несколько месяцев жить вдали от всего, что я люблю! Возможно ли, чтобы я не имел счастья видеть твой маленький животик? Это было бы так интересно! Ты пишешь мне, что сильно изменилась. Твоё письмо короткое, грустное и написано дрожащей рукой. Что с тобой, мой обожаемый друг? Что может беспокоить тебя? Ах, не оставайся в деревне; поезжай в город, попытайся развлечься и верь, что для моей души нет большей муки, чем думы о том, что ты страдаешь и грустишь. Я считал себя ревнивым, но, клянусь тебе, это совсем не так. Я предпочёл бы скорее сам найти тебе любовника, чем думать о том, что ты предаёшься меланхолии. Так будь весёлой и счастливой и знай, что моё счастье неотделимо от твоего. Если Жозефина несчастна, если душа её предаётся печали и унынию — значит, она не любит меня. Вскоре ты дашь жизнь другому существу, которое будет любить тебя так же, как люблю я. Нет, неверно: так же, как я буду любить тебя. Мы с твоими детьми окружим тебя безграничной заботой и любовью. Ты ведь не будешь в дурном настроении, правда? И не сметь у меня хмыкать!!! иначе как от смеха. Следовательно, тебе остаются только три-четыре прелестных гримасы, выражающих удовольствие; недостаток всего остального возместят несколько поцелуев.
Как меня опечалило доставленное курьером твоё письмо от восемнадцатого числа! Жозефина, неужели ты так несчастна? Что могло бы утешить тебя? Я с нетерпением жду Мюрата, чтобы узнать у него мельчайшие подробности всего, что ты делаешь и говоришь, узнать, с кем ты видишься и как одеваешься. Всё, что имеет отношение к предмету моего обожания, дорого моему сердцу, жаждущему знать как можно больше.
Дела здесь идут неплохо, но сердце моё находится в неописуемой тревоге. Ты больна и далеко от меня. Будь веселее и хорошенько береги себя — ты, которая для моей души значишь больше, чем весь мир. Увы! Мысль о том, что ты больна, погружает меня в глубокую печаль.
Прошу тебя, мой друг, передать Фрерону, что в планы мрей семьи не входит его брак с моей сестрой и что я твёрдо решился всеми способами не допустить этого. Прошу тебя сообщить то же и моему брату.
Б.».
Он не собирался позволить маленькой Полине, ослепительно красивой и сумасбродной Полетте, его любимой сестре, на которой когда-то хотел жениться Жюно, связаться с бывшим членом Конвента, беспутным человеком, ныне обесчещенным и привлечённым к суду за государственное преступление. Он сильно подозревал, что в прошлом году, когда все они жили в Марселе, Драгоценная Полина стала любовницей Фрерона, в ту пору всесильного комиссара Конвента и начальника Люсьена Бонапарта, который служил у него секретарём. Полина сходила с ума по Фрерону; в семье из-за этого не раз вспыхивали скандалы. У неё был тот же вулканический темперамент, что и у самого Наполеона. Но Полетте всего шестнадцать лет. Она скоро забудет этого ничтожного Фрерона, хотя всё ещё кипит яростью. Когда он выбьет австрийцев из Италии, то заберёт сестру в Милан и подыщет ей другого мужа...
Он сложил письмо Жозефине, адресовал его «гражданке Бонапарт, улица Шантерен, № 6, Париж», запечатал и положил в сумку для отбывавшего курьера.
Затем он снова достал письмо от Карно (ставшего за это время одним из пяти полноправных членов Директории), прибывшее одновременно с письмами от Жозефины и Мюрата и доставленное ему в Пиццигеттоне. Письмо Карно было написано после того, как Директория получила новости из Кераско, после акта откровенного неподчинения, который до сих пор заставлял Бонапарта нервничать. Он снова перечитал его и снова закипел гневом. Это было чудовищно! Неслыханно! Он никогда не смирится с этим! Он вскочил со стула и принялся быстро расхаживать по комнате, лихорадочно раздумывая над тем, как избежать неожиданно возникшей грозной опасности, повергнувшей его в шок.
Он был абсолютно прав, когда, прочитав письмо, немедленно приказал дивизии Массена двигаться на Милан, а дивизии Ожеро — на Павию! Не было лучшего способа увеличить свои владения в Италии. Они ещё увидят! Он никому не позволит так обращаться с собой!
Он подошёл к стене и дёрнул шнур колокольчика. Вошёл секретарь.
— Просить комиссара правительства Саличетти как можно скорее прибыть сюда! Передать ему мои извинения, но сказать, что дело чрезвычайной важности и не терпит отлагательства!
Часом позже он нетерпеливо расхаживал по комнате Бертье и мял в руке злополучное письмо Карно. За ним с участием следили элегантно одетый Саличетти, на пальце которого красовалось новое кольцо с огромным бриллиантом, и Бертье, как всегда грызший ногти. Фразы Карно, которые он только что прочитал им, казалось, эхом отдавались от стен. А Карно, как было совершенно ясно каждому из них, говорил от имени Директории, от имени правительства Франции.
Он гневно обернулся, как будто в глубинах его души взорвался вулкан.
— Это подло! Это чудовищно! После всего, что я сделал, предложить мне делить армию с Келлерманом! И я со своей половиной должен идти завоёвывать Ливорно, Рим, Неаполь, Корсику и Бог знает что ещё! А если я потерплю поражение, Келлерман придёт ко мне на выручку! Келлерман! Должно быть, они сошли с ума! — Он бросил на слушателей такой свирепый взгляд, словно это они были во всём виноваты. — Но я насквозь вижу их презренную игру! Они хотят отобрать у меня мою армию! Они не смеют просто так уволить меня и поэтому будут провоцировать, чтобы я сам подал в отставку! Либо попытаются сделать меня беспомощным, постараются поставить меня в такое положение, когда я потерплю поражение и стану одним из множества битых генералов. Они хотят отнять у меня славу! Низкие, презренные интриганы! Но я им не поддамся! Это говорю я, покоритель Ломбардии! После новых побед, после взятия моста в Лоди армия стала моей душой и телом! Это доказывает, что я не чета другим несчастным, жалким генералам Республики! Я веду армию к победам, к завоеваниям, к славе! Она пойдёт со мной на смерть! Я в три месяца могу покорить все эти крошечные итальянские государства — Венецию, Тоскану, Романью, Геную — от Адриатики до Средиземного моря. Я провозглашу Италию независимой! Весь полуостров станет моим! Я никому не позволю прийти и отобрать у меня мои победы!
Саличетти, не сводя глаз с горевшего на его пальце бриллианта, кивнул и с характерной для него холодной вкрадчивостью сказал:
— Я согласен с тобой, мой товарищ. Это чудовищно. Но я предлагаю тебе как следует подумать — и подумать спокойно. Злоба и открытое неповиновение только сыграют им на руку. Тише едешь — дальше будешь. Дело ясное. Директория хочет отобрать у тебя армию. Их пугает твоя огромная, но ещё не слишком устоявшаяся слава, и они хотят положить этому конец. Ничего удивительного. Судя по полученным мной сегодня письмам, Париж и вся Франция сходят по тебе с ума. Все только и говорят, что о Монтенотте, Миллезимо, Мондови и Кераско. Всюду висят твои портреты. Ты в большой моде. Естественно, Директории не по нраву такая популярность её генерала. Короче говоря, они напуганы. А отвергнув их указания и силой заставив Пьемонт подписать перемирие, ты дал им повод подрезать тебе крылья. Как видишь, они им и воспользовались.
Бонапарт, в котором всё ещё бушевал гнев, прервал его:
— Подождём, пока в Париже не получат известия с Лоди! Я послал им депешу два дня назад; следовательно, она будет там на четвёртые сутки. Курьер, доставивший это гнусное письмо Карно, добирался сюда шесть дней.
Саличетти снова кивнул.
— Чем больше, тем лучше. Через четыре дня Париж узнает о Лоди и окончательно сойдёт с ума. Директория взбесится от зависти и перепугается, думая, что ты хочешь стать новым Цезарем. Но после победы под Лоди они не посмеют отлучить тебя от армии или, по крайней мере, сделают это не сразу, особенно учитывая твой официальный и законный протест. Уволить со службы прославившегося на всю Францию молодого чудо-генерала — это чересчур даже для Барраса и его компании. Им придётся проглотить это и подождать другого раза. Но ты не должен дать им этого «раза», дорогой мой. Новый акт открытого неподчинения, как было в Кераско, будет именно тем, чего они ждут. Они могут встать в позу защитников Республики от мятежного и честолюбивого генерала, замыслившего её свергнуть. Тогда отношение к тебе резко изменится. Никто и пальцем не шевельнёт ради тебя. Республика может прогнить до основания; тем не менее не только Франция, но и, что важнее всего, армия продолжает оставаться республиканской. Этого никогда не следует забывать.
Бертье продолжал грызть ногти. Он был сильно взволнован. За последние дни он телом и душой предался своему поразительно юному главнокомандующему, начал относиться к нему с восхищением, перешедшим в настоящее обожание. Он рискнул вставить слово.
— И даже после Лоди они могут назначить Келлермана. Они могут заявить народу, что завоевать всю Италию не под силу ни одному генералу — даже такому гениальному, как Бонапарт; а они, мол, просто хотят ему помочь всем, чем могут. Народ — что овцы. Вся история Революции доказывает это.
Бонапарт перестал расхаживать по комнате и вновь разразился гневной тирадой, но уже по другому поводу.
— Что бы они ни делали, я не разделю мою армию с Келлерманом! Это глупо! Проклятые идиоты! Они уже нарушили мой стратегический план. Я должен был загнать остатки войск Болье в Мантую, через несколько дней взять её и раз и навсегда покончить с австрийцами. Вместо этого я, получив письмо Карно, немедленно отдал приказ Массена наступать на Милан, а Ожеро — на Павию. Они прибудут туда завтра. Послезавтра я сам поеду в Милан. Какая бездарная растрата времени! Два этих города не имеют никакого военного значения. Я мог бы взять их когда угодно, но возьму именно сейчас — только для того, чтобы ослепить парижан, захватить ломбардские богатства и усилить свои позиции настолько, чтобы никакая Директория не смела соваться в мои дела!
Саличетти улыбнулся.
— Чудесно! Ты совершенно правильно делаешь, что идёшь на Милан, а не на Мантую. В Мантуе не найдёшь миллионов, сколько ни бейся. Зато, взяв Милан, ты сможешь осыпать золотом весь Париж. Предоставь это мне, дорогой мой. Я знаю, как раздобыть деньги — если, конечно, они есть; это моя профессия. — Он снова улыбнулся. — Кроме того, я занимаюсь политикой намного дольше тебя и знаю эту шайку мошенников как свои пять пальцев. Я играю в эту игру со времён Революции. Но твоя игра, Бонапарт, крупнее — теперь я в этом уверен. Вот почему я на твоей стороне. — Саличетти на мгновение задумался; его губы скривила коварная усмешка. — Я умею играть на человеческих струнках и заставлять людей понимать свою выгоду. Все они хорошо знают меня. Не забывай: я ведь из монтаньяров[36], цареубийца чистой воды! — Он снова цинично усмехнулся. — Подкупи их! Искупай в золоте! Как только ты дашь им денег — а взяв Милан, ты сможешь дать столько, сколько им и не снилось, — они развяжут тебе руки. Можешь положиться на меня: я из кожи вон вылезу, а денег тебе достану!
Бонапарт искоса поглядел на лукавого бесчестного корсиканца, которого знал много лет. Да, тут Саличетти можно было доверять, потому что они становились соучастниками преступления. Саличетти не желал терять свою монополию на грабёж Италии. Кроме того, Саличетти уже впутался в опасную историю с нарушением субординации в Пьемонте. Он, Бонапарт, искусно заманил его в эту ловушку.
— Конечно, я подумал об этом, — уже более спокойно ответил он. — Я ведь не дурак. Я тоже их знаю. Ещё будучи в Пьяченце, я написал Карно и сообщил, что пришлю им десять миллионов. — (В том же письме он пылко благодарил Карно за то, что тот приглядывает за его «безумно любимой женой»). — Письмо ещё в дороге. Кое-что из этих миллионов мне компенсирует этот старый скряга герцог Моденский, который тоже запросил перемирия. Все эти князьки ужасно перепугались, и все готовы платить! Но ты правильно говоришь, в Милане я получу больше. Я собираюсь наложить на Ломбардию контрибуцию в двадцать миллионов, причём постараюсь перевести как можно больше денег в слитки золота и отослать их в Париж. Во французском казначействе не видели столько денег с самой Революции. Можешь верить, они у меня будут купаться в золоте, лишь бы не мешали! — Он снова сделал несколько шагов по комнате, видя в зеркалах, мимо которых проходил, своё осунувшееся измождённое лицо. — Но всё это в будущем. Сейчас самое главное — немедленно воспрепятствовать назначению Келлермана. Я ни за что не соглашусь разделить с ним армию!
Саличетти миролюбиво кивнул.
— Согласен. Но если ты сумеешь использовать свои козыри, этого не произойдёт. Даже если Директория подпишет его назначение, Келлерман сможет его получить и прибыть сюда только дней через десять, а то и позже. За этот срок назначение можно десять раз отменить. Я сам немедленно напишу Директории и официально заявлю, что подобная смена командования приведёт к катастрофе. Я напишу и другим людям — тем, кто дёргает за верёвочки. Бертье тоже может написать нечто подобное Карно как военному министру. Собственно говоря, сам Карно человек умный и порядочный. Я уверен, что он написал это письмо только потому, что на этом настояли другие члены Директории. Мы можем начать агитировать Париж. Все армейские поставщики и банкиры — люди, которые мечтают получить лакомый кусок от итальянского пирога, — будут на твоей стороне. Они прекрасно знают, что никакой другой генерал не даст им такой возможности: старого Келлермана разобьют через месяц. К счастью, — тут он криво усмехнулся, — твоя жена ещё в Париже. Поэтому ты, мой друг, напишешь ей очередное замечательное письмо, которое — с полным уважением и соблюдением субординации — недвусмысленно сообщит им, что ты ни с кем не намерен делить руководство армией. Вот так!
Саличетти поднялся со стула, потянулся за новенькой шляпой и извинился.
— Я должен идти. Нужно многое успеть. Твой друг здешний епископ заявляет, что серебряная утварь кафедрального собора имеет главным образом художественную ценность, которая будет утрачена при переплавке. Вместо этого я потребовал у него пятьдесят тысяч франков. — Он засмеялся. — Этот старикашка предлагал мне собственное серебро и расписку на тысячу цехинов. Может быть, я и приму этот подарок. В конце концов, никогда не поздно вернуться к вопросу о церковном серебре. — Он снова засмеялся. — Ты знаешь, как они меня здесь прозвали? Я видел пришпиленный к стене пасквиль против меня. Там меня называют «ненасытный мародёр Саличетти». Ничего, скоро они обзовут меня похлеще. Мы толком ещё и не начинали. Увидишь, что будет в Милане!
Бонапарт внезапно помрачнел, осуждающе посмотрел на комиссара и покачал головой:
— Не будь слишком суров с епископом, Саличетти. Я не хочу, чтобы церковь натравила на нас всю страну. Мне ведь предстоит управлять Ломбардией!
Саличетти засмеялся и надел шляпу с пером.
— Ладно, дружище! Но если ты хочешь, чтобы у тебя были развязаны руки, то я хочу этого вдвойне. Послушай, прежде чем браться за письмо Директории, сначала как следует выспись. До свидания!
Он вышел — элегантный светский человек, каким оставался всегда.
Да... Саличетти мог быть чрезвычайно полезен. Придётся приложить много сил, чтобы удержать его на вторых ролях.
На следующий день, последовав совету Саличетти и как следует выспавшись, Бонапарт занялся письмом к Директории. Он подавил бешеное негодование и стал писать в уважительном тоне, соблюдая безупречную субординацию и составляя каждую фразу так, чтобы она не несла в себе ничего оскорбительного.
«Исполнительной Директории
Штаб-квартира, Лоди, 25 флореаля IV года,
(Согласно стоявшему на его столе итальянскому календарю было 14 мая 1796 года).
Я только что получил почту (они не должны догадаться, что он всю ночь раздумывал над ответом), доставленную курьером, который убыл из Парижа шестнадцатого числа. Ваши надежды сбылись: в этот час вся Ломбардия находится под властью Республики. Вчера я направил в Милан дивизию, приказав ей обложить цитадель. (Он не стал упоминать о том, что собирается сам с триумфом въехать в столицу). Болье со всей его армией стоит в Мантуе, которую постигло наводнение. Он найдёт там свою смерть, ибо это самое нездоровое место во всей Италии.
Армия Болье всё ещё многочисленна; он начинал кампанию, обладая огромным превосходством в численности (совершенно незначительным!) Император посылает ему подкрепление в десять тысяч человек, которое уже находится в пути. (Так что поосторожнее, господа из Директории!)
Я считаю решение разделить Итальянскую армию на две части плохо обдуманным политическим шагом; раздел командования между двумя разными генералами противоречил бы интересам Республики. (Вот вам, не в бровь, а в глаз!) В экспедиции против Ливорно, Рима и Неаполя нет особого смысла (это идиотская идея Карно, выдвинутая в угоду атеистически настроенным членам Директории, ненавидящим Папу Римского!); её можно было бы провести силами двух дивизий на обратном пути после того, как будет покончено с австрийцами, иначе эти последние смогут ударить нашим силам в тыл. (Он делал вид, будто всерьёз принимает этот дурацкий план, и в то же время намекал на его рискованность. Сколь же лучше был его собственный план, который он раз за разом тщетно предлагал Директории: оттеснить Болье через перевал Бреннер в Баварию, затем объединиться с Рейнской армией Моро и одним махом разделаться со всей вражеской коалицией. Он повторял вновь и вновь, что их настоящим врагом была вовсе не Италия, а Германия).
Из сказанного следует, что совершенно необходимо иметь во главе армии одного-единственного генерала и что ничто не должно мешать этому генералу совершать марши и проводить операции. (Это должно было заставить их отказаться от посылки к нему нового комиссара, менее сговорчивого, чем Саличетти, с указанием не сводить с него глаз!) Я провёл кампанию, ни с кем не советуясь; мне не удалось бы ничего достичь, если бы я был вынужден примирять между собой людей, которые по-разному смотрят на одни и те же вещи. Я одержал победу над противником, обладавшим огромным численным превосходством (весьма скромным!), не имея абсолютно ничего (следовательно, не благодаря вам), только потому что считал, что обладаю вашим доверием, и это позволяло мне осуществлять мои замыслы так же быстро, как и рождать их. (Скромно, но со вкусом!)
Если вы наложите на меня массу ограничений; если мне придётся каждый свой шаг обсуждать с комиссарами правительства; если они будут иметь право вмешиваться в вопросы передвижения войск, забирать у меня или же присылать мне те или иные отряды, из этого не выйдет ничего хорошего. Если вы ослабите вашу армию, разделив руководство ею, если вы помешаете выполнению моего стратегического плана, я с глубоким прискорбием вынужден буду заявить, что вы утратите прекрасную возможность подчинить себе Италию. (Вот им прямо в лоб, пусть почешутся!)
Учитывая нынешние взаимоотношения Республики с Италией, не вызывает сомнения, что возглавлять Итальянскую армию должен генерал, который полностью заслуживает вашего доверия. Если это буду не я, я не стану жаловаться; я бы удвоил усилия для того, чтобы заслужить ваше уважение на том посту, который вы сможете мне доверить. (Он дорого дал бы за возможность увидеть их лица в тот момент, когда они будут читать эту ханжескую фразу!) Каждый воюет по-своему. Генерал Келлерман (этот безмозглый старикашка!) имеет больше опыта и сможет командовать армией лучше меня, но вместе мы сделаем это куда хуже, чем каждый из нас порознь.
(Ну, а теперь главное!) Я мог бы сослужить большую службу своей стране только в том случае, если бы удостоился вашего полного и абсолютного доверия. (Никогда ещё правительство Французской Республики не удостаивало своих генералов полного доверия. Совсем наоборот!) Мне потребовалась вся моя смелость, чтобы написать вам такое письмо: теперь вам так легко обвинить меня в честолюбии и гордости! Однако я должен был выразить вам все мои чувства — вам, неизменно оказывавшим мне такое уважение, которого я никогда не забуду. (И эти недоумки, эти мерзавцы составляют правительство, которое имеет право уволить его, сломать его карьеру!)
Сейчас разные дивизии Итальянской армии овладевают Ломбардией. Когда вы получите это письмо, армия будет в походе (он должен показать, будто верит в их ребяческий план!); возможно, ваш ответ застанет нас уже под Ливорно. (О Ливорно он и не думал. Этот порт был битком набит поселившимися там богатыми английскими купцами. Было бы и приятно, и полезно ограбить их, когда придёт время!) Решение, которое вы примете в сложившихся обстоятельствах, будет иметь для хода кампании куда большее значение, чем пятнадцатитысячное подкрепление, которое император может прислать Болье.
Бонапарт».
Письмо было шедевром. Бонапарт был доволен им. Но он всё же нервничал. В каждой строчке письма читался вызов и неповиновение, а он, молодой республиканский генерал, был ещё не так силён, чтобы открыто взбунтоваться против законной власти Республики. Он боялся их, боялся их ревности, их подлости. Им ведь ничего не стоило уничтожить всю его работу! Он взял другой лист бумаги и начал писать члену Директории Карно.
«Гражданину Карно
Когда я получил письмо Директории от восемнадцатого числа, ваши желания были исполнены — Милан стал нашим. Скоро я, выполняя ваш план, пойду походом на Ливорно и Рим. На всё это не понадобится много времени. Я посылаю Директории свои соображения относительно её намерения разделить армию. Клянусь вам, что, поступая таким образом, думаю только о благе страны. Вы никогда не сможете обвинить меня в криводушии. Нет такой жертвы, которую я не принёс бы на алтарь Республики. Если некие люди пытаются очернить меня в ваших глазах, то вы прочтёте ответ в моём сердце и моей совести.
Вполне возможно, что это письмо к Директории будет неправильно истолковано; поскольку вы всегда относились ко мне по-дружески, я взял на себя смелость обратиться к вам с просьбой вмешаться, используя вашу обычную осторожность и осмотрительность.
Келлерман будет командовать армией не хуже меня — ибо я, как никто другой, знаю, что армия обязана победами только собственной смелости и дерзости; но я думаю, что объединить меня и Келлермана в Италии — значит потерять всё. Я не могу служить с человеком, который считает себя первым генералом Европы; кроме того, я думаю, что один плохой генерал лучше двух хороших. В войне, как и в управлении государством, всё решает такт.
Я могу быть полезным вам только в том случае, если ко мне будут относиться с тем же уважением, которое вы оказывали мне в Париже. Мне безразлично, где воевать — здесь или в каком-нибудь другом месте; все мои честолюбивые стремления заключаются только в одном — стремлении принести пользу своей стране, заслужить уважение потомков, вписав славную страницу в историю Франции, и доказать правительству мою преданность и искренность. За эти два месяца без восьми дней, прошедшие с моего отъезда из Парижа, у меня на сердце накопилось столько горечи, что не хватает слов. Однако я готов терпеть любую усталость и боль, подвергать себя новым опасностям, лишь бы мне не мешали. Я уже завоевал кое-какую славу и хотел бы и в дальнейшем быть достойным вас. Как бы то ни было, верьте, что ничто не в состоянии поколебать того неизменного уважения, которое вы вызываете у всех, кто вас знает.
Бонапарт».
Ах, Париж, Париж... Он не мог придумать ничего лучшего, чтобы отвести от себя грозу. Он писал это письмо совершенно искренне. По крайней мере, в словах, которые он написал о необходимости единоначалия в армии, не было и тени лукавства. После этих писем Директории будет трудно опровергнуть приведённые в них доводы и оправдать его смещение. А к тому моменту, когда он получит их ответ, его позиции станут неизмеримо сильнее.
Массена будет в Милане сегодня. Австрийский эрцгерцог Фердинанд, наместник Ломбардии, бежал пять дней назад. Вчера к нему приехали два самых уважаемых в Милане синьора, граф Мельци д’Эриль и граф Джузеппе Реста, представлявшие Совет декурионов[37], который выполнял роль временного правительства; они поздравили его с победой и вручили ему ключи от города. Весь Милан был охвачен революционным брожением, кипел патриотизмом, невероятным для города, который был оккупирован австрийцами девяносто лет; на каждом углу слышались крики «Свобода!» и неведомый доселе клич «Италия!». Весь Милан надел новые красно-бело-зелёные кокарды, символизировавшие новую Италию, Италию либералов (в основном аристократы и интеллигенция, относившаяся к среднему классу). Однако не меньшим успехом пользовались якобинские агитаторы — их торжественные речи собирали огромные толпы слушателей, воодушевляли их и заставляли с нетерпением ожидать прибытия Бонапарта, их чудесного Освободителя.
Он назначил свой торжественный въезд в город на завтра. Надо же было дать Парижу тему для разговоров! Однако и в самом деле его итальянскую кровь грел идеал свободной и единой Италии. Он мог бы сделать первый шаг к этому, мог бы основать Цизальпинскую республику. А затем... вы бы узнали, как вмешиваться не в своё дело, господа плуты из Директории!
Он получил бы определённый статус, мог бы тут же встать во главе созданного им независимого государства, и пусть бы парижское правительство попробовало отобрать у него его армию! Если бы они согласились на это, то Цизальпинская республика, конечно, стала бы неким доминионом Франции, дочерью Республики и жила бы в соответствии с принципами Революции, незыблемыми с девяносто второго года.
Он улыбнулся своему отражению в зеркале. У всех его планов было по крайней мере по два варианта. Завтра, когда все остальные набожные итальянцы будут праздновать Троицу, он въедет в Милан и пышно отпразднует все свои неслыханные славные победы. Месяц и два дня прошли с тех пор, как он двинулся из Савоны на битву у Монтенотте. За пятнадцать дней он завоевал Пьемонт. Через семь дней после форсирования По у Пьяченцы он закончил завоевание Ломбардии. Гордилась ли им Жозефина в своём далёком Париже? Думала ли о нём каждую минуту, как он думал о ней?
Он встал, подошёл к двери и позвал начальника штаба. — Бертье! Завтра штаб-квартира переезжает в Милан! Сделайте все нужные приготовления!
Глава 18
Этот Троицын день, пятнадцатое мая 1796 года, которому суждено было навечно остаться в анналах истории знаменитого города Милана, был поразительно солнечным. Кавалерийские полки сверкавших медными шлемами драгун, что составляли эскорт его запряжённой шестёркой лошадей кареты, быстро двигались по великолепной военной дороге от Лоди. Эскорт сопровождала небольшая кавалькада взятых в плен высших австрийских офицеров, к которым относились с крайней учтивостью; это придавало действу некий драматический оттенок, напоминавший блеск триумфов победоносного Цезаря. Пехота, артиллерия и остальная часть кавалерии, которым предстояло вместе с ним войти в город, заранее совершили двадцатимильный марш на Милан.
По обеим сторонам дороги стояли живописные группы крестьян, с любопытством глазевших на кортеж. Он ворвался в жизнь этих простых селян как чудо. Некоторые махали руками и выкрикивали «Да здравствует Освободитель!», но большинство стояло молча, испытывая священный ужас. Они считали его людоедом, пугали им детей и свято верили в то, что он является смертным воплощением самого Антихриста. (Разве не говорили им местные священники, что все эти революционеры-французы сплошь бандиты и безбожники, которые упразднили религию, осквернили церкви и отправили на гильотину своих епископов?) Он не пожалел бы сил, чтобы разуверить этих простодушных фанатиков, чтобы они искренне полюбили его как Освободителя от австрийской тирании (хотя, по правде говоря, при австрийцах Ломбардия имела своё собственное образцовое правительство), сделал бы всё, чтобы рука об руку с лучшими из здешних либералов создать современную просвещённую республику в Италии, самый воздух которой пьянил его как вино. Тогда в знак благодарности они с радостью уплатили бы контрибуцию, которую он обязан был потребовать; контрибуцию, которая была жизненно необходима для его армии; контрибуцию, нужную для того, чтобы удовлетворить эту шайку алчных парижских мерзавцев. Сидевший рядом Саличетти в трёхцветном шарфе был живым напоминанием об этих мошенниках.
Было около полудня, когда он подъехал к городу. Как ни странно для этой равнинной земли, Милана всё ещё не было видно, хотя откуда-то издалека доносился едва слышный колокольный звон. В полях, раскинувшихся по обе стороны от дороги, расположились многочисленные отряды французской кавалерии, пехоты и артиллерии. Со стороны Милана к нему рысью скакали Массена и Жубер, прибывшие сюда вчера. За ними следовали ординарцы, которые вели в поводу запасных лошадей. Он вышел из кареты, сел на маленького белого жеребца по кличке Бижу, с которым был неразлучен всю кампанию, и поскакал к городу под марши расположившихся на полях духовых оркестров. Доехав до изгиба дороги, он увидел развалины древних ворот Порта Романа. Из ворот ему навстречу двинулось торжественное шествие.
Он натянул поводья, ожидая приближения этой церемониальной процессии. Впереди шёл почтенного возраста церковник, возглавлявший группу духовных особ в полном облачении. Они подходили всё ближе, неся огромный золотой крест и распевая латинский гимн. Массена представил ему церковника — это был архиепископ Филиппо Висконти. За священниками следовали по двое в ряд шестьдесят пышно разодетых декурионов, взявших на себя функции временного правительства города. Как разъяснил Массена, во главе их шёл генерал граф ди Тривульцио. Замыкал процессию герцог ди Сербеллони, знаменитый либерал и одновременно один из богатейших и влиятельнейших синьоров Милана (Бонапарт всё разузнал про этого человека, стремясь как можно больше узнать о Ломбардии И её столице). Массена сказал ему, что герцог ди Сербеллони несёт ключи от Милана, по такому поводу заново позолоченные. Массена счастливо смеялся, его обычно мрачное лицо светилось.
— Генерал, похоже, Милан взбесился от радости. Они готовы отдать что угодно, только протяни руку. Вас здесь встретят как бога!
Процессия двигалась к нему. Престарелый архиепископ (Массена сказал, что ему семьдесят пять лет) — бледный, хрупкий, сгибавшийся под тяжестью роскошного облачения — вышел вперёд, поднял руку для благословения и обратился к нему, назвав его «сын мой». Затем с достоинством, которого не смогла поколебать близость этих грубых солдат, архиепископ обратился к тому, кому всемогущий Господь даровал блестящие победы и кто ныне явился в Ломбардию как освободитель угнетённого народа, с просьбой уважать христианскую религию, Святую Церковь, её алтари и свободу отправления христианских культов. (Даже на Бонапарта, почувствовавшего в душе лёгкий трепет, произвело глубокое впечатление величавое достоинство этого старого человека, хранившего верность религии и Церкви). После архиепископа вперёд вышли наиболее видные из декурионов, и каждый по очереди прочитал цветистую речь, смиренно клянясь в покорности и преданности города Освободителю, избавившему его от чужеземной тирании, и прося его быть защитой жизни и имущества обитателей Милана. А затем герцог ди Сербеллони — длинноносый мужчина лет пятидесяти, пристально смотревший на него своими круглыми глазами, — опустился на одно колено и протянул ему лежавшие на подушечке позолоченные ключи.
Нельзя было отвечать им, сидя в седле. Это слишком напоминало бы поведение чужеземного полководца, отдающего им приказы. А в данную минуту ему не хотелось играть роль завоевателя, диктующего покорённому народу свою волю. После успеется... Он желал, чтобы его восторженно восхваляли как человека, который принёс им свободу, как основателя нового государства. Заметив у двери ближайшей хижины охапку сена, Бонапарт спешился и сел на неё. Члены депутации собрались вокруг, перешёптываясь друг с другом и дивясь его молодости.
Он улыбнулся им и любезно, но властно заговорил на их звучном итальянском языке. Эта маленькая приветственная речь была заготовлена им заранее.
— От имени Французской Республики вступая во владение городом Миланом и провинцией Ломбардия, я заверяю, что Республика испытывает к вам чувство неизменного уважения. Это предполагает, что каждый будет вносить свой вклад в общественное благосостояние, что каждый будет иметь возможность пользоваться своими правами и в полной мере осуществлять их. Каждый человек может молиться любому богу и соблюдать культы той религии, которую он исповедует, не боясь, что к его убеждениям отнесутся без должного уважения. Республика приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливыми и устранить препятствия, стоящие на пути к этому счастью. Отныне единственным различием между людьми будут только их личные заслуги; всех объединит дух братства, равенства и свободы. Каждый человек будет беспрепятственно пользоваться своей собственностью. Но помните, что для установления полной справедливости требуется время; добродетель и умеренность позволят нам исправить ошибки, которые могут быть допущены на этом пути ко всеобщему счастью.
Эта речь была встречена шумными одобрительными выкриками «Да здравствует Освободитель!» Даже священники стали улыбаться с облегчением. Может, эти злокозненные французские атеисты вовсе не такие ужасные люди...
Затем он сел на коня и двинулся к Порта Романа. Саличетти ехал по одну сторону от него, Кильмэн — по другую. Они натянули поводья и позволили ему первым проехать сквозь узкие ворота, сохранившиеся со времён Древнего Рима.
За порталом его встретили буря оглушительных криков и лес машущих рук. Вдоль улицы стояла городская стража, одетая в зелёные мундиры и головные уборы с новыми красно-бело-зелёными кокардами. Взявшись за руки, стражи пытались сдержать лихорадочно возбуждённую толпу. Молодые женщины расталкивали стражников, чтобы бросить ему букет цветов, посылали воздушные поцелуи и смеялись до упаду, когда букет попадал в коня.
— Да здравствует Бонапарт!
Неподалёку от Порта Романа была воздвигнута триумфальная арка из цветов и листьев. Когда Бонапарт проехал под ней, его осыпал дождь лепестков. По всему городу звонили в колокола, но этот ликующий, радостный звук не мог заглушить гул человеческих голосов. Он различал высокие женские голоса, удивлявшиеся его молодости.
— Какой молоденький! Какой красавчик! Совсем мальчик!
Сияя от счастья и гордости, он ехал вперёд, осыпаемый цветами, а над ним сияло безоблачное небо, в котором плыл колокольный звон. За триумфальной аркой сидела в колясках вся миланская аристократия. Синьоры вставали, размахивали носовыми платками, французскими флагами и новыми красно-бело-зелёными знамёнами и с пылким энтузиазмом, который не уступал энтузиазму толпы, кричали: «Да здравствует Бонапарт!» Одетые в яркие разноцветные платья, эти аристократические дамы напоминали собой длинную цветочную клумбу.
Он слышал, что маршировавший позади военный оркестр играл «Марсельезу», но эту торжественную мелодию заглушали звон колоколов и возгласы ликования. Все дома были увешаны флагами и знамёнами. На каждом балконе, в каждом окне хорошенькие девушки в праздничной одежде неистово размахивали носовыми платками и трёхцветными флагами, бросали ему цветы и звонко приветствовали. Позади вновь вздымалась волна криков: там, следом за ним, окружённые восторженной толпой, осыпаемые со всех сторон цветами, маршировали его войска. Казалось, Милан действительно сошёл с ума от радости. Его сердце готово было разорваться от счастья, на глаза наворачивались слёзы. Эти колокола надрывали ему душу. «Да здравствует Бонапарт!» В это невозможно было поверить! Он улыбнулся.
Хор славословий, заставлявших его улыбаться направо и налево, сияющие лица приветствовавших его людей вновь наполнили его чувством триумфа, но всё же он не забыл об ответственности и о множестве дел, которые ему предстояло совершить. Реальностью была лишь работа; все эти взрывы народного ликования, все эти цветы и знамёна скоро канут в прошлое... Он поймал себя на мысли о том, что подсчитывает, как за несколько дней пребывания в Милане создать новое правительство, собрать наложенную на Ломбардию контрибуцию, реорганизовать и переоснастить армию для продолжения кампании против Болье, которая позволила бы окончательно изгнать австрийцев из Италии и сделала его полновластным хозяином Апеннинского полуострова. (А кроме того, предстояло что-то сделать с остававшимся здесь австрийским гарнизоном, который упрямо, если не дерзко цеплялся за миланскую цитадель; надо было поручить Массена командовать осадой и во всех деталях объяснить ему, как окружить крепость, поскольку никто в Итальянской армии не имел подобного опыта и Бонапарт был здесь единственным человеком, который знал, как это делается).
Он подъехал к городскому собору, вонзавшему в голубое небо свои резные беломраморные шпили. Прямая дорога, по краям которой стояла зеленомундирная городская стража, вела к воротам великолепного храма эпохи Возрождения, служившего резиденцией архиепископа. За порталом его встретила ещё более многолюдная толпа, размахивавшая флагами и осыпавшая его цветами. Во внутреннем дворе стоял почётный караул, который довольно неуклюже отдал ему честь. Он спешился; навстречу главнокомандующему поспешили высшие духовные особы из ближайшего окружения архиепископа. Он попросил разрешения остановиться здесь на ночлег, поскольку даже временное пребывание в пустовавшем ныне королевском дворце — расположенном поблизости палаццо Реале — неминуемо вызвало бы недовольство и насмешки всей его республиканской армии. (Тут он некстати вспомнил об этих ревнивых мерзавцах из Директории).
Внезапно он почувствовал себя усталым и измученным. Оказывается, вся эта суматоха, возбуждение и бурное ликование — ужасно утомительная вещь... По-прежнему оглушительно трезвонили колокола, издалека доносились звуки военных маршей и неумолкавший рёв голосов. Только сейчас он понял, что в городе стоит нестерпимый зной. А у него ещё столько дел... Надо устроить официальный приём архиепископу, членам городского совета и прочим важным персонам города. А до этого ему хотелось бы прилечь, поспать хотя бы несколько минут и принять ванну. Лакеи архиепископа, проводившие генерала в предоставленные ему роскошные апартаменты, низко поклонились на прощание. Никто даже не улыбнулся, услышав эту нелепую просьбу. Удивительный гость мог делать всё, что хотел. Именно такой эксцентричности от него и ждали.
Вечером, когда жительницы Милана танцевали с изрядно подвыпившими французскими солдатами на ярко освещённой площади собора (разве можно было запретить горожанам угощать «освободителей» вином?), городской совет устроил в палаццо Реале роскошный обед и бал в честь французского генерала, его старших офицеров и штаба. Очень немногие из этих молодых офицеров, в подавляющем большинстве детей Революции, видели что-нибудь более великолепное, чем эти огромные залы дворца бежавшего эрцгерцога. Очень немногим высшим офицерам раньше доводилось бывать в столь аристократическом обществе. Однако французы ничуть не терялись и, не обращая внимания на миланских синьоров, изо всех сил пытавшихся улыбаться, чувствовали себя как рыба в воде среди толпы прекрасных маркиз и графинь в восхитительно декольтированных бальных платьях и мгновенно добивались успеха у кокетливо улыбавшихся красавиц, томно вздыхавших во время головокружительных танцев, а в перерывах шёпотом, прикрывшись веерами, объяснявшихся со своими надоедливыми супругами; красавиц, которые заранее сдавались этим победителям в потёртых мундирах и поношенных сапогах, этим суровым воинам, только что вышедшим из кровавых битв...
Бонапарт не танцевал; он гордо стоял поодаль, не обращая внимания на порой несмелую, порой дерзкую лесть вившихся вокруг прекрасных созданий, которые улыбались ему, завоевателю, кружась в объятиях своих кавалеров. Он предпочитал беседовать с герцогом ди Сербеллони. Хотя он с первых фраз понял, что герцог обладает весьма посредственным интеллектом, тем не менее это был чрезвычайно обаятельный мужчина, искренне разделявший его высокие идеалы. К тому же он был неслыханно богат, пользовался в Милане огромным влиянием (даже засилие австрийцев не могло помешать ему занимать весьма высокую должность), а потому мог быть чрезвычайно полезен. Он очень нравился Бонапарту, ощущавшему некое духовное родство с этим аристократом. Как раз такой человек был нужен генералу для его новой Цизальпинской республики. В свою очередь, Сербеллони тоже безмерно восхищался молодым французским военным гением, который выгнал австрийцев из его родной Ломбардии. Он выражал это восхищение с типично итальянской страстью к преувеличениям; тем не менее эти немудрёные похвалы были весьма приятны.
— Я не знаю, где синьор генерал собирается остановиться в Милане, — продолжал герцог, вращая глазами, в которых светилось чуть ли не обожание, — но если синьор генерал ещё не сделал выбора, то моё палаццо будет в его распоряжении столько, сколько пожелает синьор генерал. Этой честью будут гордиться несколько поколений моей семьи. — Нельзя было усомниться в его искренности; герцог просто дрожал от возбуждения. — А что до меня, то я не желал бы ничего лучшего, чем служить вам и собственной персоной, и всем, что у меня есть.
Что ж, мысль неплохая. Он знал про палаццо Сербеллони, как знал про всё, что было в Милане самым важным. Бонапарт не мог постоянно оставаться в отведённом ему палаццо Арчивесковиле: там было слишком тесно, а он предпочитал, чтобы руководство штаба жило с ним под одной крышей. Палаццо Сербеллони был очень удобно расположен; он стоял на другом берегу канала, представлявшего собой древний крепостной ров, и был удалён как от шумных городских сборищ, так и от цитадели, которую всё ещё удерживал австрийский гарнизон.
Он улыбнулся этому высокому длинноносому аристократу с невинными круглыми глазами.
— Хорошо, синьор герцог, — решительно сказал он. — Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Если это устроит вас, я переехал бы завтра же.
Сербеллони рассыпался в благодарностях за честь, которую «синьор генерал» решил оказать его дому. Синьор генерал может быть уверенна этом месте словоизлияния герцога были прерваны. Один из миланских синьоров подвёл к ним молодую женщину поразительной красоты. Бонапарт уже обратил на неё внимание, поскольку она была прекраснейшей из множества присутствовавших на балу красавиц. Эта женщина была образцом совершенной, головокружительной, царственной красоты. Её кавалер поклонился главнокомандующему.
— Синьор генерал, позвольте представить вам нашу божественную королеву красоты, госпожу маркизу ди Висконти-Айми.
Генерал неловко поклонился и пробормотал какую-то банальность о том, что очарован её красотой. Она тут же овладела его вниманием, прикоснулась к руке Бонапарта и чарующе улыбнулась. Боже, какие глаза!
— Могу ли я признаться вам, синьор генерал? — смеясь, сказала маркиза. — Я сама потребовала, чтобы меня представили! Я тоже хотела положить свою дань к ногам нашего освободителя! Но... — тут её глаза стали льстивыми, — я и подумать не могла, что вы так молоды и так хороши собой! Каким успехом вы, должно быть, пользовались у прекрасных парижских дам! Но и тут каждая женщина будет готова обожать вас! Я сама готова обожать вас! Бот я и призналась вам в любви! — Она засмеялась. — Вы не танцуете, генерал?
Его молнией пронзила мысль, что она говорит искренне, что эта поразительная красавица предлагает себя ему. Он мог овладеть ею. Он мог овладеть любой из присутствующих здесь женщин. Но он здесь не для того, чтобы заниматься любовью. А эти женщины просто бесстыдны. Если бы только здесь была Жозефина! Он изголодался по ней.
— К сожалению, госпожа маркиза, — сказал он, — я не танцую. — Он тут же пожалел о ненужной резкости, с которой отказал женщине. Жозефина права, ему действительно недостаёт светских манер. — Простите меня, госпожа, но я должен вернуться в свою штаб-квартиру. — Она всё ещё Недоверчиво смотрела на него, не в силах смириться с мыслью, что её отвергли. — Я поздравляю Милан, в котором живёт столько прекрасных женщин; но вы, синьора маркиза, лучшее украшение этого ослепительного созвездия.
Может быть, этот комплимент успокоит её... Он ещё раз поклонился на прощание, отошёл к графу ди Тривульцио и попросил передать городскому совету его признательность и сожаление. Пусть они простят его; у главнокомандующего много дел. Он будет вечно благодарен Милану за гостеприимство. Этот счастливый день станет лишь прелюдией к их счастливому сотрудничеству. И с Тривульцио, и с любым другим мужчиной он мог говорить легко и непринуждённо, держать себя с ненаигранным достоинством. Не то что с этими женщинами. С этой маркизой.
Он поймал взгляд молодого Мармона, явно имевшего успех у своей дамы. Хорошо им, этим щенкам-адъютантам, на которых не лежит никакой ответственности... Дай им волю, они бы всю жизнь занимались любовью... Он кивком подозвал Мармона, разлучив молодого человека с его красавицей:
— Проводи меня до квартиры, Мармон, — сказал он. — Потом вернёшься и дотанцуешь.
Мармон весело кивнул. Их объединяла сильная взаимная привязанность: они были старыми друзьями и пронесли свою дружбу через множество испытаний. Ещё были свежи воспоминания о том, как они в Париже умирали с голоду (он никогда не забудет преданность Мармона и Жюно). А сейчас Мармон, несмотря на свои двадцать два года, показал себя первоклассным солдатом; он уже доложил о нём Директории. Именно Мармон несколько дней назад блестяще взял Пиццигеттоне и Кремону, лихой кавалерийской атакой сметая всё на своём пути... Справедливости ради надо было сказать, что первый адъютант по-настоящему обожал своего чудо-генерала.
— Охотно, мой генерал! — засмеялся Мармон. — Но вы разобьёте сердца всех этих дам, если уйдёте так рано! Каждая из них мечтает завоевать вас!
Бонапарт презрительно улыбнулся. Что значили эти женщины по сравнению с Жозефиной?
— Их мечты останутся мечтами, — сказал он, — Пойдём, мой дорогой!
Они вышли из палаццо Реале на Пьяцца дель Дуомо. При свете озарявших площадь огромных костров резные шпили кафедрального собора казались божественно прекрасными. Он вспомнил, будто, несмотря на многие века, прошедшие с его закладки, собор до сих пор остаётся недостроенным. Возможно, в один прекрасный день он прикажет закончить его... Вокруг плясали его солдаты и горожане, кружась под лихую мелодию, которой в Милане ещё не слыхивали. Под звуки «Карманьолы» весёлые гуляки в карнавальных масках отплясывали сарабанду, пели, щипали струны гитар, и казалось, что каждый солдат его армии обнимал за талию хорошенькую девушку. Победа! Весенний воздух был пропитан ароматом победы. Никто никогда не одерживал столь молниеносных викторий, никто не знал такого триумфа. Он тяжело вздохнул. Он чувствовал себя отчаянно одиноким. Пока друзья шли ко дворцу архиепископа, он не прислушивался к шутливым замечаниям Мармона. Ах, если бы здесь была Жозефина!
Мармон проводил Бонапарта до его апартаментов. Следовало сразу лечь в постель. Он устал. Оставшись наедине с Мармоном в этой роскошной спальне, он неожиданно повернулся к своему юному другу:
— Мармон, как по-твоему, что о нас говорят в Париже? Думаешь, они удовлетворены?
— Разве они могут быть не удовлетворены, генерал? Больше чем удовлетворены. Вся Франция просто обезумела от ваших побед. Они и представить себе не могли ничего подобного! Франция опьянена энтузиазмом и восхищением. Каждое письмо, полученное мною из дома, только об этом и говорит. Никогда не было такого генерала, как генерал Бонапарт! А когда до них дойдёт весть о взятии Милана, страшно подумать, что там начнётся!
Бонапарт улыбнулся и секунду помолчал.
— Они ещё ничего не знают, — сказал он больше себе, чем Мармону. В его голосе звучала обычная суровость. — Сегодня мне не улыбнулась Фортуна, потому что я отверг её милости; Фортуна женщина, и чем больше она даёт мне, тем большего я требую. В наши дни никто не стремится к великому. Я должен показать пример остальным.
Четырьмя днями позднее он писал Жозефине, продолжая отправлять ей письма с каждым курьером. Он писал очень тщательно и разборчиво, почти как в прописи, чтобы Жозефина могла разобрать его ужасный почерк.
«Милан, 29-е, день.
Не знаю почему, но с сегодняшнего утра я чувствую себя более счастливым. У меня предчувствие, что ты выехала в Милан; эта мысль наполняет меня радостью. Конечно, ты поедешь через Пьемонт; дорога здесь лучше и короче. Ты приедешь в Милан, где тебе очень понравится, потому что эта страна по-настоящему прекрасна: что касается меня, то я буду так счастлив, что просто сойду с ума. Я умираю от желания увидеть тебя, носящую ребёнка. Должно быть, ты стала важной и величественной; это бы немало меня позабавило. Но вдруг ты не приедешь, вдруг ты больна? Нет, моя милая подруга, ты приедешь сюда, ты будешь прекрасно чувствовать себя; ты родишь малыша, такого же красивого, как и его мать, который будет любить тебя так же, как тебя любит его отец; а когда ты состаришься и тебе исполнится сто лет, он будет твоим счастьем и утешением. Но до тех пор остерегись любить его больше, чем меня. Я уже начинаю ревновать к нему. Прощай, моя нежная любовь, прощай, любимая; приезжай скорее — ты услышишь хорошую музыку и увидишь прекрасную Италию. Единственное, чего мне здесь не хватает, — это видеть тебя. Твой приезд сделает эту страну ещё прекраснее в моих глазах; ты ведь отлично знаешь: где бы ни была моя Жозефина, я вижу только её.
Глава 19
Было первое прериаля; со времени вступления Бонапарта в город прошло шесть дней. Что это были за дни! Ни один человек в его армии никогда не забудет их. Ни разу за все двадцать четыре века своего существования Милан не знал стольких дней и ночей, наполненных Лихорадочной радостью и ликованием. (Он позаботился о том, чтобы каждый из его солдат узнал, что Милан основали галлы в 580 году до Рождества Христова, что последние 1300 лет он регулярно страдал от нашествий германцев и трижды разрушался в битвах за свободу — ту магическую свободу, которая сейчас свалилась на него с неба). Все эти дни в ломбардской столице шёл непрерывный карнавал. Каждый палаццо устраивал банкеты, приёмы, балы. Каждый кабачок был заполнен народом и не закрывался ни днём, ни ночью. Модные ресторанчики «Корсия деи Серви» и «Казино де ла Чита», где лакомились мороженым и завязывали новые знакомства, были переполнены настолько, что внутри не хватало места и столики выносили наружу. За столиками сидели бронзоволицые боевые офицеры с дамами в ярких платьях, сшитых по новой революционной моде на французский манер — в длинных прямых полупрозрачных туниках из лёгкой материи, с причёсками «а-ля гильотина», когда волосы коротко срезались на затылке и шея оставалась открытой. В «Каза Танци» и других заведениях, полных по самые двери, молодые ветераны Монтенотте, Дего и Лоди в поношенных мундирах танцевали до рассвета со своими новыми пассиями. Каждый день у ворот Порта Ориентале собиралась самая изысканная публика Милана, а когда затем начиналась традиционная прогулка по обросшим старыми деревьями тенистым проспектам, коляски двигались в шесть рядов вместо двух, как бывало обычно. Каждый французский офицер, у которого была собственная или взятая взаймы лошадь, ехал рядом с коляской своей дамы; впрочем, отсутствие лошади не считалось грехом и ничуть не мешало любовным приключениям.
Миланцы выбивались из сил, чтобы угодить своим оборванным избавителям — ведь прибывшие в столицу Ломбардии офицеры обычно вдвоем-втроем по очереди носили единственные более-менее приличные штаны, а до блеска начищенная обувь зачастую не имела подмёток.
Однако и это шло им на пользу: тем интереснее, тем романтичнее казались они горожанам и особенно горожанкам. Никогда ещё местные дамы так не наслаждались жизнью, никогда так не влюблялись и не видели столь пылких кавалеров: никогда они не были такими возбудимыми, чувственными, страстными, уступчивыми. Завтра герой их романа мог отправиться в новый бой! Если в , каждой таверне, где рядовые с чувством распевали идиллическую песенку «Рядом с моей блондинкой», у каждого солдата было по возлюбленной, то что уж говорить об офицерах! Мало нашлось бы среди них таких, у кого бы не было любовницы, а то и нескольких сразу. Командир Тридцать второй бригады Дюпюи, получавший разом по десять приглашений от поклонниц и не желавший остановиться на достигнутом, позволил себе расслабиться — никто в Милане и не вспоминал о ревнивых мужьях — и угодил в госпиталь, схлопотав от одного из них две пули в живот. Список аристократических дам, бывших общепризнанными любовницами высших офицеров, включал в себя практически всю миланскую знать; однако это не мешало многим нищим офицерам низших чинов млеть от восторга при мысли о тайном соперничестве со своим прославленным командиром. Достаточно было только сказать: «Belissima, t’adoro!» («Прекраснейшая, обожаю тебя!») Этой весной, отличавшейся от прочих цветом чужеземных мундиров, главным делом стала любовь.
Бонапарта начинали слегка тревожить эти разгульные празднества; и как же было не тревожиться, если, проезжая по городу, он слышал раздававшуюся со всех сторон танцевальную музыку... Не было ни одного офицера, который не торопился бы на очередное свидание. Даже старый Бертье — вот умора! — по уши врезался в чаровницу Грассини, новую юную примадонну местной оперы, по которой сходил с ума весь Милан (однажды вечером, когда Бонапарт поехал в Ла Скала, битком набитый французскими офицерами и первыми красавицами из числа миланской аристократии, она попросила представить её Освободителю и вернулась к Бертье только после того, как получила резкий отказ). Он один не поддавался этому водовороту нежных чувств и любовных интриг. Он старался как можно дальше держаться от развлечений, которые казались ему пустой тратой времени. (Ах, если бы здесь была Жозефина!)
Пока его офицеры танцевали и завоёвывали всё новые сердца, он с головой погрузился в работу. Чего-чего, а работы ему хватало. Засевшие в цитадели австрийцы упорно не сдавались, хотя и воздерживались от стрельбы по городу; ему пришлось тщательно расписать весь ход осадных работ и йаблюдать за их выполнением: рытьём параллельных траншей и размещением батарей, которые должны были прйнудить врага к капитуляции. Предстояло разбить засевшего в Мантуе Болье и выгнать его из Италии. (Но для этого нужно было дождаться новостей о подписании мирного договора с Пьемонтом; он не мог углубляться далеко на восток, не убедившись в безопасности собственного тыла и кратчайших коммуникаций с Францией). Нужно было Создать временное правительство для Милана и всей Ломбардии: ещё не настало время Цизальпинской республики, которая представлялась ему конечной целью. (Ломбардские агитаторы серьёзно заботили его, однако он твёрдо решил, что эта, республика будет не якобинской, но умеренно либеральной и объединит всё лучшее в государстве, которому, возможно, суждено будет стать прообразом новой Италии). Хватало сложностей и с контрибуцией; надо было сообразить, как её лучше провести. Он должен был реорганизовать армию, одеть её, перевооружить большинство частей, выплатить им хотя бы часть причитавшегося жалованья (бедняги давно забыли, когда в последний раз держали в руках деньги). А кроме того, надо было ублажить парижских мерзавцев...
Однако в то солнечное утро первого прериаля, возвращаясь в палаццо Сербеллони с осадных работ вокруг цитадели, он думал совсем о других вещах. На сей раз его волновали вопросы личные и, надо признаться, весьма суетные. На рассвете он приказал расклеить по городу обращение к армии, и его разбирало авторское любопытство. Интересно было посмотреть, как воспримут это обращение в войсках.
Вот оно! Бонапарт увидел большой плакат, над которым развевался сине-бело-красный флаг, и толпу скопившихся возле него солдат, которые отпихивали друг друга локтями, пытаясь пробраться поближе. Кое-кто из них с энтузиазмом выкрикивал: «Да здравствует генерал Бонапарт!» Видно, эти оборванные солдаты и в самом деле одобряли написанное. Никогда ещё он так не хвалил собственную армию. Он сто раз подписался бы под каждым его словом. Он мог повторить эти слова наизусть.
«Братьям по оружию
Штаб-квартира, Милан,
1 прериаля. Год IV.
Солдаты!
Ринувшись вниз с апеннинских высот, вы, словно лавина, смели, опрокинули, рассеяли всё, что мешало вашему маршу.
Пьемонт, освобождённый от австрийской тирании, подчинился естественному чувству мира и дружбы с Францией.
Стал вашим Милан, и знамя Республики взвилось над всей Ломбардией.
Герцогства Пармское и Моденское остались существовать только благодаря вашему великодушию.
Армия, которая посмела дерзко угрожать вам, отныне не найдёт такой стены, которая могла бы оградить её от вашей храбрости.
По, Тичино, Адда не смогли задержать вас ни на один день; эти хвалёные итальянские оплоты оказались бессильными; вы преодолели их с той же лёгкостью, что и Апеннины.
Столь многочисленные успехи до глубины души обрадовали всю страну; ваши депутаты приказали устроить праздник в честь ваших побед и отметить его во всех коммунах Республики. Там, на родине, ваши отцы, ваши матери, ваши жёны, сёстры и возлюбленные радуются вашим успехам и гордятся тем, что являются роднёй героев.
Да, солдаты, вы многое сделали; но значит ли это, что дела больше не осталось? Не скажут ли о нас, что мы сумели победить, но не сумели воспользоваться победой? Не укорят ли нас впоследствии, что мы превратили Ломбардию в новую Капую[38]? Но я вижу, что вы уже хватаетесь за оружие: отдых трусов тяготит вас; дни, потерянные для славы, потеряны и для вашего счастья. Итак, двинемся вперёд! Нам ещё предстоят форсированные марши, остаются враги, которых надо победить, лавры, которыми нам надо покрыть себя, оскорбления, за которые нужно отомстить.
Пусть трепещут те, кто наточил кинжалы гражданской войны во Франции, кто подло умертвил наших посланников[39] и сжигал наши суда в Тулоне: час отмщения настал.
Но пусть другие народы не беспокоятся; мы друзья всех народов, а особенно наследников Брута, Сципиона и тех великих мужей прошлого, кого мы приняли за образец. Восстановление Капитолия, водружение в нем статуй прославивших себя героев, пробуждение граждан Рима, впавших в спячку после нескольких веков рабства, — вот что станет достойным плодом ваших побед. Эти свершения породят эпоху, о которой будут с завистью вспоминать последующие поколения. Вам будет принадлежать слава людей, сумевших изменить лицо самой прекрасной части Европы.
Свободный французский народ, уважаемый всем светом, даст Европе славный мир, который вознаградит её за все жертвы, понесённые ею в течение последних шести лет. Тогда вы вернётесь к своим очагам, и ваши сограждане будут говорить, указывая на вас: «Он был в Итальянской армии!»
Бонапарт».
Да, ему нравилось это обращение. Это был хороший способ общаться с армией, в которой было так легко пробудить республиканский энтузиазм. Это обращение было выдержано в строгом стиле, который позже назовут классическим. Так он думал, на несколько мгновений позабыв о бремени лежавшей на нём ответственности, пока коляска не свернула под арку и не остановилась у опиравшегося на огромные колонны портика палаццо Сербеллони.
Проведя несколько минут в своём кабинете, он порывисто — как делал это каждый день — прошёл через пустые залы в величественную анфиладу, приготовленную для Жозефины. Он уже несколько дней ждал вести, что она выехала из Парижа. Мюрат вернулся без неё, но был уверен, что она приедет с Жюно. Не была ли её беременность обманом? Он заставил себя думать, что нет. Но личные письма из Парижа (читать их было настоящей пыткой) сообщали, что она вовсю наслаждается жизнью, что её видят повсюду, что она стала королевой, идолом столицы, опьянённой его победами. Следовательно, ни настоящая, ни тем более фальшивая беременность не могла быть серьёзным препятствием для её приезда. Постоянные мысли о ней были мучением. Что она делала всё это время в Париже? С каким любовником она не могла расстаться? Нет, нет, он не хотел, не мог верить, что она могла быть неверна ему; насколько он знал Жозефину, та была всего лишь фривольна, любила пофлиртовать и неохотно отказывалась от этих развлечений. Он с нетерпением ждал каждого курьера, чтобы услышать об отъезде Жозефины. Прибывал очередной курьер и наносил ему удар в самое сердце. Но теперь она могла приехать со дня на день, обязана была приехать! Он ходил по роскошно обставленным апартаментам, менял местами картины, перекладывал дорогие изысканные безделушки, которые наверняка понравились бы ей, представлял себе её восторг при виде всех этих чудес, видел, как Жозефина протягивает руки, радостно бежит к нему навстречу и говорит, что она обожает его. Ни у одной женщины не было такого мужа, как он. Скажет ли она это?
Он оглянулся по сторонам и заметил герцога ди Сербеллони. Сербеллони поклонился ему со старомодной учтивостью.
— Добрый день, синьор генерал, — сказал он. — Надеюсь, я не помешал вам?
— Вовсе нет, — с улыбкой ответил Бонапарт. Его симпатия к этому добросердечному, либерально настроенному аристократу росла с каждым днём. — Вы же видите — в вашем великолепном дворце я чувствую себя как дома. Надеюсь только, что не создаю вам лишних хлопот. Я перебирал безделушки, которые так любит моя жена.
Герцог ди Сербеллони улыбнулся.
— Мадам Бонапарт можно поздравить. Должно быть — а я уверен, что так оно и есть, — эта женщина божественно прекрасна, если сумела не только привлечь к себе внимание человека, столь занятого великими делами, как вы, но и вызвать у него такое сильное чувство.
— Я безумно люблю её, синьор герцог. Не знаю, как я доживу до её приезда.
Сербеллони снова улыбнулся.
— А ведь в Милане хватает соблазнов. Я слышал, что кое-кто из ваших генералов не устоял перед ними. Мадам Бонапарт следовало бы поздравить и с тем, что ей хранят такую неслыханную верность.
Бонапарт бурно расхохотался; такого веселья было трудно ожидать от человека с жёлтым от усталости лицом, смотревшего на него из зеркала. (Жозефина обожала зеркала. Он увешал ими всю эту комнату).
— Им не соблазнить меня, синьор герцог. Для меня существует только одна женщина. Её грация, её улыбка, её душа — всё в ней несравненно. — Он смешался и умолк, поняв всю абсурдность попытки перечислить совершенства Жозефины. Эти миланские мужья были не в состоянии понять, что человек может быть без памяти влюблён в собственную жену. — Но скоро — надеюсь, очень скоро — вы увидите её сами. А теперь, синьор герцог, чем я могу служить вам? — Он был уверен, что гость пришёл к нему с какой-то просьбой. До сих пор герцог не входил в эти апартаменты.
Сербеллони небрежно махнул рукой, показывая, что дело нестоящее.
— Ничего особенного, синьор генерал. Пустяки. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз... когда вы будете не так заняты.
Он засмеялся и похлопал герцога по руке.
— Я всегда занят, мой друг. Днём и ночью. Мне хватает шести часов сна, да и то урывками. Пойдёмте в мой кабинет, и я сделаю для вас всё, что в моих силах.
Они миновали череду огромных залов и оказались в большой, роскошно убранной комнате, служившей Бонапарту для работы. Генерал сел в кресло, стоявшее у письменного стола, и снова засмеялся.
— Я никогда не жил в такой роскоши, — сказал он. — Спасибо вам за щедрость, синьор герцог.
— Синьор генерал слишком высоко ценит моё гостеприимство. Он мог бы взять в Милане всё, что пожелает. Палаццо Реале был бы более подходящей резиденцией для завоевателя Ломбардии. — (И прекрасным предлогом для этих ревнивых парижских мерзавцев...) — Для меня огромная честь, что он решил остановиться в моём скромном доме. — Избитая фраза, но сказано было от души. Именно за искренность он и любил Сербеллони. И за высокие принципы. Герцог был просто сокровищем для той республики, которую решил создать Бонапарт. — Но мне неловко отрывать вас от работы, синьор генерал. В самом деле, я испытываю трепет, когда думаю о вашей неустанной и разносторонней деятельности. Вы уникум, синьор генерал, вы гений, которого ещё не видывал наш век.
У него действительно было много дел: весь стол был завален бумагами. Рабочий день Бонапарта был расписан по минутам. Он отмахнулся от комплимента.
— Вы льстите мне. Так всё же, чем могу служить?
— Дело довольно деликатное, синьор генерал. Должно быть, вам хорошо известно, что весь Милан — и я вместе со всеми — с восхищением говорит о безупречности вашего поведения. Но вы не думаете, что некоторые ваши генералы слегка... скажем так... увлекаются?
Он прекрасно знал это. Всего за несколько дней — меньше, чем за неделю — каждый из его генералов нажил неимоверное состояние.
— Вполне возможно, синьор герцог. Миланское гостеприимство кое-кому из них ударило в голову. Не могли бы вы назвать конкретный случай, требующий моего вмешательства?
— Если вы настаиваете, генерал, я приведу вам лишь один пример того, что происходит повсеместно. Генерал Массена, первым прибывший в Милан, на один день остановился в палаццо Греппи. Когда он уехал, то забрал с собой всю обстановку дворца вплоть до ковров, кресел, кроватей и продал её евреям. Затем генерал Массена переехал в палаццо Борромео и обобрал его дочиста, не побрезговав даже оконными шторами. Из палаццо Борромео он перебрался в палаццо Меллерио, который занимает и поныне. Его первым мероприятием стала реквизиция всех верховых лошадей и сбруи. Но это далеко не всё. За эти несколько дней генерал Массена захватил — как говорят, в сугубо личное пользование — очень большие средства из церковного фонда и банка Сант-Амброджо, насчитывающие триста тысяч ливров во французской валюте, а также содержимое сундуков муниципальной кассы, где хранилось около полумиллиона. Это только некоторые из конфискаций генерала Массена, о которых мне доложили. — Герцог ди Сербеллони улыбнулся, хотя несколько натянуто. — Все понимают, что победоносной армии многое можно простить. В том числе и некоторые вольности. Но я думаю, вы согласитесь, что генерал Массена действительно увлёкся.
Бонапарт нахмурился. Никто лучше его не был осведомлён о фантастических грабежах его генералов; однако он не мог остановить это безобразие, не применяя суровых мер, которые могли бы подорвать его авторитет и заставить генералов перекинуться на сторону его парижских врагов. Поэтому он цинично предпочитал делать вид, что ничего не знает. Кроме того, чем больше преступлений совершат его генералы, в тем большей зависимости они от него окажутся. Он решил разыграть благородное негодование.
— Полностью с вами согласен, дорогой Сербеллони. Я и представления не имел о том, что возможны такие вещи! Подобное поведение неслыханно, чудовищно! Сегодня утром генерал Массена будет здесь. Я поговорю с ним об этом.
Сербеллони улыбнулся.
— Я был уверен, что вас не поставили в известность об этих эксцессах, синьор генерал. Конечно, вы не могли знать о происходящем. Вас занимают дела более важные. Я привёл случай с генералом Массена только потому, что он самый вопиющий. Но — возможно, в меньших масштабах — каждый из ваших генералов торопится сколотить себе состояние.
Бонапарт принял суровый и величественный вид.
— Грустно слышать, синьор герцог. Я разберусь и накажу виновных так, чтобы другим неповадно было. Эти безобразия прекратятся.
Сербеллони склонил голову в знак признательности.
— Тысяча благодарностей, синьор генерал. Я свято верю в вашу честность и справедливость. Маленькие вольности, которые себе позволяют ваши генералы, сами по себе Пустяк, не имеющий никакого значения. Но — увы! — они оказывают влияние на общественное мнение. Население Милана с энтузиазмом приветствовало вас как своего освободителя от австрийцев, как человека, который принёс им свободу, как строителя той независимой республики, о которой мы с вами мечтаем. К счастью, этот энтузиазм ещё не угас. Но было бы неправильно скрывать от вас, синьор генерал, что он гаснет благодаря... несколько чрезмерным требованиям, если так можно выразиться, которые предъявляют ваши комиссары, несмотря на то что наложенная вами контрибуция была выплачена охотно и в полном объёме.
Он откинулся на спинку кресла. Было ясно, что Сербеллони поручили подать ему важную и серьёзную жалобу.
Ему предстояло услышать о чудовищных грабежах Саличетти, грабежах, планы которых этот беспринципный жадный мошенник так весело обсуждал с ним. Собственная репутация Бонапарта была безупречной; никто не мог отрицать этого. Он не тронул и сольдо сверх того, что причиталось ему по праву. Этим ревнивым политиканам нельзя было дать предлог для того, чтобы начать на него атаку и поставить преграду амбициям, которые были куда выше стремления нажить себе состояние нечестным путём. Он мрачно посмотрел в круглые, невинные глаза носатого Сербеллони.
— И снова я с прискорбием слышу это, синьор герцог. О каких чрезмерных требованиях вы говорите?
Сербеллони вынул из кармана листок бумаги.
— Синьор генерал, вот список лишь нескольких из тех мероприятий, которые нанесли самый большой урон энтузиазму, с коим здесь встретили прибытие французской армии. — Он заглянул в листок. — Вы помните, что контрибуция, наложенная непосредственно на Милан, была полностью выплачена. Я не стану говорить о контрибуции в двадцать миллионов, наложенной на всю Ломбардию, которая в пять раз превышает ежегодную контрибуцию, взимавшуюся с нас австрийцами; может быть, это правильно, поскольку армия-освободительница нуждается в деньгах. Не стану говорить ни о повальном грабеже музеев и библиотек, ни об изъятии из храмов шедевров Тициана, Джорджоне и других великих живописцев, которые были гордостью Милана — это хотя и не нанесло финансового ущерба миланцам, но вызвало сильное негодование. Я не стану говорить ни о трёх тысячах мушкетов — всего, что имелось на вооружении, миланской городской стражи, ни о реквизиции пятнадцати тысяч комплектов обмундирования, пятидесяти тысяч мундиров, пятидесяти тысяч штанов, сотни тысяч рубашек и двадцати тысяч головных уборов — возможно, всё это справедливо, учитывая состояние вашей армии. Есть более серьёзные потери, коснувшиеся всего населения города. Существуют изъятия, которые нельзя назвать иначе как произволом. В качестве примера могу привести случай, когда ваши комиссары реквизировали две тысячи упряжных лошадей общей стоимостью в миллион ливров. Взамен были даны расписки, но когда владельцы лошадей предъявили эти расписки для оплаты, им сказали, что Французская Республика не платит за предметы роскоши, принадлежащие богатым людям. Кроме того, ваши комиссары одновременно конфисковали все общественные фонды, включая средства больниц, благотворительных организаций и церковных общин. Общую их сумму подсчитать пока невозможно, но ясно, что она огромна. И именно эта акция сильнее всего повлияла на общественное мнение.
Пока Сербеллони сотрясал воздух дипломатичной речью в стиле «старого режима», мозг Бонапарта усиленно работал. Главнокомандующий прекрасно знал о чудовищных и бесстыдных грабежах. Только сегодня утром Саличетти показал ему памятную записку, где общая сумма награбленного в Ломбардии официально составляла тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят одну тысячу четыреста ливров; однако эта цифра не составляла и половины от фактической. Но это была не его вина. Тут он ничем не мог помочь итальянцам. Ещё до вступления в Милан он получил письмо от Карно, в котором от имени Директории содержалось требование «немедленно налагать денежные контрибуции, пока не прошёл ужас перед нашим оружием; необходимо, чтобы эта страна надолго запомнила наш приход». А здесь, в Милане, на него накинулась орда армейских поставщиков и волчья стая беспринципных, бесчестных финансистов. Одним из партнёров подрядной конторы «Флэша и компания», требовавшей немедленно уплатить ей пять миллионов, был политический деятель, связанный тесной дружбой с членом Директории Рюбелем, а посему её требования безапелляционно поддерживались военным министром. «Революционер» и «патриот» банкир Россиньоли, связанный с евреями-финансистами из Генуи и отпустивший перед походом большую сумму на нужды армии, не отходил от дверей Бонапарта. Каждое утро этот мошенник говорил ему: «Без меня вас здесь бы не было. Сейчас вы стали хозяином богатой страны. Вы владеете огромными деньгами. Вы можете заплатить!» Он бы с радостью расстрелял негодяя, но все эти финансисты составляли тайное общество, высокооплачиваемыми агентами которого, насколько он знал, были члены парижской Директории. Все они были участниками шайки, грабившей в таких размерах, которых он даже не мог себе вообразить. Сам он воевал ради славы; они же финансировали его для того, чтобы получить возможность безнаказанно грабить и наживать на этом многомиллионные состояния.
А Сербеллони продолжал говорить:
— Но больше всего коснулась населения конфискация ломбарда, который, как вы знаете, существует не только для бедняков, получающих там ссуду под залог имущества. Ломбард является наиболее безопасным хранилищем ценностей среднего класса и знати. Общая стоимость этих предметов также не поддаётся учёту, но утверждают, что один принц ди Бельджойозо хранил там бриллиантов и посуды на миллион с лишним ливров; похоже, что суммарная цена реквизированных драгоценностей составляет около девятнадцати миллионов. Естественно, весьма сомнительно, что всё это попало в кассу вашей армии. Кладовщик передал французскому комиссару Бонналю двадцать два упакованных ящика, но ещё до того ящики были взломаны и их содержимому был нанесён очень серьёзный ущерб. Заявляют, что аббат Феш, который, как и слышал, является вашим родственником, синьор генерал (в способностях своего хитрого полудядюшки Феша прикарманить всё, что плохо лежит, он не сомневался), и подрядчик Колло вынули оттуда множество золотой и серебряной посуды, ювелирных украшений и драгоценных камней. Заявляют также, что генерал Массена взял из ломбарда полмиллиона ливров. Кроме того, французские комиссары взломали печати в ломбарде Санта-Тереза и забрали сундук, в котором хранилось восемьсот семьдесят две тысячи ливров. — Сербеллони махнул рукой, сложил листок и спрятал его в карман. — Я мог бы продолжать бесконечно, signor generale, но не хочу отнимать у вас драгоценное время. Я уверен, что вы понимаете, какой серьёзный урон наносят репутации французской армии эти своевольные действия и как они мешают созданию республики, о которой мы мечтаем. Население особенно возмутила конфискация имущества, хранившегося в ломбарде, поскольку ломбард является не государственным учреждением, а частной организацией. Есть множество людей, чьих имён я не хочу называть, которые с удовольствием раздули бы эту искру недовольства в неистовое пламя. Как ни прискорбно, но я вынужден с полной ответственностью заявить, синьор генерал, что, если эти откровенные грабежи будут продолжаться, вы столкнётесь с народным бунтом.
Нельзя было сомневаться в серьёзности Сербеллони. Как один из наиболее горячих сторонников идеи создания Цизальпинской республики, он обязан был предупредить его... Армии давно нужно было покинуть город и идти в поход на Болье. Он бы сделал это немедленно, но надо было дождаться сообщения из Парижа о подписании мирного договора с Пьемонтом. Только тогда прекратится эта грабительская оргия. Он оставил Милану лишь шестьсот мушкетов — этого недостаточно для вооружённого восстания.
— Всё, что вы сказали, наполняет меня негодованием, мой дорогой герцог. Это отвратительно. Это порочит нашу славу. Я употреблю всю свою власть, чтобы положить конец беззакониям. Но в более важных вещах я бессилен. Я всего лишь генерал, которому Французская Республика доверила командовать армией. Те конфискации, о которых вы говорите, проводятся комиссаром Саличетти, который является политическим представителем французского правительства и напрямую связан с Директорией. Я не имею над ним власти. Но я заверяю вас, что непременно передам ему всё, что вы сказали, синьор герцог, и постараюсь убедить его возвратить клиентам ломбарда, по крайней мере, мелкие вклады и не восстанавливать против нас городскую бедноту.
Герцог ди Сербеллони поклонился:
— Тысяча благодарностей, синьор генерал. Я был уверен, что обратился к вам не напрасно. А если вы сумеете убедить комиссара Саличетти возвратить населению всё, что хранилось в ломбарде, будет ещё лучше.
Бонапарт приветливо улыбнулся:
— Вот этого обещать не могу, синьор герцог! Как я сказал, комиссар Саличетти мне не подчиняется.
Тут в комнату на цыпочках вошёл его денщик Констан (со времён Тулона он всех своих денщиков звал Констанами), подошёл к нему, что-то прошептал на ухо и так же неслышно удалился.
Герцог встал:
— Тысяча извинений, мой дорогой генерал, за то, что отнял у вас столько времени! Мне следовало бы помнить, как вы заняты.
Тут поднялся и Бонапарт:
— Пустяки, мой друг! Я чрезвычайно признателен вам за эти сведения. Я и представления не имел обо всех этих мерзостях. Благодарю за то, что вы пришли ко мне. Всегда рад вас видеть. Да, вы правы, сейчас я должен встретиться с офицерами городской стражи и принять у них присягу. Но это не к спеху.
Обмениваясь с Сербеллони любезностями, он проводил герцога до дверей и тут же выкинул его из головы, едва дверь закрылась.
Эта женщина... Слуга шепнул ему, что она ждёт его в спальне! Может, лучше не связываться и сразу отослать её? Действительно, офицеры городской стражи ждали его в приёмной уже час. А это... Полная чушь, грубая чувственность... Он едва знал эту девушку, она ничего для него не значила — маленькая актриса, бывшая любовница пьемонтского генерала, случайная знакомая, которой он сказал несколько пустых фраз на вечеринке в Тортоне, по пути в Пьяченцу. Дикая вспышка желания в середине бессонной ночи, когда его сводили с ума мысли о Жозефине, заставила Бонапарта послать за ней.
Смешнее всего было то, что он — прославленный, превратившийся в идола гений этой победоносной армии, чудо, о котором говорила вся Европа — унизился до такого ничтожного, никому не известного существа, когда к его услугам были самые знаменитые красавицы Милана. Они вились вокруг него и пользовались любой возможностью, чтобы предложить себя: ослепительная маркиза Висконти-Айми на первом балу; примадонна Грассини; утончённо-чувственная красавица графиня Альбани, бывшая одновременно любовницей Кильмэна, нового начальника секретной службы полковника Ландрие и неизвестно скольких ещё французских офицеров; остроумная графиня Джерарди: похожая на статуэтку Дианы юная синьора Руга и все остальные, которых Бонапарт не мог припомнить — все молодые, знатные, прекрасные и бесстыдно желавшие принадлежать ему. Он ни на кого не обращал внимания: никто из них не тронул его сердца. А сейчас в соседней комнате его ждала маленькая неизвестная актриса (знай об этом армия — вот был бы хохот!), которую он предпочёл всем остальным.
Но именно потому, что она была никем и не имела никакого значения, он и послал за ней. С любой из остальных было бы невозможно вступить в связь, не испытывая чувства, что он изменяет Жозефине. А отношения с этим ничтожным созданием приносили всего лишь физическое облегчение, позволяли успокоиться перенапряжённым нервам, и о них можно было через минуту забыть. Вперёд! Офицеры городской стражи ещё немного подождут!
Он пошёл в спальню, обходя приёмную стороной. Она была там — ярко накрашенная, кокетливо улыбающаяся. Что он в ней нашёл? Ба! Он был груб с ней и не нуждался в её нежностях. Ему было нужно только краткое животное облегчение.
Когда она стояла перед зеркалом, надевая шляпку, он вынул из кармана несколько золотых монет и протянул ей. Очевидно, от этого полубога, у ног которого лежала вся Ломбардия, она ждала большего, потому что тут же вцепилась в него.
— О, дорогой, ты пришлёшь мне подарок?
Он с раздражением оттолкнул её.
— Ладно, пришлю. Только уходи поскорее и помалкивай! Поняла?
Она вульгарно и жеманно улыбнулась.
— А когда я снова увижу тебя, дорогой?
Он был краток:
— Никогда. А теперь иди, иначе не получишь обещанного подарка!
Слёзы навернулись на её глаза. Она начала жаловаться на его жестокость. Бонапарт отвернулся и с изумлением увидел Массена. На смуглом лице генерала играла сардоническая улыбка. Как всегда, Массена вошёл в его комнату по-кавалерийски, без доклада.
Бонапарт, оказавшийся в смешной ситуации, подавил гнев и негодование; он крепко взял Массена за руку и повёл к себе в кабинет. Там он обернулся к генералу лицом.
— Массена! — сурово начал он, говоря самым резким тоном, — У меня на вас масса жалоб! Жалоб, которые не придутся по вкусу в Париже! Вы ограбили неизвестно сколько дворцов, ободрав их как липку!
Массена засмеялся:
— О чём вы говорите, генерал? Вы считаете, что я пошёл на эту войну из любви к ней? Я воюю за деньги и хочу получить их как можно больше. Вы воюете за другое. — Он цинично и многозначительно усмехнулся. — У всех нас есть свои маленькие амбиции, мой генерал, не так ли? Мне плевать на то, что скажут в Париже. Мы можем делать что угодно до тех пор, пока парижские господа будут получать свою долю и трястись от страха перед армией, которая от генералов до барабанщиков обожает своего командующего. Господи, помилуй! Никто из нас не верил в россказни о плодородных долинах и богатых городах. Но мы здесь! Кстати, генерал, поздравляю! Ваше новое обращение к армии просто великолепно.
Этот ненасытный разбойник Массена был хитрой лисой, хорошо знавшей его слабое место. Бонапарту было чрезвычайно важно знать, что армия по-прежнему обожает его. Значит, «от генералов до барабанщиков»... В том числе и генералы. Преданность генералов была краеугольным камнем, на котором держалась его мечта. Преданность лично ему. Бонапарту не оставалось ничего другого, кроме как посоветовать Массена умерить свою алчность, сказать, что у него будет для этого масса времени и масса других городов, и напомнить, что, если поведение французов заставит местное население восстать, они потеряют всё.
После встречи с офицерами городской стражи (щеголеватыми юными дворянчиками, которые думали, что война — это прежде всего роскошная форма) и принятия у них присяги он вспомнил о своём обещании этой женщине, значившей для него меньше, чем ничто. Он никогда не нарушал своих обещаний, даже самых незначительных. Надо было покончить с этим. Он поднялся, пошёл на узкую, заполненную ювелирными лавками Калле деи Фиджини, расположенную рядом с площадью Дуомо, и купил у ювелира Манини какую-то безделушку стоимостью в сто двадцать восемь миланских лир, составлявших чуть больше сотни французских франков. Эта женщина большего не стоила. Теперь о ней можно было не вспоминать.
Двумя днями позже, когда Бонапарт сидел в кабинете палаццо Сербеллони, ему принесли долгожданную почту, доставленную парижским курьером. Главнокомандующий расстегнул большую кожаную сумку, из которой посыпалось множество писем. От Жозефины по-прежнему ничего не было. (Удар был нестерпимым. Ну когда же она приедет?) Зато был большой конверт с грифом Директории. Бонапарт нетерпеливо вскрыл его. Директория торжественно извещала, что между Королевством Пьемонт и Французской Республикой подписан мир. Наконец-то он избавлен от постоянной угрозы с запада! Теперь у него развязаны руки для удара по Болье, занимавшему линию обороны по реке Минчо от Мантуи до озера Гарда. Он сможет разделаться с противником ещё до того, как к тому подойдут подкрепления из Австрии!
В эту минуту вошёл Бертье.
— Бертье! — воскликнул Бонапарт. — Мир с Пьемонтом подписан! Мы немедленно идём на Болье! Через несколько дней в Италии не останется ни одного австрийца! — Он жил этим, давно спланировав каждый манёвр и ожидая только одного — устранения угрозы со стороны Пьемонта. — Завтра штаб покидает Милан!
До поздней ночи он писал приказы. Когда он подписал последний по счёту, начался рассвет — рассвет четвёртого прериаля. Надо выкроить время и немного поспать. Он устало откинулся на спинку стула, и воспоминание о том, что курьер вновь не привёз письмо от Жозефины, наполнило его горечью и гневом. Он схватил перо и лист бумаги.
«Милан, 4 прериаля. Год IV
Жозефина, с двадцать восьмого числа ни одного письма! Я получил почту, отосланную из Парижа двадцать седьмого, и не нашёл в ней ни строчки от моей bonne amie! Неужели она забыла меня, или ей нет дела до того, что не существует большей муки, чем отсутствие писем от моей нежной любви? Здесь в мою честь устроили грандиозный праздник, пять или шесть сотен изысканных красавиц пыталось угодить мне, но никто из них не напоминал тебя, ни у кого не было таких нежных и гармоничных черт, которые запечатлелись в моём сердце. Я видел только тебя и думал только о тебе. Я не мог вынести этого и, уйдя оттуда через полчаса, вернулся и лёг в постель, грустно говоря себе: вот пустующее место моей обожаемой жёнушки... Так ты едешь? Как протекает твоя беременность? Ах, моя прекрасная подруга, получше заботься о себе, будь весела, почаще развлекайся, ни о чём не волнуйся и не беспокойся из-за дороги: небольшое путешествие тебе не повредит. Я без устали представляю, что вижу твой маленький животик; должно быть, это обворожительное зрелище...
Прощай, прекрасная подруга, думай хоть иногда о том, кто думает о тебе каждую минуту.
Б.».
Глава 20
Вечером четырнадцатого июня (или двадцать шестого прериаля) Бонапарт писал Жозефине из Тортоны — сильной крепости, доставшейся ему вместе с другими по соглашению с Пьемонтом. С тех пор как он выступил из Милана против Болье, прошло двадцать два дня. Эти дни были заполнены трудными и важными делами.
Пятого прериаля, уже находясь в Лоди, он получил сообщение, что в Милане, как и предсказывал Сербеллони, после его ухода вспыхнул бунт (к счастью, он оставил в городе только шестьсот мушкетов), а в Павии началось настоящее восстание, к которому примкнули крестьяне окрестных деревень. Тем не менее, он со своей армией продолжал марш на Брешию и добрался до Сончино; там он узнал, что восстание в Павии приняло весьма серьёзный оборот: гарнизон, оставленный им в этом городе, был захвачен повстанцами и, возможно, уже расстрелян. Он тут же поскакал в сторону Кремоны, оставив армию на марше. Прибыв шестого прериаля обратно в Милан и, немного передохнув, он собрал остававшиеся в столице силы, посадил к себе в коляску архиепископа для переговоров с мятежниками, но в Бинаско, на полпути к Павии, повстречал тысячу крестьян, вооружённых в основном косами и вилами. Он немедленно атаковал их, спалил деревню, а несколько сотен бунтовщиков расстрелял. Затем он поехал в Павию и обнаружил её ворота на запоре. Под градом черепицы сорвав ворота с петель, он двинул в город своих гренадеров, освободил гарнизон, безжалостно расстрелял вожаков бунта и отдал Павию на разграбление, проведя всю эту страшную ночь в украшенном мозаикой аббатстве Чертоза. На следующее утро он сам поехал в Павию, где опубликовал прокламацию, которая должна была ужаснуть всю Италию. Затем в полдень седьмого прериаля (двадцать шестого мая) он, промчавшись в экипаже сорок пять миль, присоединился к своей армии в Сончино. Двадцать седьмого он уже был в Брешии. Двадцать девятого Бонапарт оставил Брешию и направился в Кальчинато. Там он сел на коня и повёл свои войска в двадцатимильный ночной поход. На рассвете тридцатого его гренадеры достигли Боргетто; держа мушкеты над головой, они перешли вброд реку Минчо, разбили австрийский центр и, как было задумано, погнали его на север. К рассвету следующего дня, тридцать первого мая, он прекратил преследование разбитых частей Болье на плато Риволи, в горловине долины реки Адидже, и дал им возможность удирать дальше. Таким образом к вечеру восьмого дня после начала этой кампании, если не считать гарнизона, засевшего в окружённой озёрами Мантуе, в Италии не осталось ни одного австрийского солдата. Однако взять Мантую одним ударом так и не удалось. Крепость упорно не желала капитулировать.
Последующие дни были наполнены не менее кипучей деятельностью. Первого июня он был в отбитой у венецианцев Пескьере, где принял посла охваченного паникой Неаполитанского королевства: кавалерия неаполитанцев находилась на службе у Австрии. Третьего июня он направился в Верону, также отвоёванную у Венеции, а затем разместил свою штаб-квартиру в Ровербелле, на полпути между Мантуей и Пескьерой (до падения Мантуи он не собирался перебираться за Минчо). Четвёртого июня он отправился инспектировать осаду Мантуи и участвовать во взятии укреплённого пригорода Сан-Джорджо, разместил там свою осадную артиллерию и той же ночью, проехав в экипаже сорок миль, вернулся в Брешию. Там на следующее утро он подписал временное перемирие с устрашённым Неаполитанским королевством. Из Брешии он отправился в Милан, где принял испанского посла в Риме, представлявшего не менее напуганный Ватикан, территорию которого он уже начал захватывать в Романье: его войска овладели Болоньей. Восьмого он выехал из Милана в Болонью. Бешеным галопом он промчался в карете по древней Виа Эмилиа, проделав сто тридцать миль без остановки (если не считать смену лошадей) и всё это время не переставая работать. На следующий день он возвратился в Милан, откуда снова поехал в Болонью и ровно через сутки вернулся в столицу Ломбардии. Двенадцатого он побывал в Павии. Со вчерашнего дня он находился в Тортоне вместе со своими адъютантами Мюратом и Мармоном. Кроме того, его сопровождал отряд конных «гидов», который он создал для собственной охраны после того, как во время трапезы с Массена и Мармоном в Валледжо в тот самый день, когда была разбита армия Болье, едва не был взят в плен одной из отступавших австрийских частей.
Было две причины его приезда в Тортону: во-первых, встреча с представителем пьемонтского правительства для урегулирования мирного договора между Пьемонтом и Францией; во-вторых, инспекция этой важнейшей крепости, стоявшей на линии его коммуникации с Парижем.
Но в данную минуту, усталый и взволнованный, он мог думать только о Жозефине, которой писал следующее:
«Гражданке Бонапарт, улица Шантерен, № 6, Париж.
Штаб-квартира, Тортона, 26 прериаля.
Год IV Республики, единой и неделимой.
Моя дорогая Жозефина, с восемнадцатого числа я надеялся и верил, что ты прибыла в Милан. Едва закончилось сражение в Боргетто, я поспешил к тебе навстречу, но не обнаружил тебя! Через несколько дней курьер сообщил мне, что ты даже и не выезжала, и от тебя по-прежнему не было никаких писем. Моя душа разрывалась от горя. Я считал себя покинутым всеми, кто дорог мне на этой земле. Я никогда не чувствовал себя таким разбитым. Изнывая от огорчения, я написал тебе, возможно, чересчур резко. Если мои письма тебя обидели, я не утешусь до конца моих дней. Поскольку Тичино разлилась, я приехал дожидаться тебя в Тортону; каждый день я жду, и всё понапрасну. Четыре часа назад пришло коротенькое письмецо, в котором сообщается, что ты не приедешь. Не буду пытаться передать то чувство сильнейшей тревоги, которое охватило меня через мгновение, когда я представил себе, что ты больна, что вокруг тебя врачи, что жизнь твоя в опасности и что именно поэтому ты и не пишешь. С той минуты я нахожусь в состоянии, которое невозможно описать! Какое же сердце нужно иметь, чтобы любить тебя так, как люблю я! Ах! Я не думал, что можно испытывать такое горе, такие ужасные мучения. До сих пор я полагал, что всякое горе имеет свой предел; но горе, которое ныне испытывает моя душа, безгранично. Лихорадочный жар струится по моим жилам; отчаяние наполняет моё сердце. Ты страдаешь, а я далеко от тебя. Увы! Возможно, что тебя уже нет в живых. Жизнь действительно стоит того, чтобы её презирать; но мой несчастный разум заставляет меня бояться, что я не найду тебя после смерти, а я не могу смириться с мыслью, что никогда больше не увижу тебя. В тот день, когда я узнаю, что Жозефина мертва, я перестану жить. Никакой долг, никакие обязательства не будут связывать меня с миром. Человечество столь презренно! Ты одна оправдываешь в моих глазах бесстыдство людской натуры.
Всё приводит меня в отчаяние. Ничто не может излечить меня от болезненного одиночества и от змей, сосущих мою душу. Мне прежде всего нужно твоё прощение за те безумные, бестолковые письма, которые я написал тебе. Если ты здорова, то поймёшь, что та же пламенная любовь, которая возвышает душу, может заставить человека ошибиться. Я непременно должен убедиться, что тебе ничто не грозит. Любовь моя, отдай все ради своего здоровья и пожертвуй всем ради своего спокойствия! Ты такая нежная, слабая и больная; а время года такое жаркое, и путь неблизкий. Я на коленях умоляю: не подвергай себя опасности. Какой бы короткой ни была жизнь, пройдут три месяца и... Как, ещё три месяца мы не увидим друг друга!.. Я трепещу, моя любовь, не смея заглядывать в будущее: всё там ужасно, а единственное, что успокаивает других людей, находящихся в таком же состоянии, во мне отсутствует. Я не верю в бессмертие души. Если ты умрёшь, я тотчас же умру следом, но эта смерть будет простым уничтожением, лишённым всякой надежды.
Мюрат пытается убедить меня, что твоё недомогание незначительно; но ты ничего не пишешь; прошёл месяц с тех пор, как я получил от тебя последнее письмо. Ты нежна, полна чувств, и ты любишь меня. Ты, глупышка, борешься с болезнью и невежественными докторами, оставаясь вдали от того, кто избавил бы тебя от всех болезней и даже вырвал бы тебя из объятий самой смерти... Если твоя болезнь затянется, попроси, чтобы мне дали отпуск — я смогу приехать и хоть час провести с тобой. За пять дней я добрался бы до Парижа, а на двенадцатый вернулся бы в мою армию. Без тебя, без тебя Я здесь бесполезен. Сделай это для того, кто любит Славу, для того, кто служит Франции, но душа которого томится в изгнании; когда мой нежный друг страдает, я не могу хранить хладнокровие, необходимое для того, чтобы одерживать победы. Я не знаю, какие выражения найти, не знаю, что делать; мне хочется сесть в почтовую карету и самому отправиться в Париж; но честь, к которой ты так чувствительна, удерживает меня на месте вопреки желанию сердца. Из жалости ко мне попроси кого-нибудь написать за тебя; позволь мне знать, что у тебя за болезнь и чего следует опасаться. Наша судьба действительно ужасна. Только поженились, только соединились, как пришлось расстаться! Мои слёзы орошают твой портрет; он всегда со мной. Мой брат тоже не пишет. Ах! Несомненно, он боится поведать то, от чего я не найду лекарства. Прощай, моя любовь; как тяжела жизнь и как сильно зло, от которого страдают все!!!
Шлю тебе миллион поцелуев; верь, что никогда не встретишь любви, которая была бы равна моей, любви, которая продлится всю мою жизнь! Вспоминай обо мне почаще и пиши дважды в день. Скорее избавь меня от боли, терзающей мою душу. Приезжай, приезжай скорее, но сначала позаботься о своём здоровье.
Б.».
Он посыпал письмо песком, поцеловал, сложил, запечатал, а затем позвонил слуге, чтобы тот взял его и отдал курьеру, собиравшемуся в долгий путь до Парижа.
Жозефина! Каждая мысль о ней отдавалась в его сердце болью. Возможно, он никогда больше не увидит её! Что могло с ней случиться? Когда он расспрашивал Мюрата, тот вёл себя так странно, был таким уклончивым... Какую страшную тайну он скрывал? Не весть ли о медленной, но смертельной болезни?
На следующее утро он вместе с Марионом вышел под нестерпимо яркое, палящее июньское солнце. Несмотря на свою молодость, Мармон был очень опытным артиллерийским офицером и мог сильно помочь ему при осмотре крепости и отборе орудий, которые Бонапарт собирался взять для создания осадной артиллерии в Мантуе. (Просто не верится, что он до сих пор не может взять эту крепость, окружённую со всех сторон озёрами и болотами, словно остров!)
Они вместе с военными инженерами шли к фортификационным сооружениям. Как это ему надоело! Он не мог думать ни о чём, кроме Жозефины — всю ночь он пролежал без сна, мучимый одной мыслью: Жозефина больна! Конечно, она не могла сама сообщить ему, что заболела. Писем от неё не было уже целый месяц. А вдруг это только его фантазия, единственная цель которой — оправдать Жозефину, не желающую уезжать из Парижа? Нет, он не имел права на подобные подозрения! Она не могла обмануть его ожиданий. Нельзя было и думать о том, что она способна лгать. Если бы только она была здесь...
Стоя на крепостном валу и осматривая пушки, многие из которых сохранились здесь со времён войны 1742— 1748 годов, он видел пыльную дорогу, извивавшуюся между виноградниками и уходившую в сторону далёкого Парижа. Если бы он мог сейчас помчаться по этой дороге!
Закончив подробный и обстоятельный осмотр, они возвратились в штаб-квартиру, располагавшуюся в цитадели. Он чувствовал, что не может оставаться один, а потому пригласил молодого Мармона побыть с ним — несомненно отвлекая того от какого-то весёлого застолья.
Сидя в прохладной полутёмной комнате, он велел принести им охлаждённого снегом вина. Два молодых человека подняли свои бокалы.
— За здоровье моей жены, Мармон! — сказал Бонапарт. Выпив и поставив бокал, он вынул из кармана миниатюру с её портретом. — Разве она не прекрасна? В мире нет ей подобной. Ты должен признать это, — Он протянул миниатюру Мармону; но — перст судьбы! — портрет выскользнул из его руки и упал на каменный пол. Стекло разлетелось вдребезги.
Бонапарт был суеверен: это пустяковое событие пронзило его сердце. Мармон оказался проворнее, быстро поднял миниатюру и, отдавая её, озабоченно поглядел на старшего друга.
— Как вы бледны, генерал! — с тревогой в голосе сказал он. — Вы не заболели?
Бонапарт взял себя в руки и заговорил, ещё не придя в себя от шока.
— Мармон, — произнёс он, как лунатик, — моя жена или очень больна... или неверна мне!
— Вздор, генерал! — рассмеялся Мармон. — Кто сейчас верит в такие приметы?
Бонапарт прервал его. Этот случай потряс генерала до глубины души. Он должен был знать, что случилось, должен!
— Разыщи в штабе лучшего курьера! — резко приказал он. — И сию же минуту пришли его ко мне!
Он прошёл в свою комнату, чувствуя себя так, словно получил смертельную рану. Через несколько минут Мармон вернулся с егерем.
— Мой генерал, — сказал Мармон, — это лучший курьер штаба. Когда-то, до Революции, он был жокеем, — улыбнувшись, добавил он.
Бонапарт взглянул на гонца.
— Как тебя зовут? — спросил он.
Егерь отдал честь.
— Простак, мой генерал!
— Прекрасно! Приготовься немедленно отправиться в Париж. Сейчас я напишу письмо. Ты поедешь как можно скорее, останавливаясь только для того, чтобы сменить лошадь, и доставишь письмо мадам Бонапарт. Пробудешь там не дольше четырёх часов, а затем немедленно вернёшься ко мне, где бы в тот момент ни находился штаб. Если обернёшься за восемь дней, получишь щедрую награду. Понял?
Курьер вытянулся в струнку:
— Отлично, мой генерал! Я заслужу награду!
— Теперь иди собираться. Мармон даст тебе достаточно денег, чтобы брать на станциях лучших лошадей.
Они оставили Бонапарта одного. Тот сел и начал писать второе за сутки письмо.
«Штаб-квартира, Тортона, полдень 27 прериаля.
Год IV Республики, единой и неделимой.
Бонапарт, главнокомандующий Итальянской армией.
Жозефине».
Минуту или две он сидел, прикусив кончик пера, которым писал. Нет, он ничего не скажет о разбитом стекле на портрете. Он ни словом не обмолвится о своих сомнениях. Может быть, это только его фантазия. Может быть, она действительно больна, серьёзно больна. Одновременно он напишет в Париж Жозефу и вытянет из него письмо. Жозеф тоже не писал ему. Что они все скрывали от него?
Он начал писать быстро и неразборчиво: некогда было аккуратно выводить буквы.
«Моя жизнь — сплошной кошмар. Ужасные предчувствия душат меня. Отныне я не живу; я потерял больше чем спокойствие, больше чем счастье, больше чем жизнь: я остался без надежды. Я посылаю к тебе курьера. В Париже он пробудет только четыре часа, а затем повезёт мне твой ответ. Напиши мне страничек десять: это единственное, что сможет утешить меня. Ты больна, ты любишь меня, я огорчил тебя, ты беременна, а я не могу увидеть тебя. Эта мысль не даёт мне покоя. Я был так несправедлив к тебе, что не знаю, как искупить свою вину. Я проклинаю себя за то, что оставил тебя в Париже — ты там заболела. Прости меня, моя подруга; любовь, которую ты внушила мне, лишила меня рассудка, и я никак не могу обрести его вновь. Нельзя излечиться от подобного недуга. Меня одолевают ужасные предчувствия; мне хватило бы просто увидеть тебя, на два часа прижать тебя к моей груди и вместе умереть. Кто заботится о тебе? Мне представляется, что ты послала за Гортензией; я в тысячу раз больше люблю это милое дитя за то, что она хоть немного утешает тебя. Что же касается меня, то я не буду знать утешения, покоя, надежды до тех пор, пока не увижу посланного к тебе курьера, пока в подробном письме ты не объяснишь мне, в чём заключается твоя болезнь и насколько она опасна. Если она действительно опасна — предупреждаю тебя, я немедленно отправлюсь в Париж. Мой приезд излечит тебя. Я всегда был счастливчиком; никогда судьба не сопротивлялась моей воле; но сегодня я сомневаюсь во всём. Жозефина, как ты можешь хранить столь долгое молчание и не писать мне? Твоё последнее письмо от третьего дня этого месяца огорчило меня. И всё же оно всегда у меня В кармане. Я постоянно держу перед глазами твой портрет и твои письма.
Я ничего не могу без тебя. Я едва представляю себе, как существовал, не зная тебя. Ах! Жозефина, если бы ты знала, как тяжело у меня на сердце, неужели ты могла бы оставаться в Париже и с двадцать шестого по шестнадцатое не найти времени, чтобы отправиться в путь? Неужели ты послушалась болтовни коварных подруг, удерживающих тебя вдали от меня? Я готов подозревать всех. Я затаил зло на каждого, кто находится возле тебя. Я подсчитал, что если бы ты отправилась двадцать шестого, то к пятнадцатому уже была бы в Милане.
Жозефина, если ты любишь меня, если считаешь, что путешествие может подорвать твоё здоровье, то побереги себя. Я не отважусь уговаривать тебя ехать в такую даль по такой жаре; если только ты в состоянии выдержать дорогу, то поезжай не торопясь, пиши мне с каждой станции, и пусть твои письма опережают тебя.
Все мои мысли сосредоточены на твоём алькове, на твоей постели, на твоём сердце. Твоя болезнь — вот что занимает меня день и ночь, лишает сна и аппетита, убивает стремление к дружбе, к славе, любовь к своей стране. Есть только ты, а остальной мир для меня не существует — он мог бы совсем исчезнуть. Я дорожу славой только потому, что ты дорожишь ею; дорожу победой, поскольку она доставляет тебе удовольствие; не будь этого, я всё бы бросил ради возможности припасть к твоим ногам.
Иногда я говорю себе: тревога напрасна, её уже вылечили, она уже в пути, она уже в Лионе... Пустые фантазии! Ты лежишь в постели страдающая, ещё более прекрасная, ещё более чарующая, ещё более обожаемая; ты бледна, твои глаза печальны; но тебя вылечат, а если в следующий раз кому-то из нас доведётся заболеть, пусть это буду я! Более грубый, более мужественный, я легче перенесу болезнь. Судьба жестока: она причиняет страдания тебе, а бьёт меня.
Одна мысль иногда утешает меня: судьба может заставить тебя заболеть, но не сможет заставить меня пережить тебя.
В своём письме, моя прекрасная подруга, не забудь сообщить, что не сомневаешься в моей любви. Я люблю тебя так сильно, как только можно себе представить; каждое мгновение я посвящаю тебе; не проходит и часа без мысли о тебе; мне и в голову не приходит думать о других женщинах; все они, на мой взгляд, лишены грации, красоты, остроумия; ты именно такая, какой я тебя вижу, и ты нравишься мне такой, какая есть; ты отнимаешь все силы моей души, полностью забираешь меня; в моём сердце нет от тебя тайн, а в голове нет других мыслей, как только о тебе; моё тело, мой разум, мои объятия целиком принадлежат тебе; моя душа переселилась в твоё тело, и именно поэтому день, когда ты перестанешь жить, станет днём и моей смерти; Природа и земля кажутся мне прекрасными лишь потому, что на свете существуешь ты. Если ты ни в чём не уверена, если твоя душа не убеждена, не прониклась всем этим, ты огорчишь меня. Это будет означать только одно: ты меня не любишь. Между людьми, которые любят друг друга, существует магнетическая связь. Ты хорошо знаешь, что я никогда бы не мог смириться с мыслью о том, что у тебя есть любовник; стоило бы мне узнать об этом, и я в ту же минуту вырвал бы у него сердце; а затем, если бы я мог поднять руку на твою священную особу... Нет, я никогда не отважился бы на такое; если бы меня обманула сама добродетель, я просто ушёл бы из жизни. Но я уверен в твоей любви и горжусь ею. Несчастья — это испытания, которые лишь увеличивают силу нашей взаимной страсти. Обожаемое дитя, которое в один прекрасный день предстанет перед глазами своей матери, будет иметь право несколько лет провести в твоих объятиях. Какой я несчастный! Мне хватило бы и одного дня. Тысячу раз целую твои глаза, твои губы, твой язык, твою... Обожаемая женщина, в чём заключается твоя власть надо мной? Я сам болею вместе с тобой. Меня трясёт как в лихорадке. Не задерживай Ле Семпля более шести часов, позволь ему уехать немедленно, чтобы он мог побыстрее доставить мне письмо от моей повелительницы.
Ты помнишь тот сон, в котором я снял с тебя туфли, шелка и заставил полностью войти в мою душу? Почему Природа не сделала его явью? Ей ещё многое предстоит сделать.
Б.».
Глава 21
За окошком почтовой кареты, что неслась по пыльной, нескончаемо длинной дороге из Вероны в Милан, мелькали стройные тополя. Солнце клонилось к закату, а он выехал на рассвете. По его подсчётам, было тринадцатое июля, или двадцать пятое мессидора. С двадцать второго мессидора Жозефина находилась в Милане. По горло, до сумасшествия заваленный делами, он не смог её встретить и до сих пор не смог до неё добраться.
Она выехала из Парижа — наконец-то! — двадцать шестого июня, то есть восьмого мессидора (возможно, в дороге она получила его письмо, написанное в тот день; письмо, полное горького сарказма, в котором он упрекал жену за то, что в течение месяца получил от своей «прекрасной подруги» всего две записки, по три строчки в каждой). Пока она не торопясь передвигалась от станции к станции, он завоевал Тоскану, захватил Ливорно, где с удовольствием конфисковал товары британских купцов на сумму в несколько миллионов ливров — точной цифры он и сам не знал (до армейской кассы и французского казначейства вся она не добралась: у Саличетти и других комиссаров, этих вороватых мошенников, был зверский аппетит!) Затем ему пришлось съездить во Флоренцию, где великий герцог униженно склонился перед ним, и в папский город Болонью, недавно преобразованный в республику и представлявший теперь значительную угрозу для напуганного Папы, который уже подписал согласие выплатить двадцать один миллион и отдать сотню отобранных комиссарами Республики картин или статуй и пятьсот редких манускриптов. (Но он не лишит Папу престола, как настаивали эти идиоты-атеисты из Директории, а расчётливо сохранит его духовный сан. В один прекрасный день он придёт к согласию с этой высшей властью в той сфере, в которой сила оружия не имеет никакого влияния; во всяком случае, ныне и впредь каждый католик будет невольно симпатизировать ему, как бы ни ненавидел безбожную Французскую Республику). Затем он отправился в Ровербеллу, в штаб своей армии, расположенный между реками Минчо и Адидже. На правом фланге начиналась осада Мантуи — доставка осадной артиллерии из завоёванных крепостей продвигалась слишком медленно, — а на левом фланге войска занимали позиции для оказания сопротивления австрийцам, собиравшимся лавиной обрушиться на них из Тироля. Затем он должен был поехать в Верону, в Порто-Леньяго (он уже был там в день приезда Жозефины в Милан) и обратно в Верону для приведения в порядок этих двух крепостей, для завершения других военных и политических дел и для того, чтобы поиграть в кошки-мышки с вяло негодовавшими венецианцами. (В худшем случае — если Директория не поддержит его — он сможет выкупить свои итальянские владения у австрийцев, отдав им Венецию — Венецианская республика не могла защитить себя, а Австрия — если он захватит у Папы Анкону и сумеет сохранить её для Франции — тоже ничего не могла с ней поделать!) Короче говоря, до сегодняшнего дня ему было некогда съездить к Жозефине.
Его мысли неслись к ней, обгоняя скакавших галопом лошадей. Как она выглядит теперь? В конце концов, они так мало виделись; их короткие встречи были заполнены такими бурными объятиями, а последовавшие после свадьбы два дня — такими суматошными хлопотами, что серьёзно поговорить до его отъезда в Италию им так и не удалось.
Все эти четыре месяца разлуки образ Жозефины не покидал его, но это был скорее идеальный образ, портрет, созданный им самим, нежели реальный характер. Её личность оставалась для Бонапарта загадкой. Она писала ему так нерегулярно, так отрывочно и поверхностно — жаловалась на здоровье или сообщала какие-нибудь милые банальности, ничем не напоминавшие о вулканических взрывах её чувств. Он помнил немного ленивую, томную улыбку, грациозные движения, чарующую музыку её голоса, не мог забыть, как нежно она ласкала его, с каким сладострастием уступала — особенно до женитьбы — его любовным атакам. Подлинная натура Жозефины оставалась скрытой и, как ни странно, ещё более далёкой от него, чем в тот первый вечер, когда он яростно овладел ею, а уж потом обнаружил в этой женщине родственную душу...
Странно, что Жозефине было суждено войти в его жизнь именно тогда, когда перед ним открылись двери судьбы, когда он вступил на залитую ярким светом арену, на которой добился таких замечательных успехов. Странно, что она так завладела им, получила над ним такую власть, будучи всего лишь воспоминанием, мечтой, которой он изливал душу, из-за которой терзался болью ревности, переживал муки любви, заставлявшие его то воспарять к небесам, то погружаться в бездну отчаяния. Он писал Жозефине, что она представлялась ему жестоким чудовищем, — и он не сумел бы объяснить почему. Как могло получиться, что в то время как Бонапарту почти без боя сдавалось всё остальное, он не мог окончательно завоевать собственную жену? Как бы то ни было, несмотря на напряжённую, кипучую деятельность вся внутренняя жизнь Бонапарта, хотел он этого или нет, была сосредоточена на ней, на ней одной, которая, похоже, оставалась совершенно равнодушной к его победам и его славе. Она одна имела для него значение. Таинственная ирония судьбы! Кажется, все его достижения не будут иметь для неё никакого смысла, если он не сумеет завладеть её душой, сделать её подвластной себе, но держать не в страхе, а в добровольном преклонении перед его гением, если он не исторгнет из неё ту же безумную страсть, какую испытывает сам, пока их души не сольются в вечном единстве на сцене этого театра теней, полного блеска и нищеты, полного предсмертных судорог и победных воплей.
Пока экипаж мчался вперёд, унося его к Жозефине, Бонапарт размышлял над этой тайной. Он властвовал над миром мужчин, среди которого сражался как герой, как полубог, молниеносно уничтожая препятствия исключительно силой воли, но мир женщин был ему незнаком, был тайной, всей глубины которой он не понимал, и это наполняло его сомнениями, заставляло ошибаться. По роковому стечению обстоятельств именно в Жозефине, а не в ком-нибудь другом воплощался его идеал женственности. Большинство женщин, встречавшихся на его пути, он не ставил ни в грош; в последнее время он мог обладать любой из них, и им это было бы приятно — как кошкам, которых гладят. (О, эти бесстыдные, испорченные до глубины души миланские распутницы! Именно в эти дни Мюрат страдал от болезни, подцепленной им у похожей на статуэтку Дианы синьоры Руга, и яростно ругался, обещая ославить её на всю Италию. Другие офицеры жаловались на маркизу Висконти). Он мог выбирать себе женщин, сходивших по нему с ума — как здесь, так и во Франции. Но он не хотел их. Он жаждал видеть только Жозефину... хотел со страстью, не допускавшей того, что она будет жить ради чего-нибудь ещё кроме него. Было много женщин более красивых, чем Жозефина (у неё были плохие зубы), более молодых, более умных и готовых страстно, самозабвенно любить его. Но они казались ему лишь тенями, лишёнными плоти и крови. По-настоящему он любил только эту женщину, чьим телом по праву обладал, но чья душа ускользала от него, свободная, как мотылёк.
Он решительно отогнал от себя эти мысли, оставил это вошедшее в привычку самокопание. Он всегда любил обдумывать свои поступки, всегда искал в себе и других оборотную сторону каждого поступка. Но у него накопилось слишком много дел; куда полезнее было продолжать работать над ними. Он выдвинул ящик, аккуратно встроенный в стенку кареты, и вынул оттуда пачку бумаг. Это были сообщения, полученные от многочисленных шпионов, которые действовали как здесь, так и в Австрии (и самую большую помощь оказывали ему тайные масонские ложи, послушные слову Мастера; это была одна из причин, заставлявшая его терпеть выходки Массена; тот с давних пор занимал высокое место в их иерархии). Ландрие, ставший во время пребывания в Милане начальником секретной службы, прислал ему эти бумаги, когда Бонапарт на рассвете выезжал из Вероны. Во время поездки главнокомандующий занимался более срочными делами, и до этих документов у него просто не доходили руки. Теперь, разложив их перед собой, он выбрал доклады своих агентов в Вене и Тироле, в число которых входили и офицеры австрийского генерального штаба. Он прочитал бумаги быстро, но внимательно. Полностью подтверждалось, что новым командующим австрийской армией назначен фельдмаршал Вурмзер — старый, но хороший вояка, ветеран войн с прусским королём Фридрихом Великим. Всю предыдущую неделю Вурмзер провёл в Инсбруке. Для предстоящей кампании у австрийцев набиралось более пятидесяти тысяч солдат. Один из шпионов, штабной офицер (кого только нельзя было купить?), писал, что Вурмзер скорее всего двинется в Италию по обоим берегам озера Гарда, но что окончательного решения пока ещё нет.
Если австрийцы поступят так, ему придётся немедленно собрать силы к югу от озера и первым ударить сначала по одной колонне, а потом и по другой и разбить их, пока они не соединились; никогда ещё австрийское командование не добивалось успеха путём маневрирования войсками. Не считая дивизии Серюрье, осаждавшей Мантую, у него будет тридцать одна тысяча солдат: семь с половиной тысяч было у Массена, блокировавшего плато Риволи и узкую восточную дорогу через горловину Адидже; семнадцать с половиной тысяч было разбросано на площади от Пескьеры до Порто-Леньяго, и ещё около шести тысяч находилось в районе Ровербеллы и Валезе. Пусть пока остаются на местах: у него будет достаточно времени, чтобы собрать их тогда, когда яснее определятся планы Вурмзера. Ещё было возможным то, что австрийцы спустятся не по берегам озера Гарда, а по верховьям Бренты к Бассано, а затем через Виченцу и Порто-Леньяго двинутся к Мантуе. Похоже, старик Вурмзер осуществлял свои приготовления с типичной для австрийцев медлительностью. Вероятно, он выступит в течение ближайшей недели или двух. Прежде чем австрийцы войдут в Италию, у Бонапарта будет время захватить Мантую, штурм которой он так тщательно подготовил. И, конечно, будет несколько дней, чтобы побыть в Милане с Жозефиной.
Внезапная мысль, что через час-другой он увидит её, прервала стратегические расчёты. Что значили эти баталии в сравнении с предстоящим свиданием! Через пару часов он увидит Жозефину, услышит её голос, стиснет её в объятиях! Именно ради неё он свершил все свои подвиги, завоевал Италию, добившись победы, которая ошеломила всю Европу.
Не упустив никаких мелочей, он подготовил ей приём, достойный королевы. Блестящий кавалерийский эскорт во главе с Мармоном встретил её в Турине, куда она прибыла вместе с Жозефом Бонапартом и Жюно, а затем торжественно препроводил в Милан. Этот почти королевский кортеж должен был убедить Жозефину в том, что Италия завоёвана только ради неё. Торжественные приёмы оказывались процессии в каждом населённом пункте. В Милане, полностью подчинившемся французам после подавления бунта, в честь её приезда были вывешены многочисленные флаги. Как наивен и нетерпелив он был, желая поскорее услышать слова одобрения, мечтая увидеть, как она бросится навстречу и упадёт в его объятия! Она будет столь же нетерпелива, будет считать минуты, оставшиеся до его приезда; возможно, будет смотреть из окна палаццо Сербеллони. Он получил от жены только коротенькую записку, в которой она уведомляла, что приехала и очень устала.
Очевидно, её здоровье улучшилось. Ему так никогда и не удалось узнать, в чём заключалась её парижская болезнь. Но её беременность была заблуждением, которое теперь развеялось. Это его не огорчило. У неё ещё будет время подарить ему мальчика, похожего на умного и красивого Эжена, её сына от первого брака. Бонапарт мечтал о собственном сыне, который станет плодом их идиллического союза, будет носить его имя и унаследует завоёванную отцом славу. Но это дело будущего, а сейчас он хотел её, её одну и был ревниво рад, что никакой ребёнок не отнимет у него часть её любви, той любви, в которой она страстно клялась ему в те незабываемые ночи до их женитьбы. Суждено ли им повториться вновь?
Обожаемая Жозефина! Он достал из кармана её портрет, полюбовался, поцеловал его. Ему не верилось, что кто-нибудь может любить так пылко, как любил он. Его любовь была подобна вулкану. Жо-зе-фи-на! Жо-зе-фи-на! Казалось, копыта лошадей выстукивали её имя. Как он любил её! Как она будет любить его, когда они наконец-то останутся наедине, когда она увидит, что он не напрасно хвастался, что он достиг всего того, во что она ни капли не верила, насмехаясь над его скучной серьёзностью. Теперь ей будет не до смеха. Из застенчивого, тщедушного провинциального генерала, столь неуместного в окружавшем её легкомысленном обществе, он превратился в завоевателя Италии, боготворимого своей армией так, как до сих пор не боготворили ни одного генерала! И всё это он сделал для неё. Она ни на мгновение не покидала его мыслей всё то время, пока он совершал свои головокружительные подвиги. Она не могла не обожать его так, как он обожал её, не могла не покориться его беспредельной любви.
Карета остановилась для смены лошадей. Он прикрикнул в окошко на почтовых служащих, подгоняя их, прокричал какие-то нелепые угрозы вспотевшим конюхам и побелевшим от пыли форейторам, которые выпрягали уставших лошадей и впрягали свежих. Наконец форейторы вскочили в сёдла. Он, не считая, протянул горсть монет, золотых и серебряных вперемежку. Через две минуты карета тронулась в путь и быстро помчалась, скрипя, раскачиваясь и оставляя за собой шлейф пыли. Чумазый итальянский мальчишка по-свойски помахал ему рукой.
Милан! Он пролетел через Порто Ориентале мимо подскочивших французских часовых, отдавших ему честь и взявших «на караул». Шёл седьмой час. Солнце опускалось в золотую дымку на горизонте. Традиционная прогулка была в самом разгаре. Кавалеристы эскорта с трудом протискивались сквозь ряды экипажей. Узнававшие его красивые дамы махали платками. До палаццо Сербеллони, где его ожидала Жозефина, было рукой подать. С дороги он выслал вперёд гонца, чтобы тот предупредил о его приезде, но времени не уточнил. Жозефина! У Бонапарта кружилась голова, когда он представлял себе бурную радость их встречи. Нет, блаженство этой встречи превзойдёт всё, что он когда-либо мог вообразить. Божественный экстаз вознесёт их высоко над землёй, как в «Рае» великого Данте. От нервного возбуждения у него пересохло во рту. Он дрожал, как мальчишка.
Вот наконец и палаццо Сербеллони с его огромным гранитным портиком, слева от дороги. Форейторы опустили бичи. Карета, поскрипывая, въехала через большие ворота во внутренний двор. Он выскочил наружу. Слуги и несколько офицеров бросились навстречу из распахнувшихся дверей.
— Мадам Бонапарт у себя? — задыхаясь, спросил он.
— Нет. Мадам Бонапарт вышла. Но её ожидают с минуты на минуту.
Разочарование пронзило его, как удар кинжала. Он справился с этой болью. В конце концов Жозефина не могла точно знать время его приезда. Он был не вправе надеяться, что она целый день просидит без дела, дожидаясь его. Она скоро вернётся.
— Как только мадам Бонапарт приедет, предупредите её, что я здесь, — приказал он.
Пройдя в кабинет, он попытался унять охватившее его разочарование, занявшись бумагами. Его письменный стол был завален. Однако Бонапарт никак не мог сосредоточиться. Каждое мгновение ему чудились её торопливые шаги и радостный голос; окликающий его: «Бонапарт! Бонапарт!» Она всегда звала его только по фамилии, не признавая заморского имени Наполеон.
К чёрту бумаги — он даже не понимал, о чём идёт речь. Он поднялся из-за стола и направился к висевшей на стене большой карте Северной Италии. Если этот Вурмзер разделит свои силы и спустится по обеим сторонам озера Гарда...
За дверью послышался лёгкий женский смех. Когда он повернулся, дверь открылась. Перед ним стояла Жозефина. На ней была забавная шляпка — очевидно, по последней парижской моде. Фасон был странный и сразу ему не понравился. За ней стоял гусарский офицер в щегольском мундире. Она улыбнулась ему издали, вошла знакомой походкой и заговорила знакомым мелодичным голосом:
— Добрый день, Бонапарт!
Он бросился к ней, но при виде молодого офицера остановился. Не мог же он обнять её при этом незнакомце!
— Добрый день, Жозефина! — Какой разочаровывающей, какой не похожей на его мечты оказалась эта встреча... Он нахмурился, поглядев на офицера. — Кто это?
Мелодичный смех сопровождал её ответ.
— Конечно, ты его не знаешь! Это лейтенант Ипполит Шарль из штаба генерала Леклерка. Он сопровождал меня на приёме в палаццо Висконти. — Бонапарт всё ещё хмурился. Она продолжала объяснять — быстро, со смехом в голосе. — Он приехал из Парижа в моём экипаже, вместе с Жюно и твоим братом. Он просто очарователен, Бонапарт: такой остроумный, такой забавный. Без него я просто умерла бы со скуки!
Он не обратил внимания на её напускную беззаботность, но, глядя на молодого офицера, вновь нахмурился и властно приказал:
— Выйдите, месье!
Лейтенант отдал честь и исчез, закрыв за собой дверь.
Бонапарт повернулся к жене и сжал её в объятиях.
— Жозефина, моя любовь! Моя обожаемая! Если бы ты знала, как я ждал этого мгновения. Целуй! Целуй меня! — Он сам покрыл её поцелуями, припал к её губам так крепко, что она чуть не задохнулась и начала отбиваться. — Ты любишь меня? Скажи, что любишь, моя обожаемая! Я так долго ждал, чтобы услышать, как ты скажешь это! Я люблю тебя... Я люблю тебя... Не могу выразить, как сильно я тебя люблю! Ты для меня единственная во всём мире! Скажи, что ты тоже любишь меня! Скажи, что любишь меня так же, как я тебя!
Ей удалось слегка высвободиться из страстных объятий мужа. Она тихонько и мелодично засмеялась.
— Конечно, Бонапарт. Какой ты смешной!
Она всегда повторяла эти слова, когда он становился слишком страстен, слишком пылок.
«Какой ты смешной!» Совсем как в добрые старые времена, в маленьком домике на улице Шантерен. Но она любила его! Конечно, она любила его! Он был переполнен счастьем. Она была здесь! Она была рядом! И она была удивительна — более элегантна, более красива, чем ему представлялось. И она любила его! Стоит ей только пожелать, и он завоюет весь мир и положит его к её ногам.
В порыве чувства он крепко и страстно прижал её к себе.
— Ты довольна мною, Жозефина? Я хорошо всё сделал? — Говоря это, он смеялся. Она ответила лёгким поцелуем.
— Ты чудо, Бонапарт! В Париже все только и говорят о том, какой ты удивительный. Баррас шлёт тебе свои поздравления.
Он мысленно послал Барраса ко всем чертям. Он не хотел и думать о нём. В это восхитительное мгновение во всём мире не должно было быть никого, кроме них двоих. Он по-прежнему держал её в объятиях.
— Всё, что я сделал, было сделано для тебя, моя любовь, моя обожаемая жена! Ты гордишься своим мужем?
— Конечно, Бонапарт! Я не могу не гордиться тобой. Люди здесь говорят о тебе как о Боге. Осторожнее, ты помнёшь мне платье!
Он хотел сорвать с неё это платье. Но надо было признаться: он всегда был грубым, неловким и задевал её тонкие чувства. Он всегда был с ней неуклюжим и относился к ней «с недостаточным уважением»...
— Моя дорогая, прости меня! Это всё оттого, что я переполнен счастьем. Ты снова моя! Ты счастлива со мной, правда?
Она взглянула на мужа. Казалось, голубые глаза с длинными ресницами пристально изучали Бонапарта, как будто он её озадачил. Она тихо рассмеялась.
— Бонапарт, ты ведёшь себя так, как будто мы любовники, а не муж и жена. Представь себе, что кто-нибудь увидит нас!
От него ускользнула тайная мысль, стоявшая за этими словами. Нет. Не было никакой тайной мысли. Была обычная игривость фривольной, очаровательной Жозефины — той Жозефины, которую он знал в Париже. Но она любила его!
— Нет ничего лучше, чем быть мужем и женой, моя обожаемая! Разве ты не чувствуешь этого? Мы можем любить друг друга ещё более страстно, ещё глубже, наши души навсегда сольются в едином порыве любви! Теперь мы никогда не расстанемся больше, чем на несколько дней, и то если начнётся сражение и тебе нельзя будет находиться рядом со мной. — Он снова жадно поцеловал её и почувствовал, как трепещет в его объятиях её гибкое тело. — Никогда ты не найдёшь любовника, который будет любить тебя больше, чем я! Отныне и навсегда я буду твоим единственным любовником, каким я был тогда, когда мы впервые встретились, когда ты сказала, что любишь меня, и отдалась мне! Разве не так? — Он засмеялся. — Ты помнишь ту первую ночь в твоём домике? Я думал, что сойду с ума от счастья, а ты была такой спокойной, такой элегантной, так хорошо владела собой — за исключением того, что время от времени целовала меня, когда мы сидели с тобой перед камином! Должно быть, я показался тебе очень странным существом. Подумать только, именно я стал тем человеком, которого тебе предстояло полюбить и которому тебе суждено было посвятить свою жизнь! — Он целовал и целовал её, опьянев от счастья. Он снова вспомнил про вопрос, оставшийся без ответа. — Так ты действительно не жалеешь, что приехала, моя обожаемая жена?
— Конечно, не жалею, Бонапарт. Я счастлива. Но... — Она помедлила и снова тихонько улыбнулась. — Знаешь ли, всю дорогу из Парижа я очень боялась тебя. Я не могла себе представить, каким ты будешь. Прошло столько времени с тех пор, как мы виделись в последний раз...
— Но теперь ты видишь меня, — по-мальчишески засмеялся он. — Неужели я такой людоед?
Она слегка коснулась его щеки.
— Ты милый, — улыбнулась она, — Очень милый. Совсем не тот знаменитый страшный генерал, о котором мне все уши прожужжали в Париже. — Её голубые глаза по-прежнему изучали его.
Он обожал эти голубые глаза, казавшиеся ещё чарующими в сочетании с её темно-каштановыми волосами.
— Но ты очень худой и жёлтый, мой бедняжка. Ты не должен так много работать!
Она не имела ни малейшего представления о том, как напряжённо он работал, какая невыносимая ответственность постоянно лежала на нём. Но этого от неё и не требовалось. Он подвёл Жозефину к стулу.
— Садись, моя любовь, — сказал он. — Ты, должно быть, устала, хотя выглядишь ещё более обворожительной, более красивой, чем когда-либо. Итальянское солнце так утомляет... Для меня это пустяки. Я никогда не устаю. Сегодня я провёл четырнадцать часов в карете — путь из Вероны неблизкий, — но мысль о встрече с тобой заставила меня забыть об этом. Расскажи мне о своём путешествии из Парижа. Тебе было удобно?
Да, очень. Она провела в дороге четырнадцать дней. Его брат Жозеф был очень любезен; они легко и непринуждённо болтали, и Жозеф нашёл её очаровательной. Жюно и её близкая подруга Луиза находились с ними в одном экипаже. Казалось, Жюно раздражал Жозефину. По дороге он завязал любовную интрижку с Луизой. Это вывело её из себя. А теперь, сказала она, Жюно представил в Милане Луизу как свою «официальную любовницу», открыто покупал ей самую дорогую одежду и украшения и совсем вскружил голову глупой девчонке. Он терпеливо слушал, ничуть не раздражаясь от мысли, что Жюно, который не пропускал ни одной юбки, нашёл увлечение, которое увело его в сторону от Жозефины. А не то можно было бы на миг вообразить, что Жозефине угрожала опасность. Эта мысль возникла у Бонапарта из-за его корсиканской ревности. .
— А кто, ты говоришь, этот щенок, который только что вошёл с тобой? Я не желаю, чтобы ты выходила с подобного рода людьми.
В ответ раздался мелодичный смех.
— Господи, какая чушь, Бонапарт! Он всего лишь лейтенант штаба генерала Леклерка, как я тебе сказала. Но он действительно очень мил. Дорога без него была бы смертельно скучной. Нам повезло, что он отправился с нами. Он такой остроумный, такой весёлый — каждое слово превращает в каламбур. И танцует великолепно. Почти все твои офицеры, которых я видела в Милане, такие грубые, такие невоспитанные. Я действительно не знаю, что бы делала без Ипполита Шарля. Даже если я испытывала глубокую печаль, он мог заставить меня рассмеяться. Разве ты хотел бы, чтобы я плакала, Бонапарт?
Она была обворожительна, когда говорила с такой восхитительной фривольностью... Что это на него нашло? Ревновать было нелепо. Она флиртовала с любым, кто оказывался рядом. Она всегда была такой. Но эти увлечения не представляли никакой опасности. Он мог поклясться в этом. Иначе и быть не могло. Он знал, что Жозефина любит его. А что касается этого щёголя в форме (он поговорит о нём с Леклерком), то было глупо предполагать, что Жозефина может предпочесть этого лейтенантишку ему, покорителю Италии. Он прогнал эту дурацкую мысль.
Сбивчиво, но с очарованием и лёгкостью, которыми он так восхищался, Жозефина продолжала рассказывать о впечатлении, которое она произвела на миланское общество, особенно на женщин. Она уже устроила приём во дворце Сербеллони, и эти аристократы валили толпами. Он улыбался, слушая жену. Да, это как раз по её части. Тут Жозефина могла бы стать полезной ему, как никто другой. Сама из аристократок «старого режима», она знала, как с ними обращаться, как снискать их дружбу, расположение, любовь, как войти в этот высший свет, который ему было важно завоевать. Он был признателен Жозефине за то общественное положение, которое она с такой лёгкостью приобрела здесь, словно оно принадлежало ей по праву. Надо устроить ещё несколько приёмов. Он сделает палаццо Сербеллони центром миланского общества, королевским двором, где она станет королевой.
Он поделился с женой своими планами.
— Мы только начали, моя обожаемая Жозефина, — сказал он. — Сама увидишь. Австрийцы посылают сюда новую армию под командованием Вурмзера. Я разобью его, как разбил Болье. И тогда я стану хозяином всей Италии. Навязав свою волю герцогствам, я уже стал хозяином Ломбардии; я вынудил Неаполь и Папу купить у меня временное перемирие. Я держу в руках все пьемонтские крепости. Пьемонт снабжает мою армию и обеспечивает охрану моих коммуникаций с Францией. Венеция станет моей хоть завтра — стоит мне только пожелать этого. Всё это я сделал за четыре месяца, которые прошли после моего выступления из Савоны. Нет ничего такого, что было бы мне не по плечу! Моя судьба не ведает пределов...
Слушала ли она его? Ей следовало слушать.
— Как только Австрия будет вынуждена отказаться от своих владений в Италии, я создам две итальянских республики, севернее и южнее реки По. Я стану их протектором, а если эти дураки в Париже начнут мешать мне, то и принцем. Если же они не будут вмешиваться, если прикажут Моро немедленно идти в Германию, о чём я буду умолять их в каждой депеше, то мы с Моро соединимся под стенами Вены и полностью разобьём австрийцев. Без Австрии коалиция против нас тут же рассыплется!
Он начал возбуждённо расхаживать по комнате, не умолкая ни на миг.
— Но и это только начало! Я не такой, как другие. Я понял это в ходе кампании. Мной руководит гений, меня направляет судьба. Эта судьба ещё не ясна для меня... я Могу только день за днём идти вперёд по предначертанной мне тропе... но я твёрдо знаю, что однажды мне придётся смести прочь эту банду продажных парижских тупиц и дать Франции правительство, достойное великой Страны. Когда-нибудь — не знаю ещё, когда и как — я буду править Францией! Я подниму её до такого величия, которого она доселе никогда не знала. Смахну всех этих жалких политиканов с их интригами, дам ей справедливые законы. Я создам лучшую в мире армию, армию, которой никто не сможет сопротивляться. Я приведу Францию к ослепительной славе; слава, которую я завоевал в Италии, это только рассвет! Я встану в один ряд с Цезарем и Александром! — Когда Жозефина села, он обернулся к ней. — И ты, моя обожаемая жена, поднимешься вместе со мной и станешь моей поддержкой и утешением, когда все короли и принцы Европы восхищённо склонятся перед тобой, когда моя любовь посадит тебя на трон и ты в ослепительном сиянии славы окажешься выше всех женщин в мире!
Нечаянно зевнув, она лениво и очаровательно улыбнулась.
— Какой ты смешной, Бонапарт!..
АЛАН ПАТРИК ГЕРБЕРТ
ПУТЬ К ВАТЕРЛОО
Глава 1
МАРИЯ ВАЛЕВСКАЯ
Скольких женщин во всём мире до слёз печалила судьба низвергнутого императора? Со всей достоверностью можно назвать четырёх. Ни одной из них не было дано его утешить. А с той, которая оказалась совсем рядом с ним, он не встретился.
Графиня Валевская подошла к боковой двери дворца Фонтенебло около полуночи, согласно договорённости с Констаном, преданным камердинером императора в дни его могущества и славы. Констан впустил её и повёл за собой по тёмной лесенке. Не впервые он тайком проводил её во дворец, но этому разу суждено было стать последним. Они поднимались бесшумно, без лишних движений, как по давно привычному и освоенному пути. Только шорох её платья слышался, пока она шла за ним, держась тонкими пальцами за серебряную пуговицу у него на спине. И в шорохе этом мерещилась тревога — впервые её не покидали сомнения и страх.
Все залы дворца были затворены, на окнах заложены ставни, император устроился в маленькой комнатке на втором этаже — он лежал, созерцая затухающий камин. Иногда он подносил к носу табакерку и чихал ещё до того, как успевал нюхнуть понюшку. Констан тихо постучал. Ответа не последовало. Кивнув графине, он вошёл в комнату.
Мария Валевская отошла в тень, подальше от светильника в углу коридора. Красивая, голубоглазая, с хорошей фигурой, только вот ростом она не выдалась — возможно, это тоже привлекло к ней коротышку Наполеона. Ей было двадцать шесть. В эту горестную ночь она, будь её воля, облачилась бы в чёрное, но Наполеон испытывал к чёрному отвращение, граничащее с ужасом. Она надела новое розовое платье, чтобы сделать ему приятное — это был его любимый цвет, — и теперь чувствовала себя неловко в тёмном, строгом дворце, несмотря на неброские мантию и шаль.
Констан вышел и тихо закрыл за собой дверь. Покачав головой, он шепнул:
— Я сказал ему. Кажется, он и не расслышал толком.
Он не хотел говорить ей, что поверженный гигант отрывисто буркнул: «Вели ей проваливать».
— Мне можно войти? — прошептала она.
— Нет. Он словно бы в забытьи. Лежит — и думает, думает.
Графиня почувствовала озноб.
Бедный Наполеон! Ему есть о чём думать.
— Где императрица? — шёпотом спросила она.
— Мария-Луиза? — фамильярно отозвался камердинер, — На пути в Вену. Возвращается к папочке.
Графиня печально кивнула. Ей уже говорили. Наполеон брошен императрицей. Не дойди до неё эти вести, она бы не приехала сюда, поскольку всегда была щепетильной в таких вопросах. Хоть её права и были неоспоримы, но от общества их приходилось скрывать.
— Где он спит?
— Там. — Констан указал на дверь.
— Я подожду, — прошептала она.
Камердинер с сомнением поглядел на прекрасное бледное лицо. Господи, помилуй, у него полно дел, а тут с ней возись!
Великий корабль шёл ко дну; большинство крыс уже дали деру, а крысы помельче прикидывали, что им делать. Сегодня бежал мамелюк Рустам с двадцатью пятью тысячами франков. Констан всегда заявлял, что полон желания отправиться на Эльбу вместе с великим ссыльным, которому прослужил пятнадцать лет. Но имелись серьёзные денежные проблемы. По его словам, Наполеон выдал ему чек на пятьдесят тысяч франков. Констан обратил чек в золото и сегодня ночью должен был схоронить его в своём личном именьице неподалёку отсюда. Если бы Наполеон допустил к себе жаждущую утешить его графиню, это было бы лучше некуда; но не оставлять же её здесь!.. Однако он был очень хорошего мнения о ней — об этом «ангельском создании» — и в итоге решился:
— Очень хорошо. Я скоро приду.
— Послушай!
За дверью слышался какой-то шум. Император пробормотал что-то, беседуя сам с собой. Потом наступила тишина.
— Попробуй ещё раз, — прошептала она.
Констан зашёл — и быстро вышел с хмурым видом.
— Качает головой, вот и всё.
— Я буду ждать, — повторила преданная женщина.
Он бы ни за что не рассказал ей о том, что произошло несколько дней назад: имелись подозрения, что император пытался покончить с собой. Из комнаты слышались громкие стоны, Наполеон жаловался на острую боль в желудке. Пришлось даже вызвать врача. Потом, после того как император сильно пропотел, у него наступил приступ дурноты. Наутро он вновь почувствовал себя хорошо, и больше не заговаривал с Констаном о случившемся. Но выглядел он, по словам генерала Бертрана, «очнувшимся от глубокого сна». Наполеону довольно часто докучали желудочные камни. Но на сей раз кто-то слышал, как он прошептал: «Бог не желает этого», — а помощник камердинера Пелар, дежуривший у полуоткрытой двери спальни, видел, как его господин бросил что-то в стакан с водой и выпил. Констану приходило на ум, что в чёрненьком мешочке, который его господин носил на шее во время бегства из России, был опиум. Одно точно: в мешочке было нечто, полученное от доктора Эвана. Кроме того, мешочек был найден на полу. Но откуда знать наверняка? В ту ночь доктор Эван в панике вскочил на лошадь и умчался в Париж.
Узнай она о предполагаемой попытке самоубийства, ничто бы не удержало её за дверью. А так она всего лишь повторила:
— Я буду ждать.
Да, она делила с ним ложе, да, он был низвергнут и являлся теперь императором без государства, но это всё равно был её император, и его слово было законом.
— Отлично, — сказал Констан. — Пелар не спит. Я его предупрежу.
Он провёл её в маленькую прихожую в другом конце коридора и предложил ей кресло. Затем он, прихватив своё золото, удалился в ночную тьму.
Маленькую графиню трясло. Она туже запахнулась в мантию, оставив кресло, и вышла в коридор, поближе к двери Наполеона. Странно, подумалось ей, что она, должно быть, сейчас единственная женщина во всём дворце, и ещё необычней, что она здесь без приглашения. Печально улыбнувшись себе самой, она вспомнила иные ночи. О, какой же это был роман — возможно, самый странный во всём мире!
Для истории она останется всего лишь «любовницей» — коротко и пренебрежительно. Ведь как ещё её назвать? Однако она вполне заслуживает высокого сравнения с Эсфирью или Ифигенией. Она происходила из древнего, обедневшего и многочисленного рода. У её матери — вдовы — было шестеро детей, и прекрасная Мария была обречена на ранний брак. В шестнадцать лет, когда она была чиста, набожна, и патриотически настроена — судя по рассказам, в те годы она страстно любила только Церковь и свою страну, — у неё появилось двое кавалеров. Один из них был молод, красив, хорошего происхождения, богач из богачей. Но он был русским, сыном генерала, одного из самых знаменитых палачей польской свободы. Ничто не могло заставить её выйти замуж за такого человека.
Другим был граф Анастасий Колонна де Валевиц Валевский. Старик семидесяти лет, он уже был дважды женат, его старший внук был на девять лет старше Марии. Но он был очень богат, прекрасного происхождения, глава законодательного собрания, а также повелитель всех, живущих в пределах Валевиц. При покойном короле он был гофмейстером и носил голубую перевязь Белого Орла. Мария попыталась дать ему мягкие советы насчёт его манеры одеваться — и получила резкую отповедь. Потом она заболела лихорадкой и четыре месяца провела на грани смерти. Едва она выздоровела, её обвенчали с графом. После замужества она три года терпеливо сносила тоскливое одиночество в замке Валевиц. Её возросшая набожность стала ей утешением. Затем у неё родился сын, слабый и немощный, но он возродил её патриотические чувства. Польша, подвергнутая жестокому разделу, более не фигурировала на карте как самостоятельное государство. Но её сын должен стать свободным, он должен быть счастлив, будучи поляком. В этом заключался новый смысл её жизни... Графиня вновь улыбнулась своим воспоминаниям.
А с запада шествовал могучий великан; он разгромил Австрию, при Аустерлице он с триумфом скрестил мечи с Россией. Теперь он шёл на Пруссию и её союзников — Наполеон, самим Богом, возможно, посланный друг и спаситель Польши.
Прусская армия была разбита и рассеяна, он вошёл в Берлин, оказавшись совсем рядом с её древним истерзанным королевством. Вся Польша бурлила, охваченная надеждами. Граф перевёз Марию в Варшаву, чтобы самому быть в центре событий. Застенчивая, она отправилась в столицу только по повелению мужа, а не для того, чтобы блеснуть при дворе Юзефа Понятовского. Несмотря на красоту, её ещё не «открыли».
1 января 1807 года император был на подъезде к Варшаве, и весь город лихорадочно готовился его встречать. У робкой Марии вдруг возник безрассудный порыв. Она должна первой приветствовать спасителя! Прихватив кузину в свою карету, она поехала на запад. Толпы людей мешали движению, полицейские кричали: «Проезда нет», но она была упряма и в конце концов добралась до деревушки Брони. Здесь император остановился сменить лошадей. Карете императора перекрыла путь толпа восторженных подёнщиков и крестьян. Из кареты вылез генерал Дюрок, гранд-маршал двора его величества, услышав жалобный вскрик какой-то дамы, сдавленной толпой. Над головами он увидел маленькие ручки в перчатках, а обладательница этих ручек, явно не крестьянка, выкрикивала по-французски: «О, сир, вытащите меня отсюда и дайте хоть на секунду его увидеть». Французский язык и благородный выговор заинтересовали его. Он помог двум дамам выбраться из толпы крестьян, предложил руку младшей, которая выглядела ещё совсем девочкой, и подвёл её к двери кареты.
— Сир, вот та дама, которая рисковала жизнью в толпе ради вас.
Наполеон снял свою круглую шляпу и взглянул на Марию. Вот изысканная красота, подумал он. Кожа нежнее розы, огромные голубые невинные глаза, сияющие восторгом, живость и грация газели. Она выглядела скромницей в тёмной шляпе и чёрной вуали.
— Как ваше имя? — спросил он. — Сколько вам лет? Где вы живете? Вы говорите по-французски? Вы знаете, что очаровательны?
У Наполеона была привычка, свойственная многим великим людям, не дожидаться ответа на вой вопросы. Иногда это делалось ради того, чтобы смутить собеседника, иногда свидетельствовало о живости ума.
От робости, изумления и патриотических чувств Мария впала в оцепенение. Она промолчала.
— Вы варшавянка? — задал он наконец самый дельный вопрос.
Любовь к родине преодолела вдруг застенчивость, и она выпалила:
— Добро пожаловать! Как мы рады вас видеть в Польше! Мы для вас сделаем всё... всё, что... Вы здесь... Мы так надеемся, что вы... что вы... — Она осеклась и опустила глаза.
Наполеон без всякой иронии разглядывал покрасневшую, задыхающуюся от волнения девушку. Он взял закреплённый на карете букетик цветов и вручил ей.
— Примите, — сказал он, — как знак моих добрых намерений. Надеюсь, мы вновь увидимся в Варшаве, и я попрошу вас... об ответной любезности.
Карета покатила дальше. Застыв, как мраморная нимфа, графиня глядела ей вслед. Из окна кареты высунулась рука императора и помахала шляпой. Она продолжала смотреть как в забытьи, и кузине пришлось вернуть её на землю прозаичнейшим способом: ткнув под рёбра. Графиня обернула букетик в платок, и они направились домой.
Золушка хранила эту великую встречу в тайне. Но её спутница, весьма гордая приключением, языка сдержать не сумела.
Через несколько дней её навестил первый патриот Польши князь Юзеф Понятовский. Он даёт бал. Пожалует ли она? Будет император Наполеон... и Понятовский многозначительно улыбнулся. Графиня зарделась, но не ответила на улыбку.
Князь объяснил. На одном из званых обедов император вроде бы обратил внимание на княгиню Любомирскую. Подготовка более тесной встречи была прекращена сразу же после разъяснений генерала Дюрока: Наполеон заинтересовался княгиней только потому, что она слегка напоминала ему изысканную молодую даму, с которой у него произошла мимолётная встреча на почтовой станции в Бронях. Дюрок детально описал даму и её наряд, но никто её не признал. Затем до слуха князя дошло хвастовство кузины Эльзумии — и направило его на след. Вот почему князь у Марии. Императору она особо запомнилась, и она должна быть на балу.
Мария отклонила приглашение. Князь стал настаивать.
— Кто знает? — торжественно сказал он. — Быть может, сам Господь избрал вас орудием возрождения Польши.
Но она не поддавалась, и он, крайне разочарованный, отступил.
В тот же день к ней пожаловала целая делегация первых людей страны: государственных мужей и других лиц, облачённых почётом и властью. Они преследовали единственную цель — убедить Золушку отправиться на бал. Она не уступала никаким комплиментам и уговорам. Но тут вмешался её почтенный супруг. К тому времени он единственный в Варшаве не знал о том, что произошло в Бронях. Он посчитал, что необходимость присутствия графини на балу — это своего рода дань уважения ему самому и его вкусу в выборе жены. В ответ на её робкие попытки отказа он рассмеялся: мол, просто глупость и дурной тон. Он не просил — он приказал. Графиня грустно согласилась.
Настал великий день. Граф нервничал и подгонял её, пока она одевалась.
— Мы опоздаем! Император отбудет до нашего появления. И зачем ты надеваешь это?
Он хотел, чтобы она надела что-нибудь дорогое и впечатляющее, но Золушка выбрала простое платье из белого атласа и накидку из белого газа. Никогда ещё Золушка не одевалась для дворцового бала так просто и скромно.
Её провели через длинные высокие залы и усадили между двумя дамами, которых она не знала. Князь поспешил к ней подойти и склонился над спинкой её стула.
— Кое-кто ждёт с нетерпением, — прошептал он. — Тот, кто с радостью увидел, как вы приехали. Мы вынуждены были повторять ему ваше имя, пока он не запомнил наизусть. И он повелел мне пригласить вас от его имени на танец.
— Я не танцую, — ответила Золушка. — У меня нет желания танцевать.
— Но, мадам, это приказ, — сказал князь. — Скорее, мадам, император смотрит на нас.
— Пожалуйста, не надо — я не могу.
— Молю вас. Подумайте обо мне, мадам. Только от вас зависит успех бала. Вы нас погубите.
Она покачала головой.
Расстроенный князь направился к Дюроку, который передал достойный сожаления отказ императору.
Между тем нескольких блистательных штабных офицеров как пчёл или бабочек привлёк этот новый необычный цветок. Первым появился адъютант Луи де Периго, пребывавший в блаженном неведении, кто его соперник. Император быстро и решительно отреагировал на эту странную ситуацию. Никогда ещё с ним так не поступали. Как правило, избранные им «плоды» падали ему в руки, стоило ему чуть кивнуть. Матери украшали избранниц лентами и с радостью посылали к нему.
— Бертье!
— Сир?..
— Капитан де Периго переводится на службу в Шестой корпус. Он отбывает немедленно.
— Да, сир!
Потрясённый адъютант принёс Золушке свои извинения и направился в заснеженный лагерь на реке Пассарж.
Следующим мотыльком оказался мужественный бригадир Бертран.
— Бертье!
— Сир?
— Бригадир Бертран сейчас же отправляется с рапортом к князю Жерому.
Бертран немедленно отбыл в направлении Бреслау.
Дюрок прошептал Бертье:
— Этак у нас в штабе скоро никого не останется. Ради всего святого, не заглядывайтесь на неё!
Танцы прекратились. Разозлённый император блуждал по залам как лев, у которого отняли кусок мяса. Впиваясь взглядом в трепещущих дам, он то там, то здесь отпускал пару слов или задавал вопрос. Он пытался быть милым и обходительным, но из-за раздражения не слишком понимал, что и кому говорит. У молоденькой девушки он спросил:
— Давно вы замужем? Сколько у вас детей?
А старой деве он бухнул:
— Вы прекрасно выглядите. Ваш муж ревнив?
Он не слышал имён представленных ему дам. Он не следил за тем, что говорит: он не мог думать ни о чём, кроме робкой красавицы, которая околдовала его — и отвергла.
В конце концов он подошёл к ней. Кто-то толкнул её и сказал: «Встаньте же!» Опустив глаза, она стояла перед ним, такая же белая, как её платье.
— Мадам, белое не лучшим образом сочетается с белым, — сказал он обычным тоном, а затем тихо прошептал: — Это не тот приём, на который я вправе рассчитывать.
Она не сказала ни слова. Он смерил её долгим взглядом и отошёл. Через несколько минут он покинул бал. Всем страстно хотелось узнать, что он ей сказал — особенно шёпотом. Муж помог ей сбежать с бала, но в карете начал докучать ей вопросами.
— Кстати, — сказал он. — Я принял приглашение на обед у Моровского. Будет император. На сей раз ты должна одеться лучше.
Перед дверью в спальню она подумала: «Я должна рассказать ему всё: про Брони, про мою шальную выходку, про то, чего от меня хотят и как я противлюсь этому. Безусловно, тогда он мне поможет!»
Но граф коротко пожелал ей «спокойной ночи» и удалился. А тут служанка подала ей записку, почерк был очень неразборчив:
«Только вы у меня перед глазами, вами одной я восхищаюсь, только вас одну желаю. Дайте же скорейший ответ, чтобы успокоить моё страстное нетерпенье».
Наверно, любая другая молодая женщина в Варшаве расцеловала бы этот листок со страстным, льстивым, волнующим до глубины души посланием. Но Мария скомкала его своей маленькой ручкой. Ей оно было противно.
— Передай, что ответа не будет, — сказала она.
Но посыльным оказался сам князь Юзеф Понятовский, от которого нельзя было так просто отделаться. Он прошёл за служанкой до двери в спальню. Графиня как раз успела запереться. Он постучался.
— Мадам, молю вас, ответьте на письмо.
— Я не отвечу.
— Мадам, но вы должны.
— Нет.
— Мадам, вы пожалеете об этом.
— Моё решение бесповоротно.
В любой момент граф мог застать его высочество умоляющим и колотящим в дверь жены. Князь в течение получаса просил, угрожал и протестовал, рискуя своей репутацией. Он удалился в ярости.
На следующее утро, едва Мария проснулась, поступило новое послание. Даже не вскрывая его, она булавкой соединила его с первым и приказала служанке отдать посыльному.
Да, в решительности этой девочке нельзя было отказать, но она всё равно была обречена. Весь мир и даже муж на стороне преследователя. Что же ей делать?
С самого утра на неё обрушился яростный ураган посетителей — патриотов Польши: все самые значительные люди страны, члены правительства, гранд-маршал Дюрок... Сославшись на мигрень, она закрылась в спальне. А её муж просто спятил, испугавшись, что его сочтут старым ревнивцем, он заставил её открыть дверь и вошёл вместе с князем во главе целой толпы. В их присутствии он потребовал, чтобы она подчинилась ему, своему господину и повелителю, и отправилась на обед, где будет достойно его представлять. Остальные вторили ему подобно хору в опере. Один из них, старейший и наиболее уважаемый член правительства, сурово обратился к ней:
— Мадам, это дело имеет такое значение для всей нации, что ничто, ничто не должно стоять на его пути. Мы искренне надеемся, что вскоре вы почувствуете себя лучше и прибудете на обед. Ибо если вы не сделаете этого, у всех сложится впечатление, что вы не являетесь истинной дочерью Польши.
Бедная девочка поникла под этим напором. Она поднялась с кушетки. Было решено направить её в особняк мадам де Вобан, любовницы князя, для наставлений относительно платья, этикета и прочего; сам князь приказал ей пойти туда. Однако мудрая соблазнительница передала её в руки одной молоденькой девушке, более подходящей Марии по возрасту, мадам Софии Абрамович — умной, привлекательной, разведённой, яростной патриотке. «Всё, что угодно, дорогая! Всё, что угодно, ради общего дела!» — внушала она. Во всём свете у Марии не было человека, на которого можно было бы положиться в этом деле, и весёлая, патриотически настроенная София быстро завоевала её доверие. Поняв, что плод созрел, София села на кровать и прочла ей крайне торжественное письмо. Оно было за подписью тех же самых лиц, включая членов временного правительства:
— «Мадам!
Малое часто порождает великое. Во всём мире, во все века женщины оказывали и оказывают огромное влияние на политику. Древняя и новая история не оставляют в этом и тени сомнения. До тех пор, пока мужчины находятся во власти своих страстей, вы — женщины — являетесь грозной силой.
Если бы вы были мужчиной, вы бы не задумываясь отдали свою жизнь за свободу и благополучие своего отечества. Будучи женщиной, вы не можете с оружием в руках до последней капли крови защищать его. Но вы можете пожертвовать собой по-другому, и это вы должны принять, какими бы болезненными для вас эти жертвы ни были.
Неужели вы думаете, что Эсфирь отдалась Асуру по любви?»
— Кто такая Эсфирь? — с испуганными, широко открытыми глазами прошептала Мария.
— Это из Библии. Я нашла этот отрывок. Она спасла евреев.
Ссылка на Эсфирь озадачила саму Софию. Ведь Эсфирь «отдалась» задолго до того, как на евреев начались гонения. И ничто не указывало, что Эсфири не нравилось быть царицей. Однако, без сомнения, мудрецам лучше знать. Она продолжала:
— «Ужас, который он вселял в неё, был столь велик, что она падала в обморок от одного его взгляда...
(Ничего подобного в Библии нет, — подумала София). ...И разве это не доказывает, что нежности не было места в этом союзе?
Она пожертвовала собой, чтобы спасти свой народ...
(Вовсе не так!)
...И обрела величайшую славу благодаря этому.
(Это уже потом).
Пусть же будет так, чтобы во имя вашей чести и счастья мы могли бы сказать то же самое!
Разве вы не чувствуете родственной близости ко всем искренно любящим своё отечество полякам, к тем, кто является истинным сердцем нашего народа? Мадам, знаменитый церковный служитель, святой и набожный Фенелон, однажды сказал: «Мужчины, облечённые той или иной властью, не способны довести свои решительные замыслы до сотворения прочного и долговременного добра, если рядом нет женщин, которые помогут им довести дело до конца». Прислушайтесь к этим словам вместе с нами — счастье двадцати миллионов Душ зависит от вас».
На патетических, насколько это было возможно для неё, тонах София закончила чтение. Мария молчала. Старейшины Варшавы могли быть не совсем правы относительно Эсфири, но доводы они выдвинули серьёзные. Семья, Отечество, Церковь, Ветхий Завет — всё требовало её падения. У неё не было ни мужа, которому она могла бы довериться, ни родителей, способных её защитить, ни друзей, которые могли бы принять её сторону. София возобновила атаку, зачитав второе письмо Наполеона:
— «Неужели я вас прогневал, мадам? Однако я имею право надеяться на обратное. Разве я ошибся? Ваш пыл охладел, тогда как я весь горю. Вы лишили меня покоя! О, дайте немного радости, немного счастья бедному сердцу, готовому вас обожать. Неужели так трудно дать ответ? Я на распутье».
В полном параде вошёл граф.
— Я пойду ещё раз просмотрю отрывок про Эсфирь, — сказала София и вышла.
Граф опять завёл разговор об обеде. Он был крайне горд успехом своей жены, а ещё более — самим собой.
Потом-то этот умудрённый опытом человек старательно притворялся, будто в то время ничего дурного не подозревал. Он, мол, думал только об обеде, а не о супружеской измене. Его невинная юная супруга не была уверена в его искренности... Но весь мир требовал её в жертву, и она ответила: «Я поеду».
София пробыла с ней всю ночь, чтобы она не изменила своего решения.
Уже в карете по дороге на обед она тешила себя слабой надеждой: «Я ведь не люблю его. Чего же мне бояться?»
Император обошёл весь круг гостей, обращаясь к каждому с должной учтивостью; сейчас он не был так расстроен, как во время бала. Перед графиней он остановился и просто сказал:
— Я слышал, мадам, вы приболели. Вы вполне выздоровели?
И всё. Он деликатен, подумала она, и страх её уменьшился.
За столом её усадили рядом с гранд-маршалом Дюроком, почти напротив императора. Император тотчас же начал задавать своему соседу вопросы по истории Польши — как обычно, выпаливая их один за другим. Он выслушивал ответы, продумывал их, спрашивал снова. Но всё время, как заметило общество за столом, взгляд его оставался обращённый на графиню или Дюрока. Казалось, что между ним и гранд-маршалом идёт тайный разговор. Внезапно император приложил руку к левой стороне груди. Гранд-маршал воззрился на своего повелителя и потом с пониманием вздохнул:
— А-а...
— Букетик, — обратился он к Марии, — тот букетик из Бронь? Что с ним стало?
— Я спрятала его, — ответила она, — для моего сына.
— О, мадам, — прошептал он, — пусть Некто засвидетельствует вам своё почтение более достойным образом.
Она восприняла это как оскорбление и сильно покраснела.
— Мне нравятся только цветы, — резко ответила она.
Смущённый Дюрок на секунду задумался.
— Хорошо, — сказал он затем, — придётся нам ради вас сплести лавровый венок для Польши.
«Вот так-то лучше», — подумала она.
А он подумал: «Ну и работёнка!» Никогда ему не приходилось прилагать столько хлопот, чтобы император получил в постель новую любовницу.
После обеда, в толкотне, возникшей при выходе из-за стола, Наполеон подошёл к Марии и устремил на неё свой повелительный взгляд, перед которым ни один смертный не мог устоять. Стиснув её руку, он прошептал:
— Нет, нет! С такими нежными глазами, с таким ласковым лицом вы должны быть добры, вы не можете испытывать радости от чужих страданий, вы не можете быть самой жестокосердной женщиной в мире.
Он ушёл, но осада не ослабевала. Гости столпились вокруг неё, глазея, поздравляя, понуждая действовать дальше. Только она одна может умилостивить великого человека, только она может убедить его воссоздать независимое и целое Польское государство. Затем все исчезли, словно по сигналу. Осталась одна лишь София, которая следовала за ней как тень. Но тут появился Дюрок, который, плотно закрыв дверь, направился к ней по сверкающему паркету. Мария чуть не заплакала. И действительно, у него в руке было письмо. Он присел рядом с ней, взял её руку в свою и шёпотом обратился к ней с такими искренними и нежными мольбами, что она, вырвав руку и закрыв лицо, зарыдала как ребёнок. Слава императора омрачена печалью, и Несколько минут счастья — это всё, что он просит. Тут вмешалась София: твёрдым и резким тоном она заверила, что Мария пойдёт к Наполеону — никто не может сделать большего для него. Мария перестала плакать:
— Никогда!
Тогда София заявила, что она стыдится её, дурной девчонки, что Мария — не полька.
— Вы можете идти, генерал! Я отвечу за неё. Дайте мне письмо.
— Ну, слушай, капризница, — сказала она, когда Дюрок ушёл.
Третье письмо Наполеона было занятней предыдущих. Человек огромных способностей, он теперь надел маску пылко влюблённого. «Бывают мгновения, — писал он, — когда власть становится тяжким бременем». И сегодня для него такой момент. Ей одной дано уничтожить препятствия между ними. О, если бы она это сделала!
«О, придите, придите ко мне! Все ваши желания будут исполнены. Ваше отечество будет мне бесконечно дорого, если вы проявите немного жалости к моему бедному сердцу».
Мария читала и перечитывала эти точно найденные слова. «Ваше отечество»... Он будет милостив к отечеству, если Мария проявит милосердие к нему. Сейчас он писал то, что ранее утверждали все прочие. Следовательно, всё это не такая чепуха, как она полагала! Возможно, что судьба Польши, будущей единой Польши, в её руках. Белый Орёл вновь воспарит над столицей, и это благодаря ей! Какая мечта!
— О, София... — пробормотала она. Но её всё ещё связывали супружеские обеты, порядочность... Она закрыла лицо руками. — О, София, я не могу!
С трудом сдерживая нетерпение, София сказала что-то про провинциальные условности, которые абсолютно не к месту в данной ситуации. Существуют десятки молодых жён, которые с радостью сослужили бы эту службу, если бы возникла такая необходимость — но никто от них этого не требует.
— Какая жалость, что это не я, — сказала София.
— Хорошо, — наконец прошептала жертва. — Делайте со мной что хотите.
Но она не написала ни слова в ответ. София заперла её, и графиня в одиночестве размышляла о своей судьбе. То нечастое и кратковременное внимание, которое уделял ей престарелый граф, оставило её в неведении о том, каким бывает мужчина в порыве страсти. С надеждой она рисовала себе образ нежного императора, который уважает её, понимает её, дружбой и доверием которого она пользуется, который внемлет её молитвам за Польшу и не делает ей зла. Союз двух душ — пленительная мечта!
На следующий день её стерегли и опекали так, словно она была священным животным, предназначенным для жертвенного заклания. Каждый раз, когда неумолимые часы отбивали ещё час, она вздрагивала.
В половине одиннадцатого вечера послышался стук в дверь. Она была в полуобмороке, пока её одевали, накидывали вуаль поверх шляпки, усаживали в карету. Потом её вывели из кареты, поддерживая под локоть, быстро протащили через тайную дверь и помогли подняться по лестнице — всё это без единого слова.
Дверь открылась. В ярком свете перед ней предстал император. Но Золушка не заметила его: она опять плакала, глупышка. Кто-то усадил её в кресло, прекрасный голос нежно с ней заговорил. Но вдруг этот голос произнёс что-то вроде: «Этот ваш старый муж...», «Я так сожалею...» В ответ на эти слова она издала приглушённый крик, вскочила с кресла и бросилась к двери, где остановилась как вкопанная, сотрясаемая приступами рыданий.
Наполеон стоял в недоумении. Это было чем-то новым и непостижимым для него. Кокетка она — или пока ещё столь беспредельно невинна? Актёрствует ли она? Ему так не казалось. Неопытной девочке не под силу так изобразить испуганную лань. Однако она без страха поехала в Брони, чтобы увидеть его. Поэтому он решил, что она здесь по своей воле (он не знал, как сильно на неё давили).
Он ласково усадил её обратно в кресло и попытался успокоить. Поглаживая её руку, он попытался говорить так, чтобы ни одно слово не ранило её. Он сам удивлялся своему терпению. Ни одна женщина до сих пор не обращалась с ним подобным образом; ни от одной из них он бы не потерпел таких слёз и истерики, любая из них давно бы отправилась восвояси. Но ни одна из них, даже сама Жозефина, не пленяла настолько его сердца.
— Моё бедное дитя, я знаю, вы замужем. Расскажите мне об этом. Это было по любви?
Она отрицательно мотнула головой и перестала плакать.
— Вы сделали это ради денег? Во имя дворянского звания? Возможно, вас заставили?
Она наклонила голову.
— Бедное дитя — кто же вас заставил?
— Моя мать, — прошептала она.
Она заговорила. Победа!
— Ваша мать... Какое преступление! Отдать такого прекрасного ребёнка дряхлому старику, которому под восемьдесят! — В приступе раздражения он утратил власть над своим голосом, и она вновь испуганно задрожала...
— И вы чувствуете себя связанной этим браком?
— Освящённое Богом, — с запинкой проговорила она, — человеку нарушать нельзя.
Он опрометчиво рассмеялся, и она заплакала опять.
— О, Господи! — пробормотал император, с жалостью взирая на это чудо — женщину в своей комнате, посреди ночи, которая остаётся верной своему мужу и говорит с ним о религии. Но он извинился и стал опять вслушиваться в её ответы и терпеливо продолжал задавать вопросы: — Где вы учились? Как ваша девичья фамилия? Вы любите музыку? Кто ваша мать?
Обрадованная тем, что ничего страшного не случилось, она наконец обрела голос и благополучно преодолела все эти вопросы. В два часа ночи в дверь тихо постучал Констан.
— Уже?.. — проговорил Наполеон. — Ну, моя прекрасная печальная голубка, вытрите свои слёзки и летите к себе домой, в своё гнёздышко. Не нужно бояться орла. Здесь нет никого, кроме вашего пылкого поклонника, для которого важнее всего завоевать вашу любовь. Обещаю вам, что в конце концов вы полюбите его, потому что он не откажет вам ни в чём... ни в чём, понимаете? — Он помог ей надеть плащ и шляпу и проводил до двери. Рука его, однако, с непоколебимой твёрдостью задержалась на щеколде.
— Вы придёте завтра? — Голос его был ласков. Но сквозь ласку слышалась угроза.
— Но...
— Обещаете?
— Да.
Домой она вернулась намного спокойней, чем уезжала. Её мечта, казалось, сбылась. Он был добр и нежен, он не коснулся её — даже не поцеловал. В эту ночь он пощадил её — разве то же самое не может повториться и завтра?
И ещё он сказал, что не откажет ей ни в чём.
В девять часов утра София была у её постели: с большим пакетом, который она открыла с видом феи. Она вынула оттуда несколько красных сафьяновых коробочек для драгоценностей с узором из роз и лилий, обрамленных листьями лавра, и очередное письмо. Одной рукой она протянула Марии прекрасный букетик цветов, другой — ослепительную бриллиантовую диадему. Но Золушка, присев на кровати, схватила диадему и швырнула её в другой конец комнаты. Вот как, воображают, будто её можно купить бриллиантами?!
— Сейчас же отошли все назад! — велела она. София как ни в чём не бывало открыла четвёртое письмо и стала читать его вслух.
— Ну и мужчина! — сказала она. — Слушай.
— «Мария, моя милая Мария, все мои мысли о тебе, моё единственное желание — увидеть тебя вновь. Ведь ты придёшь, правда? Помнишь, ты обещала. Ведь если ты не сделаешь этого, орёл ринется к тебе сам! Мне сказали, мы увидимся сегодня вечером за обедом. Поэтому соблаговоли принять от меня этот букетик. Пусть он будет тайным знаком наших уз. Все глаза будут устремлены на нас, но мы поймём друг друга без слов. Когда я приложу руку к сердцу — знай, что оно бьётся только для тебя одной, а ты в ответ прикоснись к букетику. Ты ведь сделаешь это?
Люби меня, моя милая Мария, и пусть рука твоя всё время касается цветов».
— Прекрасное письмо, — сказала София. — Должно быть, у тебя сердце из камня.
Наполеон, однако, допустил промах. Сегодня Марии не положено надевать ни бриллианты, ни даже цветы.
— Ему бы следовало знать об этом, — сказала она, — мы украшаем себя букетиками на балах. А это всего лишь обед.
— Ты — дура, — сказала София. — Я бы целое дерево на себя нацепила, если бы он мне его прислал.
Перед началом обеда все приглашённые без стеснения глазели на неё, теснились к ней поближе, просили, чтобы их ей представили. Престарелые сановники с надеждой в сердце улыбались, глядя на неё. Она подумала, что все за исключением её мужа знают о её ночной поездке. И все считают, что она...
Наполеон неотрывно следовал за ней взглядом, ловя каждый удобный случай, когда её не заслоняли от него, чтобы приглядеться к левой стороне её груди. Брови его были сурово нахмурены, взгляд подобен молнии. Наконец, опустив голову как бык, он устремился в её направлении. «О, небо! Он способен устроить сцену!» — пронеслось у неё в голове, и она в отчаянии приложила руку к сердцу — туда, где должен был быть букетик. Он тут же сделал то же самое, улыбка появилась на его лице. Отойдя в сторону, он подозвал Дюрока и что-то энергично ему прошептал.
За обедом Дюрок сразу же стал её корить, что она не надела бриллиантов. Она в ответ протестовала: как она может носить такой подарок? Он усталым тоном прочёл ей лекцию о трагизме высокого положения в обществе, о том, что Наполеону необходима родственная душа, которая бы его понимала, о всём великолепии миссии, выпавшей на её долю, миссии, которой может позавидовать любая женщина.
— Посмотрите, мадам, он не смотрит ни на кого, кроме вас, даже когда беседует с маркизом, — и это было правдой. При сменах блюд его рука всё время лежала на груди, под сердцем. — Вы придёте сегодня вечером? Он только что велел мне напомнить вам о вашем обещании.
— Я приду. — Сегодня она чувствовала себя лучше. Все эти настойчивые уговоры вселили в неё уверенность. Она сможет противостоять все этим мужчинам — она спасёт и Польшу, и себя.
Вечером, в обстановке той же секретности и безмолвия, драгоценное создание вновь доставили во дворец.
Наполеон был как иголках.
— Наконец-то! — сказал он. — Я уже оставил надежду...
Он снял с неё плащ.
— Вы не должны носить чёрное, — произнёс он. — Я не выношу чёрного.
— Извините. Но я люблю чёрное, — сказала она. Она не потеряла уверенность в себе. Ей казалось, она знает, как управлять императором.
Он остановился перед её креслом и сурово обратился к ней:
— А теперь, мадам, сделайте одолжение, объяснитесь. Зачем вы приехали в Брони? Зачем было сначала привлекать, а потом отталкивать меня? Почему вы отвергли мой цветы — даже лавры? Что вы с ними сделали? Просто смешно! Я всё время держал руку под сердцем. Ваша — не двигалась. Только однажды вы дали мне знак. — Сам себя доведя до ярости, он сдвинул брови и закричал: — Вот истинная дочь Польши! Ваше поведение даёт мне право думать, что у меня сложилось правильное мнение о вашей стране!
Что он имеет в виду? Глубоко встревоженная его приёмом и его словами, она, заикаясь, проговорила:
— О, сир, молю вас, в чём же состоит ваше мнение?
— Поляки? Они — как воздушные шарики! Страстный порыв может увлечь их, но они слишком непостоянны, чтобы поддаваться управлению. Безалаберные мечтатели! Их энтузиазм — как морской шторм: только что был пугающе могуч и вдруг развеялся. Они не способны управлять своими чувствами — или сохранять их постоянство. Таковы поляки, мадам, и, я боюсь, таковы вы сами! Почему, как вы думаете, на протяжении всей истории с вашей страной вечно происходили несчастья? Почему её подвергали разделам, грабили, мордовали, разоряли? Неужели вы думаете, это никак не связано с национальным характером поляков? Разве я приглашал вас в Брони? Разве вы не примчались туда как полоумная, чтобы меня увидеть? Вы приступом пленили моё сердце этими огромными, сияющими глазами — взглядом Жанны д’Арк — и затем исчезли. Вы спрятались! Я сделал всё, чтобы отыскать вас, а когда нашёл, то вы — как глыба льда. Что всё это значит?
Она ни слова не проронила в ответ. Она была слишком напугана, чтобы заплакать снова. Она просто Не отрываясь смотрела на него округлившимися трогательными глазами. Он не был груб, в его словах не было ярости, но его переполняла горечь. Посмотрев наконец на себя его глазами, она должна была признать, что в его упрёках есть доля истины. Это было правдой: она относилась к нему как к Богу, а потом отвергла его. И — хуже всего: она, кажется, погубила свою страну.
— А теперь позвольте мне сказать вам, мадам! Когда я хочу чего-нибудь невозможного, я хочу этого ещё сильнее и яростней! Невозможное превыше всего подхлёстывает и вдохновляет меня! — Страстный порыв давно уже овладел им. — Я заставлю вас полюбить меня, я заставлю — вы понимаете? Я возвратил вашей стране место на карте! Благодаря мне — мне одному — хотя бы остатки Польши опять сделались государством! И я сделаю ещё больше. Но, мадам, — он достал из кармана маленькую табакерку и поднёс к её лицу, — будьте уверены, что вот так, как я сломаю у вас на глазах эту табакерку, я сокрушу Польшу и все ваши надежды! Окончательно и бесповоротно — если вы доведёте меня до предела и отвергнете мою любовь!
Табакерка треснула в его кулаке, и он бросил в сторону осколки. Наткнувшись на его взгляд, польский воздушный шарик лопнул, и всё мужество покинуло графиню. Несчастная осела на пол, лишившись чувств. Крупинки нюхательного табака, вившиеся в воздухе, медленно падали на неё.
Придя в себя, она уже и помыслить не смела, что способна управлять императором, что может противостоять мужчинам. Наполеон одержал ещё одну победу.
Глава 2
«ПОЛЬСКАЯ ЖЕНА»
Но это стало победой обеих сторон. Мария не была гусарской девочкой для утех, которую можно затащить в постель и тотчас забыть. Император тоже оказался в плену. Ночные визиты сделались регулярными как смена караула. Один из самых оскорбительных для церкви грехов свершился. Конечно, поначалу она пала в объятия своего завоевателя из чувства патриотизма, мечтая о будущей награде — самостоятельной и единой Польше. Осмелев до дерзости, Мария заговаривала о Польше каждую ночь, чётко запоминая наставления, которые днём получала от государственных деятелей. И Наполеон, с уважением относясь к первой женщине в его жизни, которая ничего не просит для себя, по крайней мере её выслушивал.
Граф наконец понял, что он сделал — непреднамеренно, как в дальнейшем утверждал он. Старик громогласно заявил, что не желает делить жену ни с кем — даже с императором. Мария оставила мужа и переехала во дворец. Высший свет жалел её, но аплодировал ей (а София заявила ей, что она счастливица). Две сестры князя Понятовского стали её компаньонками, и везде её принимали и обращались с ней как с королевой.
Единственным человеком, до глубины души потрясённым свершившимся, была сама Мария Валевская. В Варшаве, хорошо помнившей Екатерину Великую, очень немногие относились к Наполеону хуже, чем к ней. По сути, его считали целомудренным военачальником, так как он никогда не таскал с собою в походах не то что целого обоза женщин, как некоторые из его маршалов, но даже и одну любовницу. В штабе любой из армий Республики были молодые женщины, переодетые адъютантами, денщиками или гусарами, и порой даже они действительно служили, выполняя не только личные обязанности, но и воинский долг. Несмотря на жёсткий запрет на присутствие жён и женщин вообще, прекрасная мадам Фурье направилась в Каир со своим мужем, облачившись в костюм легковооружённого кавалериста. На исходе кампании она ехала рядом с Бонапартом уже в форме генерала с треуголкой на прекрасной головке. Поляки понимали, что великий военачальник хочет иметь при себе красивую женщину, и Наполеон хотел лучшую из них.
Возможно, София была права. В облике Наполеона не было ничего отталкивающего. В тридцать семь лет он выглядел привлекательным, хотя рост составлял всего лишь пять футов и три дюйма. Последнее время он немного сутулился. На его широкой и сильной груди почти не было волос, что совсем не нравилось Марии, которая привыкла к густой седой шерсти, покрывавшей худосочную грудь графа. Необъятная грудная клетка переходила в узкую талию. Ноги с маленькими ступнями были красивы, руки — отточены и мускулисты. Ухоженные кисти рук имели прекрасную форму. Кожа была белой, лицо — свежего и здорового оттенка. Голова казалась очень большой, брови были широкими и редкими. Довольно жидкие волосы императора имели каштановый оттенок, уши были безупречной формы. Привлекательные голубые глаза таили в себе множество оттенков настроения — они могли быть и нежными, и суровыми, и беспощадными. Уголки красивого рта с прямой и тонкой линией губ в трудные периоды жизни клонились вниз. Глубокая впадина под нижней губой делала более рельефным упрямый подбородок. Греческий нос отличался безупречностью, зубы — здоровьем и белизной: они никогда не беспокоили его. Каждая черта в отдельности была выше всяких похвал, однако в целом получалась противоречивая картина. Но когда его лицо светилось любовью или страстью — называйте как хотите, — когда глаза излучали нежность, он был прекрасен. Именно такое лицо видела всегда Мария Валевская.
Любая власть приносит наслаждение. И Марии нравилось властвовать над ним, однако она делала это с осторожностью. Как правило, в ожидании своего повелителя она ложилась в красивой позе на огромную кровать с широким пологом, и когда он приближался, отворачивалась и шептала: «Нет, Наполеон, нет». Иногда, осмелев, она ложилась в постель в ночной рубашке.
— Что это? — говорил он. — Где же моя прекрасная голубка?
— Что ты сделал сегодня для Польши? — спрашивала она.
— Терпение, дитя. Ещё слишком рано.
Затем она начинала говорить о своём: о том, что создание настоящего временного правительства положит начало созданию армии; что некоторые эскадроны польской лёгкой кавалерии должны быть присоединены к охране императора и так далее.
Он садился на край постели и слушал. Никакой другой женщине он не позволил бы смешивать любовь и политику, но она была больше, чем просто любовница. Она была его «польской женой». В Париже императрица Жозефина, постоянно выражавшая своё недовольство мужем, изменяла ему, и он более ей не доверял. Мария стала самой искренней и нежнейшей любовью в его жизни. Все другие женщины, включая его сестёр, жаждали корон, королевств, герцогств, дворцов и диадем. Одна Мария ничего не хотела для себя — только для своей страны. Он стремился сделать её счастливой, мечтая, чтобы она полюбила его так же, как свою разодранную на части страну. Поэтому он внимательно выслушивал её.
— Поцелуй меня, моя голубка.
— Но ведь ты обещал, Наполеон.
— Я выполню свои обещания, будь уверена. Я уже сделал так, что Россия отдала часть Польши, которую незаконно присвоила. А тем временем твои политиканы должны объединиться. Как там дела? У вас есть несколько прекрасных, патриотически настроенных людей. Я знаю, чести и мужества им не занимать. Но этого недостаточно. Вы должны объединиться. Сними это.
— Но, Наполеон, разве ты не можешь сказать всему миру?..
— Поцелуй меня.
Она никогда слишком долго не испытывала его терпения, и вот ещё одна жертва была принесена Польше.
— Будь ко мне снисходительна, Мария. Я устал.
Лёжа в его объятиях, она всё приставала к нему:
— Что ты сделал для Польши — ты, бесчестный человек?
— Я не бесчестный. — Он обнимал её. — Ты знаешь, что я очень уважаю твою страну. Я хочу, чтобы она вернула своё величие и утраченные территории. Я сделаю всё, что не противоречит моим обязанностям перед Францией. Но помни, моя Дорогая, от Польши до Парижа далеко. И то, что я сделаю сегодня, может быть сметено завтра.
— Но, Наполеон!
— Подожди. Мои первейшие обязанности — это обязанности по отношению к Франции. Я не могу проливать кровь своих солдат в войне между иными странами. Я не могу всё время вызволять Польшу из беды. Вы должны действовать сами.
Это был его излюбленный контрудар. Он вынуждал её рассказывать всё о руководителях Польши, все сплетни, которые она слышала об их жёнах и их делах. И чем больше он узнавал, тем меньше думал о Польше, и она уже начала опасаться, что снабжает его достойным оружием против них.
Когда император находился в хорошем расположении духа, он обращал пристальное внимание на платья женщин и в этой области считал себя знатоком. При дворе ни одна плохо одетая женщина не могла избежать его критических замечаний. И даже императрица Жозефина не была защищена от этого. Кроме того, он ненавидел платья чёрных и других мрачных тонов. Мария Валевская продолжала одеваться просто: в белое, серое или чёрное. Он часто протестовал, но она отвечала на это:
— Женщина Польши должна носить траур по своей стране. Когда ты воскресишь её из мёртвых, я не буду носить ничего, кроме розового.
— Ты способна растопить Монблан, — отвечал он.
Таким образом, жизнь её проходила в непрерывной борьбе За судьбу отечества. Она не упускала ни одного шанса. Он тоже неустанно вёл борьбу — борьбу за её сердце. Ему было недостаточно их встреч по вечерам. Она должна была присутствовать с ним на всех обедах и балах в Варшаве. На этих весёлых приёмах великий полководец и гроза Европы искренне и с воодушевлением играл роль молодого влюблённого. Он научил её понимать знаки общения: незаметные движения руки, поднятия и повороты пальцев, наклоны головы, пожатия плечами, — все те знаки, которые указывали, что он любит её одну. Одно движение означало «Я люблю тебя», другое — «Я думаю о сегодняшней ночи», третье — «Как мне всё надоело!», «Если бы они только ушли!» или «Ты выглядишь прекрасно». Внимательно выслушивая знатных дам или важных политиков, описывая жадным слушателям ход той или иной кампании или битвы, он любил посылать тайные знаки своей возлюбленной через наполненную людьми комнату. «Дитя» — так он её называл, и это ей нравилось. В действительности она была настоящим ребёнком. И тем не менее её удивляло, когда он называл её так.
— Ты понимаешь, я должен чётко и правильно выполнять дело, возложенное на меня судьбой. Я уполномочен ей быть правителем не одного, а многих государств. Я был всего лишь жёлудь — а теперь я дуб. Я на вершине, в верхнем окне, всегда на виду, виден издалека и вблизи. И всё это вынуждает меня играть роль, которая мне не свойственна. Но я должен играть её на благо себе и другим. Но, прекрасная Мария, в то время как я играю роль дуба для людей всего мира, для тебя одной я хотел бы снова стать маленьким жёлудем. Когда вся Варшава смотрит на нас, я не могу прошептать тебе на ухо: «Мария, я люблю тебя». Но именно это мне хотелось бы сделать. И я посылаю тебе свои маленькие знаки.
В ночь перед отъездом он сказал ей:
— Я думаю, что наконец тебе немного понравился.
— Я думаю, что да, — прошептала она.
Взгляд полководца был устремлён на Россию. Штабы с воодушевлением переместились в Финкенштейн, укреплённый прусский замок с огромными каминами, в которых долго держался багровеющий огонь, так любимый Наполеоном.
Мария безропотно последовала в Финкенштейн. Теперь, кроме Наполеона и надежд, связанных с Польшей, у неё не было ничего. Однако здесь её жизнь проходила уже без обедов, танцев и секретных знаков в толпе приглашённых. Её роль при Наполеоне стала ролью тайной любовницы генерала, находящегося на действительной военной службе. Замок был полон посланников, курьеров и офицеров. В течение пяти недель она втайне жила в комнате рядом с покоями императора и на свежий воздух могла выходить только после захода солнца. Они вместе ужинали, а ночью любили друг друга и говорили о Польше и поляках. День она проводила в одиночестве. Должно быть, это был довольно скверный период её жизни, однако она никогда не жаловалась. Однажды ночью на своей античной кровати Мария вынуждена была признаться себе, что получает удовольствие от объятий, которые она принимала вначале из чувства патриотизма. На следующий день, глядя через занавески, она увидела императора едущим на белом коне. Он лично руководил военной подготовкой и подавал резкие команды. Задрожав, она прижала свои маленькие ручки к груди, не понимая, что с ней происходит.
Это было в мае. Армия покинула свои зимние квартиры и двинулась в сторону России.
В последний раз они сидели у огромного пылающего камина в замке Финкенштейн.
— Когда я вернусь, — сказал он, — ты поедешь со мной в Париж.
— Нет, Наполеон. Зачем всё это?
Она была подавлена, в её словах звучали нотки укора. Он уезжал из Польши, казалось, что все её мольбы и его обещания пропали напрасно.
— Терпение, моя голубка. Мне необходимо встретиться с царём.
— Я больше тебе не верю. Я вернусь в Польшу, буду носить траур и молиться.
Его глаза излучали нежность.
— Мария, — взмолился он. — Я отлично знаю, что ты можешь прожить и без меня. Я знаю, что не завоевал твоего сердца. Но ты хорошая и добрая. Я уверен, что ты не лишишь меня тех коротких, но прекрасных часов, которые я провёл с тобой. Приезжай в Париж, пожалуйста, приезжай. Ведь ты приедешь?
Она взглянула ему в лицо, очень привлекательное в свете камина, и неожиданно для себя сказала:
— Я приеду.
Только в одном он был не прав: теперь она не могла без него жить. Муж, церковь и даже Польша — всё это утратило для неё прежнее значение. Она полюбила его.
Армия Наполеона двинулась прочь; она послала ему золотое кольцо с прядью своих волос и запиской: «Когда ты разлюбишь меня, не забывай, что я тебя люблю».
Возможно, преданная своей стране графиня сделала для Польши больше, чем она считала. Вскоре был заключён договор в Тильзите[40]. Здесь на украшенном плоту на реке Мемель потерпевший поражение царь и победоносный Наполеон разделили пол-Европы так же, как делят пирог. Наполеон стремился снискать дружбу России и с щедростью отдавал ей чужие земли. Но было замечено, что когда речь заходила о Польше, он становился твёрже и неуступчивее. По крайней мере, в результате всех этих переговоров Польша стала маленьким государством — Великим герцогством Варшавы, расположенным в центральных провинциях прусской территории. Оно было слишком маленьким, чтобы сохранить самостоятельность, но, по крайней мере, поляки управляли поляками (при помощи Франции) и неплохо справлялись с этим до того момента, как Россия подчинила их себе опять. Наполеон дал им конституцию, очень похожую на французскую и с большим количеством свобод. В это время Мария Валевская была всё ещё рядом с императором. Предстоящую войну с Россией он называл «второй польской войной»; князь Понятовский со своими людьми, обуреваемыми великими надеждами, двинулись за ним. И Наполеон, по крайней мере, сделал для них больше, чем любой другой иностранный монарх. Если бы не поражение в России, он мог бы сделать для них и ещё более. При отступлении в 1813—1814 годах остатки польских войск преданно следовали за Наполеоном. Князь Понятовский погиб, прикрывая его отступление из Лейпцига.
Таким образом, «жертвы» «польской жены» не пропали даром.
Она приехала в Париж, и Констан впервые провёл её по тайной лестнице дворца Тюильри. В 1809 году в возрасте двадцати одного года она ещё в течение трёх счастливых месяцев тайно проживала с Наполеоном в Вене. К тому времени он сместил Папу и за это был отлучён от Церкви. Вместе с Марией он жил во дворце австрийского императора в Шёнбрунне, где она зачала ребёнка. Это стало одним из самых важных событий. О чём бы ни шепталось его окружение, одно не оставляло никаких сомнений: он может быть отцом и основать династию. Теперь судьба неверной бесплодной Жозефины, которой исполнилось уже сорок шесть, была решена.
В январе 1810 года Наполеон развёлся с Жозефиной. Он был с ней мягок и выражал сожаления по этому поводу, однако дело было сделано. В апреле император женился на другой Марии — Марии-Луизе, старшей дочери императора Австрии. Четыре недели спустя, 4 мая 1810 года, Мария Валевская родила сына, которого назвали Александром. 20 марта 1811 года императрица тоже родила Наполеону сына. Александр, дитя любви, прославился в дальнейшем как дипломат, государственный министр и сенатор Франции.
«Где же Констан? Констан», — пронеслось у неё в голове. Он знал их всех — Жозефину, Марию Валевскую, Марию-Луизу и многих других.
За дверью Наполеона стояла тишина. Она испытывала огромное искушение постучать, но знала, что этого делать не следует.
— Пусть подождёт, — сказал император. У него было какое-то важное дело, и он что-то напряжённо писал.
Она подождала и через некоторое время убедила Констана постучать снова.
— Пусть снимет плащ, — последовал приказ. Прошёл ещё час. Наполеон продолжал писать свою депешу, подёргивая правым плечом, что всегда служило признаком его глубокой сосредоточенности. Констан, полный сострадания, постучал опять, однако с изрядной долей сомнения.
— Пусть уходит.
Мария Валевская согласилась бы прождать всю ночь, только бы не слышать этих слов.
Констан считал огромной ошибкой, величайшим просчётом Наполеона то, что он не женился на Марии Валевской после развода с Жозефиной. Она знала, что в своё время он думал об этом. Но она не жаловалась, что он поступил по-другому. Ей было известно, что в этом странном, безумном мире монархов, куда забросил её случай, любовь и супружество имеют мало общего. Императору был нужен сын, рождённый от принцессы королевской крови. Он сын корсиканского мятежника, дитя Революции, вынужден был подчиниться древним традициям.
— Каждый человек, — сказал он однажды с горечью, — должен согласовывать свои действия с нравами и обычаями своего времени, в моём случае — с политической необходимостью. Поцелуй меня. Ты меня понимаешь, моя милая Мария?
— Понимаю, — ответила она. — Которая из них? — Список возможных претенденток состоял из восемнадцати молодых девушек.
Его избранницей могла стать принцесса из Саксонии или из России, — но последней исполнилось всего пятнадцать, а ребёнок был нужен как можно скорее, так как слишком много людей желали смерти Наполеона. Кроме того, Габсбурги[41], в отличие от русских, не были православными — православный священник при дворе императора смотрелся бы не очень уместно. К тому же их род славился своей плодовитостью.
— У матери Марии-Луизы, — сказал он ей, — было тринадцать детей!
— Непостижимо! — ответила она.
— У одной из её прародительниц было семнадцать детей. У другой — двадцать шесть.
— О, Боже! Но, Наполеон, кто знает, я ведь только начала рожать!
— Увы, моя милая! — он потрепал её по щеке. — Если бы твоё происхождение было таким же царственным, как и твоя красота!
Глава 3
МАРИЯ-ЛУИЗА
Брак с Марией-Луизой означал больше, чем просто женитьбу на девушке королевских кровей. Он делал Наполеона законным членом семьи монархов. Он мог говорить о Людовике XVI, как о «своём дяде», о Марии-Антуанетте — как о «своей тётушке», поскольку Мария-Луиза являлась племянницей последнего короля и королевы Франции. Он становился одновременно Бурбоном и Габсбургом и получал право вести беседы о высокородных братьях и кузенах, беседы, так любимые монархами.
Дочь короля Австрии пользовалась успехом — интересная, не очень красивая и не очень грациозная, однако молодая и свежая, с чарующим выражением лица. Ей было всего восемнадцать. Мадам Фурье в Египте привила Наполеону вкус к молодости, а Мария Валевская укрепила его. Она была почти такого же роста, как Наполеон. Светло-каштановые волосы кудрями ниспадали на её лоб. У неё были голубые глаза, полные губы «австрийского типа», плотный решительный подбородок и слегка выдающиеся белоснежные зубы. Широкие плечи, полная грудь, тоненькие руки с хрупкими пальцами и прекрасные ножки дополняли картину. Графиня с удовольствием приняла известие о том, что «у неё есть оспинки, но не очень заметные».
Эрцгерцогиня была неприметной безучастной смиренницей, хотя под самый конец и обманула доверие своего мужа. Вся её недолгая девичья жизнь напоминала жизнь парникового растения.
Одно упоминание о замужестве по любви глубоко потрясло бы её. От неё тщательно скрывали, что мать-природа создала два различных пола. Во внутренних двориках дворца были только куры — петухов держать не позволялось, в саду — только павлины-самки и суки, в клетках содержались только крольчихи и самки обезьянок, а в парке — только оленихи, которых не тревожили самцы. Гувернантка не покидала её ни днём ни ночью, просматривала её книги, вырезая ножницами целые страницы, параграфы или отдельные слова. Иногда эрцгерцогиня, увидев дыру в странице, искренно удивлялась, однако ей не позволяли удивляться дольше положенного. Ей разрешали поливать цветы, кормить птичек, навещать престарелых дядюшек, которые развлекались рисованием и игрой на флейте.
В один из таких переездов в придорожной гостинице ей случайно открылся ужасный факт, что муж и жена спят, оказывается, в одной постели. Вскоре после этого ей сказали, что она должна выйти замуж за Наполеона Бонапарта — за человека, наводившего ужас на всю Европу, за чудовище, которым пугали маленьких детей. Когда ей было шесть, мать рассказывала ей, как месье Бонапарт бежал из Египта, бросив там свою армию, и сделался турком. Она твёрдо верила, что он бьёт своих министров и что он убил двух своих генералов. «Я бы сошла с ума, — писала она одной своей подруге, — если бы мне пришлось обедать с одним из его маршалов». Услышав о разводе Наполеона с Жозефиной, она написала той же подруге, что не боится за себя. Отец слишком хорошо к ней относится, чтобы заставить сделать что-нибудь ужасное. «Мне только жалко ту принцессу, которую выберет это чудовище».
Но в следующем письме она просто написала: «Молись за меня», — потому что родители нанесли ей один из своих редких визитов и попросили согласиться выйти замуж за Наполеона.
— Бонапарт! — прошептала она, — Ведь он же антихрист! Мама, ты сама мне говорила! — И она перекрестилась.
— Чепуха, моя маленькая.
Она взглянула на своего отца. Четыре раза Бонапарт вторгался на его территорию, четыре раза опустошал её. Дважды он вступал победителем в Вену, выгоняя тем самым её любимого отца из столицы. Однажды он вынудил его императорское величество прийти в свой шатёр и молить о мире. И теперь отец хочет, чтобы она вышла замуж за это чудовище и — о, ужас! — может быть, легла с ним в одну постель.
Отец сказал ей:
— Луиза, ты выполнишь свой долг.
Она не заплакала, как заплакала бы Мария, — её слишком хорошо готовили к подобной ситуации. Она с покорностью приняла свою судьбу, но, будучи невестой, в огромную карету вошла с ужасом. Единственным её утешением стало удивительное приданое, которое этот монстр ей прислал: двадцать дюжин сорочек из батиста, вышитых и отороченных кружевом, двадцать четыре дюжины носовых платков, двадцать четыре лифчика, тридцать шесть нижних юбок, двадцать четыре ночных чепца, головные повязки, ночные блузки, пеньюары, подушечки для иголок и булавок, полотенца, постельное бельё, кружева и алансонская шаль в три тысячи франков. А ещё — много платьев: одно — расшитое золотом и серебром, другое — розовым тюлем и третье — светлыми кружевами; а также три дорогих английских платья и шестьдесят четыре платья от мадам Леви. Кроме того, она получила семнадцать кашмирских шалей, двенадцать дюжин пар чулок и шестьдесят четыре пары туфель и ботинок на шнурках, любых цветов и из всевозможных материалов. Все они были сделаны в соответствии с размерами, присланными из Вены. Они были так малы, что Наполеон, рассматривая их, не мог поверить своим глазам. «Чудовище» осмотрело каждый из предметов туалета, и они были упакованы в его присутствии.
Наполеон чрезмерно заботился о своей внешности в надежде понравиться высокородной невесте. Его сестра Полина придумала для него дворцовое платье — такое тяжёлое от украшений, что он с трудом мог его носить. Новому сапожнику были заказаны прекрасные новые туфли. Он взял несколько уроков вальса, после которых испытывал головокружение. Двор был восхищен всем этим.
Где бы невеста ни останавливалась на ночь, её всюду встречали камергеры и посланники с письмами, ей преподносили цветы и другие подарки. Вся программа была разработана тщательно. Наполеон и его семья должны были торжественно встретить невесту 28 марта в Компьени. Войска, шатры, мэры и члены советов — всё было готово. Но вдруг, подобно пылкому юнцу, император потерял терпение. За день до назначенного срока он надел старое платье, вскочил на лошадь и вместе с Мюратом, в дождь, отправился встречать свою даму. Он обнаружил её карету в Курселле, где ожидалась замена восьми лошадей. Промокший до нитки, он вошёл в карету, представился и обнял трепещущую невесту.
— Вы очаровательны, — сказал он. — Вы устали? У вас достаточно пледов?
Далее они ехали вместе. Без остановок они добрались до Компьени, проскочили мимо мэров, стоящих на помостах с готовыми речами в руках, мимо напуганных девушек с букетами цветов, мимо удивлённых членов советов и деревенских жителей, одетых во всё самое лучшее, мимо расстроенных поваров, солдат и жителей Суассона, где кортеж должен был остановиться на ночь. В Компьени они приехали уже ночью, незадолго перед рассветом. Вся программа рухнула. Представление невесты членам семьи было скомкано, так как Наполеон прервал приветственные речи и повёл Марию-Луизу в её комнату, где и остался сам. В конце концов, с гражданской точки зрения, их брак уже состоялся. Официальные церемонии были ему неинтересны, поскольку назавтра его могли убить. Утром он заказал завтрак на двоих.
Мария с нежностью улыбнулась, вспоминая эту историю. Теперь она почти с материнской снисходительностью относилась к безумным выходкам Наполеона.
Он никогда не забывал, никогда не прекращал любить свою первую Марию. Но теперь он стал внимательным, верным и даже преданным мужем второй Марии — Марии-Луизы. Испуганного ребёнка осыпали драгоценностями. Будучи здоровой и уравновешенной девушкой, она вскоре забыла все свои страхи и, так как в родительском доме вела строгий образ жизни, теперь наслаждалась положением императрицы. Платья, бриллианты, диадемы — все богатства Парижа были к её услугам. Наполеон лично руководил обустройством её комнат — всё было отделано по-новому, чтобы не осталось никаких следов Жозефины. В каком бы из дворцов она ни находилась, в нем непременно присутствовали все мелочи её туалета, чтобы она всегда могла чувствовать себя дома.
Императрица была щедрой, и теперь у неё появилась возможность осыпать дорогими подарками своих родителей, сестёр, братьев и немногочисленных друзей в Вене. Наполеон ей в этом не препятствовал.
Дома она никогда не совершала выходов в свет, чтобы посмотреть пьесу или послушать музыку. Теперь она могла слушать и смотреть что ей захочется. Они ходили вместе в театр, либо актёры выступали во дворце. Суровые правила поведения сохранялись, однако сейчас она могла потребовать всё, что не противоречило этикету: щенков, редких птичек, учителей музыки и рисования.
Через три месяца подобного существования Мария-Луиза крайне удивила Меттерниха[42] следующим высказыванием:
— Я не боюсь Наполеона, но мне кажется, что он боится меня.
В её словах что-то было. Император попался в свою собственную ловушку. Он был уверен, что Мария-Луиза готова исполнить его бесстрастный и великий замысел, ради которого он её приобрёл. Но этого ему было недостаточно. Мария-Луиза никогда не пробуждала в нем такой страсти, как Мария Валевская или опытная Жозефина. Его удовлетворяла (даже слишком, по словам доктора) свежесть её кожи и красота её тела. В сорок один год, король и, по словам многих, чудовище, в интимных делах он был похож на ребёнка, которому нравится, когда его любят. Он ждал от неё наследника, но рассчитывал также завоевать её сердце. Кроме того, он хотел, чтобы о нём хорошо отзывались при дворе в Вене, к которому он по счастливой случайности стал близок. Возможно, именно поэтому он разрешил или даже сам устроил общение императрицы с Меттернихом.
Император превратился в затворника. Летом и зимой он любил, когда в его комнатах горит камин. Мария-Луиза, выросшая в огромных, холодных дворцах около Вены, не переносила жару. Иногда он нежно шептал ей:
— Пойдём ко мне, Луиза.
Она отвечала ему холодно и по-немецки:
— Там слишком жарко.
Тогда он приходил в её комнату и, дрожа от холода, приказывал одной из дам в красных мантиях зажечь огонь. Но императрица запрещала им это делать, а её слово здесь было законом. Возможно, нет ничего удивительного в том, что она не забеременела до июня.
Наполеон привык к лёгким завтракам в одиночестве, теперь — по крайней мере на год или два — вынужден был перейти к обильным завтракам в установленные часы. Обычно они состояли из супа, первого блюда, жаркого, двух конфет, закуски и десерта.
Вслед за завтраком следовала верховая езда. Так как Мария-Антуанетта выезжала на прогулки, Мария-Луиза должна была делать то же самое. Наполеон помогал ей забраться в седло и шёл рядом с лошадью, одной рукой придерживая жену до тех пор, пока она не устраивалась удобно в седле. Потом он тоже вскакивал на лошадь и ехал за ней, иногда даже позабыв надеть ботинки для верховой езды. В шёлковых чулках, заляпанных грязью, он мальчишескими выкриками подгонял лошадей, подшучивая над тихими командами императрицы. На всём протяжении аллеи, ведущей ко дворцу, в определённых местах стояли помощники конюхов, готовые прийти на помощь царственной особе в случае падения с лошади. Главный конюх Винсент заметил однажды:
— Они как дети — он и она.
Иногда он позировал ей, а она рисовала его профиль — ни одной другой особе он бы не позволил этого. Она старательно играла ему на рояле немецкие сонаты, которые были ему не очень по вкусу, но он их терпеливо слушал. Он восхищался образцами вышивки и шитья, сделанными ею с помощью мадам Руссо. Он проявлял интерес ко всему, что она делала, стараясь сделать свою милую Марию счастливой. И ей было приятно, когда он находился рядом с ней. Император был властелином мира людей, но не себя самого.
Раньше он проводил целые дни в седле, на охоте и возвращался во дворец, когда хотел. Теперь был вынужден тратить на это меньше времени и считал необходимым присутствовать во дворце на всех церемониальных трапезах, которые так много для неё значили. Раньше, когда он выезжал за границу с Жозефиной, императрица ждала у двери, пока император оденется. Теперь, когда он ехал с Марией-Луизой (в дальнейшем вместе они совершили ещё пять продолжительных поездок — в Нормандию, Бельгию, Голландию, на Рейн и в Дрезден), она никогда не была готова вовремя, и Наполеону приходилось терпеливо ждать её во дворике, нескладно напевая себе что-то под нос и ударяя хлыстом по булыжникам мостовой. Он никогда не жаловался. Лишь однажды, огорчившись каким-то незначительным проступком императрицы, он обратился к австрийскому послу, чтоб тот поговорил с ней. Он не хотел выглядеть вздорным мужем.
Из своих походов он регулярно писал ей, иногда дважды в день, давая важные инструкции.
«Моя дорогая Луиза, победа! Я разбил 12 русских полков, взял в плен 6000 человек; 40 единиц артиллерии, 200 повозок, командующего, всех его генералов и нескольких полковников; сам я потерял не более 200 человек. Проследи за тем, чтобы они дали салют у Дома Инвалидов и напечатали новости во всех общественных изданиях...
Нап».
«Шампобер, 10 февраля 1814 г.,
7 часов вечера
Мой друг, пошли за герцогиней Кастильоне. Попроси её написать своему мужу, чтобы он не спал. Он уже должен был нанести удар в сторону Монлана и Эн и разбить противника. Пусть она напишет ему в таком духе и скажет, чтобы он сражался как мужчина. Я здоров, погода хорошая, но немного свежо. Прощай, моя любовь. Всех тебе благ. Поцелуй маленького короля.
Нап».
«Реймс, 15 марта,
3 часа после полудня
Мой друг, вчера я переправился через Об и Сену...
Напиши своему отцу, что идея пойти на унизительный мир, в результате чего мы лишимся Антверпена, совершенно неприемлема... Они будут разгромлены, и империя будет сильна как никогда прежде. Убеди его не жертвовать империей из-за жадности Англии. Всех тебе
«Plancy, 20 марта,
1 час утра
(Эта привычка внимательного мужа писать письма однажды принесла страшный вред. Неустанно преследуемый противником, но всё ещё полный сил и надежды, он довольно неосмотрительно, не применяя шифра, написал Марии-Луизе о своих основных планах).
Мой друг, все эти дни я провёл в седле; 20-го я занял Арсэ-на-Об. Противник атаковал меня в 6 вечера; в тот же самый день я разбил его... Я захватил два их орудия, а они — два моих. Поэтому мы квиты (расчёт полный). 21-го армия противника... Я решил предпринять марш в сторону Марны и их коммуникационных линий, чтобы выбить их из Парижа и вернуться в свою опорную базу. Вечером я буду в Сен-Дизье. Прощай, мой друг. Поцелуй от меня моего сына.
Нап.».
Это письмо было перехвачено и отдано Блюхеру. Он прочёл его, созвал военный совет, а затем направил его дальше Марии-Луизе вместе с выражениями почтения и, как говорят некоторые, охапкой цветов. Не исключено, что именно это супружеское послание подсказало врагам императора направление последнего похода на Париж и поставило точку в драме.
Для Наполеона Мария-Луиза превратилась из возможной матери наследника в уважаемую и горячо любимую жену, но её имя ничего не значило для народа и не внушало людям ни страха, ни стремления изменить положение, когда над страной нависла угроза измены и катастрофы. Но Наполеону всё ещё нравилось думать, что она умело правит страной, когда он совершает свои походы, и каким-то образом выступит как средство его спасения.
Мария Валевская об этом мало что знала. Она просто удивлялась: «Почему Марии-Луизы здесь нет? Где же сын императора, король Рима?»
Мария-Луиза не сразу оправдала репутацию семьи, Но в то время, когда Наполеон находился в раздражении но этому поводу, пришли вести из Польши: у графини Валевской родился мальчик. Император был обрадован, но всё ещё пребывал в раздражении. Лишь на короткое время ум великого человека, вынашивающего секретные замыслы, отвлекли разговоры о детях. Через несколько недель поступили известия о родовых схватках Марии-Луизы. Император был вне себя от счастья, его раздражение исчезло. Ещё бы! Две Марии и два ребёнка — возможно, оба мальчики. Вот он какой!
Осторожные доктора спросили императора, кого спасать, если возникнет критическая ситуация — мать или ребёнка? Кто должен остаться в живых? Обычные люди с большим спокойствием решают подобную дилемму. Но это был император, помешанный на создании династии. Ведь его жена, как породистая кобыла, была выбрана только с одной целью — для размножения. Естественно, жестокий и эгоистичный монарх мог бы дать только один ответ. Но император сказал: «Делайте так, как вы поступили бы в другой семье. Сначала спасите мать...» К счастью, всё обошлось хорошо.
С самых первых дней жизни прекрасный король Рима стал объектом настоящего поклонения со стороны своего отца. По утрам Мария-Луиза, за спиной которой стояла нянька с ребёнком, стучала в дверь кабинета, где работал Наполеон, и сообщала, что король Рима пришёл по вызову. Никому, даже няне, не позволялось входить в кабинет. Когда он брал дитя из рук няни, Мария-Луиза нервничала, и Наполеон, что редко встречается среди отцов, учился умело обращаться с ребёнком и с восхищением прижимал его к своей груди. Он садился на свой любимый диван рядом с камином под бронзовыми бюстами Сципиона и Ганнибала и держал сына на одном из колен, а государственные бумаги — на другом.
Но Наполеон никогда не забывал первую Марию — свою верную графиню. Вместе с сыном Александром он вызвал её в Париж. Взяв мальчика на руки, он провозгласил его графом империи и подарил его матери дом. В своей обычной манере он забросал её потоком вопросов, не дожидаясь ответов:
— Как его кормят? Сколько весит? Как ты думаешь, он похож на меня? Как себя чувствуешь? Ты не ревнуешь? Где ты хочешь жить?
Валевская поздравила его с новостями относительно другой матери.
Наполеон не был способен заливаться краской, однако сейчас он почувствовал, что покраснел.
Действительно, мысль о том, что ребёнок Валевской был зачат в те счастливые месяцы, которые они, как победители и захватчики, провели во дворце Шёнбрунн, законном месте жительства Марии-Луизы, которая покинула его по той же причине, его смутила.
Два года спустя, во время сурового перехода из Москвы, Наполеон спешил домой впереди своей замерзшей, истерзанной, гибнущей армии. На перекрёстке дорог польской равнины он приказал остановиться двум саням, в которых ехал он сам и его приближённые, и взглянул на карту. До замка Валевского было недалеко. У него возникло желание повернуть и навестить Марию. Он хотел увидеть её и мальчика, которому сейчас — сколько? — два с половиной года. Казаки преследовали его. В каждом вражеском штабе имелся его портрет и приказ о задержании. Кроме того, до него дошли известия, что в Париже не спокойно. Сопровождающие напомнили ему о поджидающей их опасности и настаивали на том, чтобы он не терял времени. Но он хотел видеть Валевскую и спорил с ними. В конце концов они добились своего. Мария любила, когда он рассказывал ей эту историю, и всякий раз просила его её повторить. Раз от раза история эта становилась всё более захватывающей.
— Ты бы только видела лицо Коленкура[43], когда я объяснил ему, почему мы должны повернуть! Я сказал, что у меня встреча с дамой. «Ваше величество», — закричал он, сделавшись белее снега, — но казаки!» Я повторил: «У меня встреча с дамой». Дарю сказал, что в лесу есть волки. Я ответил: «Тогда волкам придётся съесть казаков. Дорога открыта!» Ха! В конце концов, я пожалел их, но сожалею, что не настоял на своём. Я никогда не был у тебя дома. А граф был там? Думаю, он бы сожрал меня, как русский волк.
Нет, она не жаловалась на свою судьбу. Но императрицу мягко упрекала. Что толку от королевской крови, если она не приходит на помощь в минуту королевской скорби или опасности? Если бы она была настоящей императрицей, император не сидел бы сейчас в такой задумчивости. Она бы обязательно была рядом с ним. И где все они — Жозефина, Мария-Луиза, Мария-Полина — его любимая сестра, Летиция — легендарная, героическая мать, Жозеф, Жером, Луи, — вся эта прекрасная семья, которой он пожаловал столько корон и королевств, герцогств и изумрудов? Она одна ждала у его двери, и она одна не имела права в неё войти.
Глава 4
ВОЛАН
Во многом винят до сих пор Марию-Луизу, и некоторые обвинения, конечно, верны. Но в то тяжёлое время, в 1814 году, она не более виновна в непостоянстве, чем волан, летающий между двумя ракетками. Противоречащие друг другу приказы, решения, желания и толкования бросали её из одной стороны в другую. Наполеон оставил её регентшей в Париже ещё в январе, когда повёл армию в последней ураганной попытке отбросить силы Европы, вторгшиеся на территорию Франции. Он умело маневрировал от Блюхера к Шварценбергу и обратно, но хотя его попеременные удары и заставили их на момент дрогнуть, всё же они продолжили наступление.
18 марта он писал:
«Мой друг, вчера от тебя не было писем. Погода, наконец, опять отличная. Я двигаюсь вперёд, чтобы обрушиться на противника. Здоров. Прощай, всего тебе наилучшего.
Нап.».
31 марта объединённые силы монархов — русского Царя, короля Пруссии и австрийского принца Шварценберга (император Франц деликатно отказался присутствовать при вступлении казаков в столицу своего зятя) — выступили на Париж. За два дня до этого Мария-Луиза с сыном бежали, и с её бегством исчезли все помыслы о сопротивлении захватчикам. Наполеон сокрушался, поскольку это вовсе не входило в его планы. Ум солдата, привыкший к кристальной ясности команд, в данном случае утратил былую чёткость. Он заранее оставил своему брату Жозефу два письма. Нельзя было допустить, чтобы регентша и маленький сын попали в руки врага. В письмах напомнил об ужасной участи Астианакта, сына Андромахи[44], которого греки сбросили со стены города, когда захватили Трою. «Я бы предпочёл видеть сына мёртвым, чем взращённым в Вене одним из австрийских принцев. Если случится самое худшее, если ты услышишь о том, что битва проиграна, — говорилось в письме, — и получишь известие о моей гибели, если противник подойдёт к Парижу с такими силами, при которых любое сопротивление станет невозможным, — говорилось в другом, — то не только императрица и её сын, но также министры, сенат и высшие офицеры государства должны покинуть Париж и собраться где-нибудь на Луаре». Совет, находясь в полной растерянности, и под впечатлением истории об Астианакте решил, что настал момент выполнить указания, изложенные в письмах императора. Императрица и её сын были отосланы из Парижа с многочисленным эскортом солдат.
Однако они не поняли его приказов. Когда он в спешке прибыл к Парижу, войска противника находились между ним и столицей. «Дайте мне четыре дня, — кричал он над своими картами, — и я их сокрушу. Сам Бог направляет их в мои руки».
Члены Совета не просто неправильно поняли его приказы, они им не подчинились. Ранее он дал недвусмысленное указание, что вместе с императрицей Совет, сенат и правительство должны также покинуть Париж. Это не было сделано. В результате одной ошибки дух сопротивления был сломлен, в результате другой союзники получили в неприкосновенности государственный аппарат. «Там, где меня нет, — в ярости говорил он по дороге к Парижу, — ничего, кроме глупости, не делается».
Однако сравнение с Астианактом и пылкая отцовская любовь сыграли свою роль. И это можно рассматривать как предупреждение сильным мира сего избегать классических сравнений и гипербол в тех случаях, когда необходима кристальная ясность.
Дальнейшие печальные события хорошо известны: замученные маршалы, предатель Мармон, безжалостные монархи, последние судорожные попытки сопротивления и два отречения от престола. Мария-Луиза продолжала делать то, что ей было велено, но как-то всё время оказывалась не там, где надо.
Третьего апреля он написал ей: «Дай понять своему отцу, что пришло время нам помочь».
Его надежды не оправдались. Из-за её отца им никогда более не суждено было жить вместе. Седьмого апреля полковник Галбуа привёз короткое печальное письмо от Наполеона и известие о его окончательном и безоговорочном отречении от престола.
«Прощай, моя милая Луиза. У меня сжимается сердце, когда я думаю о твоих страданиях. Всего тебе наилучшего.
Нап.».
На следующий день пришло другое письмо, более длинное и подробное, простое и трогательное:
«Россия хочет, чтобы я стал сувереном острова Эльба и жил там, а ты и твой сын владели бы Тосканой. Это позволило бы бывать со мной столько, сколько захочешь, а также жить в стране, подходящей для твоего здоровья. Но Шварценберг от имени твоего отца протестует против этого. Кажется, твой отец стал нашим самым заклятым врагом. Поэтому я не знаю, каково будет решение... Я бы покончил с этой жизнью, если бы не знал, что это удвоит твои страдания...
Прощай, моя милая Луиза. Мне тебя очень жаль. Напиши своему отцу и попроси его отдать тебе Тоскану. Мне вполне достаточно острова Эльба.
Прощай, мой друг. Поцелуй своего сына.
Нап.».
Мария-Луиза была тронута: намёк на самоубийство взволновал её, и как истинная жена, она была намерена сразу поехать к нему.
Супружеские порывы Марии-Луизы встретиться с мужем погасили с удивительной лёгкостью. Полковник Галбуа заметил, что поездка может оказаться небезопасной, хотя ей предоставят эскорт, что по дорогам шныряют отряды казаков. Мадам Монтебелло, имевшая на неё известное влияние и испытывавшая неприязнь к Наполеону, также высказывалась против поездки, мотивируя это тем, что она должна посоветоваться с отцом.
Мария Валевская не послушала бы никого из них.
Эта безуспешная попытка настоять на своём, возможно, внушила ей неприязнь к горячей корсиканской крови человека, за которого она вышла замуж. В конце концов, она: покинула двор Вены не для того, чтобы жить на маленьком острове, быть может, с неудобствами и в окружении грубых корсиканцев. Она ответила Наполеону, но не поехала к нему. Сообщают, что она также написала своему отцу и попросила себе убежища в Австрии, где хотела спокойно жить и воспитывать своего сына. «Своего сына». Но он был также сыном Наполеона. Казалось, теперь уже это ни для кого ничего не значило.
Но ей пока не суждено было обрести покой. Русский царь с большей теплотой относился к Наполеону как к человеку, чем император Австрии — к своему зятю. Царь приехал в Париж на белой лошади, которую ему подарил Наполеон. Это было странной, но хорошо продуманной любезностью. Он хотел взять на себя заботу о судьбе жены и ребёнка низвергнутого императора и послал графа Шувалова сопровождать императрицу до Орлеана, что находился в шестидесяти милях, а затем до Фонтенбло — это ещё пятьдесят миль. Обнадеженная этим Мария-Луиза была готова выполнить свой долг и написала отцу, что уезжает в Фонтенбло «завтра».
Она отъехала в Орлеан девятого числа в окружении свиты Бонапартов и лошадей. Казаки ограбили те экипажи, которые двигались в конце процессии, но Шувалов проследил за тем, чтобы всё вернули.
В Орлеане начался период новых сомнений. Важные, но противоречащие друг другу послания направлялись в разные стороны. Австрийский император Франц твёрдо решил, что его дочь и внук должны находиться под его опекой, и ему было глубоко наплевать на отцовские чувства Наполеона. Всё уже было решено. Но в Орлеане Мария-Луиза всё ещё питала иллюзию, что ей дадут возможность поступить согласно своей воле и выполнить свой долг.
Братья Наполеона Жером и Жозеф не меньше Шувалова настаивали на том, чтобы она ехала. Наполеон, преодолев депрессию и отбросив мысли о смерти, предлагал Марии-Луизе совместную поездку в Парту. В первом письме от 11-го числа он писал.
«Здоровье моё хорошее. Я полон уверенности в себе, особенно если ты в состоянии смириться с тем злым роком, который меня преследует, и найдёшь в себе силы убедить себя, что можешь ещё быть счастлива в данной ситуации. Прощай, мой друг; я думаю о тебе, и твои страдания для меня безмерны. Всего тебе наилучшего.
Нап.».
Что ещё мог сказать низвергнутый монарх? Но письма Марии-Луизы были полны «отговорок» и сообщений о плохом здоровье.
«Я был крайне обеспокоен (писал Наполеон 12-го числа в 10 утра), узнав о том, в каком плачевном и скверном состоянии находится твоё здоровье... Мы поедем, как только ты поправишься. Прощай, моя милая Луиза, повороты моей судьбы волнуют меня только потому, что они касаются также и тебя. Люби меня и никогда во мне не сомневайся».
По словам австрийских посланников, сейчас она собирается ехать на север, в Рамбулье, для встречи с отцом.
Возможно, она верила в благие намерения своего отца, но ясно одно — она была рада встрече с ним. Во всяком случае, она подчинялась его приказам.
Мария Валевская, даже если бы у неё было четыре отца, злых или добрых, поехала бы к своему мужу в любое, самое отдалённое место.
Следующее письмо Наполеона не было доставлено Коленкуром адресату. Оно датировано 13-м числом, тремя часами утра.
«Моя милая Луиза, я получил твоё письмо. Я одобряю твоё решение поехать в Рамбулье, где тебя встретит твой отец. Это для тебя единственное утешение во всех несчастиях. В течение восьми дней я ждал этого момента. И я был готов к этому. Твой отец был не прав и жесток по отношению к нам, но он будет хорошим покровителем тебе и твоему сыну. Коленкур прибыл. Вчера я направил тебе копии соглашений, которые он подписал. Они гарантируют статус твоего сына. Прощай, моя милая Луиза. Только тебя я люблю больше всего на свете. Все мои беды имеют для меня значение только потому, что они приносят горе тебе. Всю свою жизнь ты будешь любить нежнейшего из мужей. Поцелуй сына. Прощай, моя Луиза. Всего тебе наилучшего.
Наполеон».
В последний раз он подписывался полностью «Наполеон» в начале 1810 года, ещё до того, как они стали мужем и женой, до того, как встретились.
Говорят, что после этого Наполеон пытался покончить жизнь самоубийством.
Она всё же ответила ему, и к 17-му числу он знал достаточно, чтобы никогда больше не говорить о встречах и поездках с женой.
Как раз вечером 17-го числа Мария Валевская стояла и ждала у двери, за которой находился Наполеон. Он был в состоянии капитана, наблюдающего гибель своего любимого корабля. С опущенной головой и с крошкой нюхательного табака на груди он взирал на угасающее пламя.
Где же Констан? Убежал, наверно, как проклятый мамелюк. Всё, всё ушло от него — и жена, и сын, и его маршалы, и его армии, и те огромные территории, которые он завоевал для Франции. И всё ушло из-за чужой глупости и злого умысла. Как многие из тех, кто имел продолжительный успех, он не мог поверить в то, что может быть разгромлен, и причину поражения видел в предательстве и обмане. Он знал, что прав, знал, что непобедим — все они думали так. Трагедия в России? Это из-за погоды. Как он мог управлять снегопадом? Падение Парижа? Это он объяснял слабоумием Жозефа и Совета, трусостью сената, члены которого охраняли свои заседания двумястами тысячами солдат. Роковую роль сыграли предательство Мармона, робость и усталость его маршалов, которые хотели домой. Если бы они дали ему шанс, он бы отнял Париж. Ему было нужно всего четыре дня. Все планы у него в голове. Он знал, что русские и австрийцы хорошо воюют, когда имеют численное превосходство. Он бы атаковал союзников, жестоко потрепал их и отошёл к Монмартру. Он поиграл бы с ними часа два, продвигаясь вперёд с тридцатью батальонами гвардии и восьмьюдесятью единицами артиллерии до одного из рубежей, лично возглавляя наступление, — что могло бы их остановить? Потом походным порядком он предполагал направиться к крепостям на Лауре и усилить свою боевую мощь людьми из пригорода. Всё это он мог бы сделать. Он может сделать это сейчас, но это будет началом гражданской войны. Он отбросил эту идею во имя Франции. Теперь всё было кончено. Он остался один, всеми покинутый. Даже его маршалы уехали домой к своим жёнам. Мария-Луиза — пленница. Что там говорил Констан? Мария — милая Мария — пришла во дворец. Это было так на неё похоже. Но он не может увидеться с ней. Никто не должен видеть его в этот тяжёлый час — обманутого и поверженного. В соответствии с договором ему оставили звание и титул. Он всё ещё был императором — императором без державы. Он должен был ехать на маленький остров, чтобы стать королём Эльбы — островка размером с кашмирский платок. Он, правивший половиной мира! Где только не были известны его победы? Где только не боялись его орлов? Какую столицу, за исключением Лондона, он не видел? Он вставал лагерем в Назарете и мог бы провести ночь в Иерусалиме; он слышал, как его горны трубят у пирамид. В Париже, Риме, Брюсселе, Вене, Варшаве, Мадриде, Москве королевские дворцы были местом его жительства. Он сместил и выслал Папу. Целый месяц он простоял на берегу Ла-Манша, готовясь к вторжению в Англию, но его нерадивые моряки сорвали его планы. Он установил повсюду справедливые французские законы, он создал величайшее королевство в истории.
Да, он прав. Он непобедим. Он был главнокомандующим в восьмидесятипяти крупных битвах и более чем в шестистах мелких. Да, все эти громкие названия останутся в истории рядом с именем сына корсиканского адвоката независимо от того, выиграл он или проиграл сражение.
Но это был финал. Во всех углах карты он оставил свои отметины, память о своих армиях. В любом из этих мест он мог бы умереть в бою со славой. Бог свидетель, он никогда не уклонялся от боя. Он мог бы погибнуть, он должен был погибнуть как высокочтимый император процветающей, мирной и объединённой Европы. А вместо этого ему предстояло окончить свои дни маленьким королём Эльбы. Эльбы! В этот момент пламя потухло.
Графиня очнулась от краткого забытья. Её пробирала дрожь. Где же Констан? Тусклый свет падал из окна в конце коридора. Маленькая звезда, на которой она остановила свой взгляд, исчезла. Где-то вдалеке петух робко прокричал о начале нового дня. Мир начинал просыпаться, скоро и дворец начнёт просыпаться, поэтому она решила открыть дверь, за которой стояла. Она осторожно, на цыпочках, вошла в комнату и первое, что увидела, был потухший камин. Это поразило её: ведь она знала, как он любит смотреть на языки пламени, размышляя и проигрывая заново старые битвы. Он любил замок Финкенштейн, помнил его жаркие камины.
— Наполеон? — прошептала она.
Наполеон спал рядом с потухшим камином. Она наклонилась над ним. Он был в зелёном мундире с хорошо знакомыми ей золотыми эполетами, белых панталонах и чёрных сапогах с отворотами. Лицо его было небрито, волосы взлохмачены. Повсюду был рассыпан нюхательный табак.
Лицо его было бледным, уголки рта даже во сне были опущены. Он отдыхал, и она решила его не тревожить. Он должен отдохнуть, чтобы набраться сил. Прикоснувшись губами к выемке на его подбородке, она с любовью и мысленными пожеланиями удачи тихо прошептала: «Спокойной ночи, Наполеон». Затем она поцеловала его бледный лоб и вышла в рассветные сумерки. Огни погасли, и уже были слышны трели первых птиц. «Ты увидишь его опять», — пели они.
Глава 5
ФЛЮГЕР
На сцену выходит новый персонаж. Кем он был, полковник Кемпбелля? Героем? Негодяем? Трудно ответить на этот вопрос однозначно.
Без всякого сомнения можно сказать, что союзники первыми нарушили свои обещания. Они могли бы обойтись с Наполеоном как с бешеной собакой или чудовищем и сразу заточить на острове Святой Елены. Но вначале они решили поступить с ним как с благоразумным человеком. Царь, наиболее тактичный из всех монархов, помня их дружественные отношения в Тильзите, хотел показать «всей вселенной наглядный пример либерального отношения к поверженному врагу».
— Объединённые силы, — заявил он, — не могут оставить без должного внимания место императора Наполеона в истории Европы.
Мелочный и раздражительный император Австрии выражал неудовольствие относительно Эльбы, считая её принадлежностью своей семьи. Лорд Каслри, министр иностранных дел Англии, высказывался против всего и против Эльбы, и против сохранения Наполеону титула императора — и не подписал соглашение. Но «высокие объединённые силы» всё же заключили почётный договор и с самого начала стали его нарушать.
Предполагалось, что Наполеон будет жить в почёте, окружённый удобствами, как мелкий, но самостоятельный суверен, а не как узник. Но на следующий же день после подписания договора они отняли у него жену и ребёнка. Кроме того, перед тем как Наполеон удалился на остров, временное правительство ограбило его, хотя он с честью выполнил условия соглашения, отдав корону, ценности королевской казны и всё, что не принадлежало лично ему.
Возможно, это был не самый лучший метод научить чудовище благоразумию. По негласному договору сторон в ответ на предоставление острова Эльбы и других благ Наполеон был обязан тихо жить в своём королевстве. Однако ни в одной из статей ничего не говорилось о последствиях нарушения договора, ни у одного из Бурбонов не хватило воображения, чтобы это предусмотреть.
Наполеон полагал, что с противоположной стороны договор был беспардонно нарушен, и поэтому он мог считать себя свободным от своих обязательств. Он уже наполовину решил никуда не ехать. Его злобное ворчание раздражало власти. У дворца ещё стояли лагерем двадцать пять тысяч гвардейцев. А что, если он крикнет им: «Становись! Вперёд!» — и уведёт за собой?
Объединённые силы назначили четырёх уполномоченных для сопровождения его до побережья и защиты от возможных нападений и оскорблений. Полковник Нил Кемпбелл, уполномоченный от Англии, должен был проехать с Наполеоном весь путь до Эльбы и остаться там. Как четыре злые ведьмы, они носились и колдовали вокруг него, однако слово английской ведьмы было самым весомым. Утром двадцатого апреля, в день, назначенный для отъезда, после завтрака были собраны вещи. Все испытывали волнение. Экипажи были готовы, гвардейцы расставлены в карауле. Все гадали, поедет ли он? Наполеон послал за всеми четырьмя представителями объединённых сил, и гвардейцам дали команду «вольно».
Чёрных магов из России и Пруссии он обычно принимал холодно, если вообще удостаивал их беседой. Он был зол на то, что царь Александр, находясь в Рамбулье, обратился с воззванием сначала к Жозефине, а потом к Марии-Луизе. Нанести визиты обеим его скорбящим жёнам в качестве победителя?! Это в духе греков! Австрийскому уполномоченному, генералу Келлеру, он горько пожаловался, что вынужден ехать в ссылку без жены и ребёнка. В своём подробном и недоброжелательном дневнике Кемпбелл пишет: «Настоящие слёзы бежали по его щекам». Он от кого-то слышал, что император Австрии в соответствии с договором теперь больше не называет Марию-Луизу «императрицей», он называет её «моя дочь» или «принцесса». Что за поведение! Потом встал вопрос о его безопасности на Эльбе. Ранее военный министр Франции приказал удалить с острова все орудия и боеприпасы, но Наполеон потребовал отмены приказа.
— Я ещё не дал окончательного ответа, — говорил он. — И что вы скажете, если я откажусь ехать? Я не претендую на прекрасное королевство, почему отказался от Корсики. Но я должен быть застрахован от варварских вылазок соседних государств и пиратов. Если я буду уверен в своей безопасности, я буду жить там самым мирным образом. Если нет — я там не останусь.
Келлер сделал всё, от него зависящее, чтобы страсти улеглись. Ответ относительно пушек нагнал Наполеона уже в пути и, без сомнения, удовлетворил его.
— Если вы опять нарушите договор, я буду искать убежища в Англии. Как вы думаете, они примут меня?
— Да, сир, — ответил австрийский уполномоченный. — Вы никогда не воевали с этой страной. Там вам будет гораздо легче найти друзей.
В дверь постучали.
— Кто там? — рявкнул Наполеон.
— Дежурный адъютант.
— Входи. Чего тебе надо?
— Сир, гранд-маршал напоминает вашему величеству, что сейчас одиннадцать часов.
Император взорвался:
— Ба! Это что-то новенькое. С каких это пор я должен жить по чужим часам? Я пока никуда не еду. И, может быть, не поеду вообще!
Молодые гвардейцы нервничали и теряли сознание от усталости, лошади били копытами и крутили головами. Но он прочёл ещё одну нотацию генералу Келлеру и послал за Нилом Кемпбеллом, с которым всегда разговаривал мягко и учтиво.
Это был очень храбрый кавалерийский офицер, который отлично проявил себя на многих полях сражений и не раз получал похвалы со стороны Веллингтона. Имея богатый штабной опыт, он знал кое-что о жизни при дворах многих столиц. Затем он вернулся на действительную службу и теперь имел на своём теле отметины сражений: чёрную повязку на левом глазу, правую руку на перевязи и рубец от колотой раны в спине. Около месяца назад в Фер Шампенца русские гусары приняли его за француза: и от одного он получил удар пикой в спину, от другого — сабельную рану на голове. Он всё ещё находился под наблюдением врача, когда получил предложение поехать на Эльбу с фантастической миссией. Доктор был против всего этого (за исключением «тёплого климата»). Другой бы, вероятно, на его месте отказался, но полковник Кемпбелл сразу принял это предложение. В свои тридцать восемь лет он был красив, но чересчур серьёзен. Голова его была украшена копной чёрных волос и густыми бакенбардами, прикрывавшими большие уши. С одним глазом, горящим холодным светом из-под повязки, он выглядел крайне зловеще. Картину дополняла слабая, натянутая улыбка. Он был человеком твёрдого характера и непоколебимого чувства долга, без особой доброты и юмора. Один француз на Эльбе сказал: «Он говорит только для того, чтобы разговорить вас. В целом это прекрасный образец истинного англичанина».
— Как ваши раны? — поинтересовался Наполеон. — Вас одевает доктор? Вы не должны слишком утомляться. Вас произведут в генералы? Когда вы собираетесь в отставку? Они дадут вам пенсию? Я думаю, вам всё это удастся лучше, чем французам.
Он болтал, расхваливая, как обычно, Англию.
— Я был величайшим врагом вашей страны, — сказал он. — Я сказал искренне — был, но сейчас я им не являюсь. Вы мне нравитесь гораздо больше, чем все другие народы. Я хотел и французов сделать великой нацией, но у меня не получилось... Я погибший человек.
Он замолчал. По словам Кемпбелла, слёзы стояли в его глазах.
— Меня разлучили с императрицей, — продолжал он, — Они хотят оставить меня на Эльбе беззащитным. Если они будут играть со мной в эти игры, я попрошу убежища в Англии. Как вы думаете, они меня примут?
— Сир, — сказал Кемпбелл (лорд Каслри запретил ему называть Наполеона «императором», и все представители Объединённых сил договорились об этом). Он обращался к нему как к суверену, не снимая при этом шляпы; проблема была деликатная и, возможно, неразрешимая. — Сир, вы можете быть уверены, что монарх и наш народ всегда будут свято чтить данные ими обещания.
— Да. Я уверен, они не отвергнут меня.
Мысль об Англии, казалось, успокоила его. Немного походив взад-вперёд, он неожиданно сказал:
— Что ж, мы отправляемся сегодня.
Потом он вышел на улицу, навстречу лучам солнца. Гвардейцы, примкнув штыки, с трёх сторон окружали площадь. Собрав офицеров и унтер-офицеров около экипажа, он послал за уполномоченными, которые находились в центре. Затем встал лицом к знамени, к победоносным орлам. Все с почтением и скорбью наблюдали за тем, как он прощается.
— Офицеры, унтер-офицеры и солдаты Старой Гвардии!
Я прощаюсь с вами. За те двадцать лет, что я знаю вас, вы всегда мужественно и верно шли тропою славы. Вся Европа объединилась против нас. Противник, опередив меня на три перехода, занял Париж. Я двигался вперёд, чтобы выбить его оттуда. Он не продержался бы там и трёх дней. И вы, дети мои, вы бы знали, что делать. Я благодарю вас за ту доблесть, которую вы раньше проявляли в подобных ситуациях. Но часть армии, состоящая не из таких, как вы, покинула меня и перешла на сторону противника. И вот быстрое освобождение столицы стало невозможным. Три четверти армии оставались мне верны, и я питаю искреннюю симпатию к большинству населения страны. С такой поддержкой я мог бы отступить к Луаре, к крепостям, и продолжать сражаться в течение нескольких лет. Но войны с другими государствами и гражданская война слишком долго мучили нашу прекрасную землю. Выбрав путь новых мучений и разрушений, разве мы могли бы покорить объединённую Европу, когда Париж был захвачен кликой предателей? Нет.
Таково было положение. Тогда я думал только об интересах Франции и о праве моей страны на отдых. Я отказался от всех своих прав и, если понадобится, отдам жизнь, целью которой всегда были только счастье и слава Франции.
Что касается вас, солдаты, будьте всегда верны своему долгу и чести. Служите верно своему новому монарху. Теперь самой приятной задачей моей жизни станет донести до потомства память о тех великих делах, которые вы совершили во имя Франции. Моим утешением будут великие подвиги, которые вы ещё обязательно совершите во славу Франции.
Солдаты слушали его внимательно. Его голос звучал ровно, но в конце немного задрожал, когда, опустив голову, он окидывал взглядом кольцо офицеров.
— Все вы дети мои, — сказал он. — Я не могу обнять каждого из вас, поэтому обниму вашего генерала.
Он поцеловал генерала Пети в обе щеки.
— Теперь я обниму этих орлов, которые пронесли нас через столько опасностей навстречу к славным победам.
Генерал Пети подал ему флаг, в складках которого он несколько мгновений прятал своё лицо.
Затем Наполеон поднял левую руку и громким голосом крикнул:
— Прощайте! Сохраните меня в своей памяти.
Он резко повернулся, вошёл в экипаж, и кони понесли галопом.
Некоторые из офицеров и солдат кричали: «Да здравствует император!» — но большинство молчали или плакали.
Дожидаясь экипажей, четверо чёрных магов вели между собой беседу.
— Что за человек! — сказал Келлер. — Что за речь!
— Интересно, когда же он её подготовил, — сказал Кемпбелл. — Всего несколько минут назад он болтал со мной о телесных наказаниях в армии.
— Он не готовил её, — с некоторым презрением сказал Шувалов. — Она шла от сердца. У него великое сердце.
— Я думаю, — сказал Кемпбелл, — он собирается написать книгу.
— Книгу?
— Разве вы не слышали? Он хочет рассказать потомкам о том, что было.
— Может быть, — сказал Келлер. — Однажды он говорил мне, что собирается обосноваться где-либо и заняться изучением искусств и наук.
— Служите верно своему новому монарху, — многозначительно повторил Шувалов. — Вы слышали?
— Это было прекрасно, — согласился Келлер.
— Надеюсь, — сказал Шувалов, — что новый монарх заслуживает этого.
Вначале путешествие к побережью было спокойным. Наполеон смотрел на пробегавшие перед окном тополя, каштаны и фермы Франции, радовался, когда в деревнях его узнавали и кричали: «Да здравствует император!» И они имели полное право так его встречать. Захват иностранных держав, власть, мечты об объединённой Европе, — всё растаяло, как дым. Он, величайший завоеватель, покидал Францию, которая теперь имела меньшую территорию, чем в начале его правления. У неё не было Бельгии. Но не всё было потеряно. В конце концов, он дал Франции нечто большее, чем меч. Он много лет правил страной и делал это неплохо, достаточно быстро восстановив всё, что разрушила революция. Он вновь привил людям почтительность и благопристойность, уважение к традициям и даже к религии — все те добродетели, которые были частично утрачены. Здесь, на полях и в городах, с которыми он прощался, действовали хорошие законы. За их соблюдением следили: префект — в своём департаменте, супрефект — в своём округе, мэр — в своей общине. Все они работали по простому плану, в основу которого было положено справедливое отношение к людям. На вершине этой пирамиды стоял справедливый, деятельный и доброжелательный глава государства. Строя такое государство, он знал, что захваты чужих территорий могли оказаться и оказались в итоге мыльными пузырями, и делал это на века.
Напротив него сидел генерал Бертран, всё ещё верный ему. Впереди их ждала неинтересная, лишённая удобств жизнь, и он, гранд-маршал двора, должен будет, как обычно, взять на себя самую грязную и тяжёлую работу. Он не мог думать ни о чём, кроме дел императора, он отдал бы за него свою жизнь, если бы это показалось ему необходимым, однако настоящей симпатии между ними не было. Они никогда сразу не соглашались друг с другом ни по одному вопросу; Бертран был упрям, и Наполеон иногда просто не хотел с ним больше спорить. Поражение и отречение императора загасили последние огоньки в душе гранд-маршала. Теперь он не хотел ничего, кроме спокойной жизни со своей семьёй, но привычка выполнять чужие повеления заставляла его сейчас двигаться на юг к Эльбе.
— Дорога плохая, — заметил Наполеон. — Почему никто о ней не позаботился? Кто супрефект?
В прежние дни Бертран сделал бы об этом заметку в маленькой книжечке в золотом переплёте, которую ему подарил Наполеон. И он машинально вынул её. Однако ничего в ней не написал, и Наполеон это заметил.
Он не был больше императором Франции, поэтому состояние дорог теперь должно было волновать других. Но он всё ещё оставался королём Эльбы.
Самое худшее ожидало их в Оргоне. Когда-то во главе полка солдат капитан Бонапарт побывал здесь и во исполнение своей миссии пролил кровь. Толпа жаждущих мести людей преградила им дорогу. Палками и камнями они разбили окна его экипажа. Они повесили на дерево чучело в военном костюме, измазанное кровью, с табличкой «БОНАПАРТ».
— Мы не причиним этому чудовищу вреда, — вопил их предводитель. — Мы только хотим показать ему, как мы его любим.
Наполеон, весь белый и до смерти напуганный, тихо сидел в своём углу. Граф Шувалов выступил с мужественной речью, но они не позволили экипажу проехать, пока не развели костёр и не бросили туда своё чучело. Тем временем обеспокоенные уполномоченные совещались. Ранее было намечено пообедать в Оргоне, теперь они приняли решение отложить это мероприятие. На безопасном расстоянии от города процессия остановилась. Наполеон переоделся в костюм курьера — в строгое синее пальто и простой круглый головной убор с белой кокардой, сел на полицейскую лошадь и поехал впереди в сопровождении, одного верхового.
Непривычное седло раздражало его; к тому же у него расстроился желудок, и он ничего не ел. Налетевший ветер поднимал облака пыли. К вечеру, голодный, разбитый и усталый, он подъехал к местечку, где они должны были поужинать. Оставив лошадь, он пошёл на кухню маленькой гостиницы, чтобы заказать еду.
— Вы видели Бонапарта? — задала ему вопрос жена хозяина гостиницы, затачивая длинный нож.
— Нет, — ответил Наполеон. — А что такое?
— Я думаю, он на пути сюда. И, вероятно, они убьют его. Он этого заслуживает.
— Он сделал вам что-нибудь плохое? — спросил Наполеон.
— Мне — нет. Но я готовлю вот это — если понадобится. Если нет, — с беззаботностью продолжала она, — они искупают его в море — его и его банду.
— Замолчи, женщина! — грубо сказал вошедший хозяин гостиницы. Он узнал Наполеона и отвёл расстроенного императора в комнату наверху. Он предложил ему красного вина и вышел, чтобы найти для него свежих лошадей.
Подъехавшее сопровождение застало Наполеона в тяжёлом расположении духа, закрывшего лицо руками, с нетронутым стаканом вина. Зловещие высказывания хозяйки серьёзно обеспокоили его. Сами уполномоченные были не в лучшем настроении. В Ламбеке и Сен-Канна, через которые Наполеон проехал неузнанным, возмущённые толпы окружали экипаж, и генерала Бертрана совместными усилиями едва удалось спасти от нападения. Дух убийства и всевозможных оскорблений витал в воздухе. В связи с этим был отдан ряд приказов относительно того, чтобы не было даже намёка на присутствие в процессии императора. Хозяин гостиницы страшными угрозами заставил жену замолчать.
Вся процессия ужинала наверху, в прокуренной комнате с низкими потолками. Это была печальная трапеза. Пища была неплохо приготовлена, но Наполеон вначале не притронулся к ней — ни к супу, ни к мясу. В доме этой женщины всё могло быть отравлено. Маленькая девочка принесла ему вина, но он со злостью вылил его на пол.
Несмотря на то что присутствие в гостинице императора тщательно скрывали, внизу на улице гудела толпа.
— Посмотрите кто-нибудь, — сказал Наполеон, — есть ли где-нибудь чёрный ход. Выгляните в окно, не слишком ли оно высоко, чтобы выпрыгнуть?
Прусский уполномоченный приподнял занавеску и осмотрел окно.
— Оно забито, ваше величество, — сказал он.
Внизу хлопнула дверь, и Наполеон поднялся со стула. На его благородном челе появилась лёгкая испарина. Он был бледен и дрожал, голос его заметно изменился.
После ужина они оставили его одного, но по договорённости время от времени заходили в его комнату, то за шляпой, то за пиджаком или книгой. Кое-кто видел слёзы в его глазах. Он приказал принести вина, крепких напитков, сахара и лимонов и приготовил для всех присутствовавших чашу холодного пунша — о яде к тому времени уже забыли. Из своего плаща он свернул что-то вроде подушки и положил на постель генералу Келлеру.
— Ложитесь, генерал. Вы, должно быть, сегодня за день устали. — Он поблагодарил князя Шувалова за ту речь, с которой тот выступил в Оргоне. — Мне нужны истинные друзья. Сейчас я немного не в себе.
В полночь они покинули это ужасное место. Бывшего императора Франции переодели в светло-голубой военный австрийский мундир Келлера, маленькую шапочку прусского князя, русский синий плащ князя Шувалова. Адъютант Шувалова, русский майор, облачился в одежду Наполеона, и озадаченная толпа не сказала и не сделала ничего, когда этот второй ряженый сел в императорскую карету. Тем временем Наполеон в своих интернациональных одеждах спокойно приблизился к австрийскому экипажу, ехавшему в конце процессии, и сел к генералу Келлеру. Слуге на козлах было приказано закурить трубку, чтобы никто не мог предположить, что император рядом. Настроение Наполеона улучшилось.
— Почему не начинаем? — нетерпеливо пробормотал он. — Пойте что-нибудь, генерал. Пойте!
— Я не умею петь, — сказал генерал Келлер.
— Тогда насвистывайте!
Генерал не был уверен, что умеет насвистывать, однако сделал всё, что мог. Как только лошади тронулись, из экипажа, где сидел Наполеон, донеслись тихие и фальшивые звуки австрийского национального гимна, воспринятые толпой как своеобразный вызов бывшему властителю. Поэтому люди, стоявшие рядом с экипажем, заулыбались. Остальная часть толпы недоумевала. Так им удалось спокойно отъехать.
Следующей проблемой стал выход в море. Полковник Кемпбелл был выслан вперёд, чтобы организовать для переезда на остров английский военный корабль. После всех происшествий на дорогах и встречи с той порочной женщиной на кухне и её разговоров о «купании в море» Наполеон, как никогда ранее, настаивал на этом. Он не чувствовал бы себя в безопасности на борту французского корабля.
Теперь он успокоился и немного стыдился своей слабости.
— Я предстал перед вами абсолютно незащищённым, — признался он Келлеру.
— Взбешённая толпа — это страшная вещь, — подтвердил австрияк.
Наполеон совершил множество подвигов на поле боя, во главе своих солдат. Но совсем другое дело остаться один на один с безумной толпой оборванцев, готовой избить, растоптать и растерзать его. Наполеон достаточно насмотрелся на революционный сброд на улицах Парижа и прекрасно знал, что они могут сделать. Ряд жестоких ударов судьбы до его встречи с толпой пошатнули силу духа бывшего императора.
Выслушав рассказ об этом инциденте, полковник Кемпбелл так и записал в своём дневнике: «Безусловно, он проявил такую слабость, какую нельзя было ожидать от человека его масштаба».
Но сам полковник не видел ту толпу. Он был просто мужественным солдатом и строгим критиком. Перед тем как они покинули Фонтенбло, Наполеон обсуждал с Келлером вопрос о самоубийстве.
— Я знаю, что они, — говорил он, — хотели бы, чтобы я покончил собой. Но для того чтобы жить, нужно больше храбрости, чем для того, чтобы умереть. В конце концов, я очень часто бывал на краю гибели.
Они приехали в Люие, и ещё одна Мария — Мария-Полина — весёлая, мужественная, прекрасная и капризная, любимая сестра Наполеона, встретила их на пороге замка Буледу. Ранее она была женой генерала Леклерка, а сейчас носила титул княгини Полины Боргезе. В свои тридцать четыре года она была всё ещё прекрасна: огромные тёмно-карие глаза, прямой нос и решительный подбородок с отлично очерченной линией губ, нежная кожа Корсики и тело, послужившее Канове[45] образцом для каменного изваяния Венеры.
Полина и Наполеон испытывали друг к другу самые тёплые чувства. «Если он захочет меня поколотить, — сказала она однажды, — мне будет очень больно, но я не стану сопротивляться». Но её преданность граничила с ревностью. Будучи ребёнком, она испытывала неприязнь к Жозефине, затем — к Марии-Луизе. Только к одной Марии Валевской она относилась неплохо. К Марии-Луизе она относилась порой слишком сурово, называя её за глаза «австрийское желе», но часто она грубила ей практически прямо в глаза. В те знаменательные дни после приезда второй императрицы, когда Наполеон со всей искренностью исполнял в Париже роль заботливого мужа, а в Вене — восторженного зятя, Полина устраивала открытые скандалы с невесткой. Когда старик Канова ваял с Полины Венеру, более молодым мужчинам дозволялось присутствовать на сеансах. О полночных проказах молодой красавицы, одевавшейся юношей, ходили дикие истории, истинность которых, правда, не подтверждена. Один любовник сменял другого. Князь Боргезе и Наполеон, устав от всего этого, часто на неё сердились, но всё равно она всегда была любима. Теперь она жила здесь, в Люие. После зимы, проведённой на юге, она чувствовала себя неважно и очень одиноко, но не утратила при этом своего очарования.
Наполеон спешил к её замку и, войдя в него, быстрым шагом пересёк гостиную, чтобы обнять её. Увидев, как он одет — в австрийский синий военный мундир с красными и золотыми вставками и белой лентой ордена Терезы — она с ужасом вытянула вперёд руки, пытаясь отстраниться от его объятий.
— Нет, Наполеон, — сказала она, — в такой одежде я не могу поцеловать тебя — нет!
Император с покорностью вышел из гостиной, послал за своим дорожным саквояжем и переоделся. Когда он вернулся назад в своём военном костюме, сестра наконец заключила его в нежнейшие объятия.
— Полина! Ты слышала, что они сделали? Как дела? Не скучаешь? Ты ведёшь себя примерно?
— Это не имеет значения, Наполеон, но я что-то плохо себя чувствую. Как твои дела?
Наполеон рассмеялся.
— Все болезни себе придумываешь? — сказал он. — Полина, ты ведь знаешь, что так же здорова, как и я. — Родные и близкие любовно посмеивались над Полиной за её вымышленные болезни. Она часто жаловалась на боли и поэтому просила её не тревожить. Но она всегда приезжала на балы первой, на банкетах оставалась самой привлекательной и всегда последней уходила со всевозможных развлечений, а потому никто особенно не верил в её недуги. Разъезжая по всей Европе, она много времени проводила на водах, часто сидела на голодной диете, ставила себе банки и пиявок, однако всегда где-нибудь рядом был любовник. Наполеон с любовью, но достаточно сухо писал ей: «Мне так неприятно слышать, что у тебя плохое здоровье. Надеюсь, что ты ведёшь себя благоразумно, и во всём этом нет твоей вины».
Спустя одиннадцать лет она скончалась от рака, и окружающие наконец признали, что, возможно, её жалобы были обоснованны.
Наполеон остался в замке Полины на ночь. Она успокаивала и подбадривала его. Поскольку личные секретари покинули его ещё в Фонтенбло, она предоставила ему собственного секретаря, месье Рэвери, который должен был служить ему на Эльбе. Генерал Бертран был также приглашён в замок, и от него она узнала кое-какие детали их ужасной поездки. В глубине души Полина молила Бога об удачном исходе дела.
Наутро Наполеон в своём костюме, а также в лучшем настроении отправился дальше.
— До свидания, Наполеон, — сказала Полина. — Сегодня у меня нет претензий к твоей одежде. Обещаю, что приеду на Эльбу, когда я почувствую себя лучше.
Он рассмеялся.
— Тогда поехали сегодня!
Печально кивнув головой, она поцеловала его на прощание.
На дороге было спокойно, но это спокойствие поддерживалось иностранными войсками, поэтому Наполеон забился в угол, когда они проезжали сквозь два эскадрона австрийских гусар, стоящих вдоль дороги. «Что сказала бы и сделала Полина, — подумал он, — если бы поехала вместе со мной?» Наконец они увидели море; через семь бесконечных и мучительных дней они въехали во Фрежо. Здесь их ждал полковник Кемпбелл и фрегат его величества «Неустрашимый». Командир корабля, капитан Ашер, был родом из Дублина. Он служил во флоте с двенадцати лет. В свои тридцать пять он уже был ветераном, отмеченным ранениями и наградами. Дерзкие захваты кораблей и высадки на берег в маленьких лодках были его излюбленными приёмами.
До темноты в гавань прибыл капитан граф де Монкабр с двумя французскими корветами. Он был весьма разочарован тем, что император предпочёл пуститься в плавание на борту английского корабля. Он предложил спустить белый флаг Бурбонов, но Наполеон, хорошо запомнивший ту решительно настроенную женщину на кухне, отклонил предложение графа. Оскорблённые этим, французские корабли отплыли в море.
Уполномоченные и капитан Ашер были приглашены на ужин в гостиницу «Красная шляпа». Там подавали свежих омаров, и Наполеон опять почувствовал себя императором. Он старался доказать им, что его поведение в дороге было не более чем игрой их воображения. Находясь в добром расположении духа, он прочёл лекцию Кемпбеллу и Ашеру — шотландцу и ирландцу — о делах и политике Англии.
Полковника Нила Кемпбелла беспокоили раны. Он слишком поспешно приехал сюда. Он не принимал участия в разговоре и тихо сидел, обдумывая свою необычную миссию и делая мысленно кое-какие выводы.
Капитан Ашер, который ранее не встречался с этим великим человеком, был в изумлении.
— Трудно представить, — прошептал он Кемпбеллу, в то время как Наполеон разъяснял Келлеру некоторые принципиальные просчёты Австрии, — что этот человек никогда больше не будет править Францией.
— Интересно, так ли это, — ответил Кемпбелл, хотя на основе сведений о путешествии Наполеона считал совершенно очевидным, что судьба его решена.
Следующим утром они должны были отплывать. Двое возбуждённых жителей города разбудили капитана Ашера в четыре утра и умоляли срочно увезти императора. По их словам, армия Италии перешла границу, и большие формирования солдат движутся вглубь территории Франции. Они были всё ещё верны Наполеону, поэтому всякое могло случиться.
Ашер приказал разбудить уполномоченных. У Наполеона было несварение желудка, возможно, из-за вчерашних омаров. Кроме того, он думал отложить отплытие до захода солнца, так как не хотел выходить в море при свете дня, когда на побережье соберутся толпы зевак. Тем не менее выйти в море он намеревался с соответствующими почестями, достойными монарха, в сопровождении королевского салюта из двадцати одного орудия. Ашер в принципе был готов выполнить пожелания императора. Но дело было в том, что в британском флоте после захода солнца салютовать было запрещено.
— Хорошо, — сказал Наполеон, давайте отложим это до утра.
Однако встревоженные посланцы были против. Император не соглашался выходить в море без почестей. Полковник Кемпбелл настаивал на том, чтобы военный флот сделал исключение и отсалютовал императору после захода солнца. Одним словом, во всём этом было много неразберихи. Келлер называл Наполеона «императором», а остальные, в соответствии с приказом, избегали этого. Они обращались к нему как к королю, но при этом не снимали шляпы. Самой главной их задачей было как можно скорее доставить короля Эльбы на Эльбу.
Перед самым закатом, в семь часов, капитан Ашер послал за ним. В ожидании экипажей Наполеон, глубоко сосредоточенный, молча ходил взад-вперёд. С улицы донеслись вопли. Ашер, сам не зная зачем, вдруг заметил:
— Взбешённая толпа французов — это худшее из зол.
— Да, они люди непостоянные. Они как флюгера.
В сумерках, при свете полной луны, фрегат «Неустрашимый» выглядел очень красиво. Он стоял невдалеке от берега. Был полный штиль. Австрийские гусары были выстроены на побережье; как только экипаж приблизился, зазвучали горны. Английский лейтенант Смит осторожно провёл императора по сходням к капитанской шлюпке. В этот момент толпа притихших французов, наблюдавшая за шлюпкой сквозь свободные пространства между рядами гусар, увидела в сумерках бледное измученное лицо императора, обращённое к берегу, — к той земле, которая дала возможность ему взлететь так высоко, а потом низвергла вниз, к той земле, где жили не люди, а флюгера. Но как только он ступил на палубу одного из кораблей британского флота, заклятого и непобеждённого врага Франции, появилась яркая вспышка, осветившая поверхность воды, и первое из двадцати одного орудия прогремело в его честь.
«Мы живём в странном мире», — думали жители Сант-Рафаэля.
Мадам Клюни загадочно сказала своему мужу, месье ле Мер:
— Пусть это послужит для тебя уроком!
Поднявшись на палубу, Наполеон снял шляпу и поклонился капитану и офицерам, собравшимся у трапа. Потом он прошёл вдоль палубы и неожиданно исчез. Капитан Ашер послал офицеров на поиски. Они осмотрели туалет и другие укромные места, но его нигде не было. Вскоре капитан обнаружил императора в носовом кубрике. Наполеон беседовал с одним из моряков, который немного говорил по-французски.
— Я вижу, у вас одиннадцать шлюпок, — заметил он. И далее, как обычно, последовал ряд вопросов, ответы на которые его особенно не интересовали. — У вас их всегда столько? Сколько человек в команде? Вас когда-нибудь укачивает?
Капитан Ашер провёл его в свою каюту и принёс извинения за ту койку, на которой должен был спать император. Наполеон, улыбнувшись, сказал:
— Я буду спать очень хорошо. Вы знаете, ведь я когда-то хотел стать моряком.
— Сир?
— Это вас удивляет, мой капитан? Я ведь учился в Бриене. Говорили, что я стану прекрасным морским офицером. Но моя мать была против.
— Тогда, сир, вы могли бы встретиться с Нельсоном.
— Да, — ответил Наполеон. — Жаль, что я с ним не встретился.
Капитан Ашер имел доброе сердце и был растроган откровениями Наполеона. С минуту подумав, он бросил взгляд на свой маленький книжный шкафчик и сказал самому себе: «Да, я сделаю это. Ему это понравится. Он настоящий мужчина».
Ещё в 1813 году, находясь в Лионском заливе, он получал письма и документы из Англии, в которых было много сообщений о поражениях французских войск и возможном падении императора Наполеона, который, вероятно, попытается сбежать в Америку. «Курьер» напечатал краткое описание личности императора. Капитан Ашер тогда вырезал его и приколол к своему книжному шкафу, заметив вскользь другим капитанам, когда они обедали у него на борту: «Вы лучше сделайте копию — на случай, если он захочет воспользоваться вашими услугами во время бегства».
Он действительно хотел снять копию, но в суматохе забыл это сделать. Теперь он подвёл своего гостя к шкафчику и рассказал ему эту историю.
— Сир, я не мог и предполагать, когда вешал это, что однажды вы будете почётным гостем на моём корабле.
Низвергнутый император прочёл своё описание, громко рассмеялся и ущипнул капитана за ухо — это означало, что он был в весёлом настроении.
— Во всяком случае, капитан, теперь вы знаете, что беседуете не с самозванцем.
«Я оказался прав, — подумал Ашер. — Да, я оказался прав».
Прогремел последний выстрел. Послышались лязг и скрежет якорной цепи. Моряки запели, и белые паруса взмыли над кораблём.
Горожане Сант-Рафаэля, проводив взглядом уплывающий фрегат, медленно стали расходиться по домам.
— Пусть это будет для тебя уроком, — повторила мадам Клюни.
Глава б
ФРЕГАТ «НЕУСТРАШИМЫЙ»
Всех, за исключением императора, укачало. Правда, не сразу, потому что «Неустрашимый», подгоняемый слабым южным ветром, плыл на всех парусах довольно спокойно. Наполеон проснулся в четыре, напился крепкого кофе и понаблюдал за восходом солнца. Юго-восточный ветер усиливался.
Время от времени император подносил к носу добрую щепоть нюхательного табака, однако вдыхал не так уж много. Остатки табака ветер уносил за борт, но не все, и штурман неодобрительно поглядывал на свою палубу.
В десять часов утра все собрались на завтрак в каюте капитана. Наполеон, казалось, был в прекрасном расположении духа. Он чувствовал себя в безопасности, находясь в руках англичан, единственной нации, которой доверял. Он не только внимательно слушал разговор, но и излагал, правда доброжелательно, свою точку зрения на политику Англии.
На море началось волнение. «Неустрашимый» стал крениться на правый борт, шпангоуты заскрипели. Австрийцы, генерал Келлер и его адъютант майор Клам, которые никогда раньше не были в открытом море, зареклись и в дальнейшем никогда этого не делать. Генералы Бертран и Дрюо, пытаясь подавить подступившую тошноту, облизывали губы. Кемпбелл также чувствовал себя неважно, но тем не менее с восхищением слушал Наполеона.
Изо всех пассажиров только Наполеон был нечувствителен к качке и, казалось, совсем не замечал состояния аудитории. Он перешёл к торговле, отмечая, что Англия теперь может навязать Франции любое соглашение, какое захочет.
— Бурбоны, бедолаги... — сказал он. «Казалось, здесь он резко оборвал свою мысль», — пишет Кемпбелл в своём дневнике. В принципе это было правдой. В этот момент Наполеон заметил, что гранд-маршал сделал глотательное движение и побледнел. После чего добавил (записано в дневнике): — Как всё высшее дворянство, они думают только о том, чтобы пользоваться своими поместьями и замками. Но если народ Франции не будет удовлетворён договором и обнаружит, что из-за отсутствия правительственной поддержки и благоприятствования страдает национальная промышленность, они будут сметены через шесть месяцев. — Однако, джентльмены, глоток свежего воздуха, я думаю, нам не помешает. — Он поднялся, и пассажиры с чувством облегчения разошлись.
Полковник Кемпбелл спустился вниз и, несмотря на недомогание, аккуратно записал всё, что запомнил из разговора с Наполеоном. По поводу неоконченного замечания относительно Бурбонов он пишет: «И здесь опять он сдержался, как будто осознав свою неосторожность, и, поскорее покончив с завтраком, поднялся из-за стола. Очевидно, он не может контролировать себя при беседе».
В сущности, именно в этот день началась затяжная дуэль между императором и полковником, но Наполеон об этом даже не догадывался. Наоборот, он был доволен тем, что англичанин у него под рукой. Ему нравился полковник Кемпбелл, так как тот был храбр и мужествен, и потом он выполнял всё, что от него требовалось, толково и быстро. Наполеон полагал, что именно Кемпбелл останется с ним на Эльбе и будет от его лица говорить с союзниками и со всем миром. Он конечно же предпочёл бы капитана Ашера, спокойного и весёлого, но это, он понимал, невозможно. Он не мог и представить, что за вежливостью полковника скрывается подозрительность и неодобрение.
Кемпбелл не спал, ворочаясь на койке и страдая не столько от тошноты, сколько от ран; мысленно он уже расширил границы возложенной на него миссии.
В письме лорда Каслри не было двусмысленностей; «Вы будете вести себя с Наполеоном, насколько это возможно, со всем подобающим уважением. На острове по желанию его королевского величества принца-регента ему надлежит обеспечить соответствующие удобства и защиту.
Вы ознакомите Наполеона в рамках подходящих формулировок с тем, для чего направлены на остров: поселиться в ожидании дальнейших распоряжений, если он сочтёт, что присутствие британского офицера может оказаться полезным для защиты острова и его личности от оскорблений либо нападения».
Но полковник уже размышлял о защите всего мира: «Чудовище по неосторожности выдало свои намерения».
Позднее, будучи в более спокойном состоянии, он со всей серьёзностью писал:
«Несмотря на то что в Фонтенбло Наполеон выразил желание провести остаток своих дней на Эльбе, изучая искусства и науки, он своими высказываниями на борту корабля и неутомимой активностью, присущей его характеру, невольно намекал на то, что будет действовать иначе. Он также проявлял надежду, что ему, возможно, вновь представится широкое поле для выполнения своих амбициозных планов». И всё это основывалось на замечании относительно семьи Бурбонов.
«Он, очевидно, убедил себя в том, — продолжает полковник, — что большая часть населения Франции осталась верна ему, но, по его мнению, это не касается жителей побережья».
Так в сознании осторожного человека муха превратилась в слона. Если раньше у полковника Кемпбелла, всегда преданного своему долгу, была только одна трудная задача, то теперь, когда он весь находился во власти размышлений и опасений, их стало две.
Большинство пассажиров проводило своё время на койках и в подвесных постелях. Наполеон же, нечувствительный к качке, прогуливался по палубе по два-три часа, наблюдая за тренировками орудийных расчётов, за действиями старшины-рулевого у руля, за работой корабельного портного с парусиной и иголкой. Он всех спрашивал, как по-английски называется то или это, а потом приводил французский эквивалент. «Матросы, — говорил он позднее, — были удивлены той фамильярностью, с которой я обращался с ними. Это в корне отличалось от тех авторитарных отношений, к которым они были приучены. Я думаю, что ни один человек на фрегате «Неустрашимый» не нанёс бы мне никакого вреда, если бы это было в его власти». Ему понравилось размеренное течение корабельной жизни.
— Я пытался, — говорил он, — ввести то же самое во французском военном флоте, но мне не удалось донести это до сознания капитанов. А каким образом ваши люди получают какао и сахар?
— Благодаря вам, сир, — ответил Ашер, — ваша блокада лишила нас возможности поставлять какао и сахар на континент. Вместо этого они пошли на флот.
Наполеон рассмеялся:
— Ну, я рад, что вы можете хоть за что-то меня поблагодарить. У меня были великие планы в отношении французского военного флота — три сотни одинаковых кораблей!
— Сир, вы не смогли бы укомплектовать экипажами и половину из них, — ответил на это Ашер. Теперь ему казалось, что он знает Наполеона всю жизнь.
— Да, конечно, в основном призывники, а остальные — иностранцы.
Он продолжал развивать свои планы по морской военной подготовке.
Император и капитан как два бывалых моряка при некоторой помощи Кемпбелла, выступавшего переводчиком, с удовольствием обсуждали эти вопросы.
Однако полковник Кемпбелл видел эти дискуссии в ином свете:
«Он проявляет чрезвычайный интерес ко всему, что касается нашего военно-морского флота, его организации, дисциплины и т. д., и генерал Бертран каждый день задаёт сходные вопросы капитану Ашеру и мне, вопросы, которые, безусловно, сформулированы Наполеоном, так как, по моим наблюдениям, сам генерал лишён какого-либо интереса и любопытства к морским делам».
Бедный генерал Бертран! Он мужественно поднялся на палубу и, оказавшись на юте рядом с молчаливым англичанином, посчитал, как истинный француз, что необходим разговор.
— Это бриг, верно? — спросил он.
— Фрегат, — холодно ответил полковник.
Генерал не имел ни малейшего представления, в чём заключается разница между бригом и фрегатом, и ему было это безразлично. Однако он продолжал задавать вопросы:
— Сколько у вас фрегатов?
Полковник знал, что такой же вопрос задал бы Наполеон, и потому не ответил.
— А сколько человек в экипаже?
— Около ста двадцати, пожалуй.
— Они призывники, полковник, или волонтёры?
Полковник отошёл и спустился вниз. Оставшись один, генерал с облегчением дал выход приступам тошноты. Как бы он удивился, услышав, в чём его подозревают — ни много ни мало в тайных планах раскрыть секреты британского флота.
Ветер продолжал дуть с юга. Корабль подошёл близко к Лигурийскому побережью. Хорошо были видны Альпы, и Наполеон в раздумий смотрел на них около получаса. Однажды он уже проходил через эти горы. К югу, при повороте на другой галс, ветер неожиданно усилился, и бедный барон Келлер и все генералы поспешили в свои каюты. Но Кемпбелл мужественно остался на палубе, чтобы служить переводчиком Ашеру. На этот раз Наполеон рассуждал о военно-морской науке.
Позднее он «сразил» Ашера, объясняя барону Келлеру «и с серьёзным знанием предмета», как удержать корабль в русле реки во время прилива-отлива, не отдавая якорь. Барон понятия не имел, о чём говорит Наполеон, но Ашер слушал с восхищением.
Величайший ум, способный проникнуть во все области человеческого знания!
Ашер, ожидая ухудшения погоды, направил корабль к западному побережью Корсики, родному острову императора. Предполагалось встать на якорь в Кальви, и Наполеон предупредил капитана о возможных опасностях при приближении к берегу. Ашер вновь поразился его познаниям и заметил, что из него бы вышел отличный боцман. Корабль не встал на якорь, но достаточно близко подошёл к берегу. Всё это время Наполеон рассматривал горы в бинокль и рассказывал о своём детстве. «Прогулка вглубь острова, — говорил он, — может оказаться полезной для вас, генерал». Но даже такое невинное замечание было воспринято неправильно. Австриец, толкнув локтем Ашера, предупредил: «Я слишком хорошо его знаю, чтобы доверять. И не думайте об этом».
Вечером второго мая, при слабом ветре, практически при полном штиле, мимо них проходил генуэзский торговый корабль. Ашер приказал осмотреть его. Наполеон, желая узнать новости, попросил, чтобы капитана прислали на борт, к нему. По этому поводу Ашер записал в бортовом журнале следующее:
«Наполеон, в шинели и круглой шляпе, находился на юте. Как только он выразил желание расспросить капитана, я направил того к императору (к «императору» — ах, капитан!) по кормовой части юта, затем приказал ему спуститься ко мне в каюту. «Ваш капитан, — сказал он потом мне, — самый необычный человек, каких я когда-либо встречал. Он задавал различные вопросы и, не дав мне времени ответить, повторил их снова».
Когда же я сообщил ему, кто это был, он в крайнем удивлении сразу выбежал на палубу, чтобы ещё раз на него посмотреть. Но Наполеон, к его величайшему разочарованию, уже спустился вниз, Я передал потом Наполеону, что капитан отметил поспешность, с которой он задавал вопросы. «Но это единственный способ добиться искренности от людей подобного рода», — заметил Наполеон».
Полковник Кемпбелл несколько иначе описывает тот же эпизод:
«Мимо проходила небольшая тартана из Сан-Флоренцо, и шкипера попросили подняться на борт. Наполеон по-итальянски быстро задал ему пятьдесят вопросов, а потом сразу отошёл. Все вопросы были связаны с Корсикой. Отвечая на них, этот человек выразил неподдельную радость по поводу нынешнего состояния дел. Он рассказал о том, что англичане проникли повсюду, даже в Геную. Когда же ему сказали, кто его собеседник, он взглянул на Наполеона с неодобрением. Потом Наполеон задал проходившему по палубе шкиперу ещё несколько вопросов, но тот отвечал с гораздо меньшим уважением, чем ранее. Поэтому Наполеон оставил его и попросил капитана Ашера отослать его назад».
Ветер немного утих. Ночью корабль прошёл мыс Коре и на всех парусах направился к Эльбе. Теперь Наполеону не терпелось увидеть своё королевство.
— Все ли паруса поставлены, капитан? — спросил он.
— Все, от которых может быть какая-либо польза, — ответил Ашер.
— Если бы вы преследовали фрегат противника, разве вы не поставили бы ещё какой-нибудь парус?
Ашер отступил назад и взглянул вверх. Он увидел, что лисель брам-стеньги по правому борту не поднят, а при погоне он, безусловно, приказал бы его поставить.
— Что ж, видимо, и сейчас он может быть полезен?
— Да, да, сэр, — согласился Ашер. — Мистер Кэтс, поставить лисель брам-стеньги правого борта.
За короткое время плавания погода менялась не раз, Средиземное море — одно из самых непостоянных. К Эльбе они подошли в ясный полдень. Корабль, легко раскачиваясь, скользил по слегка волнистой тёмно-голубой поверхности моря. Все пассажиры поднялись наверх и окружили ют, как будто они всю жизнь были моряками. Эльба, купающаяся в тёплых лучах солнца, выглядела очень красиво, но неприветливо.
Крутые тёмно-коричневые холмы и изломанные, рвущиеся к небу утёсы поднимались будто бы прямо из моря. Крошечные белые деревеньки ютились на склонах холмов подобно чайкам. Другие деревни были разбросаны в своеобразной трещине между нависшими горами, грозящими сбросить в море эти обиталища человека. Нельзя было и представить себе, что можно пройти из одной деревни в другую! Кроме того, солнце скрылось за холмами, и потому виноградники и миртовые рощи, украшающие долину и смягчающие безрадостность горных высей, сейчас были не видны путешественникам.
Эльба была младшей сестрой Корсики, одним из второстепенных звеньев той же горной гряды. Поэтому изломанные утёсы и крутые склоны, древние скалы из кристаллического кварца не тревожили Наполеона. Он беспокоился о другом. Как только человек наверху мачты закричал: «Впереди земля!» — он поспешил на бак со своим биноклем. «Чей флаг над батареями?» — всё время спрашивал он. Он всё ещё сомневался, перешёл ли гарнизон острова на сторону Бурбонов или нет. Ведь он ещё мог бы увидеть трёхцветное знамя, развевающее над Портоферрайо, столицей острова. И так могло случиться! Дело в том, что белый флаг Бурбонов был водружён всего лишь сорок восемь часов назад. При попутном ветре «Неустранимый» преодолел бы расстояние за два дня вместо пяти. «Тогда бы я обнаружил, — писал капитан Ашер, — что остров находится в руках противника и соответственно должен был бы доставить моего подопечного в Геную к главнокомандующему, сэру Эдварду Пелью, который бы, без сомнения, приказал нам отправиться в Англию».
Как сильно судьба человека зависит от погоды!
«Белый флаг, сэр», — сообщил наконец вперёдсмотрящий. Теперь возникли новые сомнения. Как примут нового правителя на этом злополучном, уставшем от разных домогательств острове?
На долю Эльбы выпало гораздо больше бед и несчастий со стороны всевозможных мародёров и беспринципных захватчиков, чем любому другому малому острову. Эльба была маленькой и беззащитной, но в недрах её таились крупные запасы железной руды. Ещё этруски, задолго до римлян, заняли и населили этот остров. Карфаген и Рим посылали сюда огромные массы рабов для работы на железных рудниках. Варвары не раз занимали Тосканский архипелаг и собрали с острова свою дань в виде крови и железной руды...
В 1805 году император Наполеон передал весь Тосканский архипелаг своей сестре Элизе, и в 1809 году она стала великой герцогиней Тосканы.
В начале 1814 года остров был блокирован британским флотом. До Эльбы дошли слухи о падении Наполеона, и за несколько недель до прибытия фрегата «Неустрашимый» жители, враждебные к Наполеону, находились в состоянии бунта. В тот же день восстал итальянский гарнизон. Солдаты убили своего командующего и отплыли на материк. Поэтому генерал Далесм, французский комендант, предложил всем остальным иностранным солдатам отставку. В довершение всех его бед англичане выбрали этот момент, чтобы закрепиться на острове. Генерал Монрессо не терял времени, приблизился к острову под флагом перемирия, объявил о низвержении императора и потребовал сдаться. Комендант ответил, что не имеет никаких дополнительных сведений и распоряжений. Но на следующий же день прибыл другой английский корабль с посланником от временного правительства Франции. Изумлённый комендант узнал, что император не просто свергнут, а едет на Эльбу, чтобы сменить его. Всё это вполне могло оказаться ещё одной дьявольской проделкой англичан. Поэтому Далеем не стал вывешивать флаг Бурбонов, пока через несколько дней не поступил письменный приказ от Дюпона, военного министра.
В это ясное утро, в восемь часов, в форте Фальконе заметили парус на горизонте, а в десять стало ясно, что фрегат идёт под английским флагом. Корабль, подгоняемый слабым ветром с запада, медленно направлялся к порту. Комендант всё ещё не верил и потому принял все надлежащие меры предосторожности: закрыл порт, приказал зарядить орудия и привести гарнизон в состояние боевой готовности. Фрегат плавно, как лебедь, подошёл ближе, отражаясь в голубой глади моря.
Шлюпка, спущенная с корабля, двинулась к берегу. На ней находились посланцы: генерал Дрюо, полковник Кемпбелл, майор Клам и польский полковник.
Они должны были оповестить коменданта о прибытии императора и обеспечить формальную передачу острова в его руки.
Наполеон, одетый в морскую форму поверх мундира и орденов, в одиночестве мерил шагами ют. О недавних событиях на острове он ничего не мог знать, но, ознакомившись с историей Эльбы достаточно хорошо и имея кое-какой опыт, он не мог не сомневаться, какой приём будет оказан. Эльба за свою историю перенесла десятки завоеваний, за исключением разве что нашествий русских и датчан. Что скажут жители острова о назначении низвергнутого императора их правителем? Быть может, уже готовится новая резня французов. Впереди мог быть новый Оргон и такие же хитрые бестии, как та кухарка. Что же происходит в этих старых, нависших над входом в порт фортах? Не исключено, что комендант не подчинится. До сих пор он не оказал достойного приёма. Но сегодня было 3 мая, а Наполеон твёрдо верил в различные даты и годовщины. Если бы он играл в рулетку, то непременно поставил на 15-е — дату своего рождения. Он вспомнил, что 3 мая 1789 года, двадцать пять лет тому назад, был свидетелем великого шествия всех сословий и возникновения народного парламента. Завтра первый день новой его жизни, и притом день рождения сына от Марии Валевской. В мае, десять лет тому назад, он стал императором. В мае же он отправился завоёвывать Египет. Ему казалось, что май — месяц добрых начинаний. Кстати, он и умер 5 мая.
Наполеон посмотрел в бинокль на форт и вновь с отвращением заметил поникший белый флаг с лилией Бурбонов. Он подумал, что для Эльбы нужен новый флаг, и спустился вниз.
Всё это было 3 мая, в этот день Людовик XVIII вернулся в Париж и занял трон. Он страдал подагрой и был уродливо толст. С тремя, по крайней мере, подбородками. Одежда его была обычной, но эполеты — огромных размеров. Его величество был остроумен, но не умён, пописывал лёгкие стихи, и это говорило не в его пользу. Парижане смеялись над ним. Он отвечал им улыбкой. Всю свою жизнь Людовик XVIII провёл, рассуждая о преимуществах монархии и участвуя в монархических заговорах. Теперь же он, монарх Франции, ехал в карете, запряжённой восьмёркой лошадей, и улыбался. А великий Наполеон в это время размышлял о новом флаге для Эльбы.
Генерал Дрюо: «Я надеюсь, что его императорское величество будет здесь в полной безопасности».
Польский полковник довольно резко добавил: «Надеюсь, что нам не придётся сражаться и здесь».
Теперь, когда генералу Далесму всё стало ясно, он стал обходительным и покорным.
Переданное ему письмо Наполеона было тактичным.
В нем говорилось:
«Я пожертвовал своими правами во имя интересов страны, а за собой сохранил право на суверенитет и обладание островом Эльба, с чем согласились все стороны.
Прошу вас сообщить о новом положении дел жителям острова. Мой выбор поселиться здесь был сделан в пользу их острова по причине радушия жителей и мягкости климата. Скажите им, что для меня они всегда будут предметом моей первейшей заботы».
Комендант согласился разослать письмо по острову, и наборщики были заняты всю ночь. Далесм добавил от себя несколько слов прощания:
«Жители Эльбы, эти слова не нуждаются в комментариях. Они определяют ваше будущее.
...Я собираюсь покинуть вас. Расставание будет болезненным для меня, так как я искренно люблю вас. Однако мысли о вашем счастье уменьшат горечь моего отъезда... Я всегда буду рядом с островом в своих воспоминаниях о добродетелях его жителей...»
Портоферрайо, 4 мая 1814 года
Бригадный генерал Далесм».
В действительности он весьма сильно сомневался в наличии у жителей острова добродетелей, и его скорбь по поводу расставания не была тяжёлой. Всего лишь три дня назад он сообщил своим горячо любимым подданным, что три четверти из них разбойники, готовые грабить. Стены города были увешаны гневными посланиями субпрефекта с требованием сдать оружие.
Теперь субпрефект выпустил новые прокламации, которые должны были быть расклеены где только возможно, в том числе и на старых сообщениях:
«Удивительное событие, которое послужит украшением всей истории Эльбы, произошло сегодня. Наш августейший суверен, император Наполеон, прибыл к нам. Так дайте полную волю своей радости. Наши молитвы услышаны, благополучие острова обеспечено.
Вслушайтесь в первые слова его речи, с которой он с благосклонностью обратился к тем, кто представляет вас: «Я буду для всех вас хорошим отцом — будьте и вы для меня благодарными детьми». Эти слова навеки останутся в наших признательных сердцах».
Он выбрал белый флаг с диагональной красной полосой. Такой флаг когда-то давно, во времена Касимо де Медичи, развевался над Портоферрайо. Но Наполеон добавил ещё три золотые пчелы. Такие же пчёлы были на его гербе императора Франции, а в данном случае, для Эльбы, должны были означать, как он пояснил Ашеру, Мир, Гармонию и Промышленность. Корабельному портному был отдан приказ срочно сшить два флага — один для флота, другой для главной шлюпки с фрегата «Неустрашимый», серебряный с алым, с размещёнными на нём как должно тремя пчёлами Наполеона.
Глава 7
ПРИЁМ НА ЭЛЬБЕ
Официальная торжественная высадка на берег должна была согреть душу изгнаннику, который ещё окончательно не оставил мыслей о возможном политическом убийстве. По всему острову были разосланы гонцы, чтобы убедить мэров, членов советов и духовенство присутствовать при высадке короля на берег. Они приехали, и вместе с ними — много молодёжи, доброжелательной и радостной. Город был порядком взбудоражен (одни всю ночь готовились к встрече, другие, не в состоянии заснуть, размышляли о предстоящем богатстве, ведь император, должно быть, обладает огромной властью). Итак, прекрасный май, сияющие молодые лица вокруг, немногие недовольные отмалчивались.
Корабельный портной творил чудеса. В полдень раздался пушечный выстрел, и новый флаг, трепещущий в потоках ветра, медленно поднялся над фортом Стелла. Батареи на бастионах тоже дали залп, и зазвонили все колокола. А жители острова все прибывали и прибывали.
В два часа гребцы заняли места на главной шлюпке «Неустрашимого». Лейтенант Смит приказал покрасить её медленно сохнущей белой краской. Теперь краска прилипала к рукам, но зато шлюпка сияла, как снег, в лучах солнца. Второй новый флаг взмыл вверх. Банки на шлюпке были застланы ковриками и одеялами офицеров. Матросы в шлюпке, благоухавшие мылом, были одеты в короткие синие куртки, шейные платки в красный горошек и четырёхугольные непромокаемые шапочки. Волосы заплетены в косички. Медные части на шлюпке — горели. На реях корабля выстроились матросы. Когда шлюпка двинулась, на «Неустрашимом» открыли королевский салют из двадцати одного орудия. Так же (странно, но факт) поступили на французских корветах, хотя и принёсших уже присягу на верность Людовику XVIII. Матросы троекратно прокричали «Ура», и все гребцы в шлюпке нестройно присоединились к ним. Наполеон улыбнулся, снял свою шлюпку и поклонился команде. Сегодня на нём были: его известная шляпа с новой кокардой и тремя пчёлами, зелёный мундир со звездой рыцаря Почётного легиона и Железной короной, белые бриджи и ботинки с золотыми пряжками. Батареи и колокола снова приветствовали императора. Гром был страшный. Наполеон посмотрел сначала через одно, потом через другое плечо и отметил, что обе грузовые шлюпки с матросами, о которых он просил, находятся поблизости. Он всё ещё не был уверен в своей безопасности. Остальные лодки шли рядом, на траверзе или за кормой. В одних были видные горожане, в других — музыканты, играющие на гитарах и флейтах, в третьих — молодёжь, оглашающая все вокруг криками приветствий.
Процессия повернула направо к старой генуэзской башне и вошла во внутренний Порт. Вид открылся прекрасный, настоящее чудо света и смешения цветов. Маленькая удобная гавань — она и сейчас так выглядит — напоминала скромную площадь Лондона, окружённую домами. По периметру виднелись строгие здания общественных учреждений, но над ними располагались весёлые домики медового цвета с красными крышами и зелёными ставнями, высокими балконами и арками в мавританском стиле. Между водой и домами, словно образуя тропинку, стояли в ряд судёнышки рыбаков. Гавань была глубокой. Из распахнутых окон свисали весёленькие коврики, а женщины в них махали шарфами. У проходов рядом с водой стояли группы людей и кричали: «Да здравствует император!» Генерал Бертран прошептал генералу Дрюо: «Совсем другое дело, нежели в Оргоне». Дрюо нахмурился и ответил: «Не говори мне об этом». Он хотел бы вычеркнуть из памяти даже не толпы, а робость императора.
— Сушить вёсла! — Гребцы в шлюпке беспрекословно выполнили команду, вёсла были разом подняты. Лейтенанту Смиту удалось пришвартовать шлюпку, не повредив её новой окраски.
Император ступил на берег и снял шляпу. Два строя солдат — один — Национальной гвардии Эльбы, другой — регулярных войск — взяли на караул. Гвардейцы хорошо выполнили команду, а с нестроевыми войсками — старыми, ушедшими в отставку солдатами, — вышел конфуз, хоть они и упражнялись в течение часа с самого рассвета. Движения ружей не отличались слаженностью, в довершение один солдат упал в обморок, а мушкет рухнул в воду. Оркестр из трёх скрипок и двух виолончелей едва был слышен среди бури приветствий. Мэр, синьор Традити, выступил вперёд и низко поклонился. Сторонний наблюдатель мог подумать, что он пьян, но это было не так. Он подготовил и написал речь, даже открыл рот, но произнести не смог ни слова. Однако он подал Наполеону ключи от города на золотом подносе, и тот вежливо вернул их. Потом выступил главный викарий, Жозеф-Филипп Арриги. Вот главный викарий вполне мог быть пьян — по словам Пона, он вёл довольно распутную жизнь, и доверять ему было нельзя. Кроме этого, «будучи в возбуждённом состоянии, он, привыкший к застольям, начинал молоть всякий вздор». Главный викарий должен был что-нибудь сказать о «помазаннике Божьем».
Император занял своё место под серебряным полотнищем, и они стали медленно продвигаться через Морские Ворота по направлению к церкви. Позади шли три генерала, Келлер и Кемпбелл, офицеры с «Неустрашимого», польский полковник, несколько членов императорского двора и дворяне города.
В этот момент толпа расступилась и вновь окружила процессию, стремясь получше рассмотреть великого человека. Раз двенадцать приходилось им останавливаться под напором людской волны. Бертран был взволнован, но присутствие такого множества людей радовало его. Дрюо и Далесм испытывали сильное беспокойство: сейчас как никогда возросла возможность убийства. Келлер и Кемпбелл же чувствовали лишь неприязнь к вульгарной и потной толпе: на улице за Морскими Воротами стоял дурной запах. «Серебрёная бумага! — подумал Кемпбелл. — Какое унижение для императора Франции, для человека, который принял корону из рук Римского Папы и самолично возложил её на свою голову!» Главный викарий в ярости шёл позади всех. Он толкался и кричал, размахивал руками и на чём свет ругал толпу. Казалось, он набросился бы на них с кулаками, если бы мог.
Один Наполеон был спокоен. Он покорно и без страха шёл по улице, не испытывая неудобств. Приём согрел его душу. Он опять чувствовал себя дома среди этих людей — людей простых, это верно, но близких ему. Разгорячённые и возбуждённые мальчишки и девчонки, которые, расталкивая взрослых, пытались коснуться его рукава, говорили на родном языке. Одна молодая красавица — с холмов, подумал он, — в чёрной соломенной шляпе и с большими серёжками, была похожа на Полину, другая — почему только у неё такая светлая кожа? — напомнила Марию Валевскую. Он улыбался им и медленно шёл вперёд.
Наконец они пересекли главную площадь и вышли на Пьяцца д’Арми — большую площадь с приходской церковью на одной стороне и ратушей на Другой. Здесь должны были проходить ежедневные упражнения солдат Наполеона. Дойдя до Этого места и оглянувшись вокруг, он сказал: «Мало деревьев». И это всё, что он сказал в тот день. А ведь на площади были деревья и цветы, да и берега реки Даре заросли деревьями.
Церковь была увешана цветами и другими украшениями, как на Пасху. Посреди нефа располагалась скамеечка императора, покрытая малиновым бархатом. Церковь наполнилась народом, и торжественная, хотя и немного странная, служба началась. Двум молодым церковным прислужникам, с которыми всё отрепетировали в спешке, было приказано стоять возле императора и подсказывать ему, что нужно делать. Однако они были слишком напуганы, чтобы давать советы такому великому человеку, а Наполеон, казалось, знал всю процедуру не хуже их. Более того, в конце службы он сам подавал им незаметные знаки, когда им преклонить колени, сесть или встать. Духовенство нервничало и чувствовало себя неловко, сам главный викарий допустил несколько ошибок, но прихожане вели себя на редкость серьёзно и благоговейно. Два псалма были использованы как специальные молитвы за нового короля, и когда прозвучали слова: «Тебе, Господь мой, вверяюсь я, не дай мне усомниться в тебе», — все находящиеся в церкви встали на колени и пали ниц вполне в итальянском духе, искренне вторя словам гимна.
Наполеон был растроган и сосредоточен. Его взгляд был прикован к Библии. Утверждают, что он искренне молился. А почему нет? Он не был лишён религиозных чувств. Много опасностей осталось позади, а впереди ждало ещё больше. Теперь он начинал новую жизнь в самом маленьком королевстве на земле. Возможно, сейчас он молился за то, чтобы жену и сына послали к нему. Всё было бы иначе, если бы рядом была королева, способная поддержать его.
Наполеона провели в ратушу и усадили на импровизированный трон — софу, покрытую специальным покрывалом, с маленькой подставкой для ног. Всё было убрано серебрёной бумагой, искусственными цветами и рождественскими украшениями. «Искусственные цветы!» — тихо фыркнул Бертран.
Император удостоил аудиенции не только всех именитых граждан, но и тех французов, которые захотели быть Представлены. Все были поражены его знанием острова — названий деревень, нужд и даже некоторых имён.
— Вы знаете, — сказал поздно вечером утомлённый Бертран, — что только две недели прошло, как мы уехали из Фонтенбло?
— А кажется больше, — ответил усталый Дрюо. — Он приказал разбудить его на рассвете.
— О, Боже!
Этим же вечером Наполеон написал Марии-Луизе:
«Моя милая Луиза!
Четыре дня я был в море, погода стояла отличная, и я чувствовал себя хорошо. Теперь я здесь — на острове Эльба, который очень красив. Устроили меня здесь неважно, и я организую что-нибудь через неделю или две. От тебя нет новостей. Это меня печалит. Здоровье моё отличное. Прощай, мой друг, ты далеко от меня, но все мои мысли с моей Луизой. Нежно поцелуй моего сына. Всего тебе наилучшего.
Нап.
Портоферрайо, 4 мая».
Глава 8
В КРУГОВЕРТИ БУДНИЧНЫХ ДЕЛ
Наполеон провёл всю ночь без особых удобств в ратуше вместе с сержантом морской пехоты О’Горумом, к которому сильно привязался. Сержант спал на матрасе у двери. Будучи ещё на бору «Неустрашимого», он просил выслать к нему охрану в пятьдесят морских пехотинцев. Но после тёплого приёма не хотелось никого оскорблять подозрительностью, и потому Наполеон призвал с собой лишь одного офицера и двух сержантов морской пехоты.
Следующее утро даже Кемпбелл встретил в постели, слишком усталый от ран и путешествия, чтобы шпионить. Да-да, шпионить. Вот что по этому поводу писал Пон, один из людей, сопровождавших императора:
«Полковник Кемпбелл неустанно ходил за императором по пятам. В какое бы время и куда император ни собирался, вне зависимости от того, были ли какие-нибудь приготовления или нет, полковник Кемпбелл был рядом. Естественно было предположить, что он получает сведения из дворца. Действительно, в дальнейшем подозрения оправдались: он шпионил с самого начала и до самого конца».
Но в тот день, 5 мая, полковник Кемпбелл сделал следующую запись:
«От рассвета до завтрака в 10 часов Наполеон был на ногах, инспектируя крепости, амбары и склады боеприпасов.
В 2 часа пополудни он отправился на лошади вглубь острова, на расстояние двух лиг, и осмотрел несколько загородных домов».
Капитан Ашер, оставшийся в это время с Наполеоном, пишет:
«Он осмотрел различные загородные дома и дал денег всем беднякам, которых встретил по дороге».
Очевидно, Кемпбелл и Ашер продолжали сравнивать свои записи, так как в описании одних и тех же событий использовали часто одинаковые выражения. Но картина, как видим, не всегда одна и та же.
Кемпбелл не уловил самую суть этого дня. В этот день, для истории планеты ровным счётом ничего не значивший, великий человек упорно трудился в присущей только ему особенной манере.
В ночь 5-го числа бедный генерал Бертран рано отошёл ко сну. Неутомимый Человек не отдавал конкретных приказов на утро, поэтому он надеялся выспаться. Тщетная надежда!
Ближе к полуночи был разбужен Андре Пон д’Эроль, администратор железных рудников. Трепещущий, но крайне польщённый, он поспешил в Ратушу. Там он застал генералов Бертрана и Далесма, оживлённо разговаривающих с императором. Беседа походила на спор, и упоминалось его имя. Генералы одновременно повернулись к нему. Далесм сделал лёгкий кивок, как будто подсказывал: скажите «Да».
Бертран, сдвинув густые брови и нахмурившись, также слегка кивнул в знак приветствия. К чему бы всё это? Ещё не зная ответа, Пон почувствовал, что должен благодарить своего старого друга Далесма.
— Месье Пон, — начал было Бертран.
— Пусть он мне ответит, Бертран, — сказал Наполеон. — Месье Пон, я хочу осмотреть ваши рудники...
Полковник Кемпбелл удивлялся:
«Я никогда не видел человека, который, находясь в какой бы то ни было жизненной ситуации, обладал подобной личной энергией и неослабеваемым упорством. Он производил впечатление человека, который получает огромное удовольствие от непрерывной деятельности и оттого, что сопровождающие его люди, не выдерживая такой нагрузки, падают от усталости, чему я в нескольких случаях был свидетелем».
На другое утро Наполеон обошёл различные части города и укрепления, затем, сев в лодку, осмотрел склады вокруг гавани...
Затем, в тот же день, он, меряя шагами комнату и рассыпая табак, диктовал приказы и распоряжения (более двух тысяч слов!), в том числе относительно садов и стен, мощения улиц и посадки деревьев, налога на кукурузу, который «устарел и не годится», покраски дверей и окон в его новом доме на холме. «Если они боятся, что в доме будет пахнуть краской, пусть снимут их и покрасят на улице».
Энергичность и хозяйский подход к каждой мелочи остались прежними. Он задумал дать Эльбе то, что дал Европе.
Так продолжалось две недели. Он посетил все уголки острова, тщательно изучил их и оставил там о себе самые тёплые воспоминания.
В штабе были измучены, а генерал Бертран готов был взбунтоваться. Все — и Кемпбелл, и Ашер, и Пон, и Пейрюс, и полковник Винсент, даже паж Маршан — делали заметки о том, что говорилось и делалось. Никогда ни за кем так внимательно не следили и с такой тщательностью не записывали все его действия.
10 мая Наполеон поднялся на вершину самого высокого из холмов около Портоферрайо и некоторое время осматривал свои владения, окружённые морем. «Он повернулся ко мне и улыбнулся, — пишет Кемпбелл, — затем, покачав головой и осматриваясь, сказал: «Да! Мой остров очень маленький».
Но Наполеон — о, великий ум! — не стыдился маленьких дел. Каждый день возникали новые планы, и вскоре во всех уголках Эльбы закипела работа. Нужно было сделать больше дорог, улучшить оснащённость фортов и гаваней, усовершенствовать систему водоснабжения, увеличить запасы кукурузы. Он посоветовал жителям деревень выращивать капусту, турнепс и лук. Он рассказал одному садовнику, как поддерживать постоянный прирост салата и редиски. «Когда и как, — удивлялся Пон, — император узнал всё это?»
«На протяжении всей своей истории остров Эльба перенёс очень многое, — писал Пон, — поэтому возможность процветания, возникшая в связи с прибытием в Портоферрайо императора, воспринималась как настоящее чудо. А перечень дел, находящихся в стадии подготовки либо в стадии энергичной реализации, но несомненно направленных на улучшение жизни людей, свидетельствовал об огромном творческом потенциале гения».
«Меньше чем через два года, — рассчитывал Наполеон, — всё будет закончено».
Но полковник Кемпбелл писал 26 мая следующее:
«Кажется, что мысли его постоянно связаны с военными операциями».
Полковника Кемпбелла обуревали страшные подозрения, особенно в последнее время, в связи с колонизацией Пьяносы — плоского, невозделанного и лишённого обитателей островка в юго-западной стороне, который и раньше был частью тех же владений, что и Эльба. Император, думал он, хочет использовать этот островок как место встречи со своими тайными сообщниками, которые собираются забрать его оттуда. В действительности же мероприятие было совсем невинным. В случае чётко спланированной колонизации Пьяноса обеспечил бы Эльбу кукурузой. Там можно было выращивать её столько, что запасов хватило бы на пять месяцев. Кроме того, там можно было выращивать виноград, а также фруктовые деревья. Какая-то часть острова должна была стать национальным резервом — местом ухода на покой престарелых жителей Эльбы, которые «сослужили государству определённую службу». Здесь они смогли бы найти занятие по силам и по душе: спокойно возделывать землю и выращивать сады.
О всех этих благих планах в сдержанных записях полковника Кемпбелла почти не упоминается...
15 мая, в конце этих двух недель, полных событиями, полковник Кемпбелл сухо замечает: и «Сведения, которые у меня имеются на данный момент, склоняют меня к мысли, что чувство неприязни по отношению к Наполеону уменьшилось. Уважение, проявленное к нему салютом британского фрегата его величества, а также другие знаки внимания и необходимость защищать его, к чему он, очевидно, всё время стремился, чтобы создать определённое впечатление в умах людей, сильно способствовали изменению этого отношения. Коренные жители острова придерживаются той точки зрения, что с его приездом на остров перед ними откроются удивительные перспективы и возможности. Данная точка зрения распространилась на все классы общества...»
Однако полковник совсем не прав. Не салют из двадцати одного орудия фрегата «Неустрашимый», о котором тут же забыли, и не постоянное присутствие полковника Кемпбелла способствовали возникновению этой точки зрения. Её создал сам Наполеон — великий, но скромный человек, не стеснявшийся толкаться среди людей, разговаривать с ними о шелковице и редиске, узнавать об их нуждах и помогать им. Вскоре был сформирован королевский двор, построен дворец, введён строгий этикет. Люди должны были помнить, что ими управляет император, а не ссыльный. Когда император выезжал в город, генерал Бертран и Дрюо всегда сопровождали его с непокрытыми головами вне зависимости от погоды. Карета запрягалась четвёркой лошадей, обязательно присутствовали форейторы и верховые, одетые в зелёные камзолы с красными и золотыми вставками. Хотя на следующий день Наполеона можно было увидеть верхом на муле: он разговаривал с крестьянином, который решил разводить оливы. Двое посыльных всегда были наготове — один из них спал у двери. Два гофмейстера всегда присутствовали, когда он играл в шахматы. Все указы, которые он писал или диктовал, начинались так:
«Наполеон, император, суверен острова Эльба, повелевает...» Под диктовку составлялись письма весьма торжественного содержания, хотя речь в них шла всего лишь о доставке мебели или продовольствия. Он скреплял их своими инициалами, приказывал сделать копии и направлял должностным лицам, сидящим в соседней комнате.
Те, кто хотел быть удостоен «аудиенции», должны были сначала обратиться к Бертрану или Дрюо, а затем Наполеон назначал время. Однако им не приходилось долго ждать, и император их приветливо принимал. Иногда Наполеон даже нежно трепал посетителя за ухо, что служило знаком его большого расположения.
Перед переездом во дворец Мулини он решил устроить приём для женщин — новых придворных, чтобы дать им определённое представление о порядках при дворе. Но полковник Кемпбелл крайне критически оценивает эту затею:
«16 мая. Вечером этого дня в гостиной дома Наполеона были устроены «дамские посиделки». Около пятидесяти или шестидесяти женщин, одетых в лучшие платья, разместились в креслах салона. Их спутники устроились позади. Когда вошёл Наполеон, все встали. Сопровождаемый командующим Национальной гвардией и префектом, он обошёл всех собравшихся. После представления он обращался к каждой женщине с вопросом. Если она была не замужем, он интересовался её отцом, если замужем — то сколько у неё детей. После того как этот фарс был доведён до конца, он обратился к двум или трём мужчинам, стоящим подле него в конце комнаты, и наконец удалился, находясь, видимо, под сильным впечатлением от этой нелепой сцены. После этого женщины в сопровождении своих кавалеров направились по домам».
Женщинам, очевидно, весьма понравился фарс, иначе трудно объяснить неприязнь полковника. Может быть, он рассматривал этот приём как ещё один случай чрезмерной «пышности», на которую часто жаловался? Никак нет. Огромные чёрные глаза и лукавая улыбка, неотступно следовавшие за ним, — вот что так неприятно поразило его. Он пишет дальше:
«Я узнал одну молодую девушку, которая вместе с двумя сёстрами находилась рядом со мной. Всех троих я видел у них дома несколько дней назад, когда поручал сделать вышивку на мундире».
Полковник не считал пришедших важными персонами. И тем не менее он чувствовал смущение. Всё дело в том, что синьора Нетта (та самая «молодая девушка») была дочерью и главным посыльным мадам Скварци, придворной кастелянши, которая и передавала ему все новости и слухи двора.
Наполеон всё время «промахивался». То он слишком важно себя держал, то вёл себя чересчур запросто — и всё не по ситуации. Однажды вечером он остался у Пона и его жены. Всё шло прекрасно, если не считать чёрного одеяния мадам Пон, но Наполеон стойко перенёс это. После ужина рыбаки взяли его в море на лов рыбы с помощью сачка и гарпуна при свете факелов. Ночь была спокойной и звёздной. Море бесшумно ласкало прибрежный песок. Запахи с холмов струились на побережье. Наполеон, очарованный прелестью ночи, заметил Пону: «Нам нужно пройтись». Вдвоём блаженно разгуливали они до полуночи. Наконец Бертран, как всегда мечтая о безмятежном сне, вышел на улицу, чтобы встретить их.
— Уже поздно, сир. Пора быть в постели.
Стараясь успокоить своего верного оруженосца, Наполеон сразу же согласился:
— Да, ты прав, Бертран. Пойдёмте.
Но в это время из деревни до них донеслись звуки скрипки.
— Что это?
— Сир, это моряки празднуют свадьбу. Уверен, что там у них сейчас начнётся застолье, — сказал Пон.
Великий полководец, он моментально принял решение: «Давайте пойдём и посмотрим, как танцуют моряки», — и быстрым шагом направился туда, откуда неслась музыка. «О, Боже!» — пробормотал, как обычно, Бертран. Пон с удивлением и страхом посеменил сзади. В этот час, запинаясь объяснял он, когда моряки уже разгорячены вином и весельем, к нему могут отнестись без должного уважения.
— Ерунда! — бросил Наполеон. — Всё, что эти милые люди могут сделать — это пригласить меня распить бутылочку алеатико. Я хочу посмотреть, как танцуют моряки, — и он двинулся дальше. С человеком, до смерти напуганным в Ля Каладе, произошла удивительная перемена.
Но Бертран упорно плёлся позади, неутомимо повторяя свои опасения. Наполеон вдруг остановился и, освещаемый светом звёзд, взглянул на него, как затравленный зверь или как маленький мальчик, пойманный на месте преступления.
«Что ж, хорошо, — проговорил он, — в малом деле так же, как и в большом. Если всё против меня, я сдаюсь». С печалью в сердце и без разговоров они отправились спать. «О, Боже!» — повторял по дороге Бертран. Но у Пона было такое чувство, будто они обманули ребёнка.
Бедный Наполеон. Но ему ещё повезло. Там мог быть полковник Кемпбелл. И кто знает, что бы он сказал?
Вскоре у короля Эльбы появилась своя «армия», состоявшая из вновь прибывших — гвардейцев, поляков и других жандармов — и двух маленьких «батальонов» из жителей Эльбы и корсиканцев. Всего 1200 человек. Крошечный «флот» ещё находился в стадии создания.
Итак, на острове правил король, а в его распоряжении были Государственный совет (состоящий из двенадцати коренных жителей Эльбы, Бертрана, Дрюо и интенданта Бальбиани), дворец, придворные, армия и флот.
Королевскому двору не хватало лишь одного — королевы. Едва только Наполеон поселился во дворце Мулини, как приступил к постройке загородного дома. К югу, на противоположной стороне залива, была расположена покрытая виноградниками долина, в самом конце которой располагалась возвышенность, окружённая горами. Оттуда открывался вид на голубую бухту и сверкающий Портоферрайо с горой Монтегроссо позади. Вот здесь, в живописном уголке, он и построил небольшой белый дом, который назвал Сан-Мартино — по имени святого, на Эльбе, аналогичного Санта-Клаусу. В этом доме всё было выполнено по его проекту. На одной из стен начертана надпись: «Unbicungue Falix Napoleon» — «Наполеон везде счастлив», а на потолке салона были изображены двое голубей, летящих почти параллельно, головки их обращены друг к другу. Шёлковая голубая лента с орнаментом в виде узла соединяла их. Предполагалось, что узел крепнет, когда ветры судьбы пытаются разлучить их. Голуби, как всем было ясно, аллегорично изображали Марию-Луизу и Наполеона.
Но от юной голубки не было никаких вестей, и одинокий муж коротал время, занимаясь меблировкой или украшением дома, либо бродил по террасе, вглядываясь в морскую даль.
«У него с собой было несколько гравюр, — вспоминал Пон, — которые он купил в Риме. Наполеон осмотрел и по достоинству оценил их так, как если бы сам изучал искусство гравировки. Внезапно он резко оторвался от Своих дел, сильно покраснел и, весь дрожа, закричал: «Это Мария-Луиза!» Этот крик души лишил нас всех дара речи. Мы с беспокойством глядели на него. Он заметил это и попытался взять себя в руки. Внимательно рассматривая изображение на гравюре, он делал замечания относительно той или другой черты. Потом он взял в руки следующую гравюру. На ней был изображён король Рима. «Мой сын!» — произнёс он. Я и не надеюсь описать те тёплые и глубокие отеческие чувства, которые он вложил в эти слова. Это была такая трогательная сцена, что я никогда не смогу забыть её. Нежность, горечь, счастье, скорбь, надежды, разочарования, настоящее, прошлое и будущее — всё слилось в этом глубоко задушевном возгласе: «Мой сын!» Это не было криком — вряд ли кто-либо слышал его. Я не могу описать, что было. Император поднёс гравюру к лицу и опять прошептал: «Мой сын!» Потом наступило продолжительное молчание, мы не смели вздохнуть. На полчаса он замкнулся, изучая гравюру, а когда оторвался, то выглядел усталым. Затем он без слов сел в экипаж. Все чувствовали себя неловко за то, что подвергли его чувства такому испытанию. Несколько дней он был в депрессии».
Глава 9
КОРОЛЕВСКАЯ «ИДИЛЛИЯ»
Первого сентября, после захода солнца, к Портоферрайо приблизился странный бриг, гонимый лёгким попутным ветром с севера. Всю вторую половину дня Наполеон наблюдал за ним с высоты в бинокль и был заинтригован. Бриг просигналил красными и зелёными огнями и потихоньку вошёл в гавань. Предупредительного выстрела из орудия форта не последовало, и к бригу даже не направили карантинную шлюпку. Во всём этом было что-то странное. На берегу шептались, так как на бриге не было опознавательных огней, а все чужие корабли, подходящие к острову после захода солнца, бросали якорь вне гавани. Вместо того чтобы остановиться у мола, странное судно, влекомое последним дуновением стихающего бриза, проследовало через весь залив. Корабль, едва различимый в поздних сумерках, бросил якорь недалеко от побережья. Всё на корабле происходило под покровом тайны: моряки очень тихо свернули паруса и опустили шлюпку на воду. Говорили они мало и приглушёнными голосами. Их поведение наводило на мысль о высадке контрабандистов.
На юте стояла женщина под вуалью, одетая в длинный плащ. Она держала за руку маленького мальчика четырёх или пяти лет, который беспрерывно задавал ей вопросы. Кроме них на корабле были ещё одна женщина и высокий мужчина в военном мундире и золотых очках. Женщина разглядывала высокие горы, тянувшиеся на семь миль к западу и заслонявшие собой звёздное небо.
Капитан вглядывался в низкий берег, где ничего не было видно, кроме скал и нескольких олив.
Все ждали. Стояла полная тишина. Слышны были только лёгкий шелест волн, набегавших на берег, и тихий гул голосов, доносившийся из маленького городка.
Внезапно звонкий голос мальчика нарушил тишину:
— Мама, а где живёт мой папа?
— Вон там, дорогой мой. — Она попросила его вести себя потише и указала в сторону огоньков, отражавшихся в воде.
— А он живёт во дворце?
— Да, мой милый, — прошептала она.
— И мы там будем жить?
— Тише, дорогой, — сказала она.
— Тише, — повторил капитан. Ему показалось, что он слышит стук копыт и скрип колёс экипажа. Он не ошибся. В этот момент в оливковой роще мигнул фонарь, и кто-то приглушённо свистнул два раза. Низко склонившись, капитан помог пассажирам спуститься в лодку.
— Доброй ночи, ваше величество, — прошептал он сначала женщине, а затем ребёнку. Он был уверен, что под вуалью прячет своё лицо императрица.
Помощник капитана направил лодку к устью маленького ручейка, откуда им сигналил белый огонёк. Рядом с фонарём, держа шляпу в руках, стоял генерал Бертран. Мальчик обратился к нему с лодки:
— Это ты мой папа?
— О, Боже, — пробормотал гранд-маршал. Этим вечером он часто повторял эту фразу.
Оливковая роща напоминала теперь кавалерийский лагерь. Здесь гостей ожидала императорская карета, запряжённая шестёркой взмыленных лошадей, а также грациозная верховая лошадь императрицы с особым седлом, которое наконец пригодилось. Рядом стояли ещё несколько осёдланных лошадей и два мула для багажа в сопровождении нескольких конюхов.
Женщины и ребёнок сели в карету, мужчина поехал верхом.
— Мама, смотри — сказочный замок! — показал мальчик через залив, когда они выехали из рощи. Восходящая луна очерчивала своими серебристыми лучами утёсы и форты Портоферрайо. Постепенно в темноте вырисовывались горы, долины и виноградники. Вскоре серебряным светом было залито всё побережье, и удивлённые женщины согласились с мальчиком в том, что они действительно попали в сказочную страну... хотя дороги в этой стране были на удивление ухабистыми.
Возбуждённые увиденным, капитан корабля и его помощник направились в шлюпке в Портоферрайо и затем в городских тавернах хвастали, что привезли с собой императрицу и её сына. Но это были люди из Неаполя, и никто не обратил особенного внимания на их слова. Зачем было императрице скрывать свой приезд на Эльбу и входить на остров через заднюю дверь?
И действительно, капитан ошибался, хотя его нельзя за это слишком сильно винить. Женщина, которую он назвал «ваше величество», легко могла исправить его ошибку, однако она этого не сделала. Это была Мария Валевская со своим сыном Александром, а другая женщина — её сестра Эмилия. Мужчина в военной форме и очках был брат Валевской — полковник граф Теодор Лакзинский. Визит на остров, по её представлениям, должен был продлиться достаточно долго. Когда они покатили в северо-западном направлении, сердце её затрепетало любовью и надеждой. Теперь она была свободной женщиной: её престарелый муж скончался. Несостоятельность и слабость духа императрицы давали ей свободу действий, а теперь Марии стало известно и о её измене. Графиня всегда была ему преданным другом. Когда была хоть какая-то надежда, что эта недостойная жена выполнит свой долг, она держалась в стороне. Теперь, в первый раз за все последние годы, она могла поехать к Наполеону без малейшего зазрения совести. Во времена бедной Жозефины, которой сейчас уже не было в живых, она чувствовала перед ней свою вину и часто расстраивалась из-за этого. Теперь у неё было право занять пустующее место. Однако совсем не это было главной причиной её приезда — она до сих пор страстно любила Наполеона и даже теперь совсем не думала о своём благополучии, а чувствовала свой долг находиться рядом с императором в столь трудное для него время. Она искренне страдала, когда представляла себе его одиночество. Она скромно надеялась, что является единственной из оставшихся в живых женщин, которая может скрасить его жизнь, облегчить груз тяжёлых воспоминаний и создать душевный комфорт. Ей было всего двадцать шесть, она немного располнела, но была по-прежнему красива. Ему было сорок четыре. Он достиг того возраста, когда старый костёр пылает с той же силой, а нового уже не разжечь. Они могли бы быть прекрасной парой. Вначале, без сомнения, они должны будут скрывать свои отношения, как когда-то делали в Париже. Она остановится в каком-нибудь маленьком домике в городе, а может быть, лучше где-нибудь здесь, в этой залитой лунным светом сельской местности. По вечерам она будет стучаться в заднюю дверь его дворца, и Констан (или тот, кто сейчас выполняет эту роль) станет тайным свидетелем их свиданий. А после развода Наполеона с Марией-Луизой, вероятно, она станет королевой Эльбы. Мария Валевская улыбнулась своим мыслям. Мальчик спал, Эмилия тоже была готова заснуть. Охваченная особой нежностью, она даже слегка дрожала, как молоденькая девушка, которую везут к её первому возлюбленному — страстному юноше.
Совсем недалеко от неё на острове этот «юноша» томился в ожидании, охваченный любовным пылом. Наполеон по вполне разумным причинам хотел сохранить этот визит в тайне. Поэтому он не встречал их, чтобы избежать любопытных глаз и сплетен. Он не находил себе места и был страшно возбуждён мыслью о предстоящей встрече после столь долгой разлуки со своей «польской кеной». Он позвал посыльного, и, окутанные лунным светом, они осторожно поехали вниз.
После недолгого пути по недавно проложенной дороге мальчик проснулся. Мария Валевская и её сестра, держась изо всех сил, чтобы не полететь кувырком, усердно мотались, чтобы эта поездка поскорее кончилась. Наконец, после страшного толчка, экипаж остановился, опасно наклонившись, и Мария выглянула в окно. Там, совсем близко от неё, на фоне сияющего моря, стоял император — её император. Глубоким, столь любимым голосом он трепетно произнёс одно слово:
— Мария.
Он взял её руку и прижал к своим губам, затем выпрямился и с дрожью в голосе сказал:
— Мадам, вы приехали спасти наше отечество. Мы рады вашему приезду и приветствуем вас. Как вы доехали, Мария?
— Нормально, Наполеон, но у меня все кости болят. Помоги мне спуститься, пока твоя карета не перевернулась.
— Вижу, характер у тебя такой же, — прошептал он, помогая ей сойти вниз. — Это твоя сестра? Дайте мне мальчика, мадам. — Он взял Александра на руки, и тот почти сразу же опять заснул.
Вначале они проехали милю вдоль побережья, а потом им предстояло взобраться на высоту двух тысяч футов. Наполеон возглавлял процессию вместе с проснувшимся Александром, которого усадили на лошадь впереди императора. Дорога была извилистой и каменистой; лошади двигались осторожно, с большим напряжением, высекая подковами искры. Поднявшаяся на небе луна ярко освещала Их путь и все его небезопасные участки. Эмилия была встревожена и нервничала, недовольная столь странным приёмом. Она не доверяла своей лошади, прекрасно знавшей дорогу, и на каждом повороте еле удерживалась в седле. От её лошади шёл пар, и ей это не нравилось. Почему, задавалась она вопросом, их не отвезли во дворец?
Но сердце Марии Валевской сжималось от счастья. Она ни капельки не сомневалась в надёжности своей лошади. Наполеон напевал «Марсельезу», и маленький Александр старался ему подпевать. Ей нравился этот лунный свет, заливающий холмы, сочащийся сквозь листву, эти глубокие тени в долине, прохладный сладковатый воздух с привкусом вереска и сосны. Да, это лучше, чем дворцы, подумала она. Любую женщину можно провести во дворец через заднюю дверь, но не каждую невесту вождь корсиканцев приглашал в своё горное логово под покровом ночи.
— Папа, давай споем ещё, — раздался тоненький голосок мальчика, и у матери на глаза навернулись слёзы.
— Но ты должен выучить слова, — ответил отец. — Подпевай! Любовь к отечеству святая...
— Любовь к отечеству...
На высоте им открылся совсем другой мир, свободный от пыли и грязи. Здесь росли папоротники и мох, журчали маленькие ручейки и крохотные водопады, в водах которых игриво плескалась луна.
Когда они наконец спешились, Александр уже громко проговаривал четыре выученные им строки песни. Сопровождавшие их слуги замерли в восхищении. Даже Эмилия, хотя и растирала уставшие ноги, не сожалела ни о чём. Белое жилище отшельника проглядывало сквозь ветви каштанов, окна приветливо светились. Невдалеке от палатки Наполеона горел костёр. Беспорядочно разбросанные, изломанные горные вершины и море в отдалении были сплошь окутаны серебристым сиянием. В стороне Портоферрайо мерцали несколько огоньков. Где-то рядом журчали горные ручьи.
Наполеон подошёл к Марии и взял её за обе руки. Она вздохнула, как невеста, которая дождалась свидания со своим возлюбленным.
Они уложили мальчика спать и сели ужинать в палатке, в тесном кругу, без придворных. Бертран уехал обратно в Портоферрайо. Наполеон вёл себя как обычный счастливый человек, не стеснённый присутствием официальных лиц и соблюдением этикета. Он оказывал знаки внимания и дружеского расположения Эмилии и Теодору, которые осознавали, что являются всего лишь почётными зрителями этой очаровательной семейной встречи. В своё время так начиналась их любовь в Варшаве. У тарелки Марии Валевской лежал букетик диких цветов. Она сразу же приколола его к груди над сердцем. Наполеон, с любовью наблюдая за ней, приложил руку к левой стороне груди и улыбнулся. На протяжении всего ужина они постоянно посылали друг другу эти условные сигналы из прошлой жизни, едва ли заметные для других. Наполеон не затрагивал никаких серьёзных тем. Он с лёгкостью рассказывал о незначительных проблемах, с которыми сталкивается монарх на Эльбе — например, о любовных похождениях гвардейцев.
— Они продолжают называть меня сувереном, — смеялся он. — Но в действительности я не более чем отец множества семей, нянька, домоправительница Эльбы! Мои гвардейцы многие годы сражались и испытывали лишения, они следовали за мной повсюду, переходили через Альпы. И теперь очутились на южном острове, женщины которого так же чудесны и привлекательны, как и климат! А ведь они привыкли наступать. Была б моя воля, я отдал бы им всех женщин мира. Они вполне заслужили этого. Но моя маленькая Эльба — это не весь мир. Ресурсы наши ограничены, и значительное увеличение населения подорвёт экономику острова. Кроме того, существуют определённые приличия. Мы не в Париже, а в Портоферрайо. Это там человек может без устали грешить, и никто этого не заметит. Здесь же, едва мужчина взглянет на женщину, сразу идут толки. Это провинция, деревня; за каждой занавеской сидит старушка и зорко за всеми смотрит. Кроме того, мы ведь не балаган актёров, которых уже завтра не сыщешь. Это Императорская гвардия, покрывшая себя славой. Короче говоря, мы должны вести себя очень почтительно и осторожно. Очень часто ко мне приходят отцы семейств с просьбой, чтобы тот или иной солдат женился на его дочери. Матери требуют, чтобы солдата наказали. Иногда после длительного размышления мы выбираем женитьбу, иногда — выносим дело на суд офицеров. Что касается двора, в этом отношении мы строги. Один из моих капитанов жил с одной дамой как с женой, только брак не был заключён. И после этого он обратился с просьбой быть принятым во дворце, однако получил отказ. За некоторыми женщинами тоже нужен глаз да глаз. Их поведение могло бы остаться незамеченным при дворе в Тюильри, но это двор Эльбы!
Он рассмеялся, Эмилия и Теодор тоже, но по спине Марии Валевской прошёл лёгкий холодок.
— Представляете — Гатти, аптекарь, — продолжал он, — женился здесь. Даже мой милый Дрюо, мой губернатор, главнокомандующий, всегда отличавшийся своей чистотой и аскетизмом, и тот влюблён. Он всегда носит в своём кармане Библию, а во время сражений, говорят, носил даже две. Проблема состоит в том, что девушке всего двадцать лет, а генерал уже весь седой. Подозреваю, что он никогда не целовал женщину, разве что свою мать. Не знаю, что делать. Я интересуюсь у Дрюо, как продвигается его итальянский. Кажется, они выучили уже много существительных и несколько прилагательных, но с глаголами у них туго. Я спросил его, как по-итальянски «любить». Он не ответил и посмотрел на меня с укором, как обиженный ребёнок. Этот прекрасный солдат, которого наконец полюбили, должен жениться и наделать для Франции других прекрасных солдат. Что нужно в данной ситуации — так это проявить инициативу. А какая же инициатива без глаголов? Я послал девушке маленькую книжечку с французскими и итальянскими глаголами, предварительно отметив те, которые она должна выучить; при этом особенно отметив глагол «любить». Они вместе учатся по этой книге. После трёх уроков особого прогресса в их отношениях достигнуто не было. Девушка вела себя слишком застенчиво, а мой великовозрастный болван не проявлял никакой инициативы. Однажды я решил устроить экзамен своим ученикам. Я заставил их сказать несколько простых фраз: «я иду», «я ем», «я пью», «я говорю». Затем я спросил: «Ну, мои дорогие, а как будет «я тебя люблю?» Девушка зарделась, как вишня, и выпалила: «Je t aime». — «Хорошо, — похвалил я, — но это надо произносить с чувством». Она посмотрела на генерала и повторила: «Je t aime», — так, как могла сказать сама Далила. И невооружённым глазом было видно, что Дрюо — Самсон великий[46] — был прямо-таки растроган. «Теперь, генерал, — сказал я, — как ты ответишь на это?» — «tо t’amo», — ответил генерал и тоже покраснел. «Громче, — попросил я, — с чувством. Вот так, хорошо. А теперь оба вместе». К концу этого прекрасного представления я сказал: «Благословляю вас, дети мои!» — и оставил их одних. И теперь мой добрый генерал написал письмо своей матери с просьбой благословить их брак!
Все рассмеялись. Но Марию Валевскую встревожили рассказы Наполеона, и лёгкое предчувствие беды омрачило её настроение. Он внезапно взглянул на неё, улыбнулся своей мальчишеской улыбкой и приложил руку к сердцу. Она прикоснулась к букетику, и все сомнения были забыты.
Марии и Эмилии отвели комнаты в жилище отшельника. Наполеон расположился на ночлег в палатке. Потом они решили прогуляться к краю плато.
Они остановились под каштаном, откуда открывался чудесный вид. Залитый серебристым светом остров напоминал дорогое украшение на синем бархатном платке. Только свет маяка в Портоферрайо мог соперничать с ослепительным светом звёздного неба.
— Дорогая Мария, тебе нравится моё королевство?
— Это очень милое маленькое королевство, Наполеон.
Он усмехнулся:
— Да, лучше не скажешь. Повернись-ка к свету. Я хочу взглянуть на тебя. Да, прекрасна, как и раньше. Ты совсем такая же. А я изменился, как по-твоему?
— Ты потолстел, Наполеон. Но ты очень хорош. Для меня ты тот же самый. — Она любовно похлопала императора по животу. Потом перевела взгляд на его правую руку и спросила: — Ты носишь моё кольцо?
— Да, Мария. Мы никогда не должны были разлучаться, никогда, — Он обнял её.
Козы своим блеянием разбудили всех очень рано, но женщины сразу же заснули опять. Наполеон и Александр поднялись почти одновременно. Мальчик побежал болтать с конюхами, а император начал диктовать Перезу одно из своих распоряжений Бертрану: «Месье Бертран, напиши княжне Полине, что я получил её письма из Неаполя. Скажи ей, что я оскорблён тем, что некоторые из них были вскрыты. Как будто я заключённый. Я считаю это смехотворным и оскорбительным».
После завтрака он учил Александра ездить на лошади и петь «Марсельезу». Александр был красивым живым мальчиком, и отец был страшно горд и доволен им.
После обеда вместе с Марией он взобрался на вершину горы. День был жарким и ясным, но в расщелинах клубился туман, и вершина горы утопала в облаках. Из страны залитых солнцем вересковых зарослей и весёлого жужжания пчёл они попали в мир промозглого белого безмолвия. Но ветер с запада прогнал облако, и они увидели скалистую Корсику — родной остров императора. Горы казались чёрными. Солнце находилось позади них.
— Там я родился, Мария, — просто сказал он. — В Аяччо. На другой стороне острова. Жаль, что я не могу тебе показать этот город.
Он привёл её к небольшому округлому камню.
— Как Юнона и Юпитер[47], мы будем взирать отсюда на грешную землю, — он усадил её на камень, поклонился и поцеловал ей руку. — Скажи, а ты меня всё ещё любишь?
— Ты знаешь, что люблю. Почему ты не принял меня в Фонтенбло?
— Ох, моя дорогая. Той ночью у меня было столько проблем, а утром я попросил тебя позвать, но ты уже ушла. Извини, пожалуйста, — ответил он и нахмурился.
Они смотрели на восток. Перед ними расстилалась вся Эльба, за ней узкая полоска моря и побережье Италии.
Наконец она мягко спросила:
— Ты счастлив здесь, Наполеон?
— Я должен быть счастлив, — ответил он. — Но они плохо со мной обращаются. У меня нет ни жены, ни ребёнка, ни компании, ни денег.
Она страстно хотела сказать: «Я составлю тебе компанию и, если захочешь, рожу тебе ещё одного ребёнка». Но момент был очень серьёзным, и она не посмела.
— Я мог бы быть счастлив, если бы завершил начатое дело, — продолжал он. — Если бы у меня было ещё двадцать лет, ты бы увидела меня во главе объединённой Европы. Мария, это было бы великое государство, союз всех наций, живущих в мире и согласии. Без войны нет мира. Но мне этого не дали сделать. Я погибший человек.
Она сжала его руку:
— Ты не должен так говорить, Наполеон.
— Но это правда, милая Мария.
— И ты никогда не вернёшься во Францию? — взволнованно спросила она.
— Нет, Мария. Слишком поздно. Весь мир против меня, а сила у него есть. Я должен умереть здесь, если они мне позволят.
Грозный Юпитер, он презрительным оком окинул дальний мир, который от него отвернулся.
Мария с благодарностью в сердце вознесла молитву Господу за эти слова. Она ждала от него приглашения остаться с ним навсегда, но вместо этого он продолжал ей изливать душу.
— Через двадцать лет, — размышлял он вслух, — я мог бы изменить лицо Франции и Европы. Я бы показал им разницу между конституционной императорской и самодержавной королевской властью во Франции. Все короли думают только о себе, о своих сыновьях и никогда о простых людях, никогда о будущем. Они живут только настоящим. Возьмём, например, Париж. Если бы за последние тысячу лет в Париже тратили на постройку каменных зданий те деньги, которые были выброшены на деревянные, обтянутые расписной материей строения, услаждающие королевские вкусы, Париж был бы одним из чудес света.
Мария, как всегда, внимательно его слушала.
— Во время своего правления, — продолжал он, — я строил крепко и надолго. Как ты думаешь, Мария, они сейчас об этом помнят? Или они думают обо мне как о кровожадном корсиканце, который захватывал их города и убивал их сыновей? Ты знаешь, Мария, что до меня в Париже не было канализации? Ты смеёшься, Мария. Но я хочу остаться в памяти людей не только как великий победитель, но и как человек, который построил канализацию, доки, дороги и каналы, мосты и здания, ввёл пост префекта, учредил справедливые законы.
— Я смеюсь не над тобой, Наполеон, — мягко ответила она. — Я вспомнила о тех глупостях, которые они говорят о тебе.
— Над чем они смеются? — спросил он. — Над теми огромными доками, которые были сделаны по моему приказу в Антверпене?..
Он не стал рассказывать Марии обо всех реализованных делах и проектах, упомянув лишь о некоторых из них. Он рассказал ей о том, как хотел положить конец превосходству Англии в морях и океанах, её преступной политике присвоения себе чужих прав; сделать морские пространства свободными для передвижения кораблей под различными национальными флагами. В этом он рассчитывал на поддержку других стран.
— Я тебя утомил, Мария? — спросил Наполеон, прервав свои размышления.
— Нет, правда нет! Ты ведь знаешь, я люблю тебя слушать. — И это было правдой. Она была горда тем, что её посвящают в такие секретные планы. К тому же она всегда старалась поддерживать его, и если бы даже он неустанно повторял десять заповедей, она бы всё равно внимательно его слушала и не жаловалась. Она была растрогана его откровенностью — великий Юпитер взирал с высоты на неблагодарный мир.
— А теперь, — внезапно проговорил он, — я не могу видеть даже свою жену.
И он начал с теплотой, с излишней теплотой, как ей показалось, рассказывать о Марии-Луизе. Он ни в чём её не винил, считая, что она очутилась в руках жестоких людей, которые перехватывают или задерживают её письма. Он говорил о том, что не собирается сдаваться, что один из его офицеров находится сейчас у императрицы и, по его расчётам, через неделю или две привезёт её на Эльбу.
Мария Валевская ничего не ответила. Она просто не могла сказать ему о том, что Мария-Луиза никогда не приедет.
Ветер посвежел, и стало прохладнее. Внезапно он поднялся на ноги и повёл себя опять как влюблённый юноша.
— Прости меня, Юнона! Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только один этот бесконечный день на Олимпе. Моя дорогая Мария, есть только ты и я! Обними же своего потрёпанного жизнью Юпитера!..
Остаток дня прошёл без печали. Александр, одетый в польский костюм, прятался среди деревьев. Наполеон опять играл роль чуткого молодого любовника. Вечером за ужином, находясь в приподнятом состоянии духа, вдали от условностей дворца, он развлекал общество рассказами о своих придворных и о высшем обществе Портоферрайо.
Внезапно он указал в направлении моря:
— Что это там такое?
Весь Портоферрайо сверкал огнями.
Рано утром было доставлено письмо от генерала Дрюо.
Вскоре после завтрака мэра селения Марчиана, находившегося неподалёку, пропустили в палатку Наполеона, и оттуда стали доноситься раздражённые речи. Вскоре пригласили Марию Валевскую. Когда она вошла, Наполеон расхаживал по палатке взад-вперёд, комкая в руке за спиной письмо.
— Доброе утро, моя дорогая. — Он был озабочен, но, как всегда, учтив.
— Что-нибудь случилось?
— Плохие новости. Ты видела огни прошлой ночью?
— Да, Наполеон.
— Эти огни были зажжены в честь императрицы.
— Она здесь?
Для неё это был удар.
— Нет, нет, — произнёс он с оттенком нетерпения в голосе. — Я имел в виду, что они горели в твою честь. Люди думают, что ты — Мария-Луиза, а Александр — король Рима.
— О, мой милый, — проговорила она с широко раскрытыми глазами. — Но почему?
— Ты примерно такого же роста, как Мария-Луиза. И мальчики примерно одного возраста. О вашем приезде рассказали моряки и конюхи — вот идиоты.
Он не стал ей докладывать все подробности этой ужасной ошибки, так как сам не верил в то, что ему сообщили. Дело в том, что после того, как неаполитанский корабль отплыл, к байкам моряков стали относиться с большей серьёзностью. Женщина называла ребёнка сыном императора. Ко всему этому добавились слухи, распускаемые кучерами и форейторами. Некоторые из них когда-то находились на службе в Тюильри и теперь говорили, что, несмотря на вуаль, узнали в прибывшей женщине Марию-Луизу. В конце дня почти все на острове были убеждены в приезде императрицы и вечером без каких бы то ни было распоряжений свыше выразили свой восторг по этому поводу, поставив на окна лампы и свечи. Сам Дрюо был тоже встревожен, так как простые люди не верили ему, и городские власти хотели знать, как им поступить. Если эта женщина приехала ненадолго (как предполагал Дрюо), будет лучше, если она отплывёт ночью.
Мэр Марчианы, как сообщил ей Наполеон, принял на веру все эти слухи и приказал украсить своё селение приветственными огнями. Этим утром он поднялся на гору специально для того, чтобы высказать своё почтение императрице, а вместо этого получил резкую отповедь. Со стороны Наполеона это была явная оплошность.
— О, мой милый, — со вздохом повторила графиня.
— Ты видишь, — сказал он. — Это подтверждает то, о чём я говорил тебе прошлым вечером: в этой дыре ни от кого не может быть секретов.
«Если бы я открыто, как все другие путешественники, сошла на берег в Портоферрайо, никаких бы особых проблем не было бы», — подумала она, но не высказала эту мысль вслух. Теперь людям необходимо ясно и недвусмысленно сказать, что она не императрица. А кто она такая — это не их дело. «Без сомнения, сейчас разразится лёгкая буря», — пронеслось у неё в сознании.
Но Наполеон сказал следующее:
— Я очень сожалею, моя милая Мария, но будет лучше, если ты сегодня же поедешь обратно в Италию.
— Как, Наполеон, сегодня?!
Конечно, она не была уверена в том, что он предложит ей остаться с ним навсегда, но, по крайней мере, рассчитывала провести с ним хотя бы ещё несколько дней любви и блаженства.
— Ты не понимаешь, — начал терпеливо объяснять он. — Скоро приедет императрица — не более чем через неделю или две. А если до неё дойдёт хоть часть этих дурацких слухов — она может не приехать вообще.
Мария Валевская не могла ему объяснить истинную причину отсутствия Марии-Луизы. Она знала, как он жестоко обманут в своих надеждах, и ей было больно видеть его страдания.
— Императрица! — закричала она. Он никогда раньше не думал, что её голос может звучать так резко. — Императрица никогда не приедет! Я это знаю!
— Знаешь, Мария?
— Да!
Она с честью выдержала его долгий пристальный взгляд. Он сдвинул брови, и на лице его появилось выражение беспредельного гнева. Затем внезапно его лицо просветлело. «Без сомнения, это какие-то сплетни. Возможно, просто скрытая ревность», — подумал Наполеон.
— Бедная моя Мария, — ласково произнёс он, — я очень сожалею о том, что произошло сегодня. — Он потрепал её по щеке. — Я всё устрою, — сказал он и вышел из палатки.
С этого момента непринуждённость и веселье покинули гостей императора. Наполеон в своей палатке диктовал Теодору письмо для Мюрата относительно поместий Валевской и о других, более важных для него вещах. Сёстры упаковывали свои вещи, а потом повели мальчика гулять. Погода испортилась. С самого утра уродливые кучевые облака окутали вершины всех гор на острове. К полудню солнце исчезло, и всё небо приняло грязно-серый оттенок. Затем, начиная с юго-восточной оконечности острова, тучи начали отрываться от горных вершин и сползать вниз по склонам, как пена из кипящего горшка. Тяжёлые, низкие тучи так зловеще нависли над островом, что вполне разумно было ожидать сильного ветра. Но листья каштанов продолжали оставаться неподвижными, и только вдали в море виднелись белые барашки. Около часу дня к селению Марчиана подошёл бриг. Корабль раскачивался и прыгал на волнах, и все поняли, что на море совсем не так спокойно, как казалось. Наполеон поспешил сообщить, что этот бриг принадлежит острову. Александр похвастался, что его ни за что не укачает в такую погоду, и император похвалил его за это.
— А меня укачает! — печально сообщила Эмилия.
Обед был унылым, присутствующие едва переговаривались между собой. Александр задавал много вопросов, и Мария терпеливо на них отвечала. Наполеон ел быстро и говорил мало. Он предложил отдохнуть после обеда и направился в свою палатку. Заснул только Александр. Эмилия, озадаченная охватившим всех бурным настроением и перспективой скорого отъезда, донимала свою сестру бесконечными вопросами. Мария отвечала на них коротко:
— Мы должны ехать. Он этого хочет.
Теперь она понимала, что имел в виду Констан в ту ночь в Фонтенбло, когда сказал о Наполеоне: «Как будто сознание его помрачилось». Мария тяжело переживала свалившееся на него горе. Все её надежды, сам смысл её жизни были теперь разрушены.
Наполеон позвал её в жилище отшельника. Она вышла из палатки. Теперь вся каштановая роща была в движении. Ветер усилился. Наполеон сообщил ей, что мэру очень не нравится погода и что, если ветер ещё усилится, доставить женщин на борт в маленькой лодке будет невозможно. Уже сейчас это было достаточно сложной задачей.
— Я приказал им плыть вокруг острова в Лонгоне. Когда погода будет лучше, ты сможешь сесть на корабль там, — сообщил Наполеон.
— А почему не в Портоферрайо? — спросила она. — Ведь он ближе, правда?
— Потому что, моя дорогая...
Но она сразу же его остановила. Разумеется, она знала ответ. Её не должны были видеть в Портоферрайо.
— Естественно. Я всё понимаю, Наполеон, — сказала она с горечью.
— Но только не сегодня вечером. Надо подождать, пока погода улучшится.
— Нет, — твёрдо возразила она, высоко держа свою маленькую головку. — Мы для тебя обуза, поэтому должны ехать, и чем скорее, тем лучше. Мы поедем сегодня.
— Но, Мария, — теперь он выступал в роли смиренного просителя.
— Наполеон, — с гордостью произнесла она, — да, я не императрица. Но, по крайней мере, знаю, как должна вести себя «польская жена». Будь любезен, прикажи заложить карету.
Теперь в его взгляде не было и следа злобы, а только немое удивление и восхищение. Какой же удивительной она была женщиной! И какой бы императрицей могла стать!
В конце концов он согласился:
— Будь по-твоему, Мария.
Ожидая карету, они бродили среди деревьев и скал, опять чувствуя себя легко и свободно. В своей беседе они не касались темы приезда Марии-Луизы, не высказывали друг другу никаких сожалений или упрёков. Они нашли в себе силы покориться судьбе. Они целиком погрузились в воспоминания о прекрасном прошлом. Очень часто звучал трогательный вопрос: «А ты помнишь?» Они говорили также о сыне, и он дал ей относительно его воспитания несколько ценных советов:
— Все твои нравоучения принесут ему очень мало пользы, если в сердце у него не будет священного огня любви и доброты, которые могут творить чудеса.
Утомлённый Перез доложил, что карета готова.
— Ну что ж, тогда поехали, — вздохнул Наполеон. — Но ты не должна отплывать, пока погода не улучшится. Тебе не придётся долго ждать. Обещаешь?
— Как и ты, Наполеон, — с улыбкой отвечала она, — я не могу ничего обещать.
Но потом, упав в его объятия, она прошептала:
— До свидания, Наполеон. Я бы осталась с тобой навсегда. И если когда-нибудь ты меня позовёшь, я приеду.
Он проводил их до селения и, прощаясь, крепко обнял мальчика. Мария Валевская шёпотом произнесла:
— До свидания. Надеюсь, что она приедет.
Мэр, начальник порта и капитан корабля предложили им провести ночь в императорском доме, где для них были приготовлены комнаты. Но Мария отклонила это предложение:
— Мы поедем сейчас. Таково желание императора. Это его приказ.
— Но это опасно, — возразил капитан.
— Думаю, что ветер уже поутих, — сказала она, и это было правдой.
Наконец она убедила капитана, и они отчалили. Мария Валевская в последний раз обратила свой взор к Эльбе — острову, где она надеялась в любви и счастии окончить свои дни.
Наполеон вернулся в своё жилище, полный невыносимого гнева на судьбу и искренней нежности к Марии Валевской. Он был уверен, что поступил правильно, но расставание стало для него настоящей мукой. Бушующая стихия наполнила его душу страхом и страданием. Что же он наделал? Быть может, он послал этого самоотверженного и преданного ему человека навстречу гибели. Нет, нет — в такую ночь они не позволят ей отплыть. Может быть, и позволят! Он приказал подать ему лошадь и уже собрался помчаться вслед за ними. Но вернувшийся Перез, несмотря на усталость, переубедил императора и, взяв себе свежую лошадь, спустился вниз с приказом Наполеона не отпускать Марию Валевскую в плавание этой ночью. Но когда он добрался до Лонгоне, корабль уже отошёл от берега.
В это же время Мария-Луиза, находясь в Швейцарии, развлекалась с графом Нейпергом.
Глава 10
ПОЛИНА
— Вы превосходно поёте! И что за удивительная песня! — Пальцы генерала Нейперга с лёгкостью носились по клавишам, а глаза были устремлены на пунцовую от смущения императрицу. Она смотрела на него сверху вниз, облокотившись на фортепьяно, и думала о том, насколько он хорош. Как же она раньше этого не заметила? Ей нравились его волнистые волосы, и единственный, блистающий ярким светом глаз выглядел очень трогательно. После долгих просьб она наконец решилась спеть французскую песню «Моя любовь». Как правило, раньше она не решалась петь при посторонних. Голосок у неё был слабый и трепетал на высоких нотах. Зато никогда не фальшивила. Генерал не имел перед собой нот, но аккомпанировал превосходно, потому что знал эту песню, о чём ей не сказал. Он предпочитал исполнять немецкие песни. И всё же «Моя любовь» была неплохим началом. Он заметил, как глаза Марии-Луизы во время её исполнения наполнились нежностью.
Затем они спели дуэтом.
— Теперь должны петь вы, — сказала она.
Он не стал ломаться:
— Если её величеству будет угодно.
— Вы должны помнить, что я всего лишь герцогиня.
— Приношу свои извинения.
Своим приятным баритоном он исполнил короткую немецкую песню о влюблённой пастушке, несчастной от того, что её возлюбленный ушёл к другой. Песня ей понравилась...
Возможно, телепатические способности Наполеона помогли ему всё понять. Шестнадцатого сентября он встретился с Кемпбеллом, которого сильно поразило настроение императора. По его словам, в его облике было что-то дикое... Тем не менее, рассуждая на различные темы, он вёл себя сдержанно, за исключением тех случаев, когда разговор касался его жены и ребёнка.
В октябре перья орла Эльбы окончательно потускнели, а гордо поднятая голова поникла. Наполеон много размышлял над своими неудачами и издавал жёсткие указы, пытаясь наладить экономику острова. Франция пока продолжала вести по отношению к нему жёсткую политику, и его общий доход составлял не более трёхсот тысяч франков (включая с неохотой выплачиваемые «контрибуции»), а расходы, включая содержание войск, флота и двора, превышали миллион франков. «Из достоверных источников я получил информацию, — писал Кемпбелл, — что его денежные средства на данный момент почти что полностью израсходованы». Как с такими ничтожными надеждами на будущее он мог продолжать осуществлять свои грандиозные планы улучшения жизни на острове? Неудивительно, что кипучая созидательная энергия первых нескольких месяцев в конце концов истощилась. Планы по постройке новой гавани в Рио-Марина, плавильных печей, колонизации Пьяносы и реализации других мероприятий пришлось оставить.
Не только собственное бедственное положение являлось причиной ярости и гнева Наполеона. Ни одно из обещаний по отношению к членам его семьи и его придворным не было выполнено: денежные пособия его матери и братьям, а также пенсии старым солдатам не выплачивались. Ко всему этому у него отняли жену и ребёнка.
Десятого октября он сделал ещё одну попытку воссоединиться с семьёй. Великий император обратился с просительным жалобным письмом к дяде Марии-Луизы, эрцгерцогу Тосканы:
«Мой брат и дорогой дядя! Так как с десятого августа я не получаю никаких известий о своей жене и уже в течение шести месяцев и о сыне, я направляю к вам шевалье Колонна с данным письмом. Я прошу Ваше Королевское Высочество разрешить мне каждую неделю направлять императрице по одному письму и оказать любезность посылать в ответ любые новости о ней, а также письма от графини Монтескье, гувернантки сына. Я тешу себя надеждой, что, несмотря на все события, которые изменили отношение ко мне, Ваше Королевское Высочество сохраняет ко мне дружеское чувство».
Эрцгерцог переправил письмо императору Францу. Тот прочёл его, показал Марии-Луизе и запретил ей отвечать на него.
Отныне Наполеон потерял душевное равновесие.
В октябре шпионы сообщали, что Наполеон «катится под гору». У него появилось пристрастие к глупым развлечениям и общению с недостойными людьми. Особенно часто пересказывали историю с бедным Бертраном. Наполеон был на рыбацком пиру в честь удачного улова. После окончания праздника он подобрал пригоршню мелкой живой рыбёшки и сунул её в карман Бертрану. Затем он попросил одолжить ему платок. Бертран сунул руку в карман и моментально выдернул её обратно. Наполеон весело рассмеялся — он любил разыгрывать гранд-маршала. Этот рассказ, как ужасающий знак моральной деградации, облетел весь мир. Кроме того, он занимался метанием колец и играл в другие невинные, но глупые игры. По сообщениям шпионов, деградация императора зашла так далеко, что никто уже не испытывал никакого страха перед этим человеком. Спустя много времени это странное поведение стали приписывать хитрости Наполеона, задумавшего ввести мир в заблуждение.
К концу октября пятьдесят гвардейцев подали прошение об увольнений со службы, а Наполеон, по словам очевидцев, всем своим существом старался показать, что лично ему не на что больше надеяться в жизни.
Тридцатого октября на эту обитель уныния и скорби, как дождь из золотых монет или цветков роз, как яркая комета или добрая фея, снизошла княгиня Полина.
На этот раз она приехала надолго, и весь остров находился в радостном возбуждении. В знак приветствия горожане поставили на окна свечки. Это являлось наивысшим проявлением уважения. Наполеон поселил её на первом этаже дворца Мулини, который был подготовлен для Марии-Луизы. Теперь они могли видеться в любое время.
Полина, встревоженная рассказами матери о душевном упадке Наполеона, который она и сама заметила, сразу же принялась за дело. Обрадованный её присутствием Пон говорил, что «у неё есть все качества ангела-утешителя. Только король Рима мог быть для него более желанным гостем... Эта милая, любящая и добрая женщина заряжала весельем всех окружающих. Можно считать, что в императорском дворце не было никого лучше...»
Наконец в доме появилась молодая женщина. В саду раздался весёлый смех, теперь было кому следить за цветами, за приготовлением пищи и за лакеями. По вечерам втроём они могли играть в карты. К тому же Полина знала толк в шахматах.
В первый же вечер к ужину она облачилась в великолепное темно-бордовое бархатное платье, надела рубиновые серьги и жемчужное ожерелье. Матери и брату платье очень понравилось, и, демонстрируя его, Полина с гордым видом расхаживала взад-вперёд.
— Ой, — вдруг сказала она, — Подождите! Танцевать в нем слишком жарко. Оно сделано так, что если его снять, под ним останется платье для танцев. Смотрите! — Она чуть спустила верхние края бархатного платья. Под ним было платье из дорогого синего шёлка. — Разве не умно? — Но в этот момент камергер объявил ужин, и Наполеон резко сказал:
— Полетт, не сейчас!
— Я вам только показала, — сказала она, поправляя бархат. — А как тебе нравятся мои серьги? Это подарок, Наполеон, поэтому ты не должен осуждать меня.
— Они очень красивы, моя дорогая. Но здесь ты не должна выглядеть слишком уж великолепно. Здесь у женщин не так уж много драгоценностей.
— Наполеон, как ты провинциален!
Гордая Полина любила своего брата так сильно, что могла стерпеть от него любой упрёк, и, как правило, у неё это хорошо получалось, но кроткой она не была никогда.
— В провинции, — сказал Наполеон, — каждый должен считаться с местными обычаями.
— Но я думаю, ноги-то у них есть, — сказала Полина, — и они умеют танцевать? Когда будет бал? — Балы и вечеринки лечили Полину от всех болезней, и она хотела использовать это лекарство для Наполеона.
— Ничего ещё не устроено, — сказала мать. — Мы ждали тебя.
— Ты задержалась на месяц, моя дорогая. Но мы закатим для тебя грандиозный бал. Они любят танцевать, мои провинциалы.
— Я и не подумаю пойти на него, Наполеон, если ты не пообещаешь, что тоже будешь танцевать.
— С тобой я один раз станцую, Полетт.
— Мы станцуем с тобой дважды. А потом ты пригласишь маму на вальс.
— У меня голова кружится от вальса.
— Я научу тебя танцевать менуэт. Это танец для толстых старых мужчин.
От такой дерзости камергер разинул рот, а официант чуть было не уронил поднос. Но Наполеон улыбнулся, выпрямился и выпятил грудь вперёд, как будто пытаясь доказать обратное. Мадам Мер громко рассмеялась, что весьма редко с ней случалось. Наполеону, подумала она, уже лучше.
— У меня есть идея, — сообщила неугомонная княгиня. — Ты помнишь тот бал, который дал Боргез в тысяча восемьсот десятом году? Полы в залах и дорожки в саду были усыпаны лепестками роз. Давай сделаем то же самое! На Эльбе есть розы?
— Конечно! И они ещё не отцвели.
— Отлично. А ты, Наполеон, будешь носить венок из роз. Говорят, они очень помогают от головокружения.
После ужина они играли в карты. Наполеон плутовал самым оживлённым и безобидным образом — наедине с мадам Мер он никогда не обнаруживал такой привычки. Наконец его мать, которой тоже хотелось выиграть, запротестовала:
— Наполеон, ты нечестно играешь!
— Ничего, матушка, — проговорил Наполеон, ничуть не смутившись и запихивая выигранные деньги в карман, — ведь ты женщина богатая, а я человек бедный. Теперь, Полетт, ты можешь показать нам своё платье для танцев.
Обрадованная Полина вмиг осуществила эту операцию у всех на глазах, чего никогда бы не осмелилась сделать другая женщина. Мгновение спустя, как Венера воплотившаяся из пены, она предстала перед ними обновлённой, ещё более грациозной, в платье цвета морской волны. Широко раскинув руки, она приветствовала присутствующих. Под платьем из голубого шёлка не было абсолютно ничего.
Все взирали на неё с удивлением и восторгом, однако Наполеон сказал:
— Ты не должна делать это в Ратуше.
Полина скорчила гримасу:
— Наполеон, ты ведёшь себя как гувернантка. — Напевая мелодию вальса, она игриво двинулась к нему. — Давай потанцуем.
Мадам Мер с искренним удивлением следила за своим несчастным сыном и очаровательной дочерью. И у неё появилась надежда, что он опять может стать таким же человеком, каким она его знала ранее.
У Наполеона не было намерения танцевать, однако он уступил. Кружась в вальсе, Они дважды обогнули комнату; она умело вела его, а затем выпустила из своих объятий.
— У тебя головокружение, Наполеон? Тогда нам нужен венок из роз.
Он учтиво поклонился ей, держа одну руку на своей голове, другую — на груди. С лебединой грацией она сделала глубокий реверанс.
Полина, при всём её самоволии и тщеславии, имела такое доброе сердце, что все её недостатки можно было забыть. Бал в её честь был великим событием, и Наполеон председательствовал на нём как счастливый отец семейства. Вначале она почему-то вела себя несколько скованно, лицо оставалось напряжённым, а глаза всё время обращались к двери. Но причиной этого не было ожидание возлюбленного. Находясь в величайшем возбуждении во время приготовлений к балу, она не выдержала от нетерпения и дала пощёчину неуклюжей корсиканской девушке, которая помогала ей одеться. Ранее она никогда не позволяла себе ничего подобного, и это тяжёлым грузом легло на её сердце. По её личному распоряжению нескольким старшим слугам двора было позволено посмотреть на веселье. Внезапно во время танца она покинула своего удивлённого партнёра и бросилась к двери. Протиснувшись среди стоящих плечом к плечу лакеев, она обняла свою маленькую служанку и прошептала ей на ухо:
— Прости меня, этого более никогда не повторится.
После этого она вновь была неподражаемой царицей бала. Вошёл Наполеон, и оркестр заиграл «Марсельезу» — любимую мелодию всех республиканцев. Полина упросила его один раз потанцевать с ней. Несмотря на предостережение, в волосах её было больше драгоценностей, чем хотелось Наполеону. Но женщины Эльбы не испытывали зависти к её красоте и украшениям — свечка не может испытывать зависти к луне. Они гордились тем, что в эту ночь их мужья и любовники танцевали с княгиней. На ней было бархатное платье, Наполеон с беспокойством за ней наблюдал. Но она ни разу его не сняла. Она протанцевала всю ночь, а на следующее утро пожаловалась на недомогание и осталась в постели.
Вскоре княгиня стала главной героиней светской жизни Портоферрайо. Она участвовала в постановке пьес, в организации вечеринок и помогала женщинам с выбором туалетов. Вместе с Наполеоном она выходила в море. Она заботилась о нём как жена или нянька и спокойно переносила его замечания. Неаполитанская королева Каролина послала ей отрез чёрного бархата неаполитанской работы, Полине страшно захотелось сделать себе из него платье. Но Наполеон не выносил чёрного. Тогда она попыталась пойти на компромисс и украсить его в испанском стиле розовыми бантами и розовой каймой на груди. В этом платье она с воздушной грацией спустилась к ужину. Наполеон сразу же сказал:
— Что это вы, мадам, надели к ужину домино?
— Ты что, Наполеон, не различаешь цветов? — ответила Полина. — Это платье тёмно-зелёного цвета. Но если оно тебе не нравится... — И она отправилась назад снимать его.
— Бедный ребёнок, — сказала мадам Мер.
— Я ведь был прав? — с беспокойством прошептал ей Наполеон. — Оно ведь чёрное, разве не так?
— Оно довольно чёрное, сынок.
Полина принесла с собой в Портоферрайо нечто большее, чем радость и оживление. Она гордилась своим происхождением, самим духом семьи Бонапарт. Поэтому она никак не могла забыть тот невероятный день, когда Наполеон — великий Наполеон Бонапарт! — явился к ней как затравленный зверь: в австрийском мундире и с лицом, белым от страха. В австрийском мундире! Ей бы было приятнее, если бы он явился к ней в лохмотьях, Полине ещё никто не рассказал всей истории его путешествия к побережью моря, поэтому при первой возможности она затащила Дрюо в укромное место и попросила его рассказать всё, что он помнил.
Мало было таких мужчин, которые могли бы в чём-либо отказать княгине, когда глаза её и улыбка были полны очарования и нежной мольбы, но верный генерал сопротивлялся.
— Но ведь я задаю этот вопрос только во благо Наполеона, — сказала она, приврав лишь самую малость. — В Италии мне рассказали об этом ужасные вещи. Если всё не так, то следует внести поправки.
Дрюо отрицательно помотал головой:
— Есть вещи, ваше высочество, о которых не хочется вспоминать.
— О, но этим вы делаете только хуже! Вы заставляете меня верить тем ужасным слухам.
Попавшись в ловушку, смущённый генерал ответил:
— Нет, нет, ваше величество, ничего особенного не было. Просто кое-где толпа немного возмущалась, но...
— А теперь вы должны рассказать мне всё, — приказала она. — Начиная с Фонтенбло.
И он сдался.
— И это вся история? — спросила она твёрдым голосом, когда генерал замолк. — Ну что ж, в ваш рассказ необходимо внести поправки.
Генерал не знал, что она под этим подразумевала.
Глава 11
ТУНИССКИЙ КОРСАР
Посетители, туристы, шпионы — и даже, как говорили, наёмные убийцы — докучали Портоферрайо словно рой мошкары. Очень часто было трудно сказать, кто есть кто. Почтенные граждане подвергались слежке и запугиванию, настоящие шпионы вынюхивали своих коллег по ремеслу, принимая сторонников за противников, а полиция, честно задержав какую-нибудь подозрительную личность, получала выговор за то, что влезла в дела одного из людей Наполеона. Эта мошкара проникала повсюду, даже, по мнению некоторых, во дворец Мулини. Говорили, что одна из служанок Полины на содержании у парижской полиции. Каждому соглядатаю следовало бы носить жестяную бляху с заглавной буквой «К», так как вся эта шпиономания пошла от Кемпбелла.
В основной своей массе шпионы были страшно глупы. Особенно глупы и фантастичны по своему содержанию были их донесения. В одном говорилось, что Наполеон в приступе хандры сидел на дне канавы по пояс в воде в мундире полковника. Затем, промокший до нитки, он куда-то поскакал и через некоторое время вышел на лодке в море. Через час или два он будто бы сказал: «Я поеду во дворец и переоденусь. У меня ноги промокли».
Согласно другому донесению, однажды ноябрьской ночью Али, «мамелюк», вошёл в спальню императора, чтобы погасить лампу, которая горела до утра (уже здесь эта байка блистает вопиющим неправдоподобием: Наполеон терпеть не мог даже слабого света в спальне). «Император внезапно проснулся, вскочил с постели и, приняв Али за вора или убийцу, убил его выстрелом в голову». Однако Али прожил ещё много лет после этой «истории».
Шпионы приписывали Полине многочисленных любовников (включая даже аскета Дрюо). Сообщали, что её видели в Ливорно, куда она, переодетая юношей, делала вылазки ради любовных похождений.
Из всего этого вороха слухов, донесений шпионов и обычных невинных сплетен крайне сложно вычленить что-то действительно стоящее. Опасения относительно возможности заказного убийства имели довольно веские основания. Губернатором Корсики был назначен некий месье Брюлар, опасаться которого у Наполеона были серьёзные причины, ведь ему лучше кого другого была ведома злопамятность. Повод для мести был подан во времена, когда Наполеон только стал консулом. Брюлар, «главарь шуанов», был одним из многих заговорщиков-роялистов, сложивших оружие. Его друг, месье Жорж, ещё более отвратительная личность, обратился через Брюлара к Наполеону с просьбой разрешить ему вернуться в Париж (из Англии) и жить там в мире и спокойствии, как Брюлар. Наполеон разрешил, но из-за какой-то ошибки в документах или иной накладки он был схвачен и казнён, как только сошёл на берег. Брюлар в полной уверенности, что его самым подлым образом использовали, дабы заманить друга на смерть, написал Наполеону письмо, угрожая убить его собственными руками. И теперь этот мстительный человек занимал высший пост на Корсике — всего в тридцати милях от Эльбы, и вполне был способен, тем более что его подстрекали — или даже приказали, если верить Наполеону, — довести до конца свою личную вендетту и тем самым принести пользу обществу. По словам Наполеона, наёмные убийцы были посланы из Франции, и им ничего не стоило высадиться ночью в какой-нибудь безлюдной бухте.
Наполеон во всеуслышание объявил, что назначение губернатором Корсики такого человека является умышленным проявлением враждебности по отношению к нему, без сомнения, он был прав.
Но императора ещё с момента его остановки в Марчиане тщательнейше охраняли. Поэтому наёмные убийцы были ненамного удачливей шпионов.
Невиннейший визит тунисского корсара навредил, как ни странно, гораздо больше. В этом эпизоде есть, по крайней мере, доля комизма, вплоть до самой его трагической развязки. Вполне вероятно, подобный случай мог быть и не единичным.
24 октября, согласно Кемпбеллу, «небольшой корабль, принадлежащий корсару из Туниса, встал на якорь у гавани и дал салют из пяти пушек, на который ответили с берега. Это государство (Тунис) не объявляло войны против острова Наполеона. Объявляли только алжирцы...».
Все, кто не объявлял Наполеону войну, заносились в списки подозреваемых, поэтому Кемпбелл пристально наблюдал за корсаром.
«1—12 ноября... Покинув гавань, тунисский корсар погнался за несколькими каботажными судами у Пьомбино и перехватил их там. Кажется, нет сомнения в том, что Наполеон наладил дружественные контакты с государством Тунис, а капитана корабля подкупил тем, что предоставил ему право убежища в своих портах: вероятно, для того, чтобы иметь возможность поддерживать связь с Францией (отметим, что предложение начинается со слов: «Кажется, нет сомнения в том...»), поскольку, как стало известно, корабль пришёл прямо из Тулона всего за четыре дня. Я проведу расследование, так как обстоятельства дела представляются интересными».
Визит корсара находит на самом деле более чем простые объяснения. Наполеон в это время находился в цитадели Лонгоне, и вполне очевидно, что тунисский капитан был просто-напросто одним из горячих поклонников героя и хотел по возвращении в Тунис похвастаться, что видел великого человека своими собственными глазами. Пон (который в это время был там) рассказывает эту удивительную историю полностью. Корсар вошёл в гавань и бросил якорь, находясь под прицелом орудий Лонгоне. Капитан не стал ждать, когда его вызовут к себе карантинные власти, а сразу сошёл на берег и задал следующий вопрос: «Здесь ли ещё находится властелин этого острова?» Чиновник, ответив утвердительно, стал задавать обычные вопросы. Тогда капитан сказал: «Во-первых, я хочу купить флаг Эльбы», и пока ходили за флагом, он в письменной форме ответил на все вопросы. Заплатив за флаг (даже не торгуясь, что само по себе было необычно), он поспешил обратно на корабль. Подняв флаг Эльбы на нок-рее, он троекратно отсалютовал из трёх орудий, засим последовало троекратное «ура» по образцу, принятому во французском военном флоте.
«Ни один европейский корабль, — пишет Пон, — не сумел бы повести себя вежливей и уважительней». Затем капитан опять сошёл на берег в великолепном тюрбане и вообще при полном параде. С ним бы то два переводчика — француз и итальянец. Он задал вопрос, будет ли ему позволено отдать поклон величайшему властителю этой земли. Ему ответили, что это невозможно, но он сможет увидеть великого человека, когда тот будет гулять на берегу моря. В конце концов этот милый капитан мог оказаться одним из тех наёмных убийц, которых так боялись.
Император слышал выстрелы пушек и справился о причине стрельбы. Когда ему доложили о приезде на остров его восточного почитателя, он был крайне польщён и приказал ответить салютом из пяти орудий. Во время прогулки он помахал рукой капитану, низко раскланялся и рассказал потом, что «его глаза горели как звёзды». Пон разговаривал с ним и его переводчиками в течение часа, но не вынес из этого разговора практически ничего, кроме торжественных заверений в дружбе и удивлённых, многократно повторяемых вопросов: «Почему же французы оставили своего Бога?» — то есть императора. Наполеон послал на борт корабля съестные припасы, и капитан отбыл — счастливый, как мальчик, получивший автограф известного актёра.
Для Кемпбелла всё это выглядело чересчур уж невинно и просто. Для него это указывало на прочный союз Эльбы с тунисскими пиратами.
Обожатель Наполеона, тунисский корсар никогда не узнал, какую огромную роль ему довелось сыграть в истории. Благодаря ему истеричный полковник заставил правителей прислушаться — и действовать. Через несколько недель к Эльбе подошли несколько французских фрегатов; и их появление повлияло на склад мыслей Наполеона так, как они и предположить не могли.
Визит африканца принёс и другие плоды. На Эльбу был направлен агент — сеньор Матта: молодой тосканец, служивший в своё время в императорской армии. Его сопровождала девушка из Милана, которая крайне почитала императора. Похоже, единственным профессиональным качеством Матты как тайного шпиона было то, что он знал итальянский и — совсем немного — французский. Он прибыл на остров и, как все другие приезжие, должен был указать цель посещения острова и пройти собеседование с придирчивым Камбронном. Как правило, Камбронн заявлял: «Уезжайте», или: «Вы можете остаться на три дня». Матта сообщил, что он приехал продавать масло. Скорее всего, Камбронн счёл его таким дураком, от которого может быть больше пользы, чем вреда. Матте было позволено остаться на острове в качестве продавца масла. Камбронн оказался прав. Подробные донесения этого молодого человека были как раз такими, какими их хотели видеть его работодатели. Всё это напоминало ранние лондонские работы Карла Маркса, в соответствии с которыми капиталистическая система должна была рухнуть не позднее чем через год. По его донесениям, Наполеон прямо-таки завтра собирался покинуть остров — или, по крайней мере, имел серьёзные намерения сделать это. В первый свой рабочий день на острове (1 декабря) Матта получил ряд сведений от друга, служившего у Полины. Однако он настолько плохо знал французский, что ему никто не верил. Матта также сообщил, что Мария-Луиза покинула остров после двухдневного визита, будучи беременной.
Даже сам Кемпбелл писал 10 декабря:
«Мне кажется, что люди, осуществляющие наблюдение за Наполеоном по поручению правительств тех или иных стран, иногда преувеличивают и фальсифицируют истинное положение дел, а также придумывают различные истории, дабы выглядеть более старательными в исполнении своих обязанностей».
Кемпбелл возвратился с охоты на тунисского зайца и 4 декабря имел беседу с Наполеоном, которая продолжалась три с половиной часа... (Беседа описывается на четырнадцати страницах, очень чётко и подробно). Разговор шёл о Марии-Луизе:
«Во время всего разговора он находился в значительном эмоциональном возбуждении; упрекал императора Австрии, удерживающего его жену и ребёнка, в слабости и бесчеловечности. Она обещала писать ему каждый день после своего возвращения из Швейцарии, однако с тех пор он не получил от неё ни одного письма. У него отняли ребёнка, как в древние времена отнимали детей завоеватели, чтобы украсить свой триумф. Императору (Австрии) следовало бы вспомнить, сколь непохожим образом он (Наполеон) отнёсся в своё время к нему, когда тот находился полностью в его власти и не существовало никаких уз брака. Он дважды входил в Вену как победитель, но никогда не вёл себя по отношению к императору столь неблагородным образом. Не он настаивал на этом браке. Это Меттерних сделал предложение Нарбонну. «Я был очень счастлив со своей женой, однако моя женитьба на ней в конце концов принесла мне несчастье. Лучше бы мне было жениться на русской принцессе».
Восемнадцатого декабря министры Людовика XVIII подготовили доклад, в соответствии с которым предлагалось конфисковать всё имущество Бонапартов во Франции. Толстый, глупый король дал следующую резолюцию: «Одобряю. Людовик».
Это нельзя рассматривать как простую оплошность в процессе выполнения договора. Это было объявлением войны Наполеону со стороны короля Франции и его правительства, и король Эльбы имел полное право в тот же день, если не раньше, разорвать свою копию договора и также начать войну.
Но Наполеон не принял этого фатального решения. Провокации не вывели его из равновесия. Он просто сказал:
— Что ж, пусть попробуют приехать и забрать меня. Я могу продержаться здесь два года.
Он подготовил оборонительные сооружения и в канун Рождества отдал ряд указаний относительно набора войска и вооружения фортов.
Он подготовился к осаде...
Первого января 1815 года во дворце Мулини была устроена небольшая вечеринка. На ней присутствовали мать Наполеона, сестра, Бертран с женой и Дрюо (Кемпбелла не пригласили). Это был канун Нового года. Неожиданно свершилось чудо из чудес — пришло письмо от самой Марии-Луизы. Это было всего лишь формальное поздравление и пожелания на следующий год, но, по крайней мере, ей удалось обойти цензуру. Это было последнее письмо, которое он когда-либо получил от неё. Относительно денег Наполеон не получил из Франции никакого ответа. Кемпбелл, что, возможно, являлось его единственной заслугой, постоянно напоминал союзникам о необходимости выполнения финансовых обязательств перед Наполеоном, надеясь, что они к нему прислушаются.
Новогодний вечер продолжался. Они играли в карты — каждый за себя. Полина, находясь в очень весёлом настроении, поддразнивала всех, а Наполеон самозабвенно обманывал партнёров. Внезапно вошёл посыльный и вызвал Дрюо, который вернулся хмурый и что-то прошептал Наполеону. Со всего острова поступали донесения о дислокации французских военных кораблей вблизи побережья острова. В реальной действительности было только два корабля, но из первых поступивших отчётов можно было сделать вывод, что это целый флот. Наполеон помрачнел. Это опять выглядело как начало войны 1815 года.
В появлении этих кораблей не последнюю роль сыграли Кемпбелл и тунисский корсар.
Глава 12
КАРНАВАЛ
Январь и февраль на острове были периодом безумия. Наполеон готовился к обороне и боялся наёмных убийц. В то же время он устраивал различные торжества, увлекался искусством. Это было время сомнений и окончательных решений.
Второго января для наблюдения за французскими кораблями было направлено судно, и на основании длинного приказа, который Наполеон продиктовал Дрюо, по всему побережью были расставлены наблюдатели. Ещё один корабль был направлен к острову с разведывательной целью: он должен был пройти вблизи французских судов и узнать их названия, но чтобы «не внушить им подозрений», на его палубе разместили грузы — зерно, соль и овощи, предназначенные для продажи.
На следующий день Наполеон продиктовал Бертрану несколько указаний относительно балов и спектаклей, приуроченных к сезону карнавалов, который оканчивался 8 февраля. В воскресенье планировалось открытие Академического театра и бал-маскарад.
В начале января полковник Кемпбелл в очередной раз отправился в Геную. На пути в Дарсе он повстречался с княгиней Полиной, спускавшейся с холма. Она мягко упрекнула его в том, что он так часто уезжает с Эльбы. Она говорила об этом серьёзно и, казалось, была искренна. Это его приятно порадовало, так как Бертран, и Дрюо, и сам император от него заметно отдалились.
Удивительный человек! Каждый день он сообщал всему миру или, по крайней мере, своему дневнику всевозможные нелицеприятные вещи о Наполеоне и тем не менее рассчитывал на его дружбу.
В декабре некоторые газеты на материке опубликовали официальные заявления относительно того, что генерал Келлер едет из Вены на Эльбу. Наполеон спросил Кемпбелла, что бы это значило, тот сослался на свою неосведомлённость. Однако его дневник это опровергает:
«Я отправился в Геную в надежде сделать всё возможное, чтобы австрийский генерал Келлер мог приплыть сюда на военном корабле, приписанном к этому порту. Я также хотел сообщить ему о своих подозрениях относительно Наполеона, порождённых его весьма настораживающей перепиской с Мюратом. Но он не прибыл сюда в течение запланированного периода, и я вернулся на Эльбу».
«Наполеон говорил о тех заявлениях, которые появились в некоторых газетах относительно его переселения на остров Святой Елены либо Святой Лючии. Он верил этим заявлениям и сообщил, что ни за что не согласится уехать с Эльбы и готов с помощью оружия защищаться до самого конца. «Но для этого нужно пробить брешь в моей обороне. Мы будем держать остров на замке!» — заявил Наполеон. Я сказал ему, что не верю всем этим байкам, которые не имеют под собой никакого основания...
Он спросил меня с каким-то подозрительным любопытством, не встречал ли я в море военные корабли Луи XVIII, которые курсировали между Корсикой и Эльбой».
Из всех жителей острова по крайней мере два человека не могли по-настоящему веселиться на карнавале — генерал Дрюо и обворожительная Генриетта Вантини. Правда, эта молоденькая девушка мечтала о богатом Адонисе, на чью роль её избранник никак не мог претендовать. Но прекрасный характер генерала возмещал его относительную зрелость и отсутствие состояния. Наполеон больше не подшучивал над ним. Кемпбелл с беспокойством наблюдал за тем, как разворачивались события. Ведь если Наполеон позволит главнокомандующему жениться на жительнице Эльбы, тогда дальнейшие намерения Наполеона будут как никогда ясны. К сожалению, набожный генерал был предан другой женщине — своей матери, за здоровье которой молился каждое утро и каждый вечер. Ни одного важного поступка он не совершил без её совета и разрешения. И теперь он написал ей о своих намерениях жениться. Эта пожилая женщина, которая жила во Франции, имела весьма туманные представления об Эльбе. В её сознании остров был населён расой, занимающей промежуточное положение между берберскими пиратами и корсиканскими разбойниками. Поэтому она подумала, что её любимый сын решил жениться на какой-то чернокожей с первобытными привычками. Немного помедлив, она ответила ему грустным и суровым письмом. Разумно ли жениться на иностранке, живущей так далеко от родного дома? Она будет очень опечалена, если он сделает это. Генерал, огорчённый, расторгнул помолвку и правдиво изложил причину этого, которая казалась настолько невероятной, что очень немногие в неё поверили. Наполеон, как обычно, укорял его, а полковник Кемпбелл проницательно посмеивался про себя.
На очередном карнавале центральная ложа театра пустовала. Наполеон отсутствовал. Говорили, что возможный убийца сидит в соседней ложе. Три года тому назад император прогнал с должности одного корсиканца с примесью французской крови — гражданского мирового судью, месье Саварана. Этот человек считал, что с ним поступили несправедливо, и хотя Наполеон не являлся более правителем Франции, честь и репутация мирового судьи, согласно его представлениям, оставались всё ещё запятнанными. Он приехал на Эльбу, чтобы добиться аудиенции императора в надежде получить от него извинение. Пон был его другом, и, кроме того, у него были друзья среди других высших чиновников острова. Однако Камбронн и Бертран, настроенные в те дни крайне подозрительно по отношению ко всем, говорили с ним довольно резко, и просьба об аудиенции была отклонена. В ночь открытия театра этот человек сидел в ложе Пона — соседней с ложей Наполеона. Вечером 22-го числа Пон был в спешке вызван в штаб Камбронна и обнаружил «приверженцев Наполеона в состоянии крайней паники». В докладе судьи Погги говорилось, что месье Саваран «намеревается убить императора» и лучшей возможности, чем в театре, ему не найти. Императору посоветовали не ходить в театр, но не были уверены, что он прислушается к их предостережениям. Поэтому Пон захватил с собой оружие и поспешил в театр. Он не верил своим ушам, ведь, по его представлениям, месье Саваран был благородным человеком, не способным на преступление. Однако полковник Малле сунул ему в карман пистолет, а Камбронн добавил от себя ещё корсиканский нож. Месье Саваран вёл себя спокойно, ему очень понравился Аполлон, изображённый на занавесе. Однако он был крайне удивлён тем, что гвардейские офицеры злобно поглядывают в его сторону. Почти все они были вооружены, и месье Саваран был одним из немногих, кто наблюдал за происходящим на сцене. Во время спектакля полковник Малле многозначительно смотрел на Пона, призывая того быть более внимательным, и бедный Пон одной рукой постоянно держался за пистолет. Но император не приехал в театр.
В дальнейшем оказалось, что обвинение было сфабриковано одним негодяем. Наполеон, не зная об этом, предложил мировому судье покинуть остров. Месье Саваран всё-таки добился аудиенции и, узнав, что на него пало подозрение как на возможного убийцу, вышел от Наполеона в самом подавленном настроении, расстроенным до слёз. Он остался жить на Эльбе, и у этой истории был счастливый конец.
— Надеюсь, — сказал однажды Наполеон Пону, — что вы не настолько легковерны, как все эти выдумщики, у которых перед глазами одни коварные тени.
Но не бывает дыма без огня. В саду Сан-Мартино обнаружили одного храбреца с Корсики с кинжалом, который мог предназначаться императору. Но прямых улик против него не было. Поэтому Наполеон выслал его обратно на Корсику, приказав высадить незваного гостя на безлюдном побережье.
Некий одноглазый еврей из Лейпцига так и не появился на острове. Это был торговец книгами, который, как говорили, за огромную сумму денег вызвался ударить Наполеона ножом во время показа книг. Некоторое время на острове крайне опасались одноглазых людей. Ожидалось, что убийца сойдёт на берег в Рио-Марина; поэтому одноглазый мэр Рио-Монтаньи — один из камергеров двора — был выслан из деревни каким-то ревностным служакой и чуть было не арестован.
Вскоре Бертрану было дано распоряжение написать в Вену снова. В письме он сообщил, что император находится в добром здравии, однако не получает никаких известий об императрице и своём сыне, что вызывает у него серьёзное беспокойство.
В Вене продолжалось веселье, и в Портоферрайо не отставали от столицы Австрии. Бал, данный 29-го числа в Мулини, удался — скромный дворец никогда не видывал ничего подобного.
Бал был дан вскоре после того, как утихли слухи о грядущем визите одноглазого еврея. Поэтому многие мужчины на этом костюмированном балу остроумно прикрыли один глаз повязкой. Камбронну показалось, что в этом может таиться опасность, и он внимательно осматривал всех одноглазых танцоров. Затем голосом, не терпящим отказа, он пригласил на Танец княгиню, которою боготворил. Он обхватил её талию и тяжело закружился в вальсе, ликуя от восторга. С него градом лил пот, но Полина, готовая ко всему в эту сумасшедшую ночь, отнеслась к этому спокойно.
— Прекрасная пастушка! — задыхаясь, проговорил генерал.
— Мой милый барашек! — пролепетала она.
Стоящего в одиночестве у стены полковника Кемпбелла мучили приступы ревности. Несомненно, он танцевал не хуже энергичного генерала. Полина, порядком уставшая от своего кавалера, наконец остановилась рядом с полковником и чарующе улыбнулась ему. Весь объятый дрожью, он пригласил её на танец, и они закружились в вальсе. Он держал её перед собой на вытянутых руках, как драгоценную вазу. Танцевал он лучше Камбронна, и мундир был ему к лицу, но в движениях отсутствовала плавность. Она поняла, что он чувствует боль в спине, и, прервав танец, повела его в буфет. Наполеон, сидевший рядом с матерью, усмехнулся.
— Хорошо, что вы опять с нами, — проговорила Полина. — Вы слишком часто ездите в Италию, сэр Нил.
— Вскоре опять поеду.
— О, нет! Какой же вы несносный человек! — Безусловно, это замечание, в котором звучали нотки сожаления и разочарования, было очень кстати.
— Я должен сходить к врачу, так как становлюсь слегка глуховатым.
— Я этого не заметила. Вы поедете во Флоренцию?
— Да, сначала туда, а потом, я думаю, в Лукку — на воды.
— Я там никогда не была, хотя знаю все водные курорты Европы. А когда вы отправляетесь, сэр Нил?
— Вероятно, недели через две.
— Через две недели? — проворковала она. — Я подумаю об этом. Я сама хотела бы подлечиться. После окончания карнавала я буду чувствовать себя разбитой. Я уже сейчас чувствую усталость. — Она вздохнула и взглянула на него тем долгим чарующим взглядом, которому немногие могли противостоять. — Расскажите мне о водах Лукки.
С энергией, присущей людям нездоровым, они углубились в обсуждение достоинств вод Лукки. Полковник вернулся домой вполне счастливым.
День или два спустя группа итальянцев, приехавших на остров, сделала императору предложение высадиться на побережье Италии и возглавить сопротивление, обещая поднять всю страну.
— У вас ничего не получится без Франции. Австрия вас задавит. У вас недостаточно войск, мало оружия и слабые позиции. А у Австрии есть всё. Если вы любите свою страну, успокойте свои сердца и оставьте всё это Франции. Дожидайтесь, когда ситуация там изменится. Ваши планы не принесут Италии ничего, кроме новых цепей, и навеки лишат её самостоятельности. Что касается меня, то я не принимаю более участия в мировой политике. Но если опять выйду на сцену, то сделаю это во имя Франции и при помощи Франции.
Они уехали ни с чем, но Кемпбелл заподозрил Наполеона в подозрительных связях и заключении опасных соглашений с Мюратом.
В начале месяца, когда Кемпбелл был в отъезде, неаполитанский военный корабль бросил якорь на рейде и поднял флаг Эльбы. На палубе матросы троекратно прокричали «Ура!» и «Да здравствует император Наполеон!». Их капитан, находящийся в чине контр-адмирала, подошёл к берегу на шлюпке вместе со своим штабом и вежливо осведомился, может ли он высадиться на берег и выказать должное почтение императору. У Камбронна вид мундиров неаполитанцев пробудил давно сдерживаемую ярость. И он, даже не посовещавшись с императором, обошёлся с адмиралом и его людьми, как со злодеями и разбойниками, пригрозив открыть огонь, если они не снимутся с якоря, и приказал гвардейцам зарядить орудия. Удивлённый адмирал спустил флаг Эльбы и, ожидая, что форты в любую минуту могут дать залп, поднял паруса и вскоре исчез из виду.
Наполеон был сильно расстроен таким негостеприимным поведением, но его мнение относительно Неаполитанского королевства было ничуть не лучше, чем у Камбронна.
Хозяйство острова оставалось основной проблемой. И чтобы удержать его от окончательного развала, Наполеон ввёл жёсткую экономию. Даже своей любимой Полине он не разрешал роскошествовать, о чём свидетельствует его переписка с Бертраном:
«Имею честь предложить для одобрения Вашего Величества указываемую ниже сумму, истраченную на установление восьми жалюзи в салоне княгини Боргезе. Материал для жалюзи был предоставлен княгиней. Стоимость работ равна 62 франкам 30 сантимам.
Гранд-маршал Бертран.
29 января 1815 г.».
«Так как я не давал санкций на эти расходы, они не должны быть включены в бюджет. Платить за это будет княгиня. То же самое касается и других расходов, которые я не одобрил заранее.
Наполеон».
Второго февраля у Кемпбелла была ещё одна беседа с Наполеоном.
«В этот раз он был крайне неразговорчив и сдержан, как будто обдумывал что-то важное.
Он гораздо меньше разъезжает по острову и, кажется, требует от окружающих проявления знаков внимания по отношению к себе. Он никогда не выходит на прогулку, разве что выезжает в экипаже, запряжённом четвёркой лошадей...
Некоторое время тому назад Наполеон приостановил работы по улучшению дорог и отделку работы в своей загородной резиденции. Это, как мне кажется, объясняется недостатком денег...»
Жителям Портоферрайо было недостаточно спектаклей в театре, и они начали поговаривать об опере. Поэтому 3 февраля Наполеон продиктовал длинное и подробное распоряжение, связанное с этим важным делом. Некоторые историки считают, что за двадцать три дня до бегства с острова он не мог интересоваться подобными вещами и что это была часть тщательно разработанного плана по сокрытию своих истинных намерений.
К пятому февраля ремонтные работы на бриге «Инконстант» были завершены, заняв всего три недели.
Наполеон и Полина играли в шахматы, когда Дрюо сообщил ему об этом. Услышав эту хорошую новость, Полина захлопала в ладоши, а Наполеон одобрительно кивнул.
— Что ты наденешь в среду, Полетт? — спросил он, размышляя над очередным ходом. Он имел в виду заключительный день карнавала.
— Я ещё не решила, — ответила Полина. — А ты что посоветуешь?
— Мне не очень-то нравится твоё неаполитанское платье, — проговорил он.
— Почему?
— Потому что оно неаполитанское.
— Ты сказал, что я выглядела в нем очень привлекательно. Так в чём же дело?
— Ты не должна выглядеть слишком привлекательно. Это двор короля Эльбы. Мы останемся здесь надолго и потому не должны шокировать наших почтенных островитян. — Он усмехнулся.
— Наполеон, как с тобой трудно! Ты не любишь чёрного, ты не любишь белого, ты не любишь ничего неаполитанского, ты не любишь... Но, в отличие от тебя, я никогда бы не надела мундир австрийского офицера.
Наполеон сделал ход и посмотрел на неё вопросительно:
— Что на тебя нашло? Что ты имеешь в виду?
Полина выдержала его взгляд.
— Ты знаешь, что я имею в виду, Наполеон. — Она взглянула на доску, сделала ход конём и сказала: — Шах!
Она знала, что он не может обрушить на любимую сестру приступ гнева, но также чувствовала, что зашла слишком далеко, и поэтому стала говорить с ним мягче:
— Я всё время думаю об одном месте, которое называется Орган.
— Орган? Что ты знаешь об Органе, Полетт?
— Мне кое-что о нём рассказали, — промолвила она. — А также о месте под названием Ля Калада.
Другому бы он этого не простил, но перед Полиной только опустил глаза и сделал ход. Затем он мягко сказал:
— Все эти названия, Полетт, и все эти дни мы стараемся стереть из памяти.
Полина положила свою руку поверх его и наклонилась над фигурами. Теперь в блеске её глаз, в её голосе чувствовалась истинная кровь семьи Бонапарт.
— Всё это не так, Наполеон, — прошептала она, — но мы также должны заставить мир забыть об этом. — Стремительным движением она переставила королеву с одной стороны доски на другую и произнесла: — Шах. Я думаю, что это шах и мат.
Наполеон задумался над положением дел на шахматной доске.
— Ты права, Полетт, — сказал он. — Ты выиграла. — Он сжал её маленькую руку и опасливо оглянулся, боясь, что кто-нибудь из камергеров подслушивает. — Однажды, — прошептал он, — мы сделаем так, что мир забудет об этом!
— Да, да! — благодарно вздохнула Полина, чувствуя победу. — А в среду я надену платье, которое тебе нравится.
На следующий день, 5 февраля — быть может, влияние Полины? — Наполеон направил Пону конфиденциальное послание с просьбой подготовить доклад и относительно организации экспедиционной флотилии. Главный управляющий рудников, естественно, был изумлён тем, что он обращался к нему с таким вопросом. Хотя раньше он был моряком и знал достаточно много о мореплавании, но разве это не было делом морских офицеров?
«Экспедиционная флотилия! — в возбуждении пишет Пон. — Это означало: «Я хочу покинуть остров!» Главный управляющий рудников понял это именно таким образом и позволил себе в отчёте следующее смелое изречение:
«И если Небо, более благосклонное на этот раз, подвинет Ваше Величество к новым свершениям, тогда, без сомнения, мы должны высадиться на берег на территории, дружественно настроенной по отношению к нам».
Никакой реакции на его доклад не последовало. Но Пона обрадовало, что он — единственный человек, которого попросили об этом. Никто ничего не знал — ни Бертран, ни даже Дрюо, его главнокомандующий. Наполеон ещё не принял окончательного решения.
Восьмого февраля карнавал приближался к завершению. Вечером состоялись шумные карнавальные похороны короля праздника. Торжественную процессию возглавлял полковник Малле, облачённый в кашмировые ткани, позаимствованные у княгини. Он восседал на белом боевом коне императора. За ним следом ехал капитан Шварц из числа польских копейщиков — напоминающий Дон Кихота очень худой мужчина на тощей лошади. Позади, в самых ярких и разнообразных костюмах, следовали офицеры гвардии и весёлые юноши с Эльбы. В конце процессии осёл тащил похоронные дроги бедного короля карнавала. Императора на торжестве не было. Полина, одетая в длинное красное платье, более подходящее для Тюильри, наблюдала за праздником со ступенек Ратуши.
Рядом с ней стоял Кемпбелл. Он находился в самом приподнятом настроении, так как ему позволили (а ему показалось, что попросили) сопровождать княгиню.
— Я так устала, — со вздохом произнесла княгиня. — До свидания, сэр Нил. До свидания... — Потом, с сияющей улыбкой взмахнув рукой, произнесла: — ...в Лукке? — И удалилась. Полковник был заинтригован, сомневаясь, правильно ли он понял последнюю фразу.
В своих донесениях шпионы сообщали о проходящих торжествах с пристрастием: мол, государство Эльбы прогнило насквозь вместе с его королём. Полина — хуже всех. Налицо мрачная картина всеобщего безделья и порока.
Тринадцатого числа в залив Специя вошла фелука, и на берег сошёл молодой рыбак, представившийся как Пьетро Сен-Эрнест. По стилю речи он не был похож на рыбака, поэтому люди Камбронна тотчас же окружили его. Но вскоре они были вынуждены разойтись. Молодой человек, настоящее имя которого было Флери де Шабулон, являлся другом и восторженным поклонником императора. Ранее он был супрефектом и с почётом удалился со своего поста, когда Наполеон был низложен. Предприняв паломничество на Эльбу, он преследовал только собственные цели. Но перед отъездом у него состоялась встреча с Маретом, герцогом Бассано, от которого он привёз Наполеону тёплое послание. В нескольких словах в послании говорилось следующее: «Возвращайтесь обратно. Бурбоны долго не продержатся. Массы поднимутся против них. Если вы не вернётесь, во главе станет герцог Орлеанский. Люди хотят видеть вас своим правителем. Армия продолжает любить вас и находится в плачевном состоянии. Приезжайте и спасайте Францию». Молодой человек рассказал Наполеону о том, что происходило в стране: о том, что все прикалывают к одежде фиалки как символ весны, подчёркивая этим неприязнь к королевской лилии: в продаже был даже нюхательный табак с запахом фиалок. Много позднее этот молодой человек написал достаточно красочный отчёт о разговорах с императором, от которых тот впоследствии всячески отрекался. Если верить этим мемуарам, он и Марет самолично решили дальнейшую судьбу Европы. Речи юноши принесли великое успокоение мятежной душе Наполеона и подлили масла в огонь сомнений. Молодой человек отплыл с Эльбы 15 февраля.
Глава 13
РУБИКОН
Похоже, что сами боги постановили сделать 16 февраля решающим днём.
Именно в этот день полковник Кемпбелл отплыл в Италию, пребывая в постоянном беспокойстве оттого, что теперь не может следить за действиями Наполеона.
А в Вене в этот день Мария-Луиза впервые начала сдавать свои позиции. Граф Меттерних намекнул, что ей не позволят взять сына с собой в Парму. И, следуя настоятельным советам обаятельного Нейперга проявить благоразумие и послушание, она написала русскому царю. В письме она подтвердила, что ничего не примет от Франции. Это надо было понимать так: союзники единодушно поддерживают её в претензии на титул герцогини Пармы, а она отказывается от поместий в Богемии, от титулов и постоянного нахождения с ней сына. Итак, с Францией и Наполеоном было покончено. За день до этого Меневаль, всё ещё находящийся на её стороне, получил последнее, почти просительное письмо от Бертрана. Оно было датировано 28 января. «Напиши Меневалю, — попросил Наполеон в этот день. — Попробуй ещё раз». И Бертран написал:
«Император находится в добром здравии, но не получает никаких известий об императрице и своём сыне вот уже более месяца. Это вызывает у него сильное беспокойство». Бертран старался вложить всю душу в эти строки. Он ничего не знал о происходящем, но, обладая хорошо развитой интуицией, чувствовал приближение чего-то, скорее всего самого худшего. Однако он надеялся, что с приездом императрицы все неприятности останутся позади. Уж слишком сильно Наполеон хотел спокойной жизни вместе со своей семьёй — женой и сыном. Мария-Луиза приказала Меневалю не отвечать на письмо. Она боялась, что при сложившемся положении дел это повредит Наполеону. Но всё же добросердечный Меневаль послал ответ, и это был конец.
В этот же день, 16 февраля, как будто услышав последнее слово жены, Наполеон написал Дрюо следующее:
«Отдай приказ, чтобы бриг «Инконстант» пришёл в Дарсе. Пусть его накренят, осмотрят киль и медную обшивку, заделают течи и полностью подготовят к плаванию. Его нужно покрасить под английский торговый бриг. (Составь смету на все эти работы и покажи мне её завтра). Необходимо погрузить на него запасы продовольствия в количестве, достаточном для питания 120 человек в течение трёх месяцев: вода, сухари, рис, овощи, сыр, запасы бренди и вина — взять ли солонину? — солонину недели на две. Проследи за тем, Чтобы на бриг погрузили лесоматериалы. Иными словами, на нём должно быть всё, что нужно. Я хочу, чтобы бриг был полностью готов к плаванию к 24—25-му числу. Сообщи мне, сколько шлюпок разместится на бриге — желательно как можно больше».
«Наконец он принял решение», — подумал Дрюо.
Но было ли оно окончательным? Через три дня Бертран получил письмо, говорящее о противоположном.
В то утро Наполеон расхаживал по кабинету, нюхал табак, хмурился и сосредоточенно обдумывал что-то. Он позвал секретаря, но тот отбыл с поручением в город.
— Бертран?
Он заглянул в комнату гранд-маршала, но там никого не было. В это время мимо окна, очень изящная в своём зелёном платье, проходила Полина. Она осторожно заглянула в комнату — Наполеон очень не любил, когда его беспокоили во время работы по утрам.
— Полетт! Заходи. Ты сегодня рано.
Действительно, Полина в эти дни вставала рано. Не желая ничего пропустить, она наблюдала за работами на бриге.
— Да, Наполеон. У меня всё хорошо.
— Если так, моя дорогая, — он поцеловал её, — тогда ты поможешь мне написать письмо. Меня все покинули.
— Как пожелаешь, мой король. — Она была польщена и обрадована.
Он усадил её в своё кресло и начал диктовать, расхаживая по комнате. Полина, сосредоточившись и даже слегка нахмурив брови, медленно записывала.
«Генералу князю Бертрану, гранд-маршалу двора Портоферрайо, 19 февраля 1815 года.
Граф Бертран, я намереваюсь отправиться в Марчиану в середине июня или начале июля. Мы должны...»
Полина подняла свои изящные брови: «Не так быстро, Наполеон». Он бросил на неё резкий взгляд — никто не имел права перебивать его.
«Мы должны закончить необходимые работы к апрелю и подготовить дома для мадам Мер, княгини, графини Бертран и губернатора. Комиссии, состоящей из одного из придворных, посыльного Бернотти и — кого бы ещё? — капитана Гваланди, будет предложено выбрать дома и снять их на июль, август и сентябрь. Составь и покажи мне счета на все ремонтные работы, какие необходимо осуществить. Я буду находиться...»
— Помедленнее, пожалуйста.
— Ты должна писать быстрее.
«Я буду жить в Мадоне. Нужно будет убрать кухню, расположенную у задней стены часовни. Для кухни подойдёт обычный деревянный сарай. Ещё мне нужно три дома: один — для штаба, другой — для конюхов и третий — для гвардейцев (я хочу взять с собой не менее 50 человек). Мои старые апартаменты вполне подойдут, если будет расширен мой кабинет. Из него должна быть видна дорога. Все эти дополнения очень важны, поэтому пусть составят и представят мне смету работ».
— Тебе понравится Марчиана, Полетт.
— Это всё?
— Это всё, моя дорогая, — он просмотрел письмо. — Спасибо тебе. Ты пишешь лучше меня.
— Это ни о чём не говорит, — Она подошла к окну и остановилась. — Наполеон? — мягко произнесла она, не поворачивая головы.
— Что, моя дорогая?
Она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо, во взгляде — ни тени страха.
— Наполеон, я думаю, ты боишься.
Он нахмурил брови, но всё же он никогда не мог позволить себе быть суровым с Полиной.
Она подошла к нему вплотную и прошептала на ухо:
— Оргон.
— Замолчи, — проговорил он. — Нужно подождать.
Приехав во Флоренцию, Кемпбелл направил донесение британскому посланнику. Оно было прочитано мистером Куком, заместителем государственного секретаря, только что приехавшим из Вены. За ужином этот высокомерный выскочка категорично дал понять полковнику, что страхи его беспочвенны.
«Когда вы вернётесь обратно на Эльбу, — сказал он, — можете сообщить Бонапарту, что в Европе о нём совсем забыли и более никто и не вспоминает».
У полковника Кемпбелла отлегло от сердца. «Я очень волновался, — пишет он, — по поводу возможных планов Наполеона и кажущейся непредсказуемости его поведения, однако после замечаний мистера Кука я начал осознавать, что значительно преувеличивал опасности. Ранее я считал возможным его побег к Мюрату, если последний начнёт военные действия против союзников...»
После визита к врачу, через день или два, полковник поехал в Лукку, где на каждом углу ожидал встречи с Полиной. Не встретив её там, он был весьма разочарован.
Между тем с каждым днём гвардейцы всё чаще ударялись в бахвальство. Уже ни в одной таверне острова никто не удивлялся их байкам, разве что молоденькие девушки, которым ещё не доводилось встретиться с ними. Старший сержант Иоахим теперь «убил» то ли шесть, то ли семь мамелюков, а число побед сержанта Гавана, этого соблазнителя женщин, достигло вообще неимоверной цифры.
В казармах же гвардейцы вели буйные разговоры о будущем. Пону с семьёй было разрешено гулять по крепостному валу. По вечерам они любили сидеть на террасе над Морскими Воротами и слушать разговоры солдат в караульной. Больше всего ему нравились рассказы коротышки капрала из Марселя, который затмевал остальных своими воображаемыми стратегическими планами и склонностью к художественным преувеличениям. «Когда Джуалини был на дежурстве, — пишет Пон, — я отказывался от посещения театра — и ничего не терял». Однажды вечером он был «крайне удивлён», услышав, что гвардейцы обсуждают, в первый раз за всё время пребывания на острове, своё возвращение во Францию. Хоть и было выдвинуто более двадцати всевозможных планов и путей возвращения на родину, но никто из присутствующих не упомянул о дороге через Прованс, где императору пришлось пережить столько угроз и оскорблений. Для гвардейцев эта «отвратительная область» была своего рода пугалом. Капрал Джуалини не согласился ни с одним из планов, подкрепляя своё несогласие вескими доводами. Потом он завладел всеобщим вниманием. «Вы все не правы, — начал он. У него был сильный и высокий, казалось, проникающий в душу голос. — Я расскажу вам, как это должно случиться. Император публично заявляет о своём намерении снова захватить Египет. Эти господа из Тюильри очень рады, они смеются над нами. Хорошо! Дан сигнал к выступлению. Мы садимся на корабли. Хорошо! Наш император не дремлет. Все готовы принять нас и помочь. Хорошо! (Каждый раз при слове «Хорошо!» раздавался удар, будто капрал ударял миской по столу). На Мальте мы набираем ещё больше провизии и запасов — да, захватываем один или два корабля, по надобности. Хорошо! (Лёгкие усмешки). Мы высаживаемся на берегах Дуная — выше или ниже по течению — какая разница? Хорошо! (Громкие смешки). В Константинополе уже осведомлены о наших планах. Они делают вид, что не замечают нас. Вроде бы там никто ничего не знает и не видит. Хорошо! Плотным строем, с развевающимися знамёнами мы движемся вперёд. Хорошо! Греки стремятся присоединиться к нам, этого же хотят модцаване и сербы.
Хорошо! (Всеобщий громкий смех). Венгры только того и ждут, чтобы подняться против австрияков. Вы ведь знаете, что венгры и австрияки — это как огонь и вода, как... как наш император и полковник Кемпбелл! И вот венгры уже восстали и присоединились к нам. Ну что? (В этот момент раздался такой шум, будто поднялся бунт). Наша армия разрастается, продвигаясь вверх по Дунаю. Хорошо! Но это ещё не всё. Польская армия, как родная сестра нашей армии, движется маршем из Варшавы — навстречу с нами. По сигналу обе армии соединяются у стен Вены. Хорошо! Вена окружена, она в осаде. Она пала — и вот она опять наша. Хорошо! А от столицы Австрии до Парижа мы дорогу знаем — найдём её с завязанными глазами. Хорошо! И вот мы в Париже. Господа из Тюильри сматываются, а жители Парижа кричат: «Да здравствует император!» ВОТ ТАК!»
После триумфального завершения этой невообразимой блистательной военной кампании среди гвардейцев поднялся такой шум, что дежурному лейтенанту пришлось зайти в караульную и сделать им строгое замечание. На Пона монолог капрала произвёл такое впечатление, что он поведал о нём Наполеону. Император послал за Джуалини и попросил его в деталях изложить свой проект. Вначале Джуалини боялся и слово вымолвить, но потом, когда Бертран налил ему вина, а Дрюо уверил в том, что его не посадят на гауптвахту, немного пришёл в себя. Со своей стороны Пон воспроизвёл один или два отрывка из его речи, но настолько плохо, что художественная натура капрала взяла верх над страхами, и он закатил настоящий спектакль. Наполеон был в восторге, веселился, как ребёнок в цирке, хвалил капрала. «Всё это чепуха, мой капрал, — сказал он. — Нам прекрасно и здесь. Но это — хорошо!»
Императору запомнился этот проект, а «Хорошо!» стало во дворце модным словечком.
Наполеон послал Пону в Рио строгий приказ относительно судов, и тот, наняв три судна водоизмещением по восемьдесят тонн, направил их вокруг острова в Портоферрайо.
Затем Наполеон осмотрел новый «разборный дом», который месье Бюрри спроектировал и построил для него. Маленький домик мог быть собран и установлен за два часа, разобран на составные части, сложен и перевезён в любое место «с удивительной лёгкостью». Император был очень доволен.
В тот же самый день торговец маслом месье Матта написал в своём рапорте, что бегство императора с острова ожидается в марте. Солдатам роздали по новой паре башмаков.
22-го числа Наполеон написал гранд-маршалу:
«Завтра проследи за тем, чтобы мэр и месье Ломбарди заключили контракт на постройку рейда в Лонгоне. Выделяемая на это сумма не должна превышать 2500 франков. Пусть они укажут, сколько им потребно чёрного пороха, и я им выделю.
Наполеон.
P.S. Пусть они также подготовят контракт на изготовление трёх маленьких мостиков или же трёх декоративных пролётов на дороге в Лонгоне, чуть ниже деревни Каполивери».
«О, Боже!» — пробормотал генерал Бертран.
Как же так? Наполеон одновременно отдавал такие противоречивые приказания. Некоторые усматривают в этом чётко разработанную систему маскировки своих намерений, ведь даже Бертран находился в неведении и занимался тем, что нанимал лошадей и заключал контракты, в то время как военные приказы поступали непосредственно Дрюо.
Правда, видимо, заключалась в том, что в этот момент Наполеон ещё не принял окончательного решения. В нем как будто боролись два человека. Доведённый до крайности несправедливостью и трагическими обстоятельствами, он, что называется, встал в позу, подобно кобре, принявшей устрашающий вид. Но успокоить его можно было легко. Он походил на оскорблённого человека, который уже подал исковое заявление в суд и привёл всю громоздкую машину Судопроизводства в действие, но в глубине души всё ещё надеялся на полюбовное разрешение конфликта. Даже теперь надменный монарх из Вены, высокомерный Кук или величавый лорд Каслри и граф Меттерних могли бы уберечь мир от многих бед, если бы направили Наполеону дипломатично составленное письмо следующего содержания: «Ранее был допущен ряд ошибок, но начиная с сегодняшнего дня все пункты договора будут неукоснительно выполняться. Денежные средства, гарантированные договором, уже отправлены. Кроме того, нам представляется необходимым сообщить, что императрица и её сын находятся на пути к императору на Эльбу. Им предоставлена надлежащая охрана и оказываются все должные знаки внимания». Безусловно, Наполеон принял бы такие известия с чувством благодарности и отказался от своих намерений покинуть остров. Все военные приготовления могли бы быть приостановлены. Может быть, это и вызвало бы возмущение и недовольство среди отчаянных вояк и гвардейцев. Но ведь он уже отпустил с острова всех тех, кто желал поехать домой — он мог спокойно обойтись и без них. Как и Дрюо, многие офицеры были влюблены в местных жительниц и не горели желанием сражаться. Бертран тоже ничего не хотел, кроме спокойной семейной жизни.
Полина стала постепенно понимать, что существует ещё одна крупная проблема, занимающая все мысли императора. 22-го числа, ужиная с матерью и сестрой, Наполеон не сказал ни слова. Мать была спокойна и невозмутимо величественна. Полина, возбуждённая от прогулки и наблюдений за работами в порту, за ужином тем не менее тоже молчала. Потом сели за карты, Наполеон играл без всякого энтузиазма, хмурился, пожимал правым плечом и даже не спорил, когда мадам Мер объявила, что он мошенничает. «В любом случае, — парировал он, — я должен вам двадцать франков», — и тут же заплатил. Он рано поднялся из-за стола, сел к фортепьяно и, как обычно, взял четырнадцать нот Гайдна. Он проводил мадам Мер до экипажа и вернулся назад, к Полине. Желая ему спокойной ночи, она поцеловала его и опять прошептала на ухо пароль:
— Оргон!
— Хорошо, — ласково ответил он и потрепал её за ухо. — Спокойной ночи, моя дорогая.
Этой ночью, что очень редко случалось, он долго не мог заснуть. Полина была права. Воспоминания об Оргоне, Ля Каладе и Фонтенбло часто посещали его. Он знал, что во Франции ходили самые гнусные истории о его унижении. У Бертрана и Дрюо, у Кемпбелла, этого английского шпиона, у немногих придворных и солдат, должно быть, сохранились самые неприятные воспоминания об этой позорившей его честь поездке. Возможно, разговоры о ней стали для них обычным делом. На материке упорно муссировались слухи о том, что он и раньше бросал свою армию. Каково ему, которого считали величайшим в истории человечества солдатом, было знать, что его называют трусом! Да, Полина права. Нужно раз и навсегда покончить с этими россказнями и опять предстать перед ними победителем. Пусть вспомнят, что это он одержал победу при Аустерлице, что это он, одинокий, стоял на мосту в Лоди, а вокруг свистели пули. Но в таком случае будут новые Оргоны, новые инсинуации и выпады со стороны толпы.
Говорят, что на острове Святой Елены он утверждал, что намеревался убежать с Эльбы ещё будучи в Фонтенбло. Но на острове Святой Елены он вообще говорил много странного.
А сейчас он вспоминал о Фонтенбло и Оргоне, и эти воспоминания наполняли горечью его душу. Иногда он хвастливо утверждал, разговаривая с Кемпбеллом и другими, что достаточно ему пошевелить пальцем, и Франция падёт к его ногам. Легко было говорить! «Каково же всё-таки непостоянство людей! — думал Наполеон. — Достаточно совершить промах, и они пытаются растоптать тебя. А как легко совершить промах!»
Вера в свою счастливую судьбу и уверенность в том, что его нельзя победить, были уже не столь сильны в нём — в конце концов он потерпел поражение. Возможно, продолжал размышлять Наполеон, добрый Дрюо прав, считая новую военную кампанию безнадёжной и обречённой на провал. Выступить и сражаться против Европы с несколькими сотнями гвардейцев или даже просто перевезти их на одном маленьком корабле на материк, когда вокруг блокадный флот, — это безумная затея. Конечно, ему удалось проскользнуть под носом у Нельсона после египетской кампании, но может ли он вновь рассчитывать на такую удачу? Его могут захватить по пути, и тогда разговоры о Святой Елене станут пророческими. Наверное, лучше ему остаться здесь, в своей крепости, постоянно провоцируя их на противозаконные действия. На острове он может продержаться много лет. Только бы получить хорошие известия из Вены! Если бы императрица была рядом, они бы не посмели досаждать ему. Если бы его сын рос сильным и мужественным здесь, на террасе дворца, у него на глазах, тогда бы он почувствовал себя вполне счастливым. Правда, оставалась ещё проблема с деньгами. Бурбоны — вероломные глупцы! Высмеивая его, они утверждали, что он «честолюбив». Но как он может быть «честолюбивым» сейчас? Никто и ничто не могло вознести его выше того положения, которое он занимал, — властелина всего мира. Только он всё ещё может спасти от Бурбонов свою родину — бедную Францию. Возможно, это его долг. Оргон! Бриг «Инконстант» должен выступить один против целой армады кораблей со всего мира! И потом на горизонте маячил Кемпбелл — ничтожный лицемерный соглядатай. Хорошо, что он позволил ему уехать! Вот какие раздумья тревожили Наполеона в ночи, вот почему он никак не мог успокоиться. Однако, подумав о полковнике Кемпбелле, он улыбнулся и вскоре заснул.
Сон не освежил его, но встал он сразу и, расхаживая по террасе, выпил на ходу кофе. Утро выдалось прохладным, сияющим ослепительной голубизной неба. Он подумал, какое же всё-таки это прекрасное место. Он представил сына, маленького короля Рима, рассматривающим море в подзорную трубу. Он выучил бы с ним названия всех кораблей, научил бы отличать тартану от фелуки. Мария-Луиза своей царственной осанкой и грацией пленила бы Эльбу. И люди со всего острова (и даже континента) приезжали бы сюда на балы и торжества, послушать оперу к посмотреть спектакли. Эльба стала бы культурным центром всего Средиземноморья, а его сын стал бы известным человеком.
Солнце поднялось над фортом Стелла и осветило маленький садик. Повернув лицо к солнцу, он стал молиться: «О, Господи, сделай так, чтобы сегодняшний день принёс мне хорошие известия. Полина права. Я испытываю страх. Я достаточно в своей жизни боролся и странствовал. Всё, что я затеял, — это сумасшествие. Но я могу оставить всё по-старому. О, Господи, ещё раз прошу, ниспошли мне сегодня хорошие новости».
Он смотрел на море и увидел, словно в ответ на свою мольбу, маленькую фелуку, перевозящую почту. Два изящных полумесяца её парусов коричневого цвета раздувались от попутного ветра. Наполеон с жадностью смотрел на маленькое судёнышко, пока оно не скрылось в гавани.
— Быстро! — крикнул он посыльному. — Ля Муш! Письма!
Фелука привезла ответ Меневаля на письмо Бертрана от 28 января. В этом сострадательном, но осторожном послании, написанном несколько слащавым стилем, старый слуга императора сообщал изгнанникам правду. Он советовал им больше не ждать императрицу и её сына, ибо она порвала с Францией и в настоящее время является пленницей своего отца и союзников. Он также сообщал, что она может получить Парму, как это и было ей обещано по договору, но даже если ей и разрешат поехать туда (что весьма сомнительно), она должна будет отправиться в путь без сына. Король Рима в таком случае остаётся заложником в Вене. Конец письма звучал ободряюще, хотя и помпезно:
«Императрица от рождения была наделена теми качествами, которые, безусловно, позволили бы ей с должным уважением относиться к Франции, если бы природа, в придачу к этим качествам, наделила её большей твёрдостью характера. Необычные обстоятельства связали воедино её судьбу с судьбой великого человека. Эти узы были самым жестоким образом расторгнуты эгоцентричным холодным расчётом политиков. Это случилось тогда, когда император более не внушал страха. Все те промахи, которые допустила императрица, должны быть, несомненно, вменены в вину тем, кто сделал её всего лишь инструментом проявления своей ненависти и осуществления мести. Я глубоко уверен, что император никогда не осудит женщину, которой оказал честь, женившись на ней, которая подарила ему много счастливых дней и которая стала матерью его нежно любимого сына. Боюсь, что с течением времени простые французы, не зная о том, как тяжело ей приходилось в различных ситуациях, могут поддаться искушению и обвинить её во всех бедах. Но, по моему мнению, она заслуживает снисхождения. Поэтому оставьте гнев для тех, кто ускорил её падение».
Это откровенное сообщение было весьма ценным для Бертрана, который, не зная обстоятельств, много месяцев ругал Марию-Луизу как только мог. Но послание предназначалось Наполеону. Бертран подумывал о том, чтобы не показывать ему письмо, но Наполеон уже взял его в руки.
— О, Боже! — уже в который раз пробормотал Бертран.
— Письмо от Меневаля, ваше величество, — сообщил он и поспешил выйти. Он закрыл дверь не полностью и встал рядом, в маленькой комнатке, весь обратившись в слух. Глядя на море сквозь миртовые ветви, он удивлялся самому себе: ну зачем он приехал на Эльбу?
Вдруг до его слуха долетел ужасный крик, в котором было всё — и ярость, и горькое сожаление: «Бертран!»
Не двигаясь, он продолжал смотреть на море.
Наполеон, метаясь взад и вперёд по комнате и неистово колотя кулаками в грудь, чувствовал, как отчаяние и ярость овладевают его сердцем: «Вот какова награда за пристойное поведение и спокойную жизнь! Ради этого я отослал с острова Марию Валевскую! Меневаль прав».
Даже сейчас Наполеон ни в чём не обвинял Марию-Луизу. Но он пылал непримиримой ненавистью к её притеснителям — старому коварному отцу, Бурбонам, всем этим напуганным, плетущим заговоры королям. «Итак, — мысленно сказал он себе, — они отобрали у меня жену и сына, да? Бог свидетель, я поеду и заберу их сам!» Он направился к двери. Вполне спокойный теперь, он позвал:
— Бертран!
— Ваше величество?
— Скажи Дрюо, что этим утром я буду осматривать корабли. В одиннадцать часов.
— Да, ваше величество.
Глава 14
ЗАМЫСЛЫ НАПОЛЕОНА
История повторяется. Кому-то трудно поверить в то, что Троянская война началась из-за жены Менелая[48]. Историки, не принимая всерьёз бедную Елену, пытаются объяснить конфликт «экономическими причинами». Пусть так. В душе Наполеона боролись разные чувства: гордость, негодование, любовь к Франции, стремление к справедливости, — но в то утро только мысли о Марии-Луизе и сыне, подобно желанию Менелая вернуть Елену, свели воедино все нити судьбы. Вот почему корабли вышли в море.
Несколько часов Наполеон провёл, осматривая «Инконстант», «Этуаль» и «Сен-Эспри» (торговое судно из Генуи, реквизированное по приказу Наполеона для пополнения флота. На бриг «Инконстант», который, будучи вновь окрашенным, весь сверкал, и «Этуаль» грузили запасы воды и продовольствия, а орудия, мушкеты и боеприпасы перевозили туда ночью.
Британский вице-консул месье Ричи расхаживал около кораблей, как будто занимаясь обычными делами, и помешать ему в этом было очень трудно. Торговец маслом месье Матта тоже бродил возле причала — если в этом нет ничего преступного, так почему бы и нет? — и придирчиво косился на те ящики, которые вызывали у него наибольшее подозрение. По свидетельству офицеров Наполеона, в это утро император был, как прежде, энергичен, проницательный взгляд его замечал каждую мелочь. Так, на бриге можно было разместить только четыреста солдат, и то при очень большой скученности, поэтому он хотел знать точно, сколько человек поместится на каждой палубе, где и чем они будут питаться и где будут находиться отхожие места. Пришлось провести несколько экспериментов с группой моряков, чтобы уточнить интересующие его сведения. Корабельному плотнику поручили смастерить новые полки для мушкетов. Он приказал Дрюо представить ему план всех палуб и проследить за тем, чтобы каждый солдат знал, перед тем как поднимется на борт, где он должен устроиться сам и сложить своё снаряжение. Итак, сомнений больше не было. Благодаря умникам из Парижа и Вены в нем вновь проснулся великий солдат, неутомимый и полный энергии, готовый к самым решительным действиям.
К концу этого дня торговец маслом полностью уверился в том, что цель поездки — Франция. Он принял решение отплыть на рыбачьей лодке на следующее утро.
Вечером того же дня бриг «Инконстант» встал на якорь у границ гавани. А ночью (23-го числа) случился один из тех непредсказуемых эпизодов, которые поворачивают ход истории. Вскоре после полуночи, освещённый яркой луной, появился английский военный корабль «Партридж», возвращавшийся, вероятно, из Генуи или Ливорно. На нём зажгли опознавательные огни, и кораблю разрешили войти в гавань. Стало ясно, что капитан корабля не знал ни о каких приготовлениях, так как корабль прошёл прямо в залив и встал на якорь под прицелом орудий фортов. Но всё же во всей этой ситуации таилась величайшая опасность, ибо совсем близко от него находился заново окрашенный британский бриг. При свете дня на «Партридже» конечно же заметили бы его и попытались узнать, в чём дело. С фортов о прибытии «Партриджа» доложили Дрюо, а Дрюо — Наполеону. Полина, услышав о том, что произошло, тихо спустилась вниз — подслушать.
Император сразу же проснулся и был готов действовать быстро и обдуманно. По его решению капитана Ади и полковника Кемпбелла, если он был на корабле, следовало арестовать, как только они сойдут на берег. Но Наполеону не хотелось начинать и без того рискованное предприятие схваткой с англичанами, возможно, с единственными друзьями, которых он уважал.
— Когда сядет луна? — спросил он.
— Около четырёх, ваше величество.
— Отлично. Около пяти «Инконстант» выйдет в море.
— В каком направлении, сир?
— Ни к каком. Бриг будет дрейфовать поблизости, держась вне основных путей и наблюдая за гаванью. Скажем, что на нём проходит обучение новая команда. Дрюо!
— Да, сир?
— Я хочу, чтобы гвардейцы устроили новый сад на известном тебе месте, с этой стороны форта Стелла. Пусть начнут копать на рассвете. Дай им несколько деревьев шелковицы. Бертран?
— Ваше величество?
— Капитан Ади сойдёт на берег утром. Я должен увидеться с ним. Но если там Кемпбелл, скажи, что я сильно простудился. Ты его увидишь. Если на борту Кемпбелла нет, узнай точно, когда он вернётся. Хорошо?
— Хорошо, сир.
Княгиня Полина, которая подслушивала на ступенях лестницы, крадучись поднялась к себе наверх.
Незадолго перед рассветом «Инконстант» проплыл мимо «Партриджа». Это никого не удивило — единственный корабль Наполеона часто выходил в плавание. Начальник гавани посчитал, что бриг направился в Лонгоне для ремонтных работ.
В пятницу, 24-го числа, в девять утра капитан Ади в сопровождении нескольких англичан, приехавших посмотреть на остров и на императора, подплыли на шлюпке к берегу и высадились. Вдоль берега сновали туда-сюда маленькие рыбацкие лодочки. Несколько человек трудилось над покраской и оснасткой «Сен-Эспри». Торговец маслом месье Матта, проходя по пристани мимо капитана, снял шляпу. Его просто распирало от секретных сведений, которые ему удалось собрать. И он мог бы сказать капитану (он даже подумывал об этом), что император намерен совершить бросок во Францию, но не сказал ничего. И вот почему. Он считал, что англичане находятся в сговоре с Наполеоном, иначе он не мог себе объяснить отсутствие полковника Кемпбелла в течение этой, до предела насыщенной событиями, недели. Поэтому он решил отложить свой отъезд, чтобы ещё понаблюдать за поведением английского корабля.
Капитан Ади и его спутники стали подниматься вверх, в город. Капитан — добродушный и беззаботный моряк, — как многие из его собратьев-офицеров, чувствовал личную симпатию к Наполеону. Но это не помешало бы ему выполнить свой долг, если бы он узнал от торговца маслом о серьёзных намерениях императора.
Но капитан, ничего не подозревая, продолжал разгуливать по улице, пока остальным англичанам показывали их комнаты в гостинице. На площади он встретил мадам Бертран, которая что-то покупала. Ей как англичанке нравились все офицеры военно-морского флота его величества, и капитан не был исключением. Из разговора с нею капитан понял, что император подхватил сильную простуду и, кроме того, очень обеспокоен. «Бедняга, он в отчаянии от недостатка средств. Вы знаете, возможно, у него совсем нет денег. Положение очень серьёзно. Ну разве это не позор?» И капитан Ади согласился с нею.
В этот момент к нему присоединились его спутники, и они двинулись вверх, к вершине холма. Сверху он заметил бриг «Инконстант» с поникшими парусами, который находился далеко к северу от острова.
Бертран был дружелюбен, но осторожен:
— Полковник Кемпбелл с вами?
— Нет.
Как оказалось, император чувствует себя уже лучше и, несомненно, примет путешественников.
— Я хотел бы переброситься с вами парой слов наедине.
Ади распрощался с пассажирами, и их, немного возбуждённых, пригласили в кабинет императора.
— Как наш друг полковник? — Бертран опять перевёл разговор на старое.
— Скорее всего, он в Лукке или во Флоренции. Я должен привезти его в воскресенье, — ответил ничего не подозревающий моряк.
— В воскресенье? Надеюсь, что ему лучше.
— Он говорит, что становится глуховат.
— Ах да, он мне гоже говорил об этом. Вы отплываете сегодня, капитан?
— Да, во второй половине дня. Полковник хочет, чтобы я зашёл в Пальмиолу.
Генерал Бертран пожал плечами:
— Ну разумеется, капитан, если вы очень любите скалы. Там не на что смотреть. У полковника, если вы хотите знать моё мнение, такие же скалы вместо мозгов. Ха!
Капитан слегка улыбнулся. Хоть он и неукоснительно исполнял то, о чём его просил Кемпбелл, сам лично считал полковника «немного не в себе», склонным к преувеличениям.
— До свидания, мой капитан.
Бертран энергично отсалютовал и поспешил к Наполеону. Капитан Ади вышел на воздух разочарованный тем, что не увидел императора, а ещё больше тем, что не встретил его сестру. Но в этот момент по счастливой случайности к нему подошла сияющая Полина, которая одной-единственной улыбкой вмиг растопила лёд в сердце капитана. На ней была чёрная соломенная шляпа, какие носят на Эльбе, украшенная двумя бледно-голубыми лентами, ниспадавшими по сторонам. В руке она держала корзинку с апельсинами.
— Капитан Ади! — крикнула она удивлённо и обрадованно. — Почему же мне не сказали, что приплыл ваш корабль? Пойдёмте посмотрим новый сад. Я несу туда немного фруктов.
Они пошли вдоль гребня холма. Полина болтала о приближающемся лете:
— Мы будем жить в Марчиане с июня по сентябрь. Там наверху божественно прекрасно, есть жилище отшельника и вокруг удивительные цветы. — (Княгиня никогда там не была). — Почему бы вам туда не заехать и не навестить нас?
— Боюсь, у меня не будет на это времени, ваше высочество. Мне приказано не задерживаться в Портоферрайо более чем на сутки.
— Но почему?
— Ну, я думаю, потому, чтобы не давать другим нациям оснований для зависти по этому поводу. Кроме того, — галантно улыбнувшись, он посмотрел ей прямо в глаза, — есть и другая причина, княгиня.
Румянец сошёл с её щёк, она застенчиво отвела глаза, вглядываясь в морскую даль.
— Но в любом случае, — проговорила она настойчиво и серьёзно, как человек, чьи намерения нелегко расстроить, — вам вовсе не нужно заходить в Портоферрайо. Вы можете бросить якорь у Марчианы?
— При хорошей погоде — да.
— Тогда вы должны обеспечить хорошую погоду. Вы, англичане, можете сейчас делать всё, что угодно. Наполеон говорил об этом, вы просто обязаны быть там же, где и мы.
— В этом что-то есть, — серьёзно ответил капитан. Ему было приятно думать о себе как о защитнике княгини.
— Пойдёмте в рощу и наберём цветов. Вы не откажетесь, капитан Ади? — Она подняла на него огромные чёрные глаза.
— Пойдёмте, — забыв обо всём на свете, сказал он.
Разговор был прерван громким смехом. Обнажённые по пояс и обливающиеся потом, гвардейцы под руководством сержанта Гренуллио трудились, обустраивая новый сад. Они копали ямы, сгребали землю, перетаскивали валуны. Две молоденькие шелковицы были уже посажены. И хотя вокруг царил полнейший хаос, за всем этим угадывалась определённая цель. Стоящий в сторонке лейтенант Ланор с сосредоточенным видом изучал план, который ему дали на рассвете.
Но откуда смех? Это капрал Джуалини в который уже раз излагал свой знаменитый «план». «Хорошо! — кричал он. — Сомкнутыми рядами маршем мы двигаемся вперёд. Знамёна развеваются над нами. Хорошо! — При каждом слове «Хорошо!» он вонзал в землю лопату с таким ожесточением, как будто там, под землёй, сидел сам дьявол. Гвардейцы веселились от души. Греки присоединяются к нам, молдаване и швейцарцы тоже. Хорошо! Если будет нужно, мы захватим Белград, и там мы остановимся на отдых. Хорошо! Венгры с нетерпением ожидают нас — они только того и ждут, чтобы подняться против австрияков, хорошо! Они подняли восстание! Хорошо!» Но тут сержант заметил за спиной красноречивого капрала приближающихся — Полину и английского капитана — и выстроил утомлённых гвардейцев по стойке «смирно». Полина передала ему корзину и улыбнулась всем им так, что каждый подумал, будто улыбка адресована ему лично. В глазах солдат читалось немое восхищение, и капитан Ади подумал: «Никаких признаков недружелюбия. Кемпбелл несёт чушь». Сержант отдал честь, княгиня поклонилась и повернула назад. Немного отойдя, они услышали позади громкий, поддержанный всеми гвардейцами, вопль «Хорошо!» и по-английски троекратное «Ура!». На сердце у капитана было светло и спокойно.
— До свидания, месье капитан, — сладко проговорила княгиня. — Когда мы увидимся вновь?
— Ваше высочество, всё зависит от ветра. Я заеду за полковником Кемпбеллом в воскресенье, тем же вечером мы должны быть здесь, так что, скорее всего, в понедельник.
— Ну хорошо, я надеюсь увидеть вас обоих в понедельник. А вы, месье капитан, надеюсь, к тому моменту уже пришлёте решение по поводу Марчианы?
Довольный жизнью, капитан Ади стал спускаться вниз, размышляя о прогулках в душистых рощах около Марчианы.
Во второй половине дня хитрый месье Матта наблюдал за отплытием «Партриджа». После чего сам стал готовиться к отплытию в Италию. Но уже было слишком поздно. Камбронн объявил о полном закрытии острова: ни одной лодке не было позволено выходить из гавани. Городские ворота были закрыты, и торговец маслом оказался лишён свободы передвижений. Он вынужден был слоняться по городу, хотя его переполняли секреты, которым, к сожалению, не суждено было вырваться наружу. Однако, казалось, это никого и не интересовало, никто на континенте не относился серьёзно к его вымученным откровениям.
В тот же самый день, в пятницу 24-го числа, другой главный соглядатай, месье Ричи, обнаружил, что за ним повсюду следуют два жандарма.
Как только «Партридж» прошёл мимо маяка, погрузка кораблей была возобновлена. Из-за постоянно меняющегося слабого ветра капитану Ади не удалось достичь Пальмиолы до темноты, и всю оставшуюся часть дня и всю ночь его корабль находился в проливе Пьобино. Около пяти часов вечера он был достаточно сильно удивлён, увидев, что бриг «Инконстант» вместе с «Этуаль» и «Каролиной» — гребным судном, покинувшим Портоферрайо, как он заметил, через час после полудня — двигаются в южном направлении. Капитан наблюдал, как они держались близко к побережью Италии, а затем обогнули мыс Бьянко и взяли курс на Портоферрайо. Но простодушному капитану эти странные манёвры не внушили подозрения, на этот раз удача была на стороне Наполеона.
В субботу, 25 февраля, в Портоферрайо выдалась прекрасная погода. Корабли были почти готовы к отправке. Офицеры, молчаливые и серьёзные, проходили туда-сюда через Морские Ворота, и месье Матта, который не мог просочиться мимо часовых, вынужден был в бессильной ярости наблюдать за ними из таверны. Двое жандармов с суровыми лицами следовали по пятам за месье Ричи, что вызвало некоторые неудобства, когда он вечером зашёл к синьоре Лючии.
Этим утром Наполеон решил набросать проекты воззваний и написать прощальное письмо жителям Эльбы. Так как у Дрюо была тысяча дел, а Бертрану они договорились пока ничего не рассказывать о приготовлениях, ему пришлось писать самому. Дело было непривычным для него и потому вызывало утомление. Он настолько привык к диктовке, что слова, нацарапанные карандашом, появлялись на свет с трудом. Он разорвал два варианта воззваний и решил отложить работу на завтра. Но прощальное письмо он всё же написал, адресовав его доктору Лапи, возведённому в звание генерала, будущему губернатору острова. Оно оказалось на удивление коротким:
«Я покидаю остров Эльбу. Вполне узнав нравы жителей острова, я вверяю им обеспечение безопасности этой страны. Я не могу предоставить им более серьёзных доказательств моего доверия кроме того, что оставляю свою мать и сестру на их попечение в ситуации, когда войска покидают остров. Члены совета и все жители острова могут рассчитывать на моё к ним расположение и особое покровительство».
Закончив, он спустился вниз со сверкающего под солнцем утёса, чтобы искупаться.
В эту же субботу полковник Кемпбелл поехал в Ливорно. Перед тем как покинуть Флоренцию, он стремился получить аудиенцию у всесильного Кука. Ему хотелось получить от него какие-либо сведения, представляющие чрезвычайную важность для Наполеона, — относительно денег, Марии-Луизы, Пармы и так далее.
Мистер Кук ответил ему крайне саркастично: «Вы можете сказать Наполеону, что все эти вопросы сейчас решаются в Вене на основе взаимных компромиссов. Однако он должен понимать, что между суверенами не может не быть разногласий. Никто больше о нём и не вспоминает — как будто его и вовсе не было».
Полковник приехал в Ливорно, чувствуя себя гораздо лучше и немного успокоившись. Жалко, конечно, что он не встретил княгиню Полину в Лукке. А может, и к счастью. Он не знал, как бы повёл себя, встретив её, например, в одежде моряка (про неё рассказывали жуткие истории). От одной мысли об этом полковник покраснел.
В Ливорно он нашёл встревоженное послание от месье Ричи, в котором, несмотря на обилие абсурдных по своей противоречивости и путаных сообщений, содержались сведения такого характера, что могли возникнуть самые серьёзные подозрения». Например, месье Ричи сообщал, что «Этуаль» 16 февраля отплыла в направлении Лонгоне с грузом боеприпасов и солонины, а затем вернулась обратно. Кроме того, два обитых железом судна из Рио прибыли в Портоферрайо без полезного груза. Имелись подозрения, что на борту брига «Инконстант» и трёх других судов находились боеприпасы и продовольствие.
Полковник терялся, какие выводы можно делать из всего этого.
Полковник теперь действует крайне энергично и проявляет большую подозрительность, чем когда бы то ни было... Поступило сообщение, что войска находятся в ожидании грядущих крупных событий. Отовсюду постоянно поступают донесения, поэтому не всегда можно определить, что кроется за ними. Говорят, что Наполеон, выйдя на лодке в море, отсутствовал всю ночь...
Во имя Господа — почему?
...Несколько дней назад у Наполеона была встреча с матерью, продолжавшаяся два часа. Было замечено, что после разговора она была очень расстроена необходимостью расставания с сыном и возвращения домой. Она уже отдала распоряжение немедленно упаковать часть своих вещей...
Весь день полковник находился в страшном волнении. Подумать только, меньше чем в пятидесяти милях отсюда «чудовище» вот-вот вырвется на волю, а британский флот находится в полном неведении, да и у него нет корабля. Бедный Кемпбелл! Но ведь сам виноват! Корабль британского флота впустую потратил почти целый день на ненужное обследование Пальмиолы. Капитану Ади даже не разрешили сойти на берег в соответствии, как потом доложил он, «с приказом Бонапарта, запрещающим посторонним лицам находиться там».
Субботний вечер в Портоферрайо, как всегда, был весёлым, хоть никому не было дозволено выходить за ворота города, а солдатам было приказано находиться в казармах до пяти часов. Приготовления были закончены, и этим вечером, перед самым заходом солнца, предполагалось посадить войска на корабли. Однако планы расстроились из-за «Партриджа», курсировавшего неподалёку. В пять часов его заметили с фортов. Не исключалась возможность захода корабля в гавань. Время было упущено, начинать операцию было уже слишком поздно, поэтому ворота казарм открылись, и гвардейцы направились в город. Приказ о необходимости оставаться в казармах принёс много волнений жителям города и солдатам, в обычных разговорах любовников чувствовалась грусть по поводу скорого расставания. Тут и там слышался шёпот: «А ты будешь вспоминать обо мне?» Капрала Джуалини много раз просили, соблазняя выпивкой, пересказать в деталях Дунайский план, и вскоре он уже едва держался на ногах.
Офицеры тоже развлекались, но более сдержанно. В верхней комнате гостиницы «Альберго Апьяно» капитан Ламуре после двух стаканов алеатико со всевозможной серьёзностью разъяснял стратегию будущего похода:
— Мы поплывём в Иерусалим. Это единственная крупная столица, за исключением Лондона, где мы не были вместе с императором. Когда он мог войти в Иерусалим как победитель, он сказал: «Нет, я не сделаю этого». Но теперь всё по-другому. Франция для нас закрыта. Франция закрыта для нас. Конечно, очень жалко, потому что у меня там осталась любимая жена. Капитан Лаборд, ты как считаешь? — спросил он сурово.
— Возможно, ты прав, — миролюбиво ответил Лаборд.
— Возможно? Да в этом и сомнения быть не может. Это ужасно, но это так. И что нам остаётся? Одна только Италия — и Мюрат. Но что он из себя представляет? Разве ему можно верить? Он то туда, то сюда. Паразит! Что мы получим, если высадимся в Италии? Одни только бесконечные сражения — и ничего кроме них! Что касается меня, как вы знаете, друзья мои, я бываю счастлив только во время битвы. Разве кто-нибудь будет это отрицать?
Он обвёл всех сердитым взглядом, но никто этого не отрицал, а капитан Лаборд даже сказал:
— Всё верно.
— Благодарю тебя. Спасибо всем вам. Нет, нет. Я сейчас думаю только об императоре. Зачем ему новые битвы? Сколько бы сражений он сейчас ни выиграл, разве это сравнится с тем, сколько он раньше одержал побед?
— Нет, не сравнится, — заявил Тибо, старший лейтенант.
— Правильно, — подтвердил Лаборд, желая избежать ссоры.
— Это не просто правильно, это разумно. И что потом? Императору не нужно больше сражаться. Он не какой-то там новобранец. Всему миру известно, что он может сражаться. Я прав?
— Да, — быстро ответил капитан Лаборд.
— Отлично. Ему сорок пять. Славы ему не занимать. Он потолстел. Он не так молод, как когда-то.
Капитан Ламуре продолжил:
— Император хочет, чтобы у него была семья — жена и сын, чтобы он мог вспоминать былые подвиги, спокойно чем-нибудь заниматься и чувствовать себя в безопасности...
— И чтобы у него был немалый доход, — резко добавил капитан Комб.
— Это разумно, — сказал капитан Лаборд.
— И это правильно. Что же теперь? Здесь нам неплохо живётся, хотя мы и окружены со всех сторон врагами. Мы одни против всех — алжирцев, пиратов, Бурбонов, объединённых монархов и наёмных убийц. Только мы можем защитить его, только мы!
Здесь все поднялись со стульев, громко выражая одобрение, опустошили свои стаканы и даже прослезились.
— Но что потом? У всех у них есть корабли, а у нас не хватает даже кукурузы. В конце концов они могут запереть остров.
— Без сомнения, — глубокомысленно произнёс капитан Лаборд, и среди офицеров воцарилось молчание.
— Ну и хорошо. Как вы думаете, зачем мы нагрузили корабли припасами, которых хватит на три месяца?
— Тише, — попросил капитан Лаборд. — Не все должны знать об этом.
— Весь мир об этом знает, — возразил Ламуре, — но ты прав. Я беру назад свои слова. Тем не менее в голове они останутся. Ну и что с этого? Видно, путешествие наше будет долгим. Друзья мои, мы едем в Иерусалим. Из него император будет управлять миром. А почему, спросите вы меня, в Иерусалим? А потому, что Священный город никогда не посмеет атаковать нас. Всё очень просто.
Тут капитан Ламуре упал на стул, а затем его отвели в казармы.
Добрый Дрюо решил ещё раз навестить Генриетту Вантини. С тех пор как они расстались, он много и мучительно думал о том, что поступил неправильно, поддавшись уговорам матери. Никто открыто не высмеивал и не упрекал его, даже острый на язык камергер, её отец. Все слишком уважали доблестного и благочестивого Дрюо. Ему необходим был ещё один шанс, чтобы, смиренно попросив разрешения у её отца, упасть в ноги своей возлюбленной.
Когда же решение окончательно созрело, а это случилось 16 февраля, Наполеон приказал ему перекрасить «Инконстант» под английский бриг. И это всё изменило, пришёл конец мечтам и любовной истории Дрюо.
Итак, с тяжестью в сердце он постучал в дверь дома Вантини. Родители были удивлены, но всё же оставили его с Генриеттой наедине.
Дрюо, застыв неестественно на маленьком стульчике, смущённо смотрел на прекрасную девушку. Он искренне и глубоко любил её, но не мог даже просто попрощаться с ней или сказать: «Я приеду за тобой». Этим бы он выдал секреты своего хозяина. Без сомнения, глупо было приходить, но ему так хотелось ещё раз увидеть эти очаровательные глаза, услышать её негромкий высокий голос, каким она нараспев выговаривала французские слова.
— И-так, мой ге-не-рал? — произнесла она, будто чего-то ожидая.
Увидев Дрюо снова, она подумала с надеждой, что это не просто слухи, что действительно солдаты уходят с острова и Дрюо возьмёт её с собой.
Генерал страдал. Оглядывая её с ног до головы, он старался сохранить в памяти дорогие ему черты, мельчайшие подробности её облика. Под таким пристальным взглядом Генриетта залилась краской.
— Прекрасный вечер, — ответил он невпопад.
— И это всё? — Она уставилась на пол, чтобы спрятать свой смущённый взгляд.
Генерал, не в состоянии больше этого вынести, встал и на негнущихся ногах подошёл к ней.
— До сви-да-ния? — проговорила она всё ещё со слабой надеждой в голосе.
Что стоило ему произнести: «До встречи?» Но он не мог солгать: последние слова, которые он должен сказать Генриетте, не будут ложью.
— Прощай, синьорина, — сказал он, продолжая стоять возле неё и с жадностью смотреть на неё. Он страстно хотел сказать: «Я люблю тебя» — и задушить её в объятиях. Но он знал, что не вправе делать это, ведь и свои секреты следует хранить так же тщательно, как секреты императора.
Она заглянула в эти честные открытые глаза и прочла все его тайны. «Несомненно, сейчас что-то произойдёт», — подумала она, но ошиблась.
Он щёлкнул каблуками, сжал в своей ладони её руку, сказав ещё раз: «Прощай, синьорина!» — повернулся и вышел, в своей простоте позабыв обо всём на свете, кроме долга перед императором.
В этот вечер все мысли Полины занимал только один человек — и это был её брат.
За ужином Наполеон находился в хорошем расположении духа, смеялся и шутил по поводу её побед над Кемпбеллом и Ад и.
— Одно дело бросить вызов британской армии, но покорить британский флот — это совсем другое. Я это знаю на собственном опыте. Да, Полетт, если бы ты была в моём штабе, вторжение в Англию не затухло бы в Булони.
— Ты должен был взять меня в Москву, Наполеон.
Император проигнорировал это высказывание.
— Должен сказать, — продолжал он, — что мне нравятся английские моряки. Ашер — прекрасный человек. Думаю, что и Ади такой же. Если бы все мои офицеры были как они, сражения на море могли иметь другой финал. Когда мы вновь увидим нашего дорогого полковника?
— Скорее всего, в понедельник, Наполеон.
— Не раньше, надеюсь.
Мать и сестра переглянулись.
Он выпил только один стакан вина и поел быстрее обычного. В три часа сели играть в карты, но меланхолия овладела императором. Он не пытался обмануть своих партнёров, и когда стали разбирать, какой счёт, к удивлению и разочарованию матери, он даже не стал спорить. «Мама, ты права, — сказал он. — Ты всегда права». Как проигравший, он уступил место Полине и ушёл из комнаты.
Вскоре его хватились.
Камергер сообщил, что Наполеон в саду.
— Позови его, милая, — сказала мать. — Он простудится.
Княгиня подошла к окну и позвала брата.
Казалось, он не слышал. Была прекрасная ночь: луна повисла над самым дворцом и заливала светом террасу и верхушки деревьев. Наполеон стоял спиной к морю, обратив лицо к небу. Почти над самой его головой виднелись Кастор и Поллукс, небесные близнецы. Эта преданная друг другу пара, неразрывно связанная между собой, стала для него одним из немногих мистических символов. Для него это были не Кастор и Поллукс, а Наполеон и Мария-Луиза. Доброе предзнаменование. Но так ли это? Жестокие сомнения всё ещё терзали его душу. Не в силах их преодолеть, он начал быстрыми шагами мерить террасу. Так и не успокоившись, он сошёл с освещённой террасы в тень и прижался головой к дереву.
— Мама! Иди сюда! — тревожно прошептала Полина.
— Дай мне шаль.
Одного взгляда было достаточно этой пожилой женщине, чтобы понять, что не всё ладно.
— Что случилось, сынок? Ты обеспокоен.
— Мама, я должен тебе кое-что сказать. Только тебе, ты никому не должна рассказывать об этом — даже Полине.
«Даже Полине!» — от этой фразы Полина почувствовала резкую боль в сердце и удалилась в комнату.
— Хорошо, сынок.
Он огладил её руку.
— Мне нужен твой совет, мама. Ведь ты всегда бываешь права.
— Что такое, Наполеон?
— Я предполагаю покинуть остров завтра ночью вместе с гвардейцами.
— Куда ты собираешься?
Наполеон оглянулся на дом, бросил взгляд в темноту и прошептал:
— Во Францию! Что ты скажешь?
— Подожди, — проговорила она. — Дай мне подумать.
Она не в первый раз думала об этом, но как положить конец этому безумному предприятию? Она не сомневалась, что оно было безумным. Так же ясно, как и Дрюо, она понимала, что уже слишком поздно бросать вызов озлобленной и коварной Европе. Здесь, на Эльбе, она была счастлива, каждый день общаясь со своим любимым сыном и дочерью. Здесь она была ближе к Наполеону, чем за все годы его триумфов, и все они могли бы быть счастливы, если бы в мире существовало благородство. Конечно, размышляла она, разве Наполеон может чувствовать себя счастливым без жены и ребёнка, без денег, без должного отношения к нему властей предержащих? Он даже не может быть до конца уверен, что его не лишат и того малого, что у него есть, что его не убьют и не сошлют куда-нибудь. Возможно, что в этом жестоком мире только по-настоящему безумное предприятие и может принести плоды. Она была вдовой бойца и матерью низвергнутого короля, но чутьё семьи Бонапарт подсказало её сердцу: «Пусть погибнет, но в борьбе». Медленно, с трудом, она произнесла:
— Сынок, если Господу угодно, чтобы ты умер, то, надеюсь, не от яда или безделья. Ты умрёшь с мечом в руках.
Итак, слова, которые могли бы его остановить, так и не были произнесены. Знать бы, что в будущем ему уготовано нечто худшее, чем яд.
— Спасибо тебе, мама, — сказал он и прикоснулся губами к её холодному, полному сдержанной гордости лицу.
Он вернулся в дом, сел за фортепьяно и взял четырнадцать нот — мотив Марии-Луизы. Вздохнув, он удалился в свой кабинет, где потом всю ночь работал над воззваниями.
Глава 15
ОТПЛЫТИЕ
Воскресенье, 26 февраля, последний день на острове. Весна в этом году выдалась ранней, и сад был наполнен ароматами, а воздух чист, как в тот день, когда Наполеон в первый раз вошёл в гавань. Несмотря на ночную работу, он встал рано и занялся своим туалетом.
Предусмотрительный Маршан принёс своему господину утренний чай и огромный стакан апельсинового сока. Хотя ему были известны только слухи, он почувствовал, что наступил решающий день, и потому был одет подобающим образом: во французский мундир из зелёного сукна с кантами и воротником, расшитым золотыми нитками, жилет из кашмировой шерсти, чёрные бриджи и шёлковые носки.
Из-за бессонной ночи Наполеон принял более горячую ванну и сидел в ней дольше обычного. Целый час он наслаждался, попивая холодную воду и проговаривая вслух пробные отрывки из воззваний. Маршан даже начал волноваться, боясь, что дело неладно. Поэтому, когда появился доктор Форо де Бьюрегар, он с нетерпением втолкнул его в заполненную паром ванную и захлопнул дверь. Доктор чуть не задохнулся. Из клубов пара раздавались мелодичные слова: «Поднимите штандарты, которые были с вами при Ульме, Аустерлице, Йене, Эйлау... Кто это?»
— Ваше величество! — сказал доктор, с трудом переводя дыхание, — это уж слишком. Просто вредно. Здесь, как в аду.
— Мы все должны быть готовы к будущему, доктор.
— И не пейте так воду!
— Почему?
— При каждом глотке вы вдыхаете пар в желудок. Обязательно будут колики.
— Я слишком стар, чтобы вновь учиться, как правильно пить. Какие новости, старый сплетник?
— Ваше величество, некоторые говорят, что вы собираетесь в Неаполь, другие считают, что вы высадитесь в Египте, а третьи думают, что вы плывёте через Мальту в Иерусалим.
— И это всё? Тогда, доктор, я должен одеваться. Да и вы должны упаковать свои чемоданы, — Улыбаясь, он поднялся из ванной.
— Эти ванны вас прикончат, ваше величество.
— Я всю свою жизнь провёл в горячей воде, — сказал Наполеон, выходя из облаков пара. — И не вам отучать меня от неё, доктор. До свидания.
Но затем, как будто любая резкость в этот день была ему неприятна, он сказал:
— Нет, нет, доктор, простите меня. Я совсем не то хотел сказать. Вы хорошо мне служили. Я вас обнимаю.
Он потрепал за ухо своего медика, и тот вышел из ванной со счастливой улыбкой.
После ванны Наполеон облачился в жилет из фланели и домашний костюм — брюки наподобие кальсон и халат из канифаса. Затем по ритуалу следовало бритье. В те времена мало кто брился сам, в основном прибегали к услугам цирюльника. А император всегда брился самостоятельно.
Наполеон и двое слуг заняли свои обычные места у окна. Маршан в левой руке держал плоский серебряный тазик (с мылом и перекинутым через край полотенцем), в правой — кувшин с горячей водой. Мамелюк, стоя спиной к свету, держал зеркало. Выпрямившись и сосредоточившись, Наполеон по-императорски энергичными движениями, разбрызгивая мыло во все стороны, намылил половину лица. Маршан подал ему бритву с перламутровой рукояткой, и император решительно принялся за дело, сбривая щетину сверху вниз, вопреки советам специалистов и обычной процедуре бритья. Когда эта половина лица была выбрита, Маршан с мамелюком поменялись местами, как часовые в карауле. После бритья слуги оценивали результаты работы. Маршан обнаружил крохотный небритый клочок на подбородке, и Наполеон игриво потрепал за ухо Али, не указавшего ему сразу на это место.
Наполеон тщательно протёр лицо и руки маленькой губкой и приступил к чистке зубов. Сначала он старательно прочистил зубы деревянной зубочисткой, потом щёткой, смоченной в спирте, ещё раз натёр их превосходным зубным порошком и прополоскал рот свежей водой, смешанной с бренди. В заключение соскрёб налёт с языка при помощи скребка из черепашьего панциря.
— Зеркало, Али.
С явным удовлетворением Наполеон осмотрел свои зубы — они всё ещё оставались в прекрасном состоянии и отличались белизной. Да, с годами его зубы не изменились, чего, к сожалению, нельзя было сказать о фигуре и волосах!
Внимательно, как женщина, он подровнял себе ногти. У него были руки прекрасной формы, и он всегда тщательно ухаживал за ними. В это утро ножницы показались ему недостаточно хорошо заточенными, и он послал Али за другими.
Он бросил на Маршана глубокомысленный взгляд. Его камергер и так вскоре всё узнает.
— Маршан, — попросил он, — упакуй сегодня вещи.
— Для поездки в Лонгоне, сир? — бесстрастно спросил слуга.
— Для длительной поездки. Я скажу тебе, когда мы отплывём. Что с волосами?
— Если поездка будет длительной, сир, тогда их нужно немного подстричь. Сзади и на ушах...
— Отлично. Скажи парикмахеру, чтобы пришёл после обеда.
— Вы будете сегодня растираться, сир?
— Сегодня обязательно.
Впереди были многие дни в море, военные действия и, быть может, темница и смерть, поэтому в этот день нельзя было ничего упустить.
Он снял фланелевый жакет. Маршан вылил ему на голову немного одеколона (на Эльбе нелегко было его достать), и Наполеон жёсткой щёткой начал яростно скрести себе грудь и руки. Затем Маршан, взяв щётку и щедро орошая своего господина одеколоном, натёр ему спину и плечи. «Сильнее, — приказал Наполеон, — сильнее! Представь, что трёшь осла... или полковника Кемпбелла!» Император был очень высокого мнения о своей привычке растираться, которую, по его словам, приобрёл в Египте. Здоровая кожа была для него главным залогом здоровья, поэтому он предпочитал достаточно сильный массаж.
Теперь он был готов одеваться. Первым делом он надел фланелевый жилет и в этот момент задумался. В дни прошлых кампаний вслед за жилетом он вешал на шею чёрный шёлковый шнурок с маленьким атласным мешочком, в котором хранился яд. Сейчас мешочек находился в футляре из слоновой кости. Правда, в мешочке был какой-то новый порошок. Но так ли ему нужно теперь носить с собой яд? Нет. Прошлой ночью мать не зря упомянула об этом. Без сомнения, она прослышала о том позорном эпизоде в Фонтенбло. Она права. Этого больше не повторится. Лучше не искушать судьбу. Кроме того, всё сразу же стало бы известно Маршану и Али. Да и вообще, какой здравомыслящий человек мог бы положиться на яд? Он усмехнулся, покачал головой и протянул руку за сорочкой.
Маршан надел ему на ноги тонкие носки из мериносовой шерсти, а поверх них белые шёлковые чулки, придерживаемые белыми кашемировыми подвязками, застегнул золотые пряжки на коленях, а Али укрепил эластичные скобы.
— Что это такое, Маршан? Новые башмаки?
— Да, сир.
— Почему?
— Я подумал, сир, — спокойно ответил этот образцовый слуга, — что сегодня вы должны надеть новые башмаки. У других износились каблуки.
Наполеон подозрительно посмотрел на него, однако просто сказал:
— Отлично.
Он подумал, что, конечно, Маршан прав, — сегодня следовало надеть новые башмаки. Маршан прозорлив.
— Их разнашивали?
— Да, сир. Жиль уже три дня проходил в них.
Такова была обычная процедура. По счастью, у Жиля был тот же самый размер, что и у Наполеона.
— Три дня?
Новые подозрения возникли у него в голове. Значит, уже три дня назад Маршан решил, что именно в этот день ему понадобятся новые ботинки!
— Маршан, — сказал император, — ты человек огромного ума.
— Все мне говорят об этом, сир, — ответил верный слуга, преданно и искренне глядя на него. Наполеон встретил его взгляд лёгкой, понимающей улыбкой.
— Башмаки хорошо сидят, — только и сказал он.
— Рад слышать это, сир, — произнёс Маршан, очень довольный.
Новые башмаки были его маленьким личным вкладом в великое дело.
Али с удивлением наблюдал за происходящим.
Затем шла очередь очень тонкого шейного платка из муслина, а поверх него надевался тугой воротник из чёрного шёлка, очень высокий и достаточно широкий. Следом Наполеон надел свежий жилет из белого кашемира. Почти каждое утро он менял жилеты, как и бриджи. Это было просто необходимо, так как к своей одежде он относился не очень внимательно, например, когда писал, забрызгивал чернилами всё вокруг. В былые времена каждый год для него заказывалось по сорок восемь перемен одних и тех же одежд. На Эльбе он не мог позволить себе такой гардероб. Маршан устроил так, что в этот день у него было всё свежее. Воистину он был человеком огромного ума.
Поверх жилета Наполеон пристегнул портупею. У него их было великое множество. Сегодня он отверг портупею со сложным орнаментом из орлиных голов и сплетённых змеиных колец, на которой красовались две огромные буквы «NS», а также портупеи из тёмно-красного шёлка и кожи оленя, украшенной золотом. Были выбраны обычная портупея из чёрной кожи и шпага, которая была с ним при Аустерлице.
На жилет он нацепил ленточку Почётного легиона. Последним шёл мундир, и так как это было воскресенье, был выбран мундир пеших гренадеров — из королевского синего сукна с синим воротником, белыми отворотами, малиновыми манжетами и подкладкой, позолоченными пуговицами с изображением увенчанного короной орла и с маленькими эполетами. На нём красовались орден Почётного легиона и золотой орден Железной короны. К мундиру шла прославленная шляпа — чёрная касторовая, достаточно широкая и мягкая, с подкладкой из золотистого атласа. Единственным украшением её служила кокарда Эльбы. Маршан сбрызнул одеколоном носовой платок из превосходного батиста, и Наполеон слегка притронулся им к губам и вискам. Потом настал черёд раскладывания по карманам различных предметов, а именно: бонбоньерки, небольшого круглого ящичка из хрусталя с портретом матери на крышке, в котором он держал лакрицу и анисовое семя; маленькой овальной табакерки, сделанной из черепахового панциря; карманного бинокля и письма для генерала Лапи. Наконец всё было закончено. Ровно в девять часов камергер, ответственный за отбытие, легко постучал в дверь, держа в руке список посетителей.
Наполеон со слабой улыбкой смотрел на своих двух преданных слуг, как будто спрашивая их: «Ну, что? Как получилось?»
Император потолстел, но выправка была та же, кожа имела здоровый оттенок, волосы хоть и поредели, но не были тронуты сединой. Они с гордостью осматривали результаты своих трудов, и Маршан даже позволил себе одобрительный кивок.
И тут Наполеон, что случалось крайне редко, сказал: «Благодарю тебя, Маршан. Благодарю, Али», — и наклонил голову, как будто поклонился своим верным друзьям.
Отбытие стало самым многолюдным событием во всей истории острова. Присутствовали все чиновники и именитые личности города. Бертрану было предложено собрать также всех тех, кто хорошо нёс службу всё это время, но не был включён в особые списки провожающих. Все были крайне возбуждены и находились в напряжённом ожидании. Наконец появился король. Он, как показалось многим, выглядел хоть и утомлённым, но крайне величественным. Сейчас в нем было больше величия, чем когда-либо ранее. Некоторое время он расхаживал среди них, задавая несколько странные вопросы и делая столь же странные замечания: «Мой дорогой Пон, ваша обворожительная жена чувствует себя лучше? Прошлой ночью я думал о тех лилиях в вашем саду! Синьор Гратьяни, как растут каштаны? Месье Гаудиано, ваш оркестр играет всё лучше и лучше».
Потом он остановился:
— Господа! — Наступило гробовое молчание. — Я хочу кое-что сказать вам. Я собираюсь покинуть этот прекрасный остров.
Его слова не были неожиданными и не прозвучали, подобно удару грома. Сплетни и слухи уже подготовили их, но все были сильно опечалены.
— У меня в руках, — продолжал он, — письмо для генерала Лапи, который назначен губернатором острова. — И начал читать: — «Дорогой генерал», — но потом запнулся. Одного письма было явно недостаточно, чтобы выразить благодарность, которая переполняла его душу. И он с некоторой робостью продолжал говорить экспромтом:
— Верьте мне, генерал, господин мэр и все остальные, присутствующие здесь, я уезжаю от вас с огромным сожалением и величайшей благодарностью. Вы приняли меня, хорошо отнеслись ко мне, когда весь мир был настроен против меня. Вы благосклонно приняли особенности моей личности, жили по моим законам, дали мне силы и возможность передохнуть после всех тяжелейших несчастий, обрушившихся на меня, и жестокого обращения. Со своей стороны я сделал всё, что мог, для острова и его жителей. Я не исполнил всё, задуманное мною. Многие из моих самых сокровенных планов так и не осуществились. Но в этом нет ни вашей, ни моей вины. В этом преступная вина подлых и бесчестных людишек по ту сторону моря, которые в нарушение всех данных ими обязательств, в нарушение любых законов справедливости отказали мне в том, что принадлежит мне по праву. Тем не менее я уезжаю с острова, оставляя на нём мир и процветание. Я оставляю вам чистый, удобный для жизни город, дороги и деревья, за которые, по крайней мере, ваши дети скажут мне спасибо. Я забираю с собой своих солдат и вверяю оборону острова генералу и вам. Охраняйте его с честью и оставайтесь верны знамени Трёх Пчёл. Я оставляю здесь вместе с вами, и в этом залог моей веры в вас, мою любимую мать и сестру. Я знаю, вы сможете их защитить и будете с ними почтительны. Я никогда вас не забуду: этот остров навеки останется в моём сердце. И если Господь Бог позволит мне, я сделаю для вас всё возможное, как в своё время вы сделали это для меня. — Голос его упал до шёпота: — Господа, прощайте.
Стоящая вокруг него толпа ответила приглушённым ропотом. И не нашлось бы там человека, который не был готов вот-вот пустить слезу.
Однако никто не противился его скорому отъезду, несмотря на то что при этом остров частично утрачивал своё благополучие и рушились их светлые надежды на лучшую жизнь. Они походили на убитых горем детей, осознавших, что уже никто не будет так о них заботиться и любить и что никогда у них не будет такого покровителя.
Пон и другие «отцы острова» выступили с короткими ответными речами, в которых постарались выразить своё сожаление и признательность.
Это были стандартные речи должностных лиц, но они пришлись к месту и понравились Наполеону. В них не было обычных дворцовых комплиментов или грубой провинциальной лести по отношению к могущественному монарху. Они просто благодарили его за дела, неброские, но обладающие практической ценностью, которые он за столь короткое время осуществил во благо их маленького королевства, за то, что он, как правило, брал на себя половину расходов на эти мероприятия, а часто целиком оплачивал их.
Кемпбелл всегда с насмешкой относился ко всему этому и считал, что Наполеон проявлял скупость: «Он покрывал только половину расходов, вторая половина оплачивалась за счёт муниципалитета». Но кто может утверждать, что настоящий монарх должен платить за всё сам! Поэтому официальные речи Лапи и Традити Наполеон рассматривал как награду за свои труды и признание своих заслуг.
После выступлений император удалился.
«Но куда же он направляется? Он не сказал нам!» — продолжали недоумевать «отцы острова».
В десять часов все присутствующие направились на мессу. Император шёл к собору в сопровождении губернатора и мэра. Там он обратился к Богу с просьбой помочь ему и указать правильный путь в этом самом авантюрном из всех его предприятий.
В одиннадцать часов при абсолютно спокойном море в порт вошла небольшая фелука. Старший сержант Бенини поспешил на вершину холма во дворец Мулини доложить, что ни французских фрегатов, ни британского корабля поблизости не обнаружено.
В полдень, после визита цирюльника, Наполеон опять с решимостью — теперь или никогда — принялся за воззвания. Разгуливающая по террасе Полина видела, как он напряжённо что-то писал, исправлял и комкал листы бумаги, подобно поэту в порыве вдохновения. Не выдержав, она подошла к окну и спросила: «Наполеон, я могу тебе чем-нибудь помочь?» Она бы с удовольствием выступила в качестве секретаря. Но он, крайне сосредоточенный, хмуро взглянул на неё и ответил: «Нет, благодарю тебя, Полетт». Полина вернулась в сад, слегка обиженная: «Разве я недостойна доверия после всего, что сделала для него? И что ему скрывать? Теперь все знают, что он уезжает. Правда, он никому не сказал, куда направляется. Но почему он не сказал мне — ведь я знала столько секретов? Что я сделала неправильно? Или он не может мне простить разговора про Оргон? Или, может быть, он Мне не доверяет из-за тех улыбок и взглядов, которые я бросала на Кемпбелла? Но я делала это исключительно ради Наполеона! Вероятно, он думает, что я могу по неосторожности что-нибудь сболтнуть полковнику, когда тот приедет обратно».
Вдруг она остановилась как вкопанная на террасе и сжала кулачки: да, она сделала правильное умозаключение! Как он мог такое про неё подумать? Полину охватила ярость, но она слишком любила Наполеона и потому, пройдясь по террасе ещё один раз, она поднялась к себе в комнату и отперла маленький ящичек из слоновой кости, который подарил ей Наполеон (трофей из Египта). Там хранился мешочек из зелёного шёлка, перевязанный эластичной лентой. Открыв его, она высыпала на чёрную бархатную подушечку несколько бриллиантов. Наслаждаясь блеском камней, она присела рядом и, передвигая бриллианты пальцами, выложила из них на бархате слово «НАПОЛЕОН». Она очень любила драгоценности и всегда подбирала их себе с большим вкусом. Но это были не просто украшения — это были её сбережения. Немногие бы поверили, что Полина способна отложить хотя бы один су, однако каждый год она откладывала по одному или два камушка в мешочек из зелёного шёлка. Это было её тайной, своего рода священный, неприкосновенный запас на случай крайней нужды или величайшей опасности. Даже тогда, когда она запутывалась в долгах, что случалось нередко, и Наполеон (или один из её любовников) был вынужден приходить ей на помощь, она ни разу, ни словом не обмолвилась о существовании мешочка. Теперь ради Наполеона она была готова пожертвовать всем. Медленно, один за другим, она переложила бриллианты обратно в мешочек.
Наполеон продолжал работать. Ему предстояло составить три воззвания. Первое предназначалось для французского народа, и в нем содержался призыв к восстанию против нынешнего короля и правительства, которые нарушили свои клятвы и обещания и пожертвовали величием Франции ради крестьян и эмигрантов. В воззвании ничего не говорилось об Италии (как много дней спустя вынужден был признать Кемпбелл) — Наполеон дал самому себе торжественное обещание отбросить все мысли о захвате территорий других стран и посвятить себя исключительно счастью и благосостоянию одной только Франции.
Второе воззвание предназначалось для солдат Великой французской армии. Это был решительный военный призыв, и лишь только он начал писать его, слова из-под карандаша сами запросились на бумагу:
«Трёхцветное знамя орла пройдёт по всей Франции, от одного шпиля к другому, пока не взовьётся над собором Парижской Богоматери. Тогда вы сможете показать свои раны и награды. А когда вы состаритесь, соседи ваши соберутся вокруг вас и воздадут вам те почести, которых вы заслуживаете. Вы расскажете им о совершенных великих подвигах и с гордостью скажете: «Да, я был там. Я был одним из солдат Великой армии, которая дважды входила в Вену, которая побывала в Риме, Берлине, Мадриде и Москве и, наконец, избавила наш прекрасный, любимый всеми Париж от позорного присутствия иностранных захватчиков. Мы все вместе вернули Франции её былую честь и принесли мир на её землю».
Третье воззвание, более короткое, было написано с большой страстностью. С этим воззванием офицеры и солдаты гвардии, которые жили с ним на острове, должны были обращаться к своим соратникам, другим французским солдатам.
«Друзья, товарищи по оружию, возвращайтесь к выполнению своего долга. Сорвите с себя и растопчите белую кокарду, это клеймо позора! Доколь же вы будете служить королю, который в течение двадцати лет был врагом Франции, который хвастает тем, что своим престолом обязан принцу-регенту Англии?»
Удовлетворённый результатами своих трудов, Наполеон вышел на террасу. В море не было, за исключением маленькой фелуки, ни одного корабля. К тому же ветер был очень слабым. Всё складывалось удачно. Чтобы быть абсолютно уверенным, он осмотрел линию горизонта в подзорную трубу ещё раз. В этот момент к нему подошла Полина и на невысокое ограждение, рядом с подзорной трубой, положила маленький шёлковый мешочек.
— Полетт? Что это?
— Это для тебя. Немного боеприпасов. Удачи тебе, Наполеон. Удачного путешествия.
Со вздохом, напоминающим подавленное рыдание, она удалилась прочь.
Наполеон неловко развязал мешочек и заглянул внутрь. Когда он увидел сверкающие «боеприпасы», у него навернулись слёзы. «Такая вера в меня, — подумал он, — и такая любовь. Заслуживаю ли я её?» В глубине души он мог быть очень сентиментален.
Ему захотелось позвать Полину и вознаградить за её поступок рассказом о своих планах, о воззваниях. Но потом он подумал, что, если дела пойдут плохо, её незнание станет для неё благом!
А в это время в Ливорно раздражённый полковник Кемпбелл, обливаясь потом, мерил шагами пристань. На расстоянии трёх миль от него находился «Партридж». Были подняты все паруса, но двигался корабль еле-еле, ветер был слишком слаб. Только после полудня корабль бросил якорь на своей якорной стоянке. Капитан Ади, которому некуда было торопиться, долго обедал и ещё до двух часов оставался на корабле. Он нашёл полковника на набережной обезумевшим от нетерпения.
Ади был изумлён тем возбуждением, в котором находился Кемпбелл, полковник же был возмущён безмятежным спокойствием капитана.
«Я спросил его в сильном беспокойстве, — пишет Кемпбелл в своём дневнике, — не заметил ли он чего-нибудь необычного, когда приплыл на Эльбу и когда покидал её.
В ответ на моё беспокойство он улыбнулся и ответил: «Я не видел и не слышал ничего необычного».
(Капитан Ади просто ответил: «Всё тихо», но этого было явно мало для полковника).
Ади вкратце обрисовал свой визит к Бертрану и встречу с гвардейцами во время работ по обустройству сада. По известным причинам он ничего не сказал о княгине.
«На Эльбе всё тихо».
Полковник уставился на него в удивлении. Он изложил ему поступившую к нему вызывающую подозрение информацию, сведения о попытке нанять британское торговое судно, предпринятой польскими драгунами, и так далее.
«Я попросил капитана Ади попытаться вспомнить, было ли что-нибудь такое, что может вызвать подозрение сейчас, хотя в тот момент эти детали и не привлекли его внимания».
Ади, на которого слова полковника всё ещё не произвели должного впечатления, вспомнил только странные манёвры брига «Инконстант», но не знал, как это объяснить.
— Вы сами видели Наполеона?
— Нет. Но мадам Бертран гуляла с ним за день до этого. Она сказала, что он сильно простудился. Ей ведь можно доверять, правда?
— Наверное, да.
— А сам Бертран сказал что-нибудь необычное?
— Нет. Он очень хорошо отзывался о вас. И спросил, когда вы вернётесь.
— Вы ему сказали?
— Да. Это была просто дружеская беседа.
Полковник ничего не ответил, но смотрел неодобрительно.
— Интересно, — наконец задал он вопрос, — вы видели мадам Мер или княгиню?
— Княгиню? Да, видел. Кстати, это она повела меня посмотреть, как работают гвардейцы.
— Правда?
— Что вы имеете в виду?
Капитан почувствовал, что краснеет, хотя лицо его и было покрыто сильным загаром.
— Мне кажется это подозрительным.
— Ну, что вы! По-моему, вы преувеличиваете, Кемпбелл. Кстати, она говорила мне о своих планах на лето. Она собиралась в Марчиану и приглашала меня заехать и навестить их там.
— Приглашала?
Капитан вновь почувствовал, что лицо его заливается румянцем, и слегка смутился. Ему не понравилась мысль, что эта обаятельная женщина могла его обмануть.
— И вы ей верите?
— А почему бы и нет?
Полковник не сказал ему, что та же самая женщина пригласила, нет, предложила, нет, скорее, намекнула, нет, заставила его подумать, возможно непреднамеренным образом, что она поедет на материк. Ему тоже не хотелось верить, что эта красавица лгала ему. Но в голове у него пронеслась мысль о том, что капитан Ади действительно чересчур доверчив.
— Когда мы сможем отплыть? — спросил он.
— Когда прикажете, — миролюбиво ответил капитан. — Как только ветерок хоть чуть-чуть подует. Вы только посмотрите на это.
Флаги на мачтах судов висели без всякого движения. Стоял полный штиль: ни дуновения, ни даже ряби на воде.
— На закате, — сказал Ади, — с берега должен подуть ветер.
Но в этот день ветер так и не подул. Небеса были на стороне Наполеона.
В три часа пополудни некоторые из гвардейцев всё ещё продолжали работу по обустройству сада. В четыре часа раздали обед. А в пять часов маленький город был взбудоражен пронзительной барабанной дробью. Шестнадцать барабанщиков под руководством сержанта Каррэ стояли на главном плацу у казарм и целых пять минут отбивали дробь. Все, кто мог двигаться, выскочили из домов и собрались на площади, подступив к Морским Воротам так близко, как только разрешила полиция. Внезапно барабаны смолкли, и все услышали, как оркестр вновь заиграл эту наводящую грусть мелодию: «Что же может быть лучше?» Все увидели, что участники оркестра спускаются вниз по склону, толкая при ходьбе друг друга. За ними шёл полковник Малле, а следом смешением красного, синего и белого цветов следовали шесть сотен гвардейцев. Итак, это было правдой! Женщины, прощаясь, размахивали руками, плакали и пронзительно выкрикивали имена своих друзей и любимых. Но гвардейцы двигались, как на марше, повинуясь суровой военной дисциплине. Впереди их ждала отнюдь не фиеста, и жители острова должны были увидеть, как ведут себя гвардейцы перед началом военных действий.
Месье Матта, месье Ричи и другие шпионы стояли на цыпочках и пытались сквозь лес развевающихся шёлковых шарфов и машущих загорелых рук сосчитать число отбывающих солдат. Упав духом, они ругались про себя последними словами. Вот и настал час величайшего исхода с острова, который они предсказывали и пытались предотвратить. Зная тайну, которая способна была потрясти весь мир, они не могли никому её сообщить! Всё, что им оставалось, — это пересчитывать солдат для последующих исторических справок. Месье Ричи, сильно возбуждённый, насчитал 623 гвардейца, но это было некоторым преувеличением. За гвардейцами следовали польские драгуны, непривычные к пешему строю, за ними три сотни солдат корсиканского батальона и несколько десятков жандармов. В целом остров покидало около тысячи вооружённых людей. К ним должна была присоединиться ещё сотня гражданских. Замыкал движение войск капитан Лаборд, едва приметный среди замкнувшейся за войском толпы провожавших. Теперь через Морские Ворота, которые наконец широко открыли, можно было увидеть готовые к отплытию корабли. Подобно потоку лавы, эта масса колышущихся киверов двинулась по направлению к морю. Оркестр смолк. Со зловещим лязгом Морские Ворота захлопнулись. Гвардейцы ушли, и в Портоферрайо разлилось уныние.
Вскоре после заката солнца через Морские Ворота пронесли бедного капитана Корнуэла, командира артиллерии, умирающего от чахотки и решившего, как его ни отговаривали, последовать за императором, а также других больных. Эту партию людей сопровождал добросердечный Пон.
По доброте души он взял на себя ответственность тайком провести на борт оклеветанного в своё время мирового судью, месье Саварана.
Последние прощальные речи во дворце отличались краткостью. Наполеон с нетерпением ждал отплытия, а мадам Мер была сдержанна на слова и чувства, ибо была матерью корсиканца. Ни тени сожаления или дурного предчувствия не отражалось на её благородном лице. «До свидания, Наполеон», — это всё, что она сказала ему на прощание, когда он прикоснулся губами к её лицу. После этого Наполеон прошептал на ухо Полине: «Спасибо тебе, ты всегда мне была преданна». Но для Полины этого было достаточно, и они расцеловались. Полина пожала руки всем трём генералам и с чувством попросила их заботиться о своём брате. Камбронн прочитал ей длинный список солдат, начиная от капитана Корнуэла и заканчивая капралом Джуалини, которые хотели направить ей прощальное приветствие. «Обнимите за меня их всех, — сказала она, — вот так», — и расцеловала всех троих.
Наполеон и Бертран спускались с холма в маленьком открытом экипаже Полины с огромной буквой «Р» по обеим сторонам. Экипаж был запряжён парой пони, которые двигались шагом. Дрюо, Камбронн и остальные придворные шли следом. Мощённые булыжником улицы, по которым они проходили в последний раз, были безлюдны. Все, кто не поднялся на крепостной вал, уже теснились в гавани. На повороте улицы несчастный Дрюо заметил Генриетту в открытом окне, но, превозмогая себя, этот аскет отвёл взгляд. Генриетта напрасно махала малиновым шарфом.
В маленькой гавани огромная толпа замерла в тревожном ожидании; на лицах даже у шпионов читалось искреннее благоговение. В свете фонарей лицо Наполеона казалось бледным. Он стоял рядом со шлюпкой, смотрел на окружающих и, казалось, пытался их всех обнять, широко разведя руки. «До свидания, друзья мои! — крикнул он. — Я вернусь». Раздался взрыв рукоплесканий — так выражалась признательность жителей Эльбы. Он сел в шлюпку. Рукоплескания стихли. В торжественной тишине все сосредоточенно наблюдали за шлюпкой, пока она окончательно не исчезла из виду. У многих жителей Эльбы было тяжело на душе, они чувствовали: он не вернётся к ним.
В восемь часов вечера в Ливорно полковник Кемпбелл поднялся на борт «Партриджа» и спешно сел писать донесение, используя информацию, полученную от капитана Ади.
В это же время в Портоферрайо раздался выстрел из сигнального орудия. Император поднялся на борт брига, и судно должно было отправиться в путь.
Но ни император, ни Кемпбелл не могли заставить ветер подуть, поэтому из-за полного штиля оба судна оставались на месте. Наполеон и полковник Кемпбелл, подобно двум королям на шахматной доске, разделённым восьмью клеточками моря, были не в состоянии сдвинуться с места, атаковать или обороняться.
В девять часов вечера полковник Кемпбелл сидел в своей каюте и при тусклом свете масляной лампы «громил» Наполеона в своём дневнике, обрушивая на его голову мрачные пророчества, всевозможные жалобы и угрозы.
Удивительно, что так мало из его пророчеств сбылось, ведь он так долго наблюдал за Наполеоном.
«Если бы я решился, — пишет этот «великий стратег», — высказать свои соображения относительно планов Наполеона, то я бы поручился, что он оставит генерала Бертрана защищать Портоферрайо, так как у того есть жена и несколько детей, к которым он очень привязан...»
В этот момент Бертран, оставив плачущую жену на крепостном валу, находился на палубе брига «Инконстант» и, наблюдая за действиями Наполеона, изредка бормотал себе под нос любимое: «О, Боже!»
«Но, без всякого сомнения, он возьмёт с собой Камброниа (хотя бы это, по крайней мере, оказалось верным), отчаянного малообразованного бандита, который был барабанщиком во время его похода в Египет, а также тех гвардейцев, от которых он больше всего зависит, разместив их на борту своих судов. Сам же он, возможно вместе с генералом Дрюо, последует за ними на «Каролине».
Опять неверно. Наполеон не хотел, чтобы про него опять говорили, будто он переваливает весь груз опасностей на свои войска, поэтому вместе с генералами сел на самый большой корабль — «Инконстант», на котором также размещалась основная масса гвардейцев — четыре сотни солдат.
«Местом высадки будет Гаэта на побережье Неаполя либо Чивитавеккья, если к этому времени Мюрат продвинется в сторону Рима».
Местом высадки предполагался Антиб во Франции.
«Я полностью уверен в том, что Наполеон не начнёт открыто военных действий до тех пор, пока Мюрат не продвинется вперёд со своими войсками».
Наполеон отнюдь не делал ставки на Мюрата, и его единственной надеждой была Франция.
«В случае, если Наполеон покинет Эльбу и какие-нибудь из его кораблей будут обнаружены в море с войсками и боеприпасами на борту, я отдам приказ капитану Ади, который с большой сердечностью протягивал мне руку помощи всякий раз, когда это было необходимо, перехватить эти корабли и при малейшем сопротивлении с их стороны уничтожить их. Я абсолютно уверен, что и я и он будем оправданы нашим сувереном, нашей страной и всем миром в данной экстраординарной ситуации, когда наша ответственность перед обществом подвергнута такому серьёзному испытанию. Я чувствую — и это мой долг, — что не вправе допустить, имея в своём распоряжении все средства ведения боевых операций, чтобы жизнь этого неугомонного человека и введённых им в заблуждение сторонников перевесила на чаше весов судьбы тысяч людей и спокойствие всего мира».
Так с завидной смелостью и достаточно искренне писал полковник Кемпбелл, находясь в гавани Ливорно. Корвету «Партридж» ничего бы не стоило уничтожить бриг «Инконстант», если бы они встретились, ведь первый был сторожевым кораблём с полным парусным вооружением, водоизмещением свыше четырёхсот тонн, с двадцатью шестью орудиями (из них шестнадцать крупнокалиберных). Без сомнения, мир с одобрением отнёсся бы к расстрелу или утоплению «бешеной собаки» Европы. Но, к счастью, эти громы и молнии, которые метал полковник, не могли отправить на дно ни один из кораблей, находившихся на расстоянии сорока двух морских миль в гавани Портоферрайо.
Корабли были готовы поднять якоря и отплыть, но стоял полный штиль.
Наполеон спокойно расхаживал по юту, любуясь яркими звёздами в южной части неба и мигающими огоньками города. Мёртвый штиль был серьёзной помехой, но в конце концов, как сказал он Дрюо: «Если мы не можем сдвинуться с места, то и никто не сможет нас поймать». Солдаты занялись обыденными делами: укладывали снаряжение, несли караул, устраивались на новом месте. Возможно, что самым мучительным было ожидание для наблюдателей на побережье.
В девять часов на бриге подняли часть парусов, но он не сдвинулся с места. Нельзя было даже вывести корабль на якорную стоянку. Около одиннадцати с гор подул слабый ветер, на кораблях подняли якоря и поставили уже все паруса, какие только было возможно. Присутствие солдат на палубе осложняло задачу, так как некоторые из них устроились на мотках брасов и фалов. Теперь капитаном брига «Инконстант» был месье Шотар, но месье Тайяду из-за его штурманских знаний тоже было позволено принять участие в плавании. Взаимоотношения «двух капитанов» на юте складывались весьма непросто, ибо Тайяд (пока море было спокойным) всюду совал свой нос.
Маленькая флотилия проплыла несколько ярдов в направлении входа в гавань и опять замерла. Незадолго до полуночи в гавань вошла рыбачья лодка, и рыбак сообщил, что вне бухты дует ветер с острова. Наполеон внезапно принял решение: «Необходимо сдвинуться с места. Вёсла!» Тайяд что-то неодобрительно пробормотал, но энергичный Шотар сказал: «Разумеется, ваше величество». Также приглушённо он отдал приказ другим кораблям: «Вёсла!» На судах достали длинные вёсла, и солдаты принялись грести. Шаг за шагом маленькая флотилия миновала форты и маяк, и наконец мадам Мер и Полина, наблюдавшие за событиями с террасы дворца, увидели, что корабли, подняв все паруса, величаво, как лебеди, отплывают от гавани, залитые лунным светом.
Действительно, корабли, выйдя из гавани, обнаружили лёгкий бриз с юго-запада, но и этого было достаточно. Первой шла «Каролина», за ней следом — «Этуаль», а потом «Инконстант» в сопровождении четырёх фелук по бортам — маленькая флотилия из семи судов. («Сен-Эспри», — безобидное торговое судно, лишённое пушек, получило приказ самостоятельно следовать к месту встречи). Наполеон, когда «Инконстант» поравнялся с террасой дворца, посмотрел наверх и попросил: «Дайте мне фонарь». Подавая сигналы, он заметил, что ему отвечают. Это Полина ещё раз, без слов, прощалась с ним. С кораблей не доносилось ни криков, ни пения; слышны были только лёгкие всплески воды и скрип весел. Вскоре они отошли от острова, вёсла были убраны, и наступила полная тишина — словно призраки скользили они по морю. Никогда ещё такая слабая, можно сказать просто жалкая, флотилия не бросала вызов всему миру.
— Ох! — вздохнула Полина и сжала свои маленькие кулачки, но в её вздохе не было печали.
— Ты удовлетворена, Полетт? — прошептала её мать.
— По крайней мере, — сказала Полина, — они больше никогда не смогут назвать его трусом.
Полина пожелала спокойной ночи матери и пошла в кабинет Наполеона. Лампа, зажжённая Маршаном перед его отъездом, продолжала гореть, но комната показалась ей очень тёмной, да и вообще немой и безрадостной, как могила, ибо в ней не было того, кто озарял её своим гением. На полу валялись обрывки скомканных бумаг. Она подобрала несколько обрывков и с величайшей осторожностью расправила их. На лице появилась печальная улыбка. В кои-то веки Наполеон снизошёл до того, что писал сам. Он всё же поделился с ней своими мыслями и приоткрыл тайники своего сердца, хотя ей, глупой девчонке, и не положено было ничего знать. К сожалению, ей удалось немногое разобрать на бумажках из-за корявого почерка брата. «Наполеон, милостью Божей и в соответствии с конституцией император Франции...» Это было довольно легко прочесть: каждый лист начинался подобным образом. Затем «жители Франции... поднимайтесь... ваш король и ваше правительство... нарушили... обещания... не будет... захватов других стран... я иду к вам... счастье Франции».
«Жители Франции! Я иду к вам», — сколь глупо и опрометчиво было оставлять подобные бумаги на полу в пустой комнате, в городе, кишащем шпионами! Но всё же она была обрадована и счастлива! Сколько уверенности в себе, сколько мужества было опять в её брате! И разве она, Полина, не внесла свой маленький вклад в это дело? Она постаралась собрать все бумаги и, прижав к груди, отнесла в свою комнату.
Глава 16
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ
Итак, началась великая игра в прятки. По сложности и опасности это мероприятие можно было сравнить с бегством от флота Нельсона в 1799 году. Но тогда в распоряжении Наполеона было всё Средиземное море. Теперь же острова стесняли его манёвры. На западе находилась Корсика, впереди — Капрая, а дальше на севере — Горгона. Эту дорогу, ведущую прямиком во Францию, постоянно патрулировали два французских фрегата и третий, «Зефир», был послан им на подмогу. На востоке, если бы он направился в Италию, постоянно курсировал «Партридж», а чуть севернее, в Генуе, располагались мощные военно-морские силы Британии. При одном взгляде на карту можно было сделать вывод, что самое ничтожное подозрение недругов свело бы к нулю его шансы. В этой ситуации даже план капрала Джуалини выглядел не таким уж безумным. Но в море происходили странные вещи. По-видимому, небеса действительно были на стороне Наполеона.
«Партридж» зашевелился в гавани Ливорно только в четыре утра, когда с востока подул лёгкий бриз.
«Я сразу же поднял якорь и поставил паруса, — пишет Ади, который теперь спешил так же, как и полковник, — но ветер был таким слабым и непостоянным, что к концу дня мы не преодолели всего пути до Капраи (маленького острова в сорока милях от Ливорно и в двадцати пяти от Портоферрайо). Ветер в течение дня смещался в южном направлении, в результате «Партридж» вынужден был сойти с намеченного прямого курса и двигаться в сторону Капраи».
Наполеон миновал восточное побережье Капраи около восьми часов утра. Без сомнения, некие добрые духи направили его в восточном направлении, что было не самым коротким путём. Дело в том, что французский фрегат «Мельпомена» рыскал к югу и юго-западу от острова. И если бы патрулирование велось лучше, флотилия Наполеона была бы неминуемо захвачена, тем более что ей не удалось, как планировалось ранее, проскочить мимо Капраи в ночное время. Большую часть дня суда маневрировали в слабых потоках ветра с юга и востока под защитой северного побережья Капраи. Комендант и мэр острова прекрасно видели все манёвры флотилии, были ими весьма удивлены, но ничего не заподозрили. В три часа дня ветер почти полностью стих, и корабли Наполеона замерли невдалеке от острова. Суда были чётко видны из Портоферрайо, находящегося оттуда на расстоянии двадцати шести морских миль. Но фрегат «Мельпомена» так и не заметил их. (Несомненно, маскировка брига «Инконстанг» была превосходной).
В течение всего этого дня корвет «Партридж» медленно двигался в направлении Капраи, гонимый слабыми порывами ветра. В полдень корабль оказался на расстоянии семнадцати миль от острова, а в восемь вечера — в двенадцати милях. В бортовом журнале имеется краткая запись, сделанная в одиннадцать часов утра: «В поле зрения три корабля». Направление не указано, но, по всей видимости, это были «Инконстант», «Этуаль» и «Каролина», низкие белые силуэты которых выделялись на коричневом фоне Капраи. Должно быть, они находились в поле зрения большую часть дня.
Существует надиктованное Наполеоном описание этой встречи с «Партриджем», которое очень ясно показывает, что он в тот момент осознавал всю опасность положения и был готов принять меры.
«В 12.15 сообщили, что к нам приближается английский корвет, идущий из Ливорно. Мне сказали, что он в шестнадцати милях от нас. В час дня нам показалось, что он нагоняет нас. Мы были почти в полном штиле, а корвет двигался под напором несильного ветра. В то же время мне сообщили, что в направлении Бастии замечен французский фрегат. Он был от нас на расстоянии примерно двенадцати миль, но, казалось, не проявлял никаких признаков беспокойства по поводу нашей флотилии. В два часа английский корвет заметно приблизился к нам, и мы более не сомневались, что нас опознали...
Бриг «Инконстант» мог бы двигаться с той же скоростью, что и корвет, но тогда транспорты не поспевали бы за ним. Поэтому им было приказано изменить курс и двигаться в направлении французского фрегата. Если бы с наступлением темноты английский корвет оказался в непосредственной близости от них, экипажи судов пересели бы на борт французского фрегата. Нам хорошо были известны чувства французов — офицеров этих судов и простых моряков. Поэтому мы были уверены, что они поднимут трёхцветный флаг и защитят императора от английского корабля. Но в три часа стало ясно, что это была ложная тревога. Английский корвет, который подошёл совсем близко, не проявив к нам интереса, направился к острову Эльба.
Вскоре он исчез из виду. ...Французский фрегат, к которому мы подошли ещё ближе, не опознал нас или так же, как и корвет, не проявил к нам никакого интереса. Это можно было объяснить тем, что в своё время бриг «Инконстант» был переоснащён и выглядел как торговый корабль...»
Тем не менее кажется удивительным тот факт, что корвет «Партридж» не последовал за ними и не разобрался, в чём дело.
К семи часам при лёгком, но постоянном ветре по правому борту Наполеон преодолел ещё десять миль в западном направлении, двигаясь к Антибу. Вечером в поле зрения команды бриг «Инконстант» не появилось ни одного чужого корабля. Можно было сказать, что для беглого императора опасность быть пойманным уже миновала. Вокруг не было и следа французских фрегатов.
Странно, но в течение всего дня фрегат «Флёр де Лис», по словам его капитана, находился на северо-западе от Капраи, примерно на той же широте, что и «Партридж», но и на нём не заметили флотилий Наполеона. Вот вам ещё одна из загадок.
Расхаживая по палубе, Наполеон заметил человека, лицо которого показалось ему знакомым. Он поклонился, проходя мимо, и попытался вспомнить его имя. Позднее, когда он встретился с добросердечным Поном, то спросил его:
— Это вы предоставили месье Саварану билет во Францию?
— Да, сир, — ответил Пон.
— Хорошо, — улыбнувшись, заметил Наполеон.
Будучи в хорошем расположении духа, двое британских офицеров стояли на палубе и наблюдали за тем, как ветер раздувает паруса, радуясь, что корабль неотвратимо движется к логову «чудовища» (хотя плыть-то им было нужно совсем в другом направлении). Полковник Кемпбелл, как всегда, находился в сильном возбуждении от важности своей миссии. Вот если бы он один, мечтал полковник, простой безвестный солдат, мог выступить как спаситель Европы и поставить точку в деле этого неутомимого обманщика... Но в то же время гнетущее чувство страха от возможного провала терзало его душу.
— Вы всё поняли, капитан Ади? — наконец сказал Кемпбелл твёрдо (они уже обсуждали операцию по уничтожению Наполеона, но капитан, по мнению полковника, не принял ещё окончательного решения). — Если мы обнаружим, что он переправляет войска на континент, и если он откажется сдаться, тогда мы решаем его уничтожить, правильно?
Слово «уничтожить» было приятным и успокаивающим.
— Да, видимо, это правильно, — ответил Ади, — у меня нет никаких приказов на этот счёт.
— Вам приказано оказывать мне содействие в моей миссии, как вы это делали всегда, и весьма успешно. В данном случае обещаю вам, что только я буду нести всю полноту ответственности.
— Отлично, сэр, — сказал Ади. Немного помедлив, он добавил, но уже менее официально: — Надеюсь, что он не возьмёт с собой семью?
Ему не нравилась мысль, что придётся открыть огонь по Полине и её матери.
— Это маловероятно, — сделал заключение Кемпбелл. — Скорее всего, нет, если он, как я думаю, стоит во главе армии.
— Я тоже так думаю.
Как обычно, когда они вспоминали о княгине, наступала неловкая пауза.
Кемпбеллу пришло в голову что-нибудь записать в дневник. Без сомнения, однажды он станет частью истории и, может быть, даже послужит для его защиты. И он сошёл вниз.
— Думаю, сир, это французский фрегат, — громко провозгласил Тайяд.
В течение часа или более того они наблюдали за кораблём, идущим к северу от Корсики.
Стоял тихий ясный вечер, и хотя наступило только 27 февраля, закат солнца был как в середине лета. Изящные облака, подобно серебристым рыбкам, плыли в воздушном океане. На горизонте же не было ни облачка, и огромный красный шар солнца, лежащий на краю моря, предстал перед наблюдателями во всей своей красе. Тайяд, знакомый с приметами, внимательно наблюдал за солнцем.
— Обратите внимание, ваше величество! — настоятельно прошептал он.
— Что такое, месье Тайяд?
— Сегодня, сир, я уверен, мы увидим зелёный луч.
— Что это такое?
— Смотрите, ваше величество.
Наполеон и все находящиеся на корабле в молчании смотрели на солнце. А солнце стремительно погружалось в море, будто устало светить. «Как быстро, как быстро оно опускается!» — бормотал Наполеон.
Внезапно дрожь охватила наблюдателей, а Дрюо нахмурился. Все с напряжением смотрели на заходящее солнце. Как только огненное светило полностью погрузилось в пучину вод, из глубины в небо ударил яркий зелёный луч, который тотчас же исчез. Тайяд издал короткий торжествующий крик:
— Зелёный луч, ваше величество! Это предзнаменование!
— Хорошее или плохое, месье Тайяд?
— Прекрасное, сир. Зимой его вообще нельзя увидеть.
— Хорошо, — заметил император, обрадовавшись. — Теперь займёмся фрегатом!
Это был «Зефир» под командованием капитана Эндрю. Ранее на нём осуществлялась транспортировка войск из Тулона на Корсику, а теперь он направлялся в Ливорно, где должен был поступить в распоряжение французского консула для выполнения особого задания. Но никто пока не сообщил капитану, что это особое задание будет состоять в надзоре за бригом «Инконстант». Фрегат, который лёг на правый галс, находился на расстоянии двух миль. Тайяд вытащил компас и установил его курс. Пути обоих кораблей сходились.
— Месье Тайяд, скажите, как близко он подойдёт?
— Сир, если он будет держаться того же курса, которым следует, то пройдёт на достаточном расстоянии перед нами. Я думаю, он не будет нас преследовать.
— Вы знаете этот корабль?
— Да, сир. Это «Зефир». Его капитан Эндрю — хороший человек. Думаю, ничего страшного, это не патрульный корсиканский корабль, ему не нужны неприятности.
— И мне тоже. Ха! Посмотрите на это!
«Зефир», который был прекрасно виден с левого борта, вышел на ветер и теперь поворачивал. Они слышали, как хлопает под порывами ветра парусина, и видели, как порхают, словно бабочки, передние паруса фрегата. Сейчас он двигался правым галсом и, набрав скорость, приближался к ним.
— Что вы теперь скажете, месье Тайяд?
— Теперь он пройдёт с правой стороны уже ближе к нам, сир.
Генералы посматривали на фрегат с беспокойством.
— Если бы мы направлялись в Геную, как бы нам следовало плыть? — спросил Наполеон.
— Ваше величество?
— При этом ветре какой нужно держать курс, чтобы попасть в Геную?
Тайяд бросил взгляд на паруса и компас.
— При этом ветре, сир, мы должны бы были двигаться на три румба севернее.
— Я ничего не понимаю в ваших румбах, — проговорил император. — Покажите мне направление.
— Вот так, сир. Как идёт «Зефир».
— Измените курс. Но, как только пройдёт фрегат, мы должны снова следовать старым курсом. Скажите месье Шотару.
Он снял шляпу и спустился на несколько ступенек вниз по трапу, чтобы его не увидели с фрегата.
«Зефир» приближался.
У капитана Эндрю не было намерения нападать, когда он рассматривал в бинокль приближающееся судно. Но он был озадачен. Во многих гаванях он встречал бриг «Инконстант» под флагом Эльбы, он также знал месье Тайяда, капитана корабля. Но с бригом явно было что-то не то: и такелаж, и окраска...
Если бы адмирал в Тулоне предупредил его, что Наполеон, по некоторым сведениям, попытается вырваться с острова вместе с гвардейцами и ему предстоит настичь и остановить их, то капитан Эндрю был бы теперь начеку. Но поскольку он ничего не знал, он окликнул таинственное судно в дружественной манере, принятой у моряков:
— Эй! Что это за корабль?
— «Инконстант!» — крикнул в ответ Тайяд. — Куда путь держишь, дружище?
«Да, верно, это голос доброго Тайяда, — подумал Эндрю, — значит, всё нормально».
— В Ливорно, — прокричал он. — А ты куда, мой капитан?
В данный момент месье Тайяд точно не знал, куда держит путь, но снизу ему подсказали шёпотом: «В Геную. Для ремонта!»
— В Геную. Для ремонта! — повторил Тайяд.
— Ага! — с пониманием в голосе крикнул Эндрю. — И чтоб немного подкрасить бока?
Тайяд не знал, что ответить, но он рассмеялся так громко и добродушно, как только мог, сделав вид, что шутка была ему понятна.
«Зефир» шёл теперь параллельным курсом; корабли были так близко, что скорчившиеся на палубе гвардейцы хорошо слышали крики капитанов. Возможно, это был момент наивысшей опасности для Наполеона и его планов. Но в криках Эндрю звучали радостные интонации:
— Как там великий человек?
Тайяд наклонил ухо вниз, и оттуда раздался приглушённый возглас: «На удивление хорошо».
— На удивление хорошо! — крикнул Тайяд и «дал петуха», так что гвардейцы, прятавшиеся за фальшбортом, захихикали.
— Хорошо! — крикнул капитан Эндрю. — Доброй ночи! Счастливого плавания!
— Счастливого плавания! До свидания! — прохрипел Тайяд.
— Всем замереть! — прошипел Наполеон, и этот приказ тут же шёпотом передали на палубе.
Капитан Эндрю посмотрел на компас и подумал, глядя на «Инконстант»: «Очень странный курс для плавания в Геную». Но в этот момент «Инконстант» осуществлял медленный поворот на правый борт, и капитан Эндрю сделал вывод, что, завидев фрегат, «Инконстант» лёг на другой курс, чтобы поприветствовать его. Он и сам часто делал подобное, поэтому его изумление улеглось. Позднее гамо него проскочило несколько маленьких судёнышек, которые, как ему показалось, были набиты солдатами. Он снова удивился, но — слишком поздно.
Такое благоприятное завершение встречи чрезвычайно обрадовало Наполеона: он и его генералы отправились ужинать в приподнятом состоянии духа. За столом Бертран разразился хохотом.
— Вас что-то забавляет, генерал? — спросил Наполеон.
— Я думал о полковнике Кемпбелле! — Гранд-маршал опять задохнулся от смеха.
Наполеон кивнул головой.
— Бедный полковник. Он хороший солдат и очень старается. — Издав короткий смешок, он продолжил: — Но ему не следовало покидать свой пост. Как можно наблюдать за тем, что происходит на Эльбе, с водного курорта в Лукке?
Глава 17
ЛЮБОВЬ И ДОЛГ
Бедный полковник! К рассвету ветер окончательно стих. 28-го числа, в четверг, «Партридж» опять попал в штиль на расстоянии четырёх миль к северу от Портоферрайо. Штиль застал их в таком месте, откуда они из-за заслоняющих поле зрения фортов и холмов острова даже с помощью самого сильного бинокля не могли определить, стоит ли в гавани бриг «Инконстант» или нет.
Ночью Кемпбелл сделал следующую запись в дневнике:
«Капитан Ади не хочет бросать якорь в гавани Портоферрайо, так как не исключено, что Наполеон захватит «Партридж», когда приступит к выполнению своего плана. Он может и меня взять в плен, чтобы всё оставалось в тайне».
Утром он попросил капитана отправить его на берег в шлюпке. Они договорились, что, если он не вернётся к двум часам, Ади будет считать его арестованным. В этом случае ему предстоит отплыть в Пьомбино и сообщить об этом британскому посланнику. К слову сказать, шлюпка так и не вернулась к двум часам, но во второй половине дня было безветренно и стоял туман, поэтому корабль не мог пуститься в плавание, даже если бы Кемпбелла «задержали».
Пока Кемпбелл плыл к острову, он молился в душе, чтобы «чудовище» всё ещё оставалось в своём логове.
Флаг над фортом безжизненно свисал, но красной полосы на нём не было — это был флаг с изображением трёх пчёл. Ничто не указывало на истинное положение дел, вплоть до того момента, когда утомлённые греблей моряки, обогнув старую Башню, не доставили его в Дарсе. Он сразу же заметил, что часовые у Морских Ворот и у Ведомства военно-морского флота были одеты в форму Национальной гвардии; нигде не было видно солдат с киверами. Это вызвало у него настоящий шок. Он опоздал. Вообще-то он и раньше предчувствовал, что допустил ошибку, и сейчас испытывал ярость из-за срыва своих планов.
В Карантинном ведомстве, на пристани, начальник гавани со всей серьёзностью заявил ему, что генерал Бертран «уехал на Пальмиолу». (Бертран оставил эту информацию специально для полковника).
Полковник мужественно сошёл на берег и направился вверх по дороге, на холм. Маленький городок, залитый солнцем, выглядел на удивление тихим и безжизненным без чванливых гвардейцев, щеголявших своими киверами, без упражнений по военной подготовке на площади, без военного оркестра и моряков императорского флота, сидящих за столиками в тавернах. Никто и не думал его «задерживать», наоборот, его узнавали и хитро улыбались, будто у них с этим высоким британским офицером был один общий секрет.
На площади к нему подскочил англичанин, некто мистер Грэттэн, который в ужасном волнении доложил ему все подробности Великого Исхода с острова. «Часть солдат, — сообщил он, — говорили о Неаполе и Милане, другие — об Антибе и Франции». Мистер Грэттэн лично видел флотилию Наполеона между двумя и тремя часами пополудни, немного севернее острова Капрая.
Вместе они направились в дом генерала Бертрана. При встрече жена его одновременно улыбалась и выражала беспокойство. Она сообщила, что её муж ничего не знал о намерениях Наполеона вплоть до самого отъезда, что ему было дано всего пятнадцать минут на сборы и что она к не знает, куда они направились, так как они говорили только о Пьяносе».
Это было ещё одно «специальное послание» от Бертрана.
Полковник пошёл на хитрость, сообщив ей, что беглецы, должно быть, уже схвачены.
Реакция мадам Бертран была естественной: она забросала его самыми искренними вопросами о муже: «Где он находится? Что с ним стало? Действительно ли они захвачены?»
Кемпбеллу пришлось идти на попятную, выбираясь из создавшегося положения: «Я сказал ей, что не могу точно сказать, схвачены они или нет. Однако они не могли убежать, так как вокруг острова курсируют британские и французские военные корабли, а эскадра с Сицилии под командованием адмирала осуществляет их поиски между Эльбой и Гаэтой».
Мадам Бертран, не искушённая в искусстве лицемерия, после этих слов полковника слегка успокоилась и взяла себя в руки. На основании этого он сделал вывод, что по её представлению конечный пункт плавания Наполеона находится на севере, а не на юге, как он думал вначале. Когда Кемпбелл печально разглядывал облака над Монте Жиове, Наполеон приветствовал встающие перед ним Альпы. Коричневые холмы и голубоватые горные вершины привели его в весёлое настроение и вселили уверенность. Он наградил орденом Почётного легиона капитана Шотара и Тайяда.
На палубе с левого борта Пейрюси, перегнувшись через поручни, освобождался от душивших его приступов тошноты. Когда же он выпрямился и повернулся лицом к Наполеону, на лице его играла обычная улыбка. «Отлично сработано, месье казначей, — сказал Наполеон, — вы подаёте прекрасный пример солдатам».
С лица полковника Малле не сходило мрачное, сосредоточенное выражение, он твёрдо, так же как и Дрюо, решил не поддаваться морской болезни. Они крепко держались за поручни, так как корабль слегка качало. Только один Наполеон, как бывалый моряк, слегка покачиваясь и ни за что не цепляясь, уверенно стоял на палубе, практически не обращая внимания на качку. Он с жадностью вдыхал солёный свежий воздух, с восхищением поглядывал на сверкающее под солнцем море, словно переполненный радостью мальчик, впервые отправившийся в плавание.
— Ах, мой дорогой Дрюо, — промолвил он наконец, — вы должны научиться улыбаться, как наш добрый казначей. Я знаю, вы считали, что мне не следовало покидать Эльбу, но там таились ещё худшие опасности, поверьте мне. Вы думали, что нам ни за что не удастся уйти так далеко, верно, генерал? И вот мы здесь. Сама природа чувствует это — так говорит наш добрый Тайяд. — Он улыбнулся. — Ветер на нашей стороне, солнце сверкает зелёным лучом, Сириус пожелал нам доброго пути. Мы всех чрезвычайно удивим. Они-то думают, что я, как ребёнок, буду цепляться за юбку Мюрата. И я уверен, что старина Кемпбелл уже облазил все скалы у Неаполя. Но мы-то здесь, а завтра будем во Франции — начнётся такое! Пока власти будут приходить в себя, мы подойдём к Парижу. Вы должны научиться улыбаться, мой старый добрый друг. Мы будем в Тюильри к двадцатому марта, ко дню рождения короля Рима!
Так это и случилось.
Но генерал Дрюо, подобно скорбному пророку, продолжал покачивать головой.
После разговора с мадам Бертран полковник направился к доктору Лапи, нынешнему губернатору острова. Тот принял его в форме коменданта Национальной гвардии. Их беседа была одна из самых странных за всю историю Эльбы и Британии.
Выпрямившись во весь рост, полковник произнёс величественным голосом:
— Сэр! Я приехал сюда как один из уполномоченных Объединённых сил, которые сопровождали Наполеона на этот остров, и я хотел бы слышать от вас, как я должен относиться к вам — как к официальному лицу?
Доктор Лапи был слегка удивлён, но, не забывая о хороших манерах, спокойно ответил:
— Как к губернатору острова Эльба.
— Губернатору, назначенному кем?
— Моим сувереном, императором Наполеоном. Он до сих пор, насколько вам известно, является королём Эльбы.
Затем полковником было высказано требование, которое, безусловно, должно занять одно из первых мест в анналах британской дипломатии:
— Месье Лапи, я хочу спросить вас, сдадите ли вы остров англичанам...
Доктор Лапи был известен и любим на Эльбе за его знания, а ещё больше — за человеколюбие и умение понять и простить людей любого сорта. Все окружающие завидовали его умению владеть собой. Но при этих словах рот его широко открылся, глаза округлились, брови взлетели вверх, на лбу появились глубокие борозды, и выражение лица настолько изменилось, что даже бесстрашный полковник понял, что сболтнул нечто несусветное. Поэтому, быстро поправившись, он продолжил:
— ...или эрцгерцогу Тосканы, или Объединённым силам?
Через мгновение доктор Лапи улыбнулся, и улыбнулся с облегчением. Хотя этот вопрос, как и прежние, был сам по себе оскорбителен, но, по крайней мере, не безумен.
— Конечно, нет, — ответил он, продолжая улыбаться, — У меня есть средства для защиты Портоферрайо до тех пор, пока я не получу соответствующие приказы от императора.
Тут полковник позволил себе сделать ещё одно примечательное заявление:
— Тем самым вы принимаете на себя всю полноту ответственности. Мне только остаётся сообщить вам, что с этого момента остров будет считаться находящимся в состоянии блокады.
В скобках заметим, что у бравого полковника прав и полномочий говорить это было не больше, чем объявлять войну России. Британия, как было известно губернатору, даже не подписывала договор в Фонтенбло, а Кемпбелл не был ни послом, ни адмиралом. По этому поводу доктор Лапи выразил удивление.
Отвесив прощальный поклон, полковник заговорил вновь:
— Чтобы свести к минимуму возможные бедствия среди гражданского населения, следует сообщить всем жителям о блокаде и о том, что они не должны поддерживать связи с континентом.
«Я поступил таким образом, чтобы месье Лапи осознал всю полноту взятой на себя ответственности, а также чтобы он не отдал приказ меня задержать».
Но это была излишняя предосторожность. Единственным желанием губернатора было поскорее избавиться от полковника и его громкого голоса. Кемпбелла так никто и не арестовал, наоборот, его встречали улыбками и отдавали честь. В чём же было дело? Уж не думали ли они, что он сошёл с ума?
Не совсем так. Они думали, что англичане попустительствуют бегству Наполеона и что бушующий полковник просто играет, выступая одним из активных персонажей комедии надувательства со стороны британцев.
Полковник Кемпбелл был чрезвычайно удовлетворён своей попыткой присоединить к Британской империи новые владения. Однако этим и ограничились его успехи. У него не имелось точных сведений, куда направился Наполеон, и потом он ещё не виделся с Полиной. Он зашёл в Мулини. Часовой сообщил ему, что княгиня пошла к своей матери в дом Вантини, расположенный внизу.
Полковник отправился туда, размышляя по дороге, какую тактику поведения ему выбрать лучше всего. В дневнике он описывает встречу с Полиной следующим образом:
«Проходя мимо дома мадам Мер и княгини Полины, я заметил у их двери часовых из рядов Национальной гвардии. Я сказал им, что если мадам и княгиня хотят отослать в Ливорно какие-нибудь письма, то мне доставит огромное удовольствие выполнить их просьбу. Когда я уже шёл по направлению к шлюпке, княгиня послала за мной слугу с просьбой вернуться.
Когда вышла Полина, она заставила меня сесть рядом с собой, а сама начала постепенно передвигать свой стул всё ближе и ближе к моему, как будто хотела сообщить мне что-то личное. Я же просто повторил ей, что я с радостью передам распоряжения, какие есть, на континент. С заметным беспокойством она спросила меня, могу ли я что-нибудь сообщить ей и что я посоветую ей делать. Она сказала, что уже написала своему мужу, князю Боргезе, который сейчас находился в Ливорно, и попросила передать ему, что хочет немедленно направиться в Рим. Я посоветовал ей, чтобы она пока оставалась на Эльбе». (Вот уж недружеский совет, если учесть, что остров вскоре, по словам Кемпбелла, будет блокирован английским флотом).
«Она продолжала торжественно заверять меня, что ничего не знала об отъезде Наполеона и его намерениях до самого последнего момента. Взяв мою руку, она приложила её к сердцу, чтобы я мог почувствовать, как она взволнованна. Однако она не производила впечатление взволнованной, похоже, что на лице её блуждала улыбка.
Она также спросила меня, захватили ли уже императора или нет? Я ответил, что точно не знаю, но очень может быть! Во время разговора она сделала намёк, что, по её мнению, он направился во Францию, в ответ я, улыбнувшись, сказал: «О, нет! Не так далеко, скорее в Неаполь». На мгновение мне показалось, что она намеренно упомянула о Франции, чтобы ввести меня в заблуждение.
Спустя одну или две минуты я откланялся и без всяких задержек по пути проследовал к шлюпке».
Вся эта беседа целиком была построена на дешёвых актёрских приёмах и явном лицемерии. Однако в ней гораздо больше интересных фактов, чем сообщает полковник.
Полина наслаждалась жизнью. Наполеон уехал, поэтому она смогла надеть чёрное платье, которое ей очень шло. Кроме того, оно соответствовало тем чувствам, которые она испытывала в данный момент — грусть по поводу отъезда любимого брата, боязнь грядущего. Выглядела она просто прелестно, и полковник был ею очарован.
В дневнике не много отрывков, в которых сквозит такая явная, неприкрытая фальшь, как в описании полковником этой встречи. В действительности Полине не требовалось незаметно приближаться к нему, постепенно передвигая свой стул, она сразу же села рядом с ним и, слегка наклонившись вперёд, трогательно заглянула ему в лицо:
— О, сэр Нил, я думала, вы уедете, не повидавшись со мною. Как можно быть таким жестоким?
Её глаза, её голос, аромат парижских духов околдовали его. Стоило ему только слегка наклониться, и он смог бы поцеловать это удивительное создание — как страстно он желал этого. Но он вспомнил о лорде Каслри, который олицетворял для полковника долг, и продолжал сидеть как изваяние.
— У меня мало времени. Если я сразу же не вернусь на корабль, он отплывёт без меня, — как можно холоднее заметил он.
Она покачала головой:
— Но сейчас штиль. До полудня ветер не поднимется.
Об этом он и не подумал.
— Кроме того, — ворковала она, — к чему такая спешка? Наконец-то мы вместе, и вокруг никого. Вы выглядите очень уставшим. Вам надо отдохнуть, сэр Нил.
Прохладной рукой она слегка коснулась его лба, как будто предполагала у него лихорадку.
— А теперь скажите мне, — с нарочитой серьёзностью сказала она, — что вы сделали с моим братом?
— Я?— только и смог выкрикнуть полковник, после чего забормотал совсем несуразное.
— Да, вы, я знаю, вы стояли за всем этим. Вы такой умный, сэр Нил. Скажите мне, куда он уехал?
— Ваше высочество, об этом я как раз хотел спросить вас.
— Я не знаю. Наполеон ничего мне не сказал. Я не знала, что он уезжает, до самого воскресного вечера. Но, по моим догадкам, во Францию. Разве не так? — Она произнесла это с хитрой улыбкой, как один заговорщик другому. — На прошлой неделе он рассматривал карту.
Именно теперь полковник сделал тонкое замечание, приводимое им в дневнике:
— О, нет! Не так далеко, скорее в Неаполь.
Разыгрывая сильное волнение, Полина произнесла:
— Так, значит, вам всё известно? О, скажите, что случилось? Я так волнуюсь. Послушайте, как стучит сердце.
Она взяла его правую руку и приложила к груди. Однако в этот момент выскакивало из груди не её сердце, а полковника.
— Он схвачен? Скажите мне, сир Нил.
— Я не знаю. Но вполне может быть.
Глаза Полины сверкнули. Этот болван ничего не знал.
— Но я не понимаю. Если вы всё это устроили...
— Я не имею к этому ни малейшего отношения, — ответил раздражённо полковник. — Если бы я мог, я не дал бы этому случиться.
— Да? Тогда зачем вы ездили в Ливорно?
Полковник смешался:
— Я ездил в Лукку на воды.
— Я в это не верю, — сладко проворковала она, поглаживая его руку. — Думаю, что вы поехали повидаться с женщиной. Ах, несносный сэр Нил!
— Ваше высочество!
— Я ревную, сэр Нил, — прошептала она и медленно наклонилась вперёд, приблизив своё лицо к его лицу. В этот момент он с отчаянием вспомнил о лорде Каслри и еле выговорил:
— Ваше высочество, я должен идти.
— Нет, нет, вы не должны идти. — Она села и опять крепко сжала его руку. — Посоветуйте мне, что делать. — Она поднялась. — Подождите. Сейчас мы выпьем кофе. Нет, не вставайте. Отдыхайте и не называйте меня «ваше высочество». Меня зовут Полина. Запомните?
— Полина, — глупо повторил полковник.
— Так-то лучше.
С сияющей улыбкой Полина приказала подать кофе. Возможно, думала она, что, задерживая этого дурака, оказывает последнюю услугу Наполеону. Однако в её голове были и другие мысли. Она переоделась в светло-зелёное платье и украсила волосы цветком. Полина находила полковника привлекательным, если бы не его холодные голубые глаза. Жаль, что он действовал против её брата, и потому для него не может быть прощения.
Трудно было Кемпбеллу сохранить спокойствие в бурном море всевозможных эмоций, но здравый смысл и чувство долга по отношению к лорду Каслри взяли своё. Он знал, что должен спешить на корабль и разрабатывать планы преследования. Но именно сейчас он уверился в том, что каким-то чудом завоевал расположение самой прекрасной, самой волнующей женщины. Конечно, она могла — ему не хотелось думать, что это так, — разыграть всю сцену, как тогда, на балу, чтобы удалить его с острова, пока Наполеон готовил побег. Но теперь вроде бы в этом не было никакой необходимости. Что ж, если ещё раз представится возможность, то тогда никто и ничто не сможет встать между ними. Решено, он обнимет и поцелует Полину. Это будет приятным и в то же время триумфальным завершением его одиозной миссии, а также своего рода местью Наполеону за всё его пренебрежение и причинённые неприятности.
Она вернулась, держа в руках поднос с чашечками для кофе. Он заметил её светло-зелёное платье и цветок в волосах. И это всё для него одного, подумал он радостно.
— Куда вы поедете, Нил? Полагаю, в Неаполь?
— Пока не знаю.
— Но если Наполеон направился в Неаполь?..
— Я уже не уверен в этом, — отрезал он. Идиллия потихоньку утрачивала краски.
Полина зашла слишком далеко. «Она хочет внушить мне мысль о Неаполе», — подумал полковник.
— Что заставляет вас думать, что он направился в Неаполь?
— Вы, Нил. Вы сами это сказали. Я-то не знаю ничего. Если поедете в Неаполь или Ливорно, может, передадите письмо моему мужу? Я думаю, он сейчас в Ливорно. Понятия не имею, что делать.
Она стала сокрушаться, какая жестокая доля выпала ей как жене и почему она убежала от всего этого, чтобы укрыться под крылом брата. Полковнику показалось, что она сейчас заплачет. Он посоветовал ей пока оставаться на острове и не возвращаться к своему мужу, жестокому князю Боргезе.
— Думаю, вы правы, Нил, — произнесла она. — Но, надеюсь, письмо ему вы отвезёте?
— С удовольствием. Но может так случиться, что в Италию я не попаду.
Полина была не такой уж талантливой актрисой, поэтому тень разочарования пробежала по её лицу.
— Тогда куда же вы поедете?
— Во Францию, наверно, — твёрдым голосом произнёс он.
Хорошо, что Полина в этот момент ставила чашки на поднос и полковник не мог видеть её лица!
— Но я думала, вы говорили про Неаполь, — сказала она.
— А я думал, вы говорили про Францию, Полина.
— Я же сказала вам, я ничего не знаю.
— Вы в этом уверены?
Чувство Долга одерживало победу над Любовью, и Полина поняла это. Всего лишь несколько минут назад этот человек был у её ног, а теперь он опять полон подозрительности и злобы. Нужно было что-то делать. Пройдя через комнату походкой богини и взяв его руки, она склонилась перед ним на колени:
— О, Нил, неужели вы мне не верите?
Взгляд полковника оставался суровым.
— Что вы сказали капитану Ади?
— Капитану Ади? — В изумлении она подняла на него глаза.
— По поводу лета. И поводу Марчианы.
Она громко рассмеялась:
— Ах да, этот милый капитан. Он мил, он очень мил. Но он не такой красивый, как вы, дорогой Нил.
Однако допрос продолжался.
— Вы сказали ему неправду.
— Ну что вы, Нил. Я сказала правду. Я сама писала письмо под диктовку Наполеона относительно приготовлений к лету. Где устроить ночлег, где кухню и всё такое...
— Почему же вам сейчас так весело?
«Попалась», — подумал полковник. То же самое подумала Полина.
— Ну разве не смешно сейчас думать о планах Наполеона на лето? Смешно и печально одновременно. — Она глубоко вздохнула.
Но это прозвучало неубедительно. Полковник с силой сжал её руки, причинив боль.
— Куда уехал Наполеон? — грубо спросил он.
— Нил, вы делаете мне больно.
Он продолжал сжимать её руки с прежней силой. У него появилось восхитительное ощущение собственной силы, и ему очень захотелось хорошенько встряхнуть её. Княгиня уже жалела о том, что начала этот разговор.
Он оказался не таким уж болваном. И потом, никто с ней так жестоко не обращался.
— Он уехал во Францию, да? — гневно спросил он.
— Клянусь вам, он ничего мне не сказал. Вы так жестоки, Нил. Отпустите меня! — с внезапной яростью, властно закричала она.
Он сделал так, как она хотела. Противники заняли исходные позиции. Грудь её вздымалась, кисти рук занемели, и она судорожно растирала их. У неё возникло сильное желание покинуть поле боя. Что за унижение — быть избитой и покалеченной этим дураком! Но и у неё было чувство Долга. И оно говорило, что полковника нужно задержать как можно дольше, чтобы корабль уплыл без него. Тогда она посмеётся! И она пошла с козыря. Внешне успокоившись и приняв трогательное и обиженное выражение лица, она положила руку к нему на колено и сладко промолвила:
— Я знаю, Нил, вы ревнуете меня к капитану, правда? Не нужно этого делать. Но должна вам сказать, я тоже ревнива. Зачем вы ездили в Ливорно?
— Я уже говорил вам, Полина. Я ездил в Лукку, на водный курорт.
— И также во Флоренцию?
— Ну да. Я ездил во Флоренцию. У меня там были кое-какие дела.
Княгиня вздохнула:
— Говорят, что у вас там женщина?
— Разумеется, у меня есть там друзья, — натянуто ответил полковник.
— Если бы вы не покинули остров, вы могли бы остановить Наполеона. Он всегда прислушивался к вашим советам, я знаю.
Она была уверена, что сейчас насмехаться над ним не следует.
— Что бы я мог сделать? Меня бы арестовали.
— Нет, нет. Наполеон бы вас не тронул. Он не хотел ссориться с англичанами. Конечно, если бы вы были здесь, он бы не уехал...
— Вы говорите ерунду, — со злостью проговорил полковник. Всё это точь-в-точь было похоже на его собственные соображения.
— Бедный Нил, интересно, что напишут о вас в книгах по истории. Напишут ли, что, когда Наполеон бежал с острова, британский уполномоченный находился в объятиях мадам...
— Полина, это неправда! Вы не должны говорить такие вещи!
— Я не буду говорить, Нил. Не бойтесь. — Она встала, высвободив руку. — Но будут говорить другие.
Она двинулась прочь. Вскочив с места, он бросился за ней, объятый противоречивыми чувствами. Больше так продолжаться не могло.
— Полина, вы отлично знаете, что заставило меня поехать в Лукку. Я поехал ради вас!
Ну вот. Наконец-то всё вышло наружу. Он надеялся, что она будет тронута его признанием и скажет, почему не приехала к нему.
Но Полина смотрела на него так, будто он сошёл с ума.
— Ради меня? Что это значит, сэр Нил?
Полковник начал заикаться от волнения:
— Я думал... я думал, вы приедете в Лукку. Вы дали мне понять на балу... Разве не помните, Полина?
— Я не помню ничего, — она гордо вскинула голову. — И если вы намекаете, полковник, что я, урождённая Бонапарт, а в замужестве Боргезе, договорилась с английским шпионом встретиться с ним в каком-то итальянском городке, то вам лучше навсегда забыть об этом!
Она была само достоинство и оскорблённая добродетель, но искорки в её глазах раскрыли ему правду.
— Вы дьявол! — прошептал он и стал надвигаться на неё, обуреваемый яростью и страстью. Просто изнасиловать её, подумал он, будет недостаточно. Но она остановила его взглядом, как иногда человека останавливает пощёчина.
— Стойте, где стояли, полковник, иначе я позову гвардейца. Да, сэр Нил, возможно, я дьявол. Но я, урождённая Бонапарт, никому не позволю сделать ничего плохого моему брату, великому Бонапарту. Вы шпионили за ним, вы плели заговоры и рассказывали о нём всякие небылицы. Вы настроили весь мир против него. Вы — ничто. Он — величайший из всех людей. Вы могли задержать его, когда он уже принял решение, и я сказала себе: «Я очарую этого шпиона, сделаю его своим рабом и отошлю с острова». Наполеон ничего не знал об этом. Даже теперь он не знает, что это я помогла избавиться от вас. Разумеется, в конце концов вы бы уехали — ведь вы же не можете вечно жить без прекрасной Бернотти? Но это я — Полина Бонапарт — выбрала время вашего отъезда и подарила Наполеону свободу. Я внесла свою скромную лепту. И вы удивляетесь, сэр Нил, что я крайне горда и счастлива этим?
Потом, после столь горячего монолога, эта странная женщина внезапно поникла, увидев на лице полковника скорбь. Ей стало жаль его: он стоял перед ней как провинившийся солдат перед своим командиром.
— Всё это правда, — пробормотала она, — Но вы меня извините. Я могла бы любить вас, Нил. Мне кажется, я немного вас люблю.
Она опустила голову и застыла перед ним в позе кающегося грешника.
Последние её слова и её поза смягчили боль. Чувство собственного достоинства полковника не было унижено, ведь она, как и он, разрывалась между Любовью и Долгом. Он медленно подошёл к ней, чтобы поцеловать её, простив и забыв обо всём.
Но в этот момент открылась дверь и вошла мадам Мер.
— У меня несколько писем, — сказала она, — и если полковник будет столь любезен... Вы ведь едете в Италию?
— В любом случае, — пролепетала Полина. — Я ещё не написала своё письмо. Вы можете немного подождать, сэр Нил?
— Я подожду, — смиренно ответил он.
Он терпел полчаса. Но всё же дождался от неё поцелуя.
Глава 18
НЕВЕЗЕНИЕ «ПАРТРИДЖА»
— Две фелуки приближаются по левому борту, сир.
В течение всего дня корабли маленького флота Наполеона собирались вместе, и к четырём часам после полудня бриг «Инконстант» оказался вновь окружён всем своим выводком.
Наполеон усадил нескольких офицеров и солдат за изготовление копии воззваний, и главные силы были брошены на обращение к солдатам Великой армии. Переписанное их грубыми руками, это обращение обретёт дополнительную убедительность — и, кроме того, копируя, они сами его заучат, чтобы распространять устно. Вместе с Дрюо он спустился, чтобы проверить, как идёт работа. Внезапно он остановился между переборками; знакомый ему голос капрала Джуалини пламенно и выразительно цитировал избранные отрывки из воззвания:
— Слушайте! — кричал он. — Слушайте меня! «Французу, в моём изгнании я услышал ваши стоны и узнал ваши сокровенные желания. Подвергаясь всякого рода опасностям, я пересёк моря... Теперь я с вами, внемлите же моим чаяниям, которые являются также и вашими! Разве это не так?»
Раздались аплодисменты. На лице чтеца блуждала мальчишеская улыбка. Некоторые солдаты, страдавшие от качки, кричали: «Замолчи, Джуалини!» Но маленький капрал не умолкал.
— Слушайте! — крикнул он. — От этих слов вырастают крылья! Это слова настоящего волшебника! Никто не мог так сказать! «Солдаты, мы не повержены. Два человека, покинувшие наши ряды, предали нашу славу, свою страну, своего государя, их благодетеля... Станьте же теми орлами, какими вы были в сражениях под Ульмом, Аустерлицем, Йеной, Эйлау, Фридландом, Экмюлем, Эсслингом, Лютценом, Смоленском, Москвой, Монмералем! Победа грядёт... Солдаты, товарищи, мы сохранили вам вашего императора. Мы вернули вам его, преодолев тысячи препятствий. Сорвите же с себя и растопчите белую кокарду, это клеймо позора!»
Воззвание звучало легко, свободно и зажигательно. Несомненно, оно должно было оказать нужное действие.
По-актёрски подняв кулак, капрал с выражением продекламировал последнее слово «позор». При этом все солдаты, даже страдавшие от морской болезни, зааплодировали.
Улыбаясь, император вышел из-за переборки, и вновь раздался гром аплодисментов.
— Ну как, мой капрал? — поинтересовался он по-дружески, как один завсегдатай таверны спрашивает другого (в конце концов он сам в своё время был капралом).
Джуалини вскочил на ноги и, раскачиваясь как тополь на ветру, отдал честь.
— Хорошо ли это, мой император? Это великолепно! Да здравствует император!
Даже страдающие от качки захлопали в ладоши.
В капитанском бортовом журнале военно-морского корабля «Партридж», хранящемся в Государственном архиве, имеется запись: «2.00 пополудни. Шлюпка вернулась. Выяснилось, что Бонапарт покинул остров 26-го вечером». Время, указанное в журнале, не совсем совпадает с утверждениями Кемпбелла.
Усталые матросы повезли злого как чёрт на себя и судьбу полковника обратно на корабль. С ним ехали мистер Грэттэн и месье Ричи; не закрывая рты, они обсуждали грандиозный побег Наполеона.
— Боюсь, что вашу экспедицию в Марчиану следует отложить. — Это были первые слова полковника, когда он поднялся по трапу.
По крайней мере, он мог немного отыграться на Ади.
— Он бежал, да?
— Да. Кажется, вы весьма понравились княгине.
— Я рад, — коротко ответил моряк. — А что ещё вы узнали?
Они совещались и спорили до трёх часов дня. Кемпбелл куда только было возможно, направил срочные отчёты и депеши. Отплыли они в три часа при свежем ветре с юго-запада. Ади считал, что надо идти на Неаполь, но Кемпбелл, в кои-то веки принявший правильное решение, настоял, чтобы плыть в Антиб, и Ади уступил ему. Они оба понимали, что ещё не всё потеряно. У Наполеона было сорок часов форы, но при капризных ветрах этого моря один корабль мог оказаться в полосе свежего ветра, а другой — полного штиля, и тогда запросто настиг бы второй. Кроме того, «Партридж» был быстроходней, и ещё оставалась надежда на французские фрегаты. В половине шестого задул восточный ветер. Подняв все паруса, судно двинулось в направлении Антиба — на северо-запад.
Находясь уже в лучшем настроении, наш неутомимый полковник уселся за стол, чтобы спокойней описать все события. Как обычно, он пытался пророчествовать:
«Думаю, Наполеон направляется к границе Пьемонта, проходящей рядом с Францией, и захватит какое-нибудь укреплённое место рядом с Ниццей или между Ниццей и Турином, немедленно разослав представителей гражданского населения, которые на его стороне, по северной Италии, независимость которой он провозгласит, что привлечёт на его сторону недовольных. В это время Мюрат будет делать то же самое на юге страны.
Этот план в большей степени совпадает с национальными чувствами, испытываемыми его офицерами и солдатами. Возможно, они сочтут его менее опасным, чем поднимать восстание во Франции, где их посчитали предателями».
Испытывая чувство личной вины за случившееся, полковник строчит тщательно обоснованные длинные оправдания для своих начальников.
«Если бы корвет его величества «Партридж» находился в гавани в воскресенье, то нас могли бы задержать».
(Не могли бы, если бы капитан поступил так же благоразумно, как сделал 28 февраля).
«Капитана Ади, старшего лейтенанта и меня самого, вероятно, пригласили бы в дом генерала Бертрана, где мы иногда обедали. Там нас можно было с лёгкостью арестовать, что в значительной степени помогло бы выполнению плана Наполеона».
Похоже, полковник чуть ли не сожалеет, что их не арестовали. Ведь тогда он был бы полностью оправдан!
«Я считал, что два фрегата и несколько более мелких кораблей, принадлежащих Людовику XVIII и постоянно курсировавших между Корсикой, Капраей и Ливорно, являются надёжным средством обеспечения безопасности против замыслов Наполеона. В то же время мне было известно, что консул Франции в Ливорно и губернатор Корсики осуществляют за ним слежку при помощи опытных шпионов».
Французских фрегатов не было нигде, что было очень странно. Ветер усилился, и «Партридж» набрал хорошую скорость... Внезапно вперёдсмотрящий закричал:
— Огонь в двух румбах по правому борту!
Это наверняка был корабль, так как ближайшая суша находилась на расстоянии восьмидесяти миль. Дежурный молодой офицер вытащил подзорную трубу и сообщил о нескольких кораблях: скорей всего он спутал корабельные огни с низко висящей на небе Капеллой, отливающей красным и зелёным светом, а также с не менее низким и ярким в ту пору созвездием Близнецов. Капитан Ади приказал команде занять места, а орудия и абордажные команды приготовить к бою. На корабле подняли ещё два вымпела — как положено перед атакой. Полковник Кемпбелл в огромном возбуждении поспешил на палубу и выслушал последние новости.
— Замечено несколько кораблей, — прошептал молодой лейтенант.
Полковник радостно кивнул. Возможно, великий момент настал. Корабли с преступниками будут захвачены, и это будет победным финалом всех его надежд и разочарований.
«Мы думали, — пишет он, — что все наши самые радужные надежды оправдались».
Но капитан Ади не был столь оптимистичен. Он уже заметил белый огонёк (в то время не было общепринятых навигационных огней) и понял, что корабль лишь один.
— Не вижу эту вашу флотилию, — сухо сказал он молодому офицеру.
Вскоре на фоне звёзд стали чётко видны контуры корабля, напоминающего бриг «Инконстант». Ади наконец смог его окликнуть:
— Кто вы?
— «Ла Флёр де Лис», — ответил низкий голос.
Кемпбелл простонал. Один из французских фрегатов!
— Как сказать, чтобы они легли в дрейф? — спросил капитан Ади.
— Точно не знаю, — ответил полковник.
В бортовом журнале осталась простая запись: «Капитан направился на борт стоящего рядом корабля».
Ади и Кемпбелл в четырёхвёсельной шлюпке поплыли к фрегату. Покидать шлюпку, а потом взбираться на борт по верёвочному трапу, да ещё в море, было для Кемпбелла нелегко, но он с честью вышел из этого испытания.
Капитан фрегата, Шевалье де Тара, моряк с бородой пророка, был вежлив, но чересчур многословен. Он извергал потоки категоричных утверждений: «невообразимо», «невозможно» или «сверхъестественно». А бегство Наполеона, о котором он ничего не знал, было, по его определению, чем-то «сверхъестественным», и «невозможно допустить», утверждал он, что Наполеон проскочил по этому маршруту.
Кемпбелл делает язвительную запись. «Он не знал о бегстве Наполеона, пока мы не сообщили ему об этом, хотя в его обязанности как раз и входило не допустить подобного. Если только он не был соучастником бегства, то непонятно, почему он не выполнял свою прямую обязанность: курсировать возле острова».
— Но мы считаем, что корабль двигался этим курсом! — раздражённо заявил Кемпбелл.
— Это невозможно! — прогремел Шевалье. — Фантастично! — Он послал за картой и показал по ней огромным пальцем, каким героическим путём следовал «Флёр де Лис».
Утром 26 февраля, в воскресенье, его фрегат встретился с фрегатом «Мельпомена» на юго-востоке от Капраи. Потом началось энергичное преследование нескольких судов, которые, как он заметил, огибали Горгону. Капитан успокоился только тогда, когда понял, что это английские и шведские суда, вышедшие этим утром из Ливорно. Его корабль в восемь часов вечера того же дня оказался на расстоянии двенадцати миль к западу от Капраи. Погода была ясная. Поэтому Бонапарт, если он, по заверению Кемпбелла, отплыл в восемь часов вечера, до самой ночи не сумел бы мимо них проскочить!
— В четыре часа после полудня, — продолжал капитан, — был практически полный штиль. «Флёр де Лис» находился к северо-западу от Капраи, готовый сдвинуться , с места при малейшем дуновении ветра между Горгоной, островом Эльба и островом Капрая.
Теперь — самая странная часть истории. Дело в том, что в тот день около двух или трёх часов пополудни некий мистер Грэттэн заметил флотилию Наполеона «на небольшом расстоянии к северу от Капраи».
Почему с «Флёр де Лис», заметившей «Мельпомену», находившуюся гораздо дальше к югу, не увидели эту флотилию?
Ади взял циркуль и измерил расстояния. От Портоферрайо до точки как раз к северу от Капраи получалось двадцать шесть с половиной морских миль — около шестнадцати миль от местоположения «Флёр де Лиса» во второй половине дня. На расстоянии шестнадцати миль человек на фор-марсе непременно бы увидел верхние паруса кораблей.
— Спросите его, — попросил Ади Кемпбелл, — где они находились в четыре часа?
Капитан пожал плечами и неопределённо махнул рукой на север. Ади с сомнением посмотрел на него. Кемпбелл повторил заявление мистера Грэттэна, однако у капитана французского фрегата без труда нашлись возражения.
— Ведь он не моряк? Верно? Возможно, он видел «Мельпомену» и два каботажных судна, которые я тоже видел. В любом случае, — сказал он, меняя защитную тактику, — форты Портоферрайо расположены высоко! Оттуда можно увидеть гораздо больше, чем с корабля. Погода была хорошая — всего лишь лёгкая дымка. Как бы то ни было, мы увидели бы бриг. Но мы его не видели. Не увидели. Это всё.
Он был вежлив, но твёрд; и на всё у него был ответ. Полковник не настолько хорошо знал море, а капитан — французский, чтобы серьёзно с ним поспорить.
Позднее, в официальном докладе правительству, капитан Шевалье сообщил чуть больше, и эти дополнительные сведения порождают новые загадки.
В течение ночи 27-го числа и утра 28-го «Флёр де Лис» курсировал, как обычно, между мысом Коре, Горгоной и Капраей. По хорошей погоде командиру пришла в голову мысль ещё раз проверить Портоферрайо. Однако, как только он обогнул Капраю с севера, ветер совсем стих, и корабль застыл у самого берега при полном штиле. В течение этого промежутка времени капитан заметил поблизости только два рыбацких судёнышка, с экипажами которых он говорил. Они не сообщили ему ничего нового касательно острова Эльба, лишь похвалили его за его упорство, с которым он так долго патрулирует остров.
Таким образом, 28-го числа он был застигнут штилем к востоку от Капраи. В это время «Партридж» готовился к отплытию в четырёх милях от Портоферрайо на расстоянии двадцати миль от французского фрегата. Странно, но он ничего не сказал об этом Ади и Кемпбеллу.
Но что он делал потом? Известно, что затем он встретился с «Партриджем». Как он успел добраться до места встречи? Каким путём? Об этом ничего не известно. И если ветер был достаточно сильным, чтобы Он мог добраться до этого места, так почему же он не попытался исполнить своё первоначальное намерение проверить ещё раз Портоферрайо?
Можно допустить, что Шевалье лжёт. Трудно сказать почему. Не исключено, что, когда у него возникла возможность «зайти в свой обычный порт», он попросту сошёл на берег и отдыхал всю ночь и весь понедельник от своего крайне утомительного патрулирования. Новости о бегстве Наполеона, скорей всего, достигли Корсики в понедельник вечером, и Шевалье понял, что надо выходить в море. Однако к этому времени бриг «Инконстант» уже проскочил опасные места, и капитан, призвав на помощь воображение, изменил записи в корабельном журнале.
Утомлённые англичане вернулись на свой корабль, не зная, что и думать. Никак нельзя было заподозрить, что для патрулирования острова Людовик XVIII назначит друга Наполеона. Кроме того, Шевалье был категоричен:
— Если бы я встретился с Бонапартом, — заявил он, — я бы атаковал его, где бы это ни случилось, безо всяких сомнений, и не думал о том, какие мне были даны приказы. Каждый человек на борту знает об этом.
Ади был невысокого мнения о французах как о моряках. Кроме того, не исключено, что после двух месяцев патрулирования у экипажа корабля притупилось внимание, но что делать дальше? Вряд ли конечным пунктом плавания Наполеона был Антиб, ведь Шевалье проплывал мимо Капраи и не заметил флотилию Наполеона. Но Грэттэн заявил, что видел её рядом с островом Капрая. Как же быть?
А Наполеон, в восьмидесяти пяти милях от них, уже миновал Монако и осторожно двигался вдоль побережья на виду у всей Европы.
«Рано утром, — пишет Кемпбелл, — Шевалье де Тара взошёл на борт «Партриджа», и мы решили, что он направится в Антиб, и если не обнаружит там Наполеона, то немедленно направит одного из офицеров в Париж с сообщением о его бегстве с острова. ...Мы решили, что нет надобности обоим кораблям следовать в одном и том же направлении.
Шевалье де Тара одобрил это изменение наших планов. Он направился в сторону Антиба, а «Партридж» — в сторону Капраи».
Это должно означать, что два корабля разошлись ранним; утром первого числа, после завтрака. Но в бортовом журнале «Партриджа» записано совсем другое:
«В 5.10 капитан вернулся, удовлетворённый беседой, и приказал поднять паруса. Курс на северо-запад. «Флёр де Лис» с нами».
Два корабля были вместе до семи тридцати вечера. То есть капитанам потребовалось четырнадцать часов и двадцать минут, чтобы прийти к заключению, что «обоим кораблям нет надобности следовать в одном и том же направлении».
Первого марта, в среду, в три часа дня, Наполеон, находящийся в гавани Антиба, приказал дать залп из двух орудий и поднять трёхцветный флаг. Двигаясь самым коротким путём, он преодолел расстояние в сто семьдесят миль за шестьдесят три часа. Если отметить на карте пути всех заинтересованных кораблей, покажется просто удивительным, как ему удалось не попасть в расставленные сети. Однако он встретил всего один корабль и благополучно расстался с ним. Крошечный участок моря на деле оказался безмерно широким.
В этот день Кемпбелл сделал следующую запись:
«Размышляя над тем, что задумал Наполеон, и пытаясь привести в соответствие сведения, полученные от Шевалье де Тара и мистера Грэттэна, разумно предположить, что Наполеон несколько дней прятался на Капрае или Горгоне, чтобы сбить «Партридж» со следа и ночью неожиданно захватить Ливорно. Это вполне осуществимо. Он мог бы достать там деньги, провизию, боеприпасы и всё ему необходимое, а также получить доступ к надёжным средствам связи с Мюратом, который бы направил часть своих войск, чтобы встретить Наполеона во Флоренции. Часть флота Мюрата с войсками могла бы временно компенсировать отсутствие Наполеона в Портоферрайо, либо туда мог бы прийти весь флот из Неаполя».
Бедный Кемпбелл! Такая искусная и тщательно разработанная схема действий, в которой всё учтено: этот план сделал бы честь любому полководцу. Но отличительная черта любого гения в том, что он, как правило, принимает неожиданно простые решения, которые вначале кажутся невыполнимыми, а потом — «единственно разумными». Кемпбелл изучал Наполеона в течение десяти месяцев, но не мог предположить, что тот примет наиболее простое решение: направиться во Францию и захватить её! Да и кто бы мог это предположить? Полковника не в чем винить.
Наполеон сошёл на берег около четырёх часов дня, однако войска стояли лагерем у дороги в Канны до двух часов утра, всю ночь шла разгрузка судов. Если бы Небеса проявили некоторую благосклонность к англичанам и послали им сильный попутный ветер, то при скорости в восемь или девять узлов, развить которую корвету ничего не стоило, он мог бы подойти к Антибу около полуночи и нанести Наполеону сильный удар. Ади и Кемпбелл были настроены очень решительно, и на берег непременно был бы высажен десант британских морских пехотинцев. На побережье Ривьеры произошло бы настоящее сражение между британской морской пехотой и гвардейцами императора. Однако все эти «если бы да кабы» ничего не стоят, так как в семь тридцать «Партридж» повернулся к императору кормой и медленно, при встречном ветре, поплёлся к острову Капрая. Нет ничего удивительного, что достоверность рассказов полковника Кемпбелла о том дне вызывает сомнения. Это ещё раз подрывает его репутацию беспристрастного свидетеля.
Глава 19
ПУТЬ К ВАТЕРЛОО
«Представляется крайне необычным, — писал Кемпбелл позднее, — что войскам удалось высадиться на берег, что они стояли там лагерем с середины одного дня почти до рассвета следующего и что это не вызвало повышенного внимания и власти не приняли в связи с этим никаких мер».
Для Наполеона в этом не было ничего удивительного. Он предсказывал это ранее. Его высадка на берег была подобна появлению быка в посудной лавке — никто не знал, что делать в этой ситуации. Поэтому Наполеон, одетый в свой серый китель, безмятежно сидел под деревом у дороги в Канны. Солдаты в лагере «очень шумели и веселились». Они непрерывно пели песню, начинающуюся со слов: «Что может быть лучше...» Многие из них были заняты на разгрузке кораблей или распространяли воззвания, другие прочёсывали все вокруг в поисках лошадей, за которых платили деньгами. Наполеон вздремнул на земле, под двумя одеялами, и в два часа утра отправился вглубь страны верхом на Таурисе, светло-сером жеребце.
Тем временем безжалостный морской бог никак не мог оставить «Партридж».
«2 марта. Весь день — почти полное безветрие. Стоим рядом с Капраей».
В этот же день Наполеон со всем своим войском и двумя единицами артиллерии, преодолев по горным дорогам тридцать одну милю за двадцать часов, достиг Грасса; Камбронн двигался впереди с небольшим авангардом. Наполеон заметил, что у месье Саварана нет лошади, и дал ему денег, на которые тот её купил.
«3 марта — Капрая. В 04.00 с корабля, стоящего в трёх милях от берега, на остров направили шлюпку. Рассказы коменданта и мэра совпали со сведениями месье Грэттэна, однако противоречили утверждениям Шевалье де Тара. Это практически полностью доказывало правильность нашей первой догадки. Таким образом, капитан Ади опять ложится на курс к Антибу».
Капитан Ади был очень расстроен. Ему ни за что не следовало соглашаться с историей Шевалье.
— Либо он просто плохой моряк, — сказал он, — либо он обманул нас умышленно.
За ужином Кемпбелл заметил:
— Одно любопытное обстоятельство. Мне сообщили, что на Эльбе некоторые уверены, будто англичане попустительствовали бегству Наполеона.
— Мы наделали столько ошибок, — с горечью ответил Ади, — что эти домыслы ничуть не удивительны.
А в это время Наполеон входил в Динье (на расстоянии пятидесяти миль от берега), во главе пятидесяти конных офицеров и небольшого количества кавалерии и пехоты.
«5 марта. Почти полный штиль в течение всего дня».
Запись в бортовом журнале: «Сделали два выстрела в направлении одного подозрительного корабля... Генуя в восьми милях от нас... члены экипажа заняты тем, что плетут друг другу небылицы».
Наполеон двигался к Систерону, расположенному в двадцати милях, по горным дорогам.
6 марта. Для многих — весьма печальный день.
«Штиль, — записано в бортовом журнале. — Генуя в шести лигах».
Неподалёку от Савоны «Партридж» встретил транспортное судно «Лорд Веллингтон».
Капитан Ади на шлюпке посетил транспорт. Через некоторое время Кемпбелл застал его в штурманской рубке склонившимся над картами. Ади без слов протянул ему грубо нацарапанное послание:
«СООБЩАЮТ, ЧТО НАПОЛЕОН ВЫСАДИЛСЯ РЯДОМ С АНТИБОМ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД. ЗАДЕРЖАТЬ ЕГО НЕ УДАЛОСЬ, ОН НАПРАВИЛСЯ ВГЛУБЬ СТРАНЫ».
Итак, всё было кончено.
— Что же теперь? — вопросил Кемпбелл, весь побелевший.
— Интересно, — сказал Ади, — что они имеют в виду, написав «несколько дней»?
Он быстро просчитал расстояния и угрюмо сказал:
— Сорок.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, что мы были всего в сорока милях от Антиба, когда дрейфовали той ночью.
— Иными словами, мы могли его поймать?
— Не смогу сказать до тех пор, пока не узнаю, где он высадился. Но мы были близки к этому.
— Какое несчастье!
— И теперь я думаю, — печально проговорил капитан, — что это его корабли мы видели в понедельник — неделю тому назад — в районе Капраи.
Мысль была слишком мрачной, чтобы обсуждать её вслух.
— Н-да... Может, по стаканчику рома?
За ромом двое офицеров выражали друг другу сочувствие, успокаивали друг друга, просили друг у друга прощения за многочисленные промахи и вскоре стали лучшими друзьями. Они продолжали обсуждать сложившуюся ситуацию, и Кемпбелл утешался тем, что могло бы быть, если бы не... Если бы он не уехал на материк! Если бы они бросились преследовать те «три корабля в поле зрения»! Если бы они не повстречали «Флёр де Лис»! Если бы не повернули в сторону от Антиба! Если бы дул хороший ветер!
Ади все эти «если» утешения не приносили — он давно уже привык ко всем изменениям ветра и погоды. А Кемпбелл записал в дневнике:
«Только из-за задержки судна («только!») для переговоров с капитаном «Флёр де Лис» «Партриджу» не удалось прибыть в Антиб практически в то же время, что и Наполеону. Это лишило нас возможности уничтожить его — возможности, которая была у нас почти в руках».
Незначительное, но весьма характерное преувеличение. «Задержка судна для переговоров» составила не более часа сорока минут. «Возможность» была упущена по совсем другим причинам.
В этот день Наполеон отдыхал в Корпе на расстоянии одного перехода от Гренобля.
«В 2 часа дня, — пишет Кемпбелл, — взошёл на борт английского военного корабля «Абукир», капитан которого — мистер Томсон из Антиба. Корабль направлялся в Геную, и я со всей достоверностью узнал, что, к величайшему нашему прискорбию, Наполеон 1 марта в середине дня высадился в бухте Жуана, между Антибом и Фрежу. Через несколько часов он двинулся маршем на Гренобль, не встречая сопротивления... Написал письмо лорду Каслри».
В этот же самый день новости о бегстве Наполеона с Эльбы достигли Вены, и монархи начали обвинять друг друга в происшедшем. И в этом они были правы.
В тот же день, благополучно перебравшись через горы, Наполеон приблизился к Греноблю, сопровождаемый своими гвардейцами и полутора тысячами обрадованных граждан, идущих за ним следом.
В Гренобле находился штаб дивизии; в то утро город был ключом ко всей Франции. Генерал Маршан послал Пятый регулярный полк для того, чтобы встретить и остановить «чудовище» за пределами города. Наполеон сошёл с лошади и пошёл к солдатам. Какой-то капитан закричал: «Вот он! Огонь!» Никто не исполнил команды.
— Солдаты Пятого полка! — обратился к ним Наполеон. — Я — ваш император. Вы не можете не узнать меня. — Он расстегнул свой китель и подставил им свою грудь. — Если среди вас есть солдат, который хочет убить своего императора — то вот я перед вами!
— Да здравствует император! — Этот оглушительный клич вновь раздался над Великой армией.
Солдаты Пятого регулярного полка, офицеры и рядовые, со всех сторон окружили Наполеона, радостно крича, приветствуя его, со слезами на глазах дотрагиваясь до его мундира, падая перед ним на колени.
В тот вечер, не встретив никакого сопротивления, он вошёл в город.
Гренобль стал ответом на Оргон и Ля Кал аду.
«8 марта прибыли в Антиб», — на семь дней позже Наполеона.
В этот день в Вене принято решение объединить союзные армии для отпора Наполеону. Герцог Веллингтон заявил, что Наполеон будет взят в плен и доставлен в Англию, где ему будут оказываться все должные знаки уважения и почести в соответствии с его заслугами по отношению к Европе.
«10 марта. Возможно, — пишет Кемпбелл, которого всё ещё не оставляли надежды, — что именно Гренобль покажет, насколько Наполеон может рассчитывать на успех. Если его постигнет неудача, то ему не останется ничего другого, как отойти к городу Гап, а затем свернуть с основной дороги и горными тропами пробираться к Турину...»
Но Наполеон не собирался пробираться к Турину труднопроходимыми горными тропами. В тот день, 1 марта, он вновь был императором и уже издал ряд грозных декретов. Этими декретами он упразднил все старые дворянские феодальные титулы, распустил полки швейцарцев И военизированную охрану Людовика XVIII, а также выслал всех эмигрантов, которые вернулись во Францию после реставрации Бурбонов. Он упразднил Палату Депутатов и созвал коллегии выборщиков империи на Чрезвычайную Ассамблею.
Он ещё не добрался до Парижа, но ведь в своё время Французская Революция начиналась с Лиона.
Он также написал очень нежное письмо жене и приложил к нему послания всем правителям и монархам о миролюбивых намерениях. Но отправить это письмо следовало через третьих лиц, тайком. Сломленная Мария-Луиза поклялась отцу, что будет передавать ему всё, что получит от Наполеона.
По словам Меневаля, Мария-Луиза находилась в растерянности. Она была в большей степени склонна верить тем новостям, которые исходили от Венского двора, чем сообщениям Меневаля, но любые новости глубоко волновали её. То она утверждала, что никогда не вернётся во Францию, так как не верит, что там наступят мир и спокойствие, то на следующий день заявляла:
— Если только император согласится царствовать мирно, оставит мечты о завоеваниях, то, я думаю, мне позволят вернуться к нему. Я согласна на это. Я всегда любила французов.
Кажется, что она ни разу со всей твёрдостью не заявила: «Мой муж вновь вернулся домой. Я должна к нему ехать». Но что бы случилось, если бы она так поступила? «Вероятно, — как сказал бы Кемпбелл, — её бы задержали».
Барон Нейперг неотступно находился рядом с ней, тонко запутывая её в своих сетях. 11 марта они совместно составили текст письма. Это было заявление Меттерниху, в котором Мария-Луиза объявляла, что не имеет ничего общего с планами Наполеона и вверяет защиту себя союзникам.
Только этого и требовалось! 13 марта было всенародно объявлено о принятии «торжественной» — что не очень шло к суровости текста — «декларации о намерениях». Император провозглашался вне закона, и с ним следовало покончить.
«Разорвав соглашение, по которому ему предоставлялся во владение остров Эльба...»
(Среди подписавших соглашение были император Австрии и король Франции).
«...Бонапарт нарушил тот единственный правовой статус, с которым было связано его существование. Вернувшись вновь во Францию с целью нарушения мира в стране и свержения существующего строя, он тем самым лишил себя защиты со стороны закона и дал понять всему миру, что никакие соглашения о мирном существовании либо просто о перемирии с ним невозможно заключить.
Все союзники открыто заявляют, что Наполеон Бонапарт своими действиями поставил себя вне сферы гражданских и социальных взаимоотношений и что, как враг общества и возмутитель мирового спокойствия, дал обществу право мстить ему за это...»
В этот день Наполеон покинул Лион во главе войска в 15 000 человек. Всё получалось совсем не так... Он продолжал продвигаться вперёд, и везде ему сопутствовал успех.
Однако язык врага общества и возмутителя мирового спокойствия в корне отличался от языка добродетельных монархов. Ещё не достигнув Парижа, он обратился к Меневалю через своего брата Жозефа. Жозеф передал, что император вскоре войдёт в Париж, что он желает возобновить добрососедские отношения с Австрией и другими государствами, а также надеется, что ему возвратят его жену и ребёнка. Гражданским властям он везде говорил: «Я больше не хочу ни с кем воевать. Мы должны забыть, что были хозяевами мира». По сути, он предложил те самые условия, которые несколькими днями ранее представлялись Марии-Луизе полностью приемлемыми и для неё и, как мерещилось ей тогда, для других монархов.
19 марта. Сына Наполеона забрали у его матери. В восемь часов вечера по приказу отца послушная Мария-Луиза отвезла сына в императорский дворец Вены и оставила его там. В тот же вечер Людовик XVIII покинул Тюильри, вынужденный бежать в Бельгию.
Кемпбелл потихоньку добирался домой.
«20 марта. Уехал в Геную. Ночью неподалёку от Неви напавшие разбойники отобрали у меня часы и что-то около пятидесяти или шестидесяти гиней».
В тот же самый день Наполеон вошёл в Париж, поднялся по величественной лестнице дворца Тюильри и вновь стал правителем Франции.
Но его лишили сына. Вскоре ему предстояло лишиться жены.
Его вины в этом не было. Среди всех тревог Наполеон о ней не забывал. 26 марта Меневаль получил ноту Жозефа. Ему было поручено сообщить Марии-Луизе о решении императора и его надеждах. Мария-Луиза сообщила отцу, что Меневалю «поручено» покорно предоставить ей все гарантии добрых намерений её мужа. Император поблагодарил Меневаля за эту информацию — так король каннибалов благодарит просящего о пощаде пленного миссионера.
2 апреля. В этот день Меневаль обедал наедине с Марией-Луизой. После обеда она сообщила ему о только что подписанном постановлении Конгресса, который закрепляет за ней Парму, хотя в течение некоторого времени герцогством будет управлять Австрия. Однако у её сына отобран его титул, и после её смерти герцогством будет владеть королева Этрурии.
В конце разговора «она высказала своё окончательное решение, что она никогда больше не будет вместе с императором».
«Когда я начал настаивать, — пишет Меневаль, — чтобы она сообщила о причинах такого странного решения, она, назвав несколько причин, которые я попытался опровергнуть, призналась мне, что, не разделив в своё время все его тяготы, она не имеет права разделить с ним нынешний его успех, ради которого она ничего не сделала.
Принцесса, — доброжелательно продолжает Меневаль, — в глубине души — хороший человек. Но иногда она бывает подвержена чужому влиянию... Она является слишком послушным инструментом в руках беспринципных политиканов...
Я сказал ей, что она не должна с такой лёгкостью соглашаться на лишение её сына наследственных прав...
Я поспешил напомнить ей о привязанности к ней Наполеона, чему имеется немало доказательств, о той скорби, которую он испытывает из-за того, что не дают воссоединиться, причём её он нисколько в этом не винит. Я указал ей, какие страдания будет испытывать её муж, узнав об окончательной разлуке, вина за которую целиком падёт на неё. Я указал ей, что её примут во Франции как ангела мира, что, если она вернётся, французская нация будет в вечном неоплатном долгу перед ней, что, я надеюсь, она примет противоположное решение, отвергнув нынешнее, которое продиктовано не её чувствами и не в её интересах. Я убеждал её, что если она проявит некоторую твёрдость и выступит с заявлением, противоположным нынешнему, то выражение её воли будет иметь огромный вес.
Всё, что я мог сказать по этому поводу, практически не оказало никакого влияния на Марию-Луизу».
Лишённый своего отца, матери, даже своей гувернантки, живущий в обществе чужих людей в огромном дворце Вены маленький король Рима утратил детскую резвость и жизнерадостность. Меневаль, перед тем как уехать из Вены, пришёл с ним попрощаться. Он спросил ребёнка в присутствии дворцовых тюремщиков, хочет ли тот что-нибудь передать своему отцу. Мальчик «печально и многозначительно» посмотрел на старика, а потом, «мягко высвободив свою ручонку из моих пальцев, потянул меня к оконному проёму, находящемуся несколько в стороне. Он не смел говорить о своём отце в присутствии тех, кому его доверили — ужасное положение». Меневаль пошёл за ним следом. Ребёнок притянул его к окну и прошептал, бросив виноватый взгляд на своих тюремщиков: «Скажи ему, что я продолжаю его очень любить».
Лишённый всего, он вскоре лишился даже своего официального титула, более того, подлинного имени. Но его нужно было как-то отличать от других молодых людей, и в Вене его стали звать герцог Райхштадтский. В те ужасные дни апреля 1814 года Наполеон писал, что «пусть лучше его сына задушат, чем он станет австрийским принцем», а он даже не был удостоен титула принца.
Император Франц привязался к мальчику, и, без сомнения, не его вина в том, что тот умер в возрасте двадцати одного года. Медицинское заключение — крепкое сердце и слабая грудь покойного, «ведущего очень энергичный образ жизни». Но тем, что он сделал для семьи Наполеона, император Франц заслужил себе место во всех галереях ужасов истории.
В 1816 году Марии-Луизе наконец было позволено (правда, без сына) вступить во владение своими герцогскими поместьями в Италии, уже не находящимися в опасной близости от места пребывания её мужа. Торжественно, приветствуемая всеми, она въехала в Парму вместе с генералом Нейпергом, своим Придворным. Жители встретили её в основном тепло, потому что она была женой императора. Надо сказать, что она — вернее, генерал, её полномочный представитель, — правила герцогством весьма успешно. Вот только никому не дозволялось заговаривать с ней о Франции или Наполеоне, и полиция заранее задерживала всех, кто мог это сделать. Но в 1818 году, когда Наполеон провёл уже три года на острове Святой Елены, она писала Меневалю своим убористым, аккуратным почерком — строки письма такие же ровные, как в учебнике:
«Чувствую я себя хорошо, и что самое важное — это то, что я в высшей степени счастлива и примирена с тем положением, в котором нахожусь».
Наполеон в своём завещании, написанном на острове Святой Елены, говорит:
«У меня всегда хватало здравого смысла, чтобы быть благодарным моей любимой жене, императрице Марии-Луизе, и, довольный ею, я сохраню по отношению к ней до самого последнего часа самые тёплые чувства. Я молю её о том, чтобы она получше следила за моим сыном, чтобы оградить его от тех опасностей, которыми наполнено его детство».
После смерти Наполеона она вышла замуж за генерала Нейперга. Она родила ему троих детей...
Мария Валевская, находившаяся при дворе Мюрата в Неаполе, от самого Наполеона получила известие о его отъезде с Эльбы. Она поспешила в Париж и застала там своего любовника вновь на троне. Он был облачен в великолепные королевские одежды. Мария Валевская умела улавливать шестым чувством тайные пути судьбы. Она много думала о том, что если бы он позвал её с собой тогда, в 1810 году, то вся его жизнь могла бы сложиться совсем иначе. В этом она была права.
Полковник Кемпбелл, отныне причисляемый к разряду замечательных людей, завершил свою миссию, как ни странно, отмеченный всеми возможными почестями. Человек, в ныне доступном всем дневнике которого, с виду достоверном, было столько искажённых фактов, человек, который очень часто был не прав и всегда безжалостен в своих оценках; человек, который первый чуял зло там, где ничего дурного не было, и закрывал глаза на всё хорошее в великом гении; чьи подозрения, соглядатайство и пустая трескотня подтолкнули и других к подобным действиям. В результате практически все страны заселили Эльбу своими шпионами, самые обычные слова и поступки истолковывались превратно и, достигая наконец Вены, вносили такую сумятицу в умы правителей, что когда ядовитый Талейран тихо прошипел «Святая Елена!», эти слова тотчас же стали достоянием гласности. 7 декабря они достигли Эльбы, и Наполеон впервые — да, впервые — начал размышлять над возможностью побега, хотя в тот момент он был вполне доволен тем, как ему удалось наладить оборону острова ради своей защиты. Но его меры самозащиты спровоцировали новый слух и новый наплыв шпионов, поэтому французы направили к острову эскадру фрегатов, оказавшуюся совсем ненужной, император Австрии ужесточил охрану своей дочери, и она — несчастное слабовольное создание — стала ещё больше всего бояться, а Наполеон, доведённый до бешенства и отчаяния, вырвался на свободу. Вполне возможно, вся цепь трагических обстоятельств, приведших к столь печальному финалу, покажется читателю весьма хрупкой, однако это не пустой вымысел. Каждое звено цепи содержит тот или иной фактор, смягчающий вину определённой исторической личности. Поэтому нельзя возложить на кого-нибудь одного ответственность за трагические события на Эльбе, приведшие к Ватерлоо, — это целая последовательность трагедий. Если бы в императоре Австрии было больше человечности и сострадания, если бы Людовик XVIII был умнее и честнее, если бы Мария-Луиза была более преданным и стойким человеком, то история могла бы сложиться иначе, и один из величайших людей мира умер бы спокойно и счастливо. Суд истории отпустил полковника Кемпбелла с честью, если не со славой; но видное место на скамье подсудимых всё равно за ним. В списке обвиняемых он стоит одним из первых. Наполеон — одним из последних. Может быть, всего лишь свидетелем обвинения. Обвинять надо не в том, что один человек из-за своего непомерного честолюбия не принял поражения. Надо говорить о том, что другие люди, не обладавшие подлинным величием души, не смогли одержать победу. Наполеон не «вырвался» с Эльбы — его вытолкнули оттуда.
18 июня 1815 года (опять в воскресенье) состоялась битва в Бельгии.
20 июня...
«— Да, графиня, — сказала служанка, — это правда. Под местечком, которое называется Ватерлоо.
— Но почему? Господи, почему? — вопросила Мария Валевская и заплакала».
Вместо эпилога
Наполеон умер на острове Святой Елены в 1821 году, в возрасте пятидесяти двух лет.
В 1816 году Мария Валевская вышла замуж за кузена Наполеона, генерала д’Орнано, бывшего полковника драгунов гвардии, который давно её любил. Она умерла в 1817 году после рождения сына.
Мария-Луиза умерла в 1847 году, в возрасте пятидесяти шести лет. Граф Нейперг умер в 1828 году, в возрасте пятидесяти семи лет, после долгой и мучительной схватки с «неизлечимым заболеванием». (Меневаль).
Мадам Мер дожила до того момента, как статую Наполеона водрузили вновь на колонну Великих армий. Она умерла в 1836-М, в возрасте восьмидесяти шести лет.
Полина помирилась со своим мужем, князем Боргезе, умерла она у него на руках во Флоренции в 1825 году, в возрасте сорока пяти лет.
Король Рима (герцог Райхштадтский) умер в Вене, в возрасте двадцати одного года.
Александр Валевский, тот маленький мальчик, который вместе с Марией приезжал на Эльбу, принёс много пользы Франции, находясь на дипломатической службе данной страны. Он занимал пост чрезвычайного посланника во Флоренции, Неаполе и Лондоне, был государственным министром, сенатором и президентом палаты. Несмотря на его высокий рост, он «был живой копией Наполеона».
Генерал Бертран (который не оставил своей привычки постоянно бормотать) вместе со своей женой последовал за Наполеоном на остров Святой Елены в компании с Маршаном, камердинером Наполеона, Али (Сант-Денизом) по прозвищу «мамелюк» и своим товарищем Новераззом.
Полковник Малле был убит при Ватерлоо.
Камбронн был найден среди убитых на поле боя Ватерлоо; мародёры сорвали с его тела одежду, однако он оказался жив. Его и Дрюо судили военным судом, однако они были оправданы, так как «они действовали как подданные суверена другой державы, а не выступали как мятежники по отношению к Людовику XVIII». Дрюо ушёл в отставку, но Камбронн вынужден был остаться в армии. Поэтому он принял присягу на верность королю.
В жизни Пона было много взлётов и падений, включая двухнедельное заключение в замке Иф, два назначения на пост префекта, а также преследования со стороны австрийской и французской полиции в качестве «подозреваемого». Он остался верен Наполеону, энергично протестовал против вынесенного ему приговора и безуспешно пытался добиться разрешения присоединиться к нему на острове Святой Елены. Это был тот человек, который (по Кемпбеллу) через месяц после появления императора «был приведён в такое возмущение действиями Наполеона», что решил уехать с Эльбы «сразу же». Этот «крепкий орешек» умер в бедности в 1858 году, в возрасте семидесяти девяти лет.
На Таурисе, своём боевом коне, император проехал весь путь от бухты Жуан до Парижа. В битве при Ватерлоо Наполеон восседал на нём. Перед отъездом на остров Святой Елены отдал его на попечение месье де Монтарана. До тех пор, пока Таурис был жив, месье де Монтаран выводил его каждое утро на Вандомскую площадь и прогуливал его вокруг колонны[49].
ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ НАПОЛЕОНА I
1769 год
15 августа — На острове Корсика, в Аяччио, в семье адвоката Карло Буонапарте и Летиции Рамолино родился второй сын, названный Наполеоне.
1779 год
Поступление на учёбу за казённый счёт в Военную академию в Бриенне.
1784-1785 годы
Учёба в Военной школе Парижа; далее — служба в гарнизонах Валенса и Оксонна в качестве младшего офицера артиллерии.
1791 год
Получение звания лейтенанта.
1793 год
Организация успешной осады восставшего против Революции Тулона и получение звания бригадного генерала.
1794 год
Февраль — Назначение командующим артиллерией Итальянской армией.
Август — арест после переворота 9 термидора за связь с Робеспьером и последующее (через 14 дней) освобождение; далее — почти годовой период опалы и крайней бедности.
1795 год
Август — зачисление в качестве генерала артиллерии в топографическое отделение Комитета общественного спасения.
4 октября (13 вандемьера) — активное участие в разгроме роялистского мятежа в Париже.
1796 год
23 февраля — назначение главнокомандующим Итальянской армией.
Март — женитьба на Жозефине Богарне.
1796—1797 годы — успешное проведение Итальянской кампании, закончившейся разгромом австрийских войск и захватом большой части территории Италии.
1798—1799 годы — проведение Египетской кампании и похода на Сирию.
1799 год
9 ноября (18 брюмера) — организация военного переворота, в результате которого Наполеон получает звание «консула» и входит в состав захватившего правление «консульского триумвирата», а затем назначается «первым консулом».
1800 год
14 июня — разгром австрийских войск при Маренго (Северная Италия).
1804 год
18 мая — провозглашение империи.
2 декабря — торжественное помазание на царство Римским Папой Пием VII.
1805 год
Октябрь — разгром австрийской армии при Ульме (Бавария).
2 декабря — уничтожение русско-австрийской армии при Аустерлице (120 км к северу от Вены).
1806 год
14 октября — разгром прусской армии при Йене.
1807 год
Февраль — победа над русской армией при Эйлау.
Июнь — победа при Фридланде (Восточная Пруссия).
8 июля — заключение Тильзитского мира с Россией.
1808 год
Завоевание Испании.
1809 год
Июль — разгром австрийских войск под Ваграмом (Австрия).
1810 год
Март — бракосочетание с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой.
1812 год
Июнь — начало войны с Россией.
7 сентября — Бородинское сражение, не принёсшее ни одной из сторон явной победы..
15 сентября — въезд Наполеона в Кремль.
19 октября — начало отступления Великой армии из Москвы по Старой Калужской дороге.
26—27 ноября — переправа через Березину.
6 декабря — Наполеон тайно покидает армию.
18 декабря — приезд в Париж.
1813 год
Январь—август — проведение успешной кампании против сюзных войск; победы при Люцене, Бауцене и Дрездене.
16—19 октября — поражение под Лейпцигом в «битве народов».
1814 год
Январь—март — победы над союзными войсками при Бриенне, Монмирайле, Шато-Тьери, Монтеро и др.
30 марта — поражение под Парижем и сдача города.
11 апреля — первое отречение Наполеона.
5 мая — прибытие на место ссылки, остров Эльбу.
1815 год
Февраль — бегство с Эльбы.
20 марта — вступление в Париж, начало «100 дней» правления.
18 июня — поражение в битве с войсками антинаполеоновской коалиции при Ватерлоо.
15 июля — сдача в плен англичанам в Рошфоре.
15 октября — прибытие на остров Святой Елены.
1821 год
5 мая — смерть на о. Святая Елена бывшего императора Франции Наполеона Бонапарта.
ОБ АВТОРАХ
ФРЕДЕРИК БРИТТЕН ОСТИН — один из старейших британских писателей-баталистов, автор полутора десятка романов, посвящённых различным эпизодам мировой истории, и ряда пьес.
АЛАН ПАТРИК ГЕРБЕРТ — известный британский писатель, автор более сорока книг в жанре беллетристики и более десяти музыкальных комедий. Был членом британского парламента.
Текст печатается по изданиям:
F. Britten Austin. The Road to Glory. Thorton Butterworth. London, 1930.
Allan Patrick Herbert. Why Waterloo?