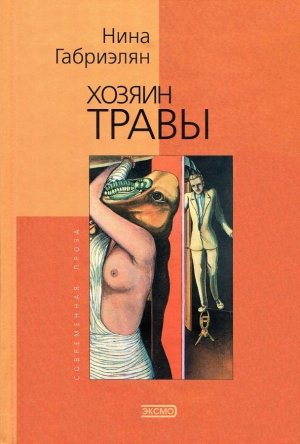
ХОЗЯИН ТРАВЫ
(Повесть)
А ведь я знал его совсем другим, кудрявым ярковолосым ребенком с упругими щеками — таким, какой он был там, в нашей большой коммунальной квартире из одиннадцати комнат у метро «Динамо». Господи, как хорошо я помню эту квартиру, этот длинный темный коридор, увешанный тазами, стиральными досками, щетинящийся остриями лыжных палок, холодно и таинственно поблескивающий спицами велосипедов. Как боязно, как сладко было красться по нему, натыкаясь на чьи-то калоши и ботинки, туда, в прихожую, с ее большим запыленным зеркалом во весь рост и колченогой этажеркой для хранения всяческих инструментов, не всегда понятного назначения и потому вызывающих к себе острый интерес. Осторожно, шаг за шагом, ближе, еще ближе — и вот уже таинственно посверкивают инструменты, смутно мерцает зеркало, и вдруг к тебе навстречу — он, в коротеньких штанишках из коричневого вельвета, в розовой ковбойке, с глазами, горящими от любопытства. И ты смотришь на него, а он на тебя, оттуда, из полутьмы, и ты забываешь про инструменты, потому что он уже влечет тебя гораздо больше, чем все другие тайны.
Мать не поощряла этой дружбы и всякий раз, заставая меня с ним, сердилась. «Ты бы пошел во двор, с другими детьми поиграл. Чего дома торчать?» — недовольно говорила она и начинала напяливать на меня шерстяные рейтузы, зимнее пальто и вязаную шапку. Я подчинялся ей, поскольку уже тогда понимал, что покорность — наиболее экономный способ сопротивления. С лопаткой и ведерочком я выходил во двор, в его ослепительную белизну, и она тотчас же распадалась на множество цветных фигур. Я знал, что это люди и одни из них называются «матери», а другие и есть те самые «дети», с которыми мне было велено играть. Наша квартира тоже обладала способностью создавать разноцветные фигуры, чаще всего она проделывала это в коридоре, но они исчезали так же быстро, как и возникали. Но эти... Они были такие плотные, их было много, и они подходили ко мне близко, они дотрагивались до меня, иногда даже пытались отнять лопатку... и хотя я знал, что стоит повернуться к ним спиной и направиться к подъезду, как все они исчезнут, тем не менее я бы предпочел, чтобы белизна никогда не превращалась в людей, а оставалась самой собой. Выполнив все то, что, по мнению матери, должны делать хорошие дети, — копание ямок, строительство снежных домиков, я обретал законное право вернуться домой и предаться собственным интересам. Это лучше всего удавалось мне в те дни, когда мать затевала большую стирку и ей было не до меня. Это были упоительные мгновения! Скорее, скорее, бегом по коридору — в прихожую, я знаю, он там, он ждет, ближе, ближе, еще ближе — и вот в полумраке вспыхивает его тонкое лицо и ярко смеющийся рот. О эти тайные свидания, подобные то ли нежному ожогу, то ли захватывающему дух полету! Мы одни в прихожей, и между нами начинается тонкая игра: заглянуть в глаза и тут же отвести взгляд, делая вид, что вовсе и не думал смотреть, мол, так, случайно, ненароком посмотрел, потом опять взглянуть и отвести, и снова, и опять этот беглый обмен взглядами — как бы легчайшие касания, короткие и неуловимые. Потом взгляды становятся все более медленными и продолжительными, их все труднее отвести в сторону, и наконец — кульминация: глаза встретились с глазами и уже не отрываются друг от друга, и я тихо погружаюсь в него, а он в меня — и в этом есть что-то мучительное и бесконечно сладостное. Лицо его начинает каменеть и одновременно как бы размягчаться, становясь подобным белому мягкому гипсу, уже застывающему, но еще не застывшему. Напряжение становится нестерпимым, и, слабо вскрикнув, я бросаюсь от него прочь — по коридору — в нашу комнату.
Сейчас, по прошествии стольких лет, уже имея за плечами более обширный опыт по части дружбы и любви, я должен признать, что никто и никогда потом не любил меня так нежно, так тонко, так бескорыстно, как он. Хотя, наверно, именно в этом бескорыстии и крылась ловушка. Но я тогда всего этого не понимал, да и не мог понимать, я еще не знал, что его можно и нужно бояться, меня влекла сама игра, и я наивно полагал, что первым в мире открыл подобное удовольствие.
Отец мой был майор, преподаватель военной академии. Он был большой, белотелый и почему-то напоминал мне белого медведя, которого мы как-то раз с матерью видели в зоопарке. Правда, тот медведь был грустным. Он апатично высовывал из грязного, дурно пахнущего водоема свою морду, укладывал ее на цементную сушу — и, пожалуй, я был единственным из всей толпы радостно вопящей ребятни и сюсюкающих родителей, кто при виде его испытывал не восторг, а какое-то сложное, мне самому тогда еще не вполне понятное чувство, от которого пощипывало в носу и набухал в горле воздушный ком. Я начинал шумно сопеть, дергать за подол мать, возбужденно выкрикивающую «Миш-Миш-Миш», и проситься домой. Мать сердилась, обвиняла меня в капризности, к ней подключались другие взрослые, делали большие глаза и, всплескивая руками, начинали убеждать меня в том, что дети должны любить животных. Дело кончалось моим отчаянным ревом и разгневанным волочением меня за руку через весь зоопарк к выходу.
Правда, сходство отца с тем медведем было скорее в плане, так сказать, физическом, нежели психологическом. Когда летом на даче он, тяжело ступая, расхаживал по берегу речки в одних черных сатиновых трусах, являя миру свое большое белое тело с бесцветными волосами на груди, довольно потягиваясь и поигрывая мускулами, облитыми тонким слоем подкожного жира, он напоминал большого, сильного, неуклюжего зверя. Сходство именно с белым медведем усугублялось отцовским пристрастием к водным процедурам: обливаниям, ныряниям, заплывам. Но было одно существенное отличие от того белого медведя — я никогда не видел отца грустным. Довольным — да. Рассерженным — да. Но грусть — это было совершенно иноприродное ему свойство. Он не только сам никогда не грустил — по крайней мере, я никогда не видел его в таком состоянии, — но и впадал в раздражение при виде грустных людей. По всей видимости, грусть воспринималась им как некий тайный вызов здравомыслию, а он очень гордился своим здравомыслием. И поскольку делать замечания малознакомым людям было не очень-то приличным (хотя подозреваю, подобные желания нередко искушали его), весь его воспитательный пыл обрушивался на меня. «Ну, чего накуксился? — восклицал он, видя меня впавшим, как он выражался, в «мерехлюндию», и увесисто хлопал меня по плечу. — Ты же мужик. Что за бабьи настроения! А ну-ка, давай зарядочку поделаем для поднятия морального духа. Сесть — встать! Сесть — встать! Сесть — встать!» Я изображал на лице удовольствие и приседал в такт его командам, всячески стараясь показать ему, что мой моральный дух уже поднят на должную высоту, не без оснований опасаясь, что в противном случае он возжелает заниматься со мной маршировкой. Сейчас я думаю, что, если бы отец был грустным медведем, хотя бы иногда, возможно, я полюбил бы его. Нет, я не испытывал к нему враждебности. И он, и мать были для меня некоей данностью, не всегда и не во всем удобной, но в общем-то сносной, и я даже чувствовал к ним определенную привязанность. Наверно, они любили меня. Но в материнской любви ко мне было столько приземленности, ее любовь выражалась преимущественно в моем накормлении и обстирывании, а в отцовской — столько здравомыслия, что любовь эта напоминала мне геркулесовую кашу, здоровую и питательную, но не идущую ни в какое сравнение, например, с мороженым — эскимо. В ней не хватало сладости.
Изредка отец даже играл со мной. В солдатиков. «Ро-о-о-та, стройсь!» — гаркал он и вываливал из картонной коробки на стол зеленых оловянных солдатиков. Рота строилась и шла в наступление. «С левого фланга заходи. А-акру-жай!» — воспламенялся отец. «Трах-тах-тах!» — отзывался я. «Тиу-тиу-тиу!» — входил в раж отец. «Трах-тибидух», — соглашался я. «Эй, вояки, ужинать будете?» — вносила свою лепту в семейную идиллию мать. «Молчи, женщина, — сердился отец, — в бою не ужинают». Но мать ничего не понимала в военном деле и простодушно предлагала: «А вы поешьте, а потом довоюете». Этот сугубо гражданский подход так возмущал отца, что он разворачивал роту в сторону матери и страшным голосом выкрикивал: «По врагам Советской власти пли!» — «Пли!» — радостно солидаризировался я с ним, понимая, что имею редкую возможность отомстить матери за то, что она мешала мне в других играх. «А ну вас к лешему!» Мать беззлобно махала рукой и принималась за штопку носок.
Правда, наряду с положительным моментом, а именно возможностью безнаказанного обстрела матери, в военных игрищах, затеваемых отцом, был и момент неприятный. Мне вовсе не всегда хотелось орать и стрелять. Я был скорее созерцательным ребенком и мог, например, часами завороженно разглядывать цветочный узор на обоях — из мелких васильков и розочек, дивясь тайне их взаимопереплетения, столь тесного, что трудно было понять, где кончаются стебелек и листочки одного цветка и начинаются стебелек и листочки другого. Но поскольку игра в солдатики с ее неизменными «трах-тах-тах» и «пли», по всей видимости, мыслилась отцом как важный элемент воспитания настоящего мужчины, а мою склонность к созерцательности он рассматривал как «мерехлюндию», то бывали случаи, когда я был не столько приглашаем к игре, сколько принуждаем. Робкое «мне что-то не хочется» вызывало такой поток отцовского красноречия, — при этом мелькали выражения типа «девчонка», «размазня» и даже «если завтра война, если враг нападет», — что я предпочитал скорее претерпеть игру, нежели оказаться объектом отцовского презрения. Как я уже сказал, мой способ сопротивления заключался в покорности. Но это была покорность особого рода, позволявшая мне оставаться незримым и недосягаемым, всучив миру, и в первую очередь — отцу с матерью, вместо себя некий муляж, сотворенный с учетом их требований и ожиданий. Думаю, что если бы тогда я решился на открытое сопротивление, то был бы быстро обнаружен, извлечен на свет и сокрушен. А так я имел возможность отсидеться как бы в незримой нише, недоступной их воображению. И все же я нуждался в общении. И единственный, кто не внушал мне чувства опасности, был он, кудрявый и ярковолосый товарищ моих одиноких игр. Именно его привязанность ко мне, покорность любым моим затеям — от грубо дурацких до нежно утонченных — с неодолимой силой влекли меня к нему. Я улыбался — и он улыбался в ответ, я хмурился — и лицо его становилось хмурым, я агрессивно скалил зубы и гримасничал — и он покорно копировал мою мимику. В его способности к бесконечным преображениям было что-то завораживающее. Весной 1966 года мы переехали в дом на Университетском проспекте, где нашей семье дали две комнаты в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Третью комнату занимал пожилой одинокий железнодорожник, проводник поезда дальнего следования. Детей в нашем подъезде было много, и постепенно я наловчился играть с ними. И только с Шурочкой играть я не хотел. Впрочем, с ней не хотел играть никто.
Странно, но чаще всего я видел ее смеющейся. Как сейчас вижу это черное кресло, обитое то ли кожей, то ли дерматином, на высоких колесах со сверкающими спицами. Оно стоит неподалеку от подъезда на залитом желтым солнцем асфальте, из него, как улитка из своего домика-гробика, выглядывает шестилетнее существо с большим отечным лицом, а вокруг него скачет через прыгалки, колотит красным мячом об стенку и с радостными воплями гоняется друг за другом все младшее население нашего и соседнего подъездов. Существо тонко смеется, всплескивает руками и радуется — солнцу, мячу, прыгалкам, веселой беготне вокруг себя. Никакие уговоры взрослых не могли заставить нас поиграть с ней. Но когда ее мать Альбина Сергеевна, стремясь хоть как-то скрасить одиночество своей девочки, предлагала нам отправиться с ними на прогулку к Ленинским горам, мы охотно соглашались и даже помогали ей катить коляску-гробик. Не из жалости к Шурочке, но из охоты к перемене мест. И вот однажды я и еще двое мальчишек чуть постарше катили Шурочку по Университетскому проспекту. Был майский день, какой-то особенно теплый, на Шурочке было нарядное красное шерстяное платье с белым воротничком, и поначалу мы катили ее очень осторожно, по очереди забегая вперед и спрашивая: «Удобно тебе, Шурочка?» — «Удобно», — отвечала девочка и радостно улыбалась нам. Потом нам пришло в голову прокатить ее побыстрее, и мы ускорили шаг. Шурочка начала хохотать, всплескивать руками и выкрикивать: «Еще! Еще! Быстрее!» Никогда я не видел ее такой счастливой. Альбина Сергеевна еле поспевала за нами с лицом, еще более счастливым, чем у Шурочки, и радостно выкрикивала: «Осторожней, мальчики, осторожней, не уроните ее». Но куда там! Мы уже помчались во всю прыть. Солнце било нам в глаза, ноги сами несли нас, как по воздуху, и мы не заметили, как со всего размаху влетели с тротуара на мостовую. Коляска вдруг накренилась и, вырвавшись из наших рук, с грохотом упала набок. Завизжали тормоза, зеленый автомобиль остановился в полуметре от коляски. Выскочил шофер, подбежала с помучневшим лицом Альбина Сергеевна... Шурочка в странной, как бы все еще сидячей позе лежала на боку и молчала. С помощью шофера и прохожих ее подняли и усадили в коляску. Странно, но нас никто не ругал. Мы поплелись следом за Альбиной Сергеевной в обратный путь, оробевшие и притихшие.
Через неделю Шурочка умерла.
Стоя рядом с матерью около обеденного стола, выдвинутого на середину комнаты и на котором стоял гроб с Шурочкой, я испытал такой животный ужас, от которого холодели руки и в голове распухала пустота. Это не мешало мне с болезненным любопытством рассматривать сидящих у гроба Шурочкина отца дядю Костю и Альбину Сергеевну. Время от времени один из них вставал, молча гладил Шурочкины руки и так же молча садился обратно. Через месяц они уехали из нашего дома.
И еще одно чувство примешивалось к ужасу — чувство полета. Когда мы с Шурочкиной коляской мчались по весеннему проспекту, я вдруг утратил ощущение своего тела: я как бы вырвался из него вперед и какое-то время парил над коляской с хохочущей девочкой. И когда мгновение спустя Шурочка уже лежала на залитой солнцем мостовой рядом с перевернувшейся коляской, подобно улитке, выковырянной из своего домика, я испытал странное чувство восторга, как бы готовясь взлететь еще выше.
Падение в себя было ужасным. И все же вспоминая о пережитом кошмаре, я тотчас же вспоминал это удивительное солнечное чувство полета.
Все это было достаточно сложно, но поделиться своими чувствами мне было не с кем. Ни отец, ни мать не поняли бы меня. И тогда я вспомнил о нем. После переезда на новую квартиру я о нем не то чтобы забыл, но на новом месте встречи наши стали короткими и неинтересными. Возможно, я просто к нему привык. Новые впечатления: другая квартира, расширение жизненного пространства — две большие комнаты вместо клетушки в коммуналке, нарядные обои, золотисто-кремовые — в большой комнате, служившей столовой, и вкрадчиво-розовые — в родительской спальне, где стояли бок о бок две широкие дубовые кровати, белые тюлевые занавески на окнах и, главное, маленький телевизор «Рубин» с укрепленным перед ним вторым выпуклым экраном, заполненным водой, — все это было неожиданно, празднично, ново и направляло мои мысли не вовнутрь меня, как прежде, а вовне — в этот нарядный мир, расширенный до размеров двора и даже дальше — до Ленинских гор, где высилось гигантское здание Университета, а перед ним, на усыпанном красным песком сквере, белели каменные кувшинки фонтана, исторгающие из себя кудрявые радужные струйки, сверкали свежевыкрашенные желтовато-белые лавочки, а по бокам из яркой зелени деревьев таинственно выступали тяжелые, сумрачные бюсты мыслителей. Это был солнечный мир, дразнящий любопытство, манящий к себе многообразием предметов и красок. Внешний мир, раньше изнурявший меня своей монотонной нелюбовью, вынуждавший прятаться от него в незримой нише, где единственной отрадой были тайные свидания с ярковолосым мальчиком, любящим и любимым, этот внешний мир вдруг обернулся ко мне совсем другим своим обличьем, праздничным, сверкающим, и он выманил меня из моего укрытия, и я уже был совсем готов забыть о своем маленьком друге и о том, какие отношения связывали нас с ним. Выражаясь языком взрослых, моим нынешним языком сорокатрехлетнего человека, наши ежедневные встречи с ним стали сугубо формальными и ни к чему не обязывающими. Сейчас я думаю, что это ослабление моего былого влечения к нему было не более чем хорошо обдуманной сценической паузой, своеобразной передышкой, данной мне внешним миром для того, чтобы я как можно лучше справился с ролью, отведенной мне в последующих актах пьесы, ни на миллиметр не уклонившись от дьявольского сценария. Ах, если бы можно было навсегда оставить этого малыша там, в нашей старой коммуналке у «Динамо»! Но, увы, он был здесь, всегда в потенциальной близости ко мне, и ждал, покорно ждал, когда же я соизволю уделить ему внимание. Он умел ждать!
И он дождался. Вид Шурочки, скорчившейся на солнечной мостовой рядом с опустевшей коляской, вид этой бедной улитки, выдернутой из своего домика наружу, выволоченной из своей ниши, откуда она радовалась жизни, потряс и отрезвил меня. Оказалось, что весь этот блеск внешнего мира, все эти радужные фонтанчики, усыпанные красным песком скверы, синие троллейбусы, зеленые автомобили, похожие на резвых жучков, весь этот праздничный шум расширяющегося пространства — все, все это таило в себе угрозу, было чревато смертью. Сквозь сверкающую оболочку я вдруг увидел острый крючок, ищущий подцепить меня, выдернуть наружу, уложить в дубовый ящик на обеденном столе. Я уже не понимал, как мог так глупо, так безрассудно довериться этому коварно разноцветному миру, поддаться обаянию его благосклонности ко мне, позволить усыпить мою бдительность и выманить из тайной ниши наружу, отвратив мое внимание от ласкового товарища моих одиноких игр! Какая глупость, какая неосмотрительность, какая самонадеянность слабой улитки!
И я стал искать возможность остаться с ним в квартире наедине.
Это было непросто, потому что днем мать обычно бывала дома — она не работала, отцовский заработок позволял это, — а если и выходила в магазин, то, как правило, выпроваживала меня во двор. А вечером приходил отец, долго и плотно ужинал в столовой — кухню он не признавал, — а потом все трое мы усаживались на большой диван для общесемейного ритуального созерцания телевизора. Иногда к нам еще присоединялся сосед-железнодорожник, и тогда в комнате становилось шумно, поскольку молча внимать происходящему на экране ни отец, ни железнодорожник были не способны: они обменивались комментариями, то выражая бурное негодование при виде разгона демонстрантов в Америке, то гордо приосаниваясь, когда показывали запуск новой советской электростанции. Так что никакой возможности уединиться у меня не было. Но я был терпелив...
...В тот день мать опять затеяла большую стирку. Отец был на работе, сосед — в очередном рейсе. Я еле дождался, когда же она наконец все достирает, докипятит и отправится во двор развешивать белье. Как назло, у нее в тот день побаливала рука, и она стирала медленно, стараясь не делать слишком энергичных движений, чтобы не натрудить руку. Нетерпение мое возрастало, я все время крутился около нее и даже, что уже было совсем непохоже на меня, пытался предложить свою помощь. Но она отмахивалась, говоря, что стирка не мужское дело. В какой-то момент даже возник риск, что меня отправят гулять. После очередного «мам, давай я тебе помогу» она вдруг разогнулась, вынула руку из таза, стряхнула с нее мыльную пену и, пригладив упавшую ей на глаза прядь, повернулась ко мне. Не знаю, что выражало мое лицо, но она вдруг озабоченно вгляделась в меня и сказала: «Боже, чего это ты такой бледный? Шел бы ты во двор». — «У меня голова болит, я лучше полежу», — не своим голосом ответил я и поспешно ретировался в столовую. Там я улегся на диван, подсунул себе под голову маленькую подушку с вышитым на ней огненно-красным петухом и сделал мученическое лицо на случай, если мать вдруг вздумала бы заглянуть в комнату. Впрочем, я мог бы и не делать такого лица, поскольку от нетерпения у меня и впрямь разболелась голова. А мать все гремела в ванной тазами, шумно пускала воду из крана и тяжело шлепала белье о стиральную доску. В голове у меня тоже начало что-то постукивать, как будто огненный петух просунул из подушки свой клюв и ритмично колотил меня по виску.
Наконец входная дверь хлопнула, я вскочил с дивана и бросился к окну. Через пару минут во дворе появилась мать. Сгибаясь под тяжестью двух ведер, доверху наполненных скрученным бельем, с ожерельем из деревянных прищепок на шее, она двинулась в сторону детской площадки, чуть поодаль от которой были натянуты бельевые веревки, на коих уже красовались чьи-то исполинские черные трусы, розовая комбинация и пара голубых женских лифчиков. Я был свободен!
...В спальне стоял душный розовый полусумрак. Занавески на окне были задернуты, но не очень плотно, и сквозь щель между ними просачивались жидкие лучи, дрожали на паркете и воспламеняли алые китайские покрывала на кроватях, недавно купленных отцом в ознаменование присвоения ему звания подполковника. Большое прямоугольное зеркало, укрепленное над туалетным столиком, отражало распластавшуюся на нем в полушпагате фарфоровую балерину Уланову, томно грезящую о чем-то с закрытыми глазами, и выстроившихся гуськом, по росту — от самого большого до самого маленького — семерых мраморных слоников.
Я чуть помедлил на пороге, затем шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. И тотчас же он шагнул мне навстречу.
Он был бледен, как гипсовая статуэтка, и только два розовых, нездоровых пятнышка на щеках и белое подушечное перо, запутавшееся в ярко-русых кудрях, изобличали его принадлежность к миру живых. Я молча разглядывал его. Господи, до чего же он исхудал! Он смотрел на меня затравленным взглядом, но сквозь эту затравленность пробивался некий вызов, брезгливость и какая-то тупая ирония. Для меня, научившегося читать это лицо гораздо раньше, нежели я научился при помощи отца читать «Азбуку», это новое выражение было слишком сложным. Как будто мне показали книжку на иностранном языке, где многие буквы хотя и похожи на русские, но означают совсем другое. Я почувствовал неприязнь к нему. Он вдруг сделался мне гадок и непонятен. Я перевел взгляд на его руки. Они вели себя странно: то елозили друг по другу где-то на уровне живота, то замирали и снова затевали свою неприятную возню. Мне захотелось уйти. И вдруг я перехватил его взгляд. В нем не было уже ни иронии, ни брезгливости, но одна лишь жалкая растерянность. Губы его дрогнули, искривились — и, звучно всхлипнув, я бросился к нему, опрокидывая мраморных слоников.
Я целовал его холодные, стеклянные губы, пытался гладить вздрагивающие плечи, но руки мои натыкались на твердую серебряную поверхность, разделяющую нас, непроницаемую для моих ласк. Сквозь слезы я видел за его спиной комнату, почти такую же, как наша спальня, и все-таки чуточку иную: кусок алой кровати, кусок белой двери, опрокинутые слоники... — так близко, так рядом, так недосягаемо!
Я отступил назад. Потом снова приблизился и снова отступил, заставляя его проделать то же самое, и снова, и опять — и вдруг за спиной мне почудилось некое движение, как будто его комната начала слегка покачиваться и как бы пульсировать. Не переставая двигаться, я напряг все свое внимание и вскоре заметил, что зазеркальная комната то расширяется, когда я приближаюсь к ней, то сужается, когда я отступаю. Я замер. И комната тотчас же замерла. Но я уже знал, что неподвижность ее обманчива, и начал раскачиваться — взад-вперед, взад-вперед, и он тоже раскачивался вместе со своей комнатой, как бы пытаясь прорваться ко мне сквозь твердое серебристое мерцание, разделявшее нас. И чем быстрее мы раскачивались, тем сильнее пульсировала его комната, сообщавшая свою дрожь моей комнате, тоже утратившей свою неподвижность: качались алые кровати, качалась белая дверь, которая одновременно была и позади меня за моей спиной, и впереди — за его спиной. Качались розовые стены, предметы утрачивали свои очертания, мерцали, пульсировали — розовое, алое, белое перетекало друг в друга, расширялось, сужалось... Внутри меня нарастала дрожь, как будто нечто, заточенное во мне, пыталось вырваться наружу, я раскачивался все быстрее — и вдруг в голове у меня что-то щелкнуло, я вылетел из самого себя, беспрепятственно прошел сквозь зеркало и какую-то долю секунды плавал там, в розовом мерцании над теми алыми кроватями, и уже приближался к той белой двери, намереваясь пройти и сквозь нее, как вдруг она начала таять, оплывать вниз какими-то мягкими розовыми треугольниками... — и вот я уже лежал на полу в моей комнате, около туалетного столика, все тело мое ныло, будто я только что упал с огромной высоты и разбился...
Все это произошло так быстро, гораздо быстрее, чем можно пересказать, и все же у меня было ощущение, что я пробыл там долго, очень долго. И еще одна странность — я никак не мог вспомнить, видел ли я там его? Вспоминалось только алое, розовое, белое...
Я сел на полу и обвел глазами комнату: она была неподвижна, предметы ее были четко очерчены, замкнуты в самих себе, непроницаемы друг для друга. Но я уже знал, что они могут быть иными — подвижными, изменчивыми, взаимоперетекаемыми.
Вернувшись, мать долго ругала меня. Слава богу, ей даже не пришло в голову, чем я тут без нее занимался. Она решила, что я просто играл со слониками. Наконец, утомившись от перечня всех моих вредоносных качеств: «не ребенок, а наказание», «другие дети как дети, а ты...» и так далее, мать с оханьем расставила по местам слоников, сокрушенных силой моей страсти, стерла с зеркала следы любви и отправилась на кухню готовить обед.
Ах, если бы было можно навсегда оставить этого ласкового малыша там, в нашей старой коммуналке у «Динамо»! Но он был здесь, всегда в потенциальной близости ко мне, и ждал. Он умел ждать!
В тот день в нашем издательстве только и было разговоров что о выставке на Малой Грузинской. Мнения разделились. Одни говорили, что это надругательство над искусством, другие высказывали робкое предположение, что раз такое позволили художникам, то, может, и нам разрешат издать сборничек французских поэтов-авангардистов. Заинтригованный, я отправился на выставку. За мной увязалась толстая редакторша из отдела прозы.
Только мы вошли в первый зал, как на нас обрушился мощный цветовой поток: белые церкви струились в антрацитово-черное небо, багровые гранаты исполинских размеров лопались от переполняющего их жара, женщины с лиловыми волосами, хохоча, парили над белыми домиками, розовые кошки с маленькими крылышками и когтистыми лапами раскачивались на ветвях синих деревьев. И этот поток захватил меня и понес. Дело портила только толстуха редакторша, которая оказалась абсолютно неспособной смотреть молча. Она беспрестанно дергала меня за рукав и громко шептала мне на ухо: «Нет, вы посмотрите. Вы только посмотрите, что делают! Ну женщины летающие, это я еще понимаю, но чтобы кошки! И кто это только позволил?»
Мы ходили почти уже полчаса, когда она вдруг толкнула меня в бок и не то чтобы выкрикнула, но каким-то странным голосом тонко выпискнула:
— Боже, какая гадость! Вон, на той стене.
Я обернулся и замер. Со стены на меня смотрели странные существа: то ли человекообразные насекомые, то ли насекомообразные люди.
— Ну и пакость! — Толстуха брезгливо передернула плечами. — Может, уйдем?
— Может быть, — механически ответил я и направился к рисункам.
— Желаете приобрести? — Румяный мужчина с нежной розовой пролысиной в волосах неожиданно материализовался рядом со мной.
— Это ваши? — удивился я, силясь связать в уме его розовощекость и улыбчивость с тем мягкотелым ужасом, который копошился на рисунках.
— Нет, что вы! Я организатор, — обворожительно сверкнул зубами розовощекий. — Какой предпочитаете, «Психею» или «Цивилизацию»? Поддержите молодую художницу.
Я переводил взгляд с «Цивилизации», где была изображена консервная банка, так тесно набитая человекокузнечиками, что у одних из ушей прорастали ноги, а у других из подмышек торчали глаза, на «Психею», где из треснувшего кокона пыталось выбраться наружу какое-то месиво из неразвернувшихся крылышек, слабых лапок и реснитчатых глаз.
— Неужели вы хотите их купить? — Толстуха редакторша приблизилась к нам и изо всех сил таращила на меня глаза. — Такое ведь ночью увидишь, со страху помрешь.
— Ну знаете ли, — возмутился розовощекий. — Вы хотите, чтобы искусство ласкало вас. По принципу «сделай мне красиво».
— А почему бы не сделать мне красиво? — упорствовала толстуха. — Искусство должно облагораживать.
— Ничего оно вам не должно. Может быть, это вы должны ему. Если внутренняя суть вещей, которая открывается художнику, вам не нравится, это еще не значит, что она не существует. Может быть, это вы не существуете.
— Простите. — Я осторожно тронул за рукав разбушевавшегося организатора. — А сколько они стоят?
— О, всего ничего. Пятьдесят рублей штука.
Я чуть было не охнул, но сдержался. Это была почти треть моей зарплаты.
— Что выбираете? «Психею» или...
— «Психею». — Да-да, я так и сказал: «Психею». Назло толстухе.
— О, у вас тонкий вкус. Давайте присядем. Вот сюда, на банкетку. Давно коллекционируете картины?
— Да нет. Первый раз покупаю. Честно говоря, для меня немножко дорого.
— Нет-нет, поверьте моему опыту. Через несколько лет этим картинам цены не будет. Очень перспективная художница. А вот и она.
Тощее низкорослое существо с рыжей косичкой, облаченное в серую заношенную кофту и длинную ситцевую юбку в мелкий красный цветочек, стояло перед нами и теребило себя за воротник.
— Это Полина, — сказал организатор, — а это...
— Павел Сергеевич, — отрекомендовался я. — Поэт-переводчик.
— Павел Сергеевич купил вашу «Психею».
— Вам понравилось? Правда понравилось? — Существо заулыбалось и даже несколько похорошело. — А то некоторые говорят, — оно уже окончательно превратилось в девочку и недоуменно разводило руками, — говорят, что у меня неадекватная психика.
— Неадекватная чему? — снова закипел розовощекий. — Их убогому воображению? Да они же все заблокированы! Зомби! Вы думаете, для того, чтобы уничтожить в человеке личность, ему обязательно надо вколоть что-нибудь, извините за непарламентское выражение, в задницу? Препараты специальные? Да ничего не нужно. Нас и так с детства зомбируют. Туда не ходи! Сюда не садись! Все дети как дети, а ты! Чего на дерево полезла, ты же девочка! Чего ревешь, ты же мужик, а не баба! А это что такое? — Он сделал идиотское лицо. — Что ты здесь нарисовал? Дядю Васю? А почему у него грабли вместо рук? Что? Я сама говорила, что у него руки загребущие? Так это же фигурально! Смотри не ляпни при нем. Не ребенок, а наказанье!
Я хохотал, Полина тоненько подхихикивала, чешуйчатокрылая и реснитчатоглазая Психея, цепляясь ломкими пальчиками за края трещинки, пыталась выпростать наружу свое бесформенное тельце.
Не знаю, чем она зацепила меня? Ведь не внешностью же. Наверно, все дело было в снах. Да, точно — в снах. Днем я был преуспевающий поэт-переводчик, редактор престижного издательства. Но по ночам... По ночам мир оборачивался ко мне совсем другой стороной. Он вдруг обнаруживал в себе текучесть, зыбкость, способность к необычным превращениям. Один из таких фрагментов моей ночной жизни повторялся особенно часто. Будто я в нашей квартире на Университетском, и отец в трусах и майке сидит за обеденным столом, и в руке у него — бритва. А рядом с ним в розовом халате стоит наша соседка с седьмого этажа тетя Клава. «Что, сынок, соскучился по нас? — ласково спрашивает отец и взмахивает бритвой. — Иди к нам». — «Иди, — повторяет тетя Клава, и в руке у нее тоже появляется бритва. — Ты что, не узнал меня? Я твоя мама». И я вскрикиваю и бегу от них по коридору. Там, посреди двора, залитого солнцем, стоит пустое черное кресло-каталка на высоких колесах, а сзади него улыбается тетя Клава: «Ну что ты, глупыш? Иди ко мне, спатки пора». И я вижу, что кресло все усеяно мелкими белыми улитками...
И то ли в рисунках этой девочки было нечто, наводящее на мысль о том, что и ей знакома ночная сторона жизни, то ли... Не знаю.
Когда раздался телефонный звонок и в трубке еле слышно, как будто звонили по крайней мере из созвездия альфы Центавра, прошелестело «здравствуйте», я почему-то разволновался. «Полина! — закричал я. — Полина, говорите в трубку, я вас почти не слышу». — «Я только хотела спросить, — прошептали в трубке, — вы действительно хотите, чтобы я пришла к вам? Вы мне Верлена обещали». Я решительно не помнил ни о каком Верлене, но... «Действительно, действительно! Я буду вам очень рад! Записывайте адрес». — «Я записываю», — донеслось из трубки — тихо-тихо, еле различимо.
Когда я открыл ей дверь, она стояла, склонив голову набок, и то ли радостно, то ли испуганно смотрела на меня. Одета она была все в ту же красную юбку и серую кофту.
— Как вы хотите, сперва кофе попьем, а потом, чуть попозже, пообедаем? Или сразу обед?
— Не знаю... Как в вашем доме принято...
— Да никак особенно не принято. Вы во сколько завтракали?
— Я утром пила молоко.
— Так вы голодная? Тогда быстренько накрывать на стол. Вон там, в серванте, — тарелки и чашки.
Вернувшись из кухни с банкой соленых огурцов, я увидел, что девочка листает томик Пушкина.
— Вы любите Пушкина? — спросил я.
— Нет, что вы! Его значение сильно преувеличено.
— Вот как? — улыбнулся я.
— Он ведь не создал ничего оригинального. Все это перепевы из европейской поэзии, — наставительным тоном пояснила девочка. — Ой, может быть, я вас обидела?
— Да нет... — Ее самоуверенность позабавила меня. — Вот колбасу режьте.
— Спасибо, я не ем мяса.
— Вы вегетарианка?
— Нет, просто не хочу привыкать к той пище, которая мне не по карману. Ведь потом будет хотеться. — Она застенчиво улыбнулась.
— Скажите, — осторожно спросил я, — а кто ваши родители?
— Мама учительница, а папы у нас нет. Я незаконнорожденная. — Она тревожно заглянула мне в глаза. — Это вас не смущает?
— Что вы! Что вы! Так вы с мамой живете?
— Нет, мама у меня в Горьком. Я здесь одна. Я окончила Училище памяти 1905 года.
— А где же вы живете?
— Когда у кого. Несколько дней жила у Аркадия Ефимовича, ну, который нас с вами на выставке познакомил. Только вы ничего не подумайте, у него жена есть. Теперь у одной знакомой живу. Она в Туркмению поехала на этюды. Через месяц вернется.
— Еще раз извините, что расспрашиваю, но...
— Ничего, ничего, пожалуйста, я привыкла.
— Гм, да я ничего особенного, я только хотел спросить, сколько же вам лет?
— Двадцать три.
— Двадцать три? Я думал, вам не больше семнадцати.
— Просто я хорошо сохранилась.
Почудилось ли мне, или и впрямь в глазах у нее сверкнул издевательский огонек? Нет, наверно, показалось, потому что она уже смотрела не на меня, а на мелкий рисунок тарелки.
— Ох, что же я! Кушайте. Огурчик положить?
— Спасибо, — прошептала она.
Ночью я увидел мать. Такой, какой она была в моем детстве. Она медленно распрямилась над тазом, стряхнула с рук мыльную пену и сказала: «Я же тебе запретила лазать на чердак». И я тотчас же оказался на чердаке и увидел, как зеленоватый луч ударил в окошко и превратился в рыжую девочку с огненным помидором в руке. «Не шуми», — строго сказала девочка и откусила помидор. На ней было короткое байковое платье, и из-под него вылезали розовые штанишки. «Не шуми», — повторила она. «Это Шурочка», — сказала мать, она уже почему-то тоже была на чердаке. «Какая же это Шурочка? — удивился я. — Она же умерла». В ответ мать молча протянула мне круглое зеркальце. «Это не Шурочка!» — закричал я и ударил мать по руке. Зеркальце выскользнуло и, ударившись об пол, разлетелось сверкающими осколками.
Здание метро мягко и округло розовело под сухими лучами бабьего лета, время от времени исторгая из себя разноцветные стайки пассажиров, пятипалый желтый лист отлепился от ветки клена, медленно покружил в воздухе и, со слабым шорохом опустившись на тротуар, начал красться к моим ногам. Затем второй, третий... А Полины все не было. Листок подкрался ко мне и стал тихо карабкаться на ботинок. Я отдернул ногу и переместился в сторону от ползущих на меня листьев. И тогда я увидел дом. Двухэтажный, из красного кирпича. Из подворотни дома выбежала Полина и с перепуганным лицом помчалась через дорогу к метро.
— Полина, Полина, я здесь! — закричал я и замахал руками. — Что случилось?
Она чудом увернулась от выскочившей из-за угла машины и впрыгнула на тротуар.
— Да что с вами?
— Кузнечик, — прошептала она.
— Какой кузнечик? Ничего не понимаю.
— Там большой кузнечик. Я не рассчитала и приехала раньше. Решила где-нибудь во дворе посидеть. На скамеечке. А он прыгнул на меня.
Я хотел рассмеяться, но лицо девочки выражало такой ужас, что я сдержался.
— Успокойтесь, давайте сперва зайдем в кафетерий, а в музей тогда уж попозже.
Я твердо взял ее за руку и повлек в конец сквера к стекляшке кафетерия. Рука была маленькая, холодная и влажная.
В кафетерии было грязно и малолюдно. Я выбрал относительно чистый столик, усадил за него Полину и направился к стойке. Вернувшись с кофе и булочками, я обнаружил, что она, скорчившись, сидит на стуле, поджимая под себя правую ногу, и сосредоточенно постукивает себя по зубам костяшками левой руки.
— Кушать подано! — Я склонился в шутливом поклоне.
— Ай! — Девочка отдернула руку ото рта, лязгнула зубами и вскинула на меня глаза. — Это вы?
— Нет, это Серый Волк, давайте кофейку попьем. Смотрите, какие булочки. Еще теплые.
— Я, кажется, поняла. — Девочка аккуратно отщипнула кусок булочки. — Это была самка. А кофе сладкий?
— Да, с сахаром.
— Я вообще-то стараюсь воздерживаться от сладкого. Ведь я такая чувственная. Мне надо воздерживаться. Да, это точно была самка. Я ее узнала, это Saga pedo. У них не бывает самцов. Только самки. Они размножаются партеногенетическим путем.
— Парте... как?
— Ну, партеногенез, бесполое размножение. Одни самки. Амазонки своего рода. Но почему она на меня набросилась? Они никогда на людей не нападают. И вообще они тут не водятся.
— Да почему вы думаете, что она на вас напала? Случайно прыгнула...
— Нет-нет. Случайность исключена. Вы знаете, они такие интересные, эти Saga pedo. Правда, хищницы, но ведь бесполое зачатие! Вот если бы и у людей так было!
Я чуть не захлебнулся кофе.
— Я что-то не так сказала? — обеспокоилась Полина. — Но ведь это же элементарно. Правда, я как-то раз пыталась объяснить Аркадию Ефимовичу влияние насекомых на наши философские представления, а он обиделся. Сказал, что я оскорбляю его чувства. Странно, взрослый человек... и в общем-то тонкий... И вдруг такая узость мышления. Нет, вы не подумайте, что я что-то... Он очень хороший человек. Но почему она все-таки на меня напала? Обычно на меня нападают стрекозы. Ну это понятно. Но чтобы кузнечик! Значит, дело зашло уже далеко.
Она заскребла по чашке обкусанным ногтем указательного пальца.
У меня было такое чувство, будто я присутствую на премьере какого-то страшно увлекательного фильма, но опоздал к началу и вынужден смотреть его прямо с середины. Однако от вопросов я воздержался и понимающе кивнул. Этот кивок так воодушевил Полину, что она даже выпростала из-под юбки поджатую ногу и стала елозить по полу мыском ботинка:
— Да, конечно, рано или поздно это должно было начаться. Нельзя безнаказанно жить в чужом доме и ощущать себя хозяевами. Миллионы лет они владели землей, и вдруг пришли мы, понастроили свои дурацкие жилища и объявили себя царями природы. Да мы по сравнению с ними не то что новорожденные, мы, может быть, даже еще не родились. Кто знает, быть может, — она с недоумением посмотрела на свою руку, все еще продолжающую скрести по чашке, — быть может, нас еще и нет. Я иногда даже думаю, — голос ее упал до шепота, — мы просто им снимся, и, когда они проснутся, мы исчезнем. Со всеми нашими домами, заводами и полетами в космос.
— Если я вас правильно понял, я не более чем кошмарное сновидение таракана?
— Вас это смущает? — удивилась Полина. — Но это же эстетический предрассудок! Хотя... — она задумчиво поглядела на меня, — вы скорее всего снитесь бабочке-лимоннице, потому что вы доброе и красивое сновидение.
Кажется, я покраснел:
— А вы, Полина, чей сон? Такой яркий и удивительный...
Девочка съежилась и помрачнела:
— Ох, лучше не спрашивайте! А то мне опять страшно будет. Я ведь сейчас одна ночую. Правда, меня сегодня Аркадий Ефимович с женой приглашали в гости. С ночевкой. Я даже халат с собой взяла. И полотенце. Они такие добрые. Только неудобно, ему опять придется на кухне спать. И все-таки почему она на меня напала?..
Среди ночи я проснулся. В комнате было темно, но это была какая-то другая темнота, не такая, как в предыдущие ночи. Она мягко пульсировала, испуская из себя тонкие токи. Я протянул руку в эту шуршащую темноту, нащупал веревочку, утяжеленную прохладным пластмассовым шариком, и дернул за нее. Темнота сухо щелкнула и расцвела красным абажуром торшера, высветив кусок комнаты и окно, заполненное светящейся листвой, среди которой цвел точно такой же абажур. И еще что-то красное было в комнате, мягкое, пушистое, беззащитное... Только где? Ах, вот! Щуплый байковый халат аккуратно свисал со стула, и рядом с ним, на тахте, отделенной от моей кровати гардеробом, кто-то ровно дышал, тихо, почти неслышно... Я подкрался к тахте и наклонился. Девочка сердито пробормотала что-то и, как бы защищаясь, прикрыла лицо кулаком.
Я подошел к окну. На ветке рядом с абажуром выросло мужское лицо. И улыбнулось мне.
— Доброе утро!
Я отложил вилку, которой сбивал омлет, и обернулся. Девочка стояла в дверях кухни и улыбалась мне. Заспанное личико ее чуть припухло, руки с крупными косточками запястий прижимали к груди белое вафельное полотенце, аккуратно заштопанное в двух местах.
— Доброе утро! — Кажется, я покраснел. — Как спалось на новом месте?
— Спасибо, хорошо.
Она потупилась и стала тискать и мять в руках полотенце. По всей видимости, она нервничала. Я подошел к ней и по-отечески прижал к груди. Она замерла. И вдруг я почувствовал, что она деликатно высвобождается из моих объятий.
— Я бы хотела умыться, — сказала она.
— Да, да, конечно. Мыло там, на полочке.
Я посмотрел на ее спину. Спина была худая, с жалкой смешной косичкой.
После этого она исчезла, дней на десять. Поначалу это меня вполне устраивало: у меня был срочный перевод — пятьсот строк сенегальских поэтов, и я не хотел, чтобы меня отвлекали. Но потом на меня вдруг напала непонятная тревога. Мне стало казаться, что в квартире кто-то есть и он следит за мной. Я обошел квартиру и всюду зажег свет. Но тревога не проходила. Тогда я включил еще и торшер. Он налился красным тревожным соком... и тут раздался звонок. Я снял трубку. «Ой, — смеялась трубка, — ой, что же мне теперь делать? Неудобно ведь...» Тут до меня дошло, что трубка вовсе не смеется, а плачет. Я обрадовался. «Полина, — закричал я, — что случилось?» — «Ой, — прорыдала трубка, — она вернулась из Туркмении и говорит, что я на нее неприятно смотрю. А я не смотрю, я совсем не смотрю. А она говорит, чтобы я уезжала. А куда же я? Ведь я никого, кроме Аркадия Ефимовича, не знаю. Ну, до такой степени, чтобы... Но неудобно ведь, ему опять придется на раскладушке. Мне бы всего на несколько дней, а там я что-нибудь придумаю... Но ведь я никого...»
И вдруг я неожиданно для самого себя сказал:
— Почему же никого? А я?
— Вы? — застеснялась трубка. — Но неудобно ведь. Мы же разнополые. Мне и за ту ночевку неудобно. Но если только на несколько дней...
Через час она уже вошла в мою квартиру с крохотным обтерханным чемоданчиком и сразу попыталась подмести пол. Я отнял у нее веник. Тогда она сказала мне, что тратиться на нее мне не придется, потому что у нее есть целых десять рублей. И тут же попробовала мне их всучить. Когда я отказался от денег, она занервничала и сказала, чтобы я не волновался, она скоро найдет работу, устроится в ЖЭК и получит казенную квартиру. Правда, тогда придется забросить живопись, потому что я-то, как творческий человек, должен понимать, что внутренняя суть вещей просто так не открывается, а насекомые очень хитрые, и если не держать мозг для них все время открытым, то они не позволят ей их рисовать, а как же держать его открытым, если ее сознание будет все время забито жэковскими бумажками. Я осторожно спросил, не стоит ли ей какое-то время пожить у матери в Горьком. «Ой, что вы! — испугалась она. — Моя мать, вы ее не знаете, она такая властная, прямо как царица термитов. А пока царица жива, она подавляет в своем потомстве возможность стать царицей. Я ведь от нее и уехала в Москву».
В конце концов мы решили, что она поживет у меня с недельку, и за это время мы что-нибудь придумаем. Неделька превратилась в две. Потом в три. Она нервничала и то предлагала мне свои десять рублей, то снова начинала строить планы о том, как она будет работать в ЖЭКе. Впрочем, мне было уже ясно, что ежедневно ходить на службу она абсолютно неспособна. Неделька превратилась в месяц. Она округлилась, похорошела и все время рисовала. Тогда и были созданы лучшие ее рисунки: «Хозяин травы», «Пчелиный рай», «Термитник цивилизации»...
Я тоже испытывал подъем. Я давно уже подбирался к Полю Валери, но не мог найти к нему ключ. А тут вдруг пошло. Я перевел «Сильфа», «Рождение Венеры», «Шаги», начал уже подумывать о Малларме... Никогда у меня не было такого благодарного слушателя. Когда я читал ей свои переводы, ресницы ее начинали подрагивать, глаза то изумленно округлялись, то превращались в щелочки, брови то лезли вверх, то сходились у переносицы. В ее способности к преображениям было что-то завораживающее. Она находила, что у меня оригинальный переводческий почерк, особенно эпитеты...
Но иногда она вдруг проявляла нахальство. Как сейчас помню такую сцену.
Букет из желтых и багровых осенних листьев пламенеет на синей скатерти. Полина пьет чай из белой чашки. Чай горячий, и ей приходится вытягивать губы трубочкой, чтобы не обжечься. От этого лицо ее кажется длинноносым, бледная кожа распарилась и порозовела, рыжие завитушки, выбившись из-под гладко затянутых волос, полыхают вокруг лба. И вся она напоминает пушистую пчелу, тянущую хоботком нектар из белого цветка.
— Как у вас хорошо, — говорит она и накладывает в блюдечко абрикосовое варенье. — Это вы сами варили?
— Что ты! Это покупное.
— И я ничего не умею. Разве что рисовать. — Она огорченно разводит руками.
— Ничего, выйдешь замуж, научишься.
— Замуж? Но ведь это же страшная гадость!
— Что — гадость?
— Ну это... Что между мужчиной и женщиной бывает. По-моему, самое отвратительное, что есть на свете, — это лицо мужчины в момент так называемой «страсти». — Она кривится.
— Ну, это тебе, деточка, неудачные мужчины попадались.
— Мне? Мужчина? — Полина взмахивает чайной ложкой, абрикосовое варенье падает ей на жакет. — Я девушка!
— Но откуда же ты тогда знаешь...
— Я не знаю, я совсем не знаю, но могу себе представить! — Все лицо ее вплоть до рыжих завитушек изображает омерзение. — Животные!
— Да за что же ты так ненавидишь мужчин?
— Я не мужчин, вовсе не мужчин, женщины еще гаже! Особенно беременные.
— Но почему?
— Да потому что все войны на свете из-за этих грязных баб, из-за того, что им нужно набивать нору все новыми и новыми тряпками. Они же все время беременеют!
Вторая капля варенья капает на жакет и медленно ползет вниз, оставляя за собой липкий коричневатый след. Эта медленно ползущая капля почему-то особенно раздражает меня, и я резко выкрикиваю:
— Ну знаешь, твое стремление к парадоксальности не знает никаких границ!
— А кто их определил, эти границы? Опять-таки женщины. Вот, например, крылатые муравьи после полового акта теряют свои крылья и больше никогда не летают.
— При чем здесь муравьи?! При чем здесь муравьи?! Мы говорим совсем о другом.
— Нет, мы говорим именно об этом! — Глаза Полины торжествующе сверкают. — Если твое предназначение — откладывать яйца, то крылья уже не нужны. Для того чтобы оставаться в границах, в рамках, в норме — в муравейнике! — достаточно уметь ползать. А крылья — это совсем для другого.
— Да где же логика? — Я с ненавистью смотрю на коричневую каплю, переползающую с серого жакета на красную юбку. — То ты мужчин ненавидишь, то женщин. Дай тебе волю, так ты всех кастрируешь и стерилизуешь.
Я резко встаю из-за стола и ухожу на кухню. Через минуту там появляется Полина. Она нервно теребит ворот жакета и сконфуженно улыбается.
— Я вовсе не хотела вас обидеть, — шепчет она. — Я ведь вам стольким обязана. Мне бы совсем не хотелось, чтобы мы поссорились из-за какой-то ерунды.
— Это не ерунда, — дрожащим голосом отвечаю я.
— Ерунда! Не хватало еще, чтобы мы поссорились из-за каких-то дурацких абстракций!
— Ничего себе абстракции! Я ведь все-таки тоже мужчина.
— Ну какой же вы мужчина? Вы же добрый.
Я роняю в раковину ложку, которую раздраженно вертел в руках, и начинаю смеяться. Полина вторит мне сперва робко, а потом все громче и громче.
Но чаще всего она бывала такой чуткой. Я улыбался — и лицо ее вспыхивало улыбкой. Я хмурился, и лицо ее покорно копировало мою мимику, и за это я прощал ей все. Ведь она была такая слабая и беззащитная!
— Пал Сергеич, ты где такое чучело откопал? В спецзаказе, что ль, выдали?
— В сцецзаказе.
— Ну ладно, ладно, не злись! — Соседка Татьяна с двумя раздувшимися авоськами в руках стояла, преграждая мне путь. — Родственница, что ль?
— Родственница, родственница. — Я попытался прошмыгнуть мимо, но все пространство от стенки до перил было плотно заполнено Татьяной и ее авоськами.
— А ежели родственница, так что ж на тебя не похожа? Ты мужчина интересный, а эта — прям глиста в обмороке.
— Татьяна Петровна, вы бы все-таки выбирали выражения!
— Так, значит, не родственница.
— Да вам какая разница?
— Как — какая? А что ж это, тут всякие подозрительные личности поселяться будут, а мне какая разница? Я ведь домовый комитет.
— Извините, Татьяна Петровна, боюсь на перерыв попасть.
— О, магазин — это дело святое! Особливо ежели пивка для рывка. Ладно, иди, а то еще и впрямь опоздаешь.
Вечером я застал Полину в слезах.
— Что? Что случилось?
— Эта женщина, — выхлипнула она.
— Какая еще женщина?
— Толстая. Она, наверно, беременная.
— Кто беременная? Теперь ты будешь шарахаться на улице от каждой беременной! Мало мне кузнечиков. Она что, тоже прыгнула на тебя?
В ответ Полина зарыдала еще громче.
— Ну что ты? Что с тобой?
— Она сказала, что без прописки нельзя. И что она домовый комитет.
Я начал догадываться, в чем дело.
— С тобой что, Татьяна разговаривала? А зачем ты всякую дуру слушаешь?
— А вы меня теперь не выгоните?
— Ну уж если прежде не выгнал... — шучу я и осекаюсь: девочка смотрит на меня с таким ужасом, что я неожиданно для самого себя порывисто наклоняюсь к ней и целую ее горестный зареванный рот.
Она слабо всхлипывает и утыкается головой мне в живот.
Ночью мне приснилось, будто я стою на эскалаторе в метро. А на его полированной фанере матово светятся белые шары, похожие на гигантские коконы, и я еду вниз и трогаю коконы рукой. От моих прикосновений они размягчаются и начинают нежно посапывать.
— Желаете приобрести? — Розовощекий мужчина с нежной пролысиной в черных волосах неожиданно материализуется рядом со мной.
— А разве их можно купить? — удивляюсь я.
— Да не то что можно. Прямо-таки нужно, голубчик. Вы их этим очень поддержите. Какой желаете — помельче, покрупнее?
— Не знаю, — смущаюсь я. — Сами понимаете, ответственность.
— Да уж если приручите... — Он ласково гладит коконы. «Ня-ня-ня», — пищат коконы, разевая беззубые ротики-ранки.
— Да они же у вас голодные! — возмущаюсь я. — Во сколько они завтракали?
— Завтракали? — мнется розовощекий. — Понимаете, как бы вам объяснить? Они еще не совсем родились. Все зависит от обстоятельств. Впрочем, у вас вряд ли еще будет такой шанс.
— Беру, — поспешно говорю я.
— Вы в этом уверены? — недоверчиво улыбается он. — Кого хотите? Самца? Самочку?
— Я хочу девочку.
— О, у вас тонкий вкус.
На следующий день я опять застал ее в слезах. Она подняла ко мне припухшее личико и хрипло выкрикнула:
— Они сказали, что моими рисунками только детей стращать. И что у меня женская рука. А я им сказала, что у них мужская нога.
— Да кто «они»?
— Выставком.
Это был очередной отказ. Последнее время она тщетно пыталась пристроить свои рисунки на какую-нибудь выставку. По всей видимости, в идеологических сферах подул другой ветер, и даже Аркадий Ефимович был не в силах ей помочь.
Я хотел погладить ее, но она резко мотнула головой, так что рыжая косичка пару раз хлестнула ее по щекам, и выскочила из комнаты. Входная дверь хлопнула. Я было двинулся за ней, как скомканный листок на столе привлек мое внимание. Я разгладил его. «Сновидение» — было написано на нем крупным детским почерком. Ее почерком. Я стал читать. Там было написано следующее:
«...и мы ушли неизвестно куда. И рыбы улыбались нам, большие рыбы с крупными ртами. Поселок был рыбацкий, но никто не хотел на рыб охотиться, и рыбы страдали очень. Но ведь должен кто-то страдать. Или не должен? «Чушь», — сказал мне маленький мальчик с ладошками как нежная терка. И он любил ласкать этими ладошками женщин. И женщины любили, когда он ласкал их. Но он не любил их. Он любил только ласкать, а не любить. Колокол в этом поселке звонил редко, и никто не знал, где этот колокол и когда будет звонить. И я пойду на зов колокола. В какой-то неизвестный час. Потому что если в известный, то ничего не получится. Хоть всю землю обойдешь, все равно не сдвинешься с места».
Входная дверь хлопнула. В комнату ввалилась соседка Татьяна:
— Пал Сергеич, ты тараканов морить будешь?
— Тараканов? Но у меня нет тараканов.
— Нету? Значит, будут, — обещает она. — Ой, это чегой-то у тебя по стенкам развешано? Ну и страхуилы! А чего это-то твоя выскочила как ошпаренная? Даже дверь не закрыла. Вот я и думаю, дай-ка загляну. Кстати, ты ее уже прописал? А то участковый интересуется.
— С вашей подачи интересуется?
— А хотя бы и с моей. Без прописки не положено. А раз не родственница, так и не пропишут. Аль ты жениться на ней надумал?
— Да вам-то какое дело? Может, и надумал.
— Ну-ну. Чего ж не жениться? Красавица хоть куда. Ой, тесто убежит.
И входная дверь снова хлопает.
Полина вернулась поздно. Она смотрела на меня затравленным взглядом, но сквозь эту затравленность пробивался некий вызов и какая-то тупая ирония. Мне, изучившему ее лицо до малейших нежных прыщиков, это ее выражение было не очень понятно.
— Где ты была? — спросил я. Может быть, резче, чем было надо.
— У Аркадия Ефимовича. Он зовет меня переехать к ним, — выпалила она и жадно вгляделась в мое лицо.
— Переехать? Почему бы не переехать.
Я почувствовал неприязнь к ней. Она вдруг сделалась мне гадка и непонятна. Я перевел взгляд на ее руки. Они вели себя странно: то елозили друг по другу, то замирали где-то на уровне живота и снова затевали свою неприятную возню. Мне захотелось уйти. И вдруг я перехватил ее взгляд. В нем не было уже ни иронии, ни вызова, одна лишь жалкая растерянность. Губы ее дрогнули, искривились — и, звучно всхлипнув, она бросилась ко мне... Я гладил ее вздрагивающие плечи, целовал детский лоб... Никогда в жизни не доводилось мне испытать такого наслаждения. Ни одна взрослая женщина не могла мне его дать. В постели с ними я всегда чувствовал себя как на выставке достижений народного хозяйства. «Ну-ка, ну-ка, — как бы говорил мне их взгляд, — посмотрим, на что ты способен». И у меня оставалось такое ощущение, будто не я обладал ими, а они — мной.
Но эта девочка, этот испуганный взгляд, эти слабые покорные руки, льнущие к моим плечам, эти стиснутые коленки, я мягко раздвигал их — «не бойся, не бойся, я постараюсь, чтобы не больно», это растерянное «ой, мамочки», когда я наконец-то вошел в нее!
После свадьбы у нас началась вакханалия покупок. Мы приобрели соковыжималку, миксер, утюг какой-то особой конструкции. Зачем-то купили немецкие чашки. У меня были китайские, но она с таким жаром убеждала меня в превосходстве немецкого фарфора над китайским и так умоляюще смотрела на меня, что отказать ей было просто невозможно. Впрочем, деньги у меня были, я только что перевел безразмерный эпос одного маленького южного народа, и гонорар за него превзошел все мои ожидания. Так что я мог позволить себе быть щедрым и покупал почти все, что ей нравилось. А ей нравилось многое. Она с удовольствием играла во взрослую замужнюю женщину. Правда, иногда я отказывал ей. Не из жадности, а потому, что мне нравилось, когда она упрашивала меня. В такие минуты я особенно любил ее. Впрочем, я отказывал редко, стараясь не допустить перебора, тщательно дозируя это возбуждающее средство. Я сам выбрал и купил ей в магазине для новобрачных пушистый голубенький халат. Она хотела другой — красный, эластичный, но я счел его недостаточно эротичным. Зато голубая чешская пижамка с розовыми цветами и завязочками у щиколоток пришлась по вкусу нам обоим. И, возвращаясь вечером домой — я иногда ходил в гости один, специально, из воспитательных соображений давая ей понять, что есть сферы, в которые ее рано еще вводить, — я мечтал о том, как сорву с нее эти пижамные штанишки.
Вскоре мне повсюду стали попадаться скомканные листочки бумаги. Они наивно высовывались из калошницы, из стаканчика для зубных щеток, падали на меня из кухонного шкафчика. Я брал их съеженные тельца, и под моими руками они доверчиво раскрывались и оказывались очередным Полининым сновидением. Они так и назывались — «Сновидение № 1», «Сновидение № 2»... Это были яркие видения, в них жарко и густо желтели цветы золотые шары, тонко звенели осы и девочки в синих платьицах катили сквозь языческий зной легкие алюминиевые обручи, а за ними гонялись кузнечики с большими животами. Странная ритмика — то ли стихи, то ли проза, яркие вскрики созревших плодов, сухой и жаркий запах корицы... Похоже, она не знала разницы между цветом и звуком. Вряд ли это можно было напечатать, уж больно они были необычные, и я предложил ей попытаться немножко попереводить.
Это были счастливые дни. Скорей, скорей, вверх по лестнице, ближе, ближе, еще ближе — и вот уже сумрачно чернеет обитая дерматином дверь, влажно сверкает белая кнопка звонка, и не успеваю я нажать на него, как дверь распахивается и в залитом желтым светом дверном проеме — она, в голубеньком халате, с рыжими завитушками вокруг головы, и между нами начинается тонкая игра: она делает вид, что вовсе и не ждала меня под дверью, так, случайно оказалась, и я притворяюсь, что верю в ее нехитрую игру, и упорно не замечаю белого листочка в ее руке, который ей не терпится мне показать.
Это были счастливые дни. Мне нравилось руководить ею. Она оказалась очень способной. Схватывала все на лету. Я улыбался какой-нибудь ее особо удачной строчке, и в ответ она вспыхивала улыбкой. Я хмурился, и она покорно копировала мою мимику.
Я уже начал ее потихоньку печатать, то пару переводов в одном сборничке, то троечку — в другом... Как вдруг в нашем издательстве объявили конкурс на лучший перевод Анны де Ноай. И она решила принять в нем участие. Я до сих пор хорошо помню первые строчки стихотворения, которое она выбрала:
Я уже предвкушал удовольствие от совместной работы, как она будет показывать мне первые робкие наброски, а я буду делать замечания, как вдруг натолкнулся на сопротивление. Это было невероятно, но в ответ на мое «ну, давай посмотрим, что там у тебя получается» она, вместо того чтобы, как обычно, протянуть мне листок с начатым переводом, вдруг испуганно вздрогнула и прикрыла листок книжкой. Это была нелепая сцена: я тянул листок к себе, она крепко прижимала его книжкой к столу. «Да что с тобой?» Я все еще думал, что это шутка. Но это была не шутка. Лицо ее дернулось, и на нем установилось выражение, какого я давно у нее не видел, выражение тупого упрямства.
— Я сама, — сказала она.
— Что — сама?
— Сама хочу переводить!
Я был потрясен — мою помощь отвергали, в моих советах не нуждались. И главное — это идиотское выражение лица. Все же у меня хватило ума не настаивать.
— Очень хорошо, — сказал я, — я давно этого ждал, малышка взрослеет.
Она просияла:
— Ты не обиделся? Правда не обиделся? Понимаешь, я должна сама...
— Ну что ты, какие обиды! Работай, малыш, работай.
Я отечески погладил ее по голове и удалился на кухню. Сама!
Ночью в постели она свернулась калачиком, закинула одну ногу мне на бедро, а головой уткнулась мне в подмышку. Это была ее излюбленная поза, я всегда подшучивал над тем, как хорошо она вся вписывается в меня. Я медленно провел рукой по ее бедру, прихватывая пальцами край коротенькой ночной рубашки, заворачивая ее кверху. «Ну, как там твой перевод?» — осведомился я и тотчас почувствовал, как насторожилось ее тело. «Нормально», — ответила она. — «Не хочешь мне показать?» — «Потом». — «Когда потом?» — «После конкурса». — «После конкурса?» Лицо ее напряглось, и я вновь увидел на нем выражение тупого упрямства. «Поцелуй меня», — сказало это тупое лицо. Я поцеловал. Потом еще и еще. Но, увы, тело мое оставалось безучастным. Я целовал ее и в ужасе чувствовал, что бессилен. «Ничего, ничего, не расстраивайся, это бывает», — шептала она. Уничтоженный, я сполз с нее. Тупое лицо смотрело на меня, и завитушки вокруг него топорщились, рыжие, неприятно мягкие. «Поцелуй меня, — шептало это тупое лицо, — поцелуй, поцелуй», и лампа горела, красный торшер, и освещала это рыжее, наглое лицо. Но я не хотел его целовать, я хотел, чтобы оно перестало быть таким тупым, отторгающим меня. И я ударил его локтем. Оно отпрянуло, оно не поняло, что я нарочно, я так ударил, будто случайно задел, но оно все равно испугалось и стало меня отталкивать. Две руки выросли у него по бокам, и они отталкивали меня, эти слабые отростки — руки, и тогда немощная часть моего тела вдруг ожила — и я ворвался в нее. Я втискивал ее в тахту, расплющивал, сокрушал — никакой дистанции, никакой! И во сне я гнался за ней по извилистым коридорам, а она с тихим смехом ускользала от меня, пряталась за какими-то пыльными трюмо, и я успевал разглядеть только ее рыжий затылок. «Стой, — кричал я, — стой!» И вдруг понял, что не сплю. Постель была пуста. Я надел тапочки и стал красться на кухню.
Она сидела за кухонным столом, держа перед глазами что-то белое, и беззвучно шевелила губами. Сперва я решил, что она плачет и это носовой платок. Но это был не платок. «Бедный фавн, — бормотала она, — бедный фавн». Половица скрипнула у меня под ногой, но она не услышала, полностью уйдя в свой перевод. Усатый таракан с блестящей спинкой выполз на середину кухни. За ним второй, третий... Татьяна была права, у нас действительно завелись тараканы.
Все последующие дни мной владело праздничное настроение. Я вспоминал ее испуганное лицо, отпрянувшее от моего удара, залитое красным светом торшера, — и как будто кто-то сдергивал с предметов тусклую пленку — красное, белое, рыжее сверкало перед моими глазами, и внутри меня что-то дрожало, вибрировало, как бы готовясь вырваться из меня и взлететь.
В тот день я вернулся с работы раньше обычного, у меня побаливала голова, и я отпросился. Я открыл дверь и тотчас же услышал Полинин смех, пушистый и кудрявый: «Ой, неужели и вправду так сказал?» Сперва я решил, что она говорит по телефону, но тут черная кожаная мужская куртка привлекла мое внимание. Она грузно свисала с вешалки, приминая собой серый Полинин плащик. «Да говорю же вам, вправду», — отвечал мужской голос. «Так и сказал, что я выиграю конкурс? А это и вправду был председатель конкурсной комиссии?». — «Да говорю вам, председатель. Вот смешная, не верите». — «Ой, Аркадий Ефимович, представляете, мне целую книжку дадут переводить?» Счастливый смех снова брызнул из комнаты в прихожую...
Но ведь я отправился в Дом литераторов безо всякой цели. Я не искал этой встречи. Я и впрямь забыл, что именно его, Витьку Ландо, назначили председателем конкурсной комиссии и что он имеет привычку все время ошиваться в Доме литераторов.
Я попил кофе и уже собирался уйти, и надо же — он выскочил на меня откуда-то сбоку:
— Павлуша, поздравляю, только тебе по секрету. Сам понимаешь, конкурс анонимный. Но мы-то люди опытные, ее руку ни с чьей не спутаешь. Я только Аркадию Ефимовичу...
Он просто захлебывался от удовольствия, которое, как полагал, доставил мне своим известием.
Я в этот момент натягивал на себя перед зеркалом пальто. И вдруг, неожиданно для меня самого, тот, кто был в зеркале, сделал какой-то странный знак глазами и сказал Витьке: «Молодая еще». — «Что?» — не понял Витька. «Молодая, есть более достойные люди, старик Б. например». Но Витька все еще не понимал. И тогда тот, в зеркале, снова повторил свой странный знак глазами и небрежно добавил: «Да, кстати, я тут буду том Гафиза составлять, не хотел бы ты его попереводить?» Витька радостно изумился и, глупо ухмыльнувшись, кивнул в знак того, что все понял правильно.
Через неделю нам позвонили. Трубку сняла она. «Да, да, я вас слушаю... — И вдруг лицо ее скукожилось: — Нет, что вы, какие обиды! Да, Б. очень хороший переводчик. Спасибо, что позвонили». Она положила трубку и заплакала. Я утешал ее, как мог, целовал ее руки, маленькие, беспомощные, с крупными косточками запястий. Мне незачем было ее расспрашивать, я и так знал, что именно ей сказал Витька.
Не знаю, зачем это понадобилось живущему в зеркале? Ведь на других женщин он так не реагировал. По всей видимости, Полина заняла в моей жизни то место, на которое до нее не претендовали, — его место.
Это случилось, когда мы с ней были в гостях у Аркадия Ефимовича. Он, сверкая улыбкой и нежной проплешиной, водил нас по квартире и с гордостью показывал свою коллекцию картин. «Это Стрельцов, — говорил он. — Спился. А это Полуэктов. Выбросился из окна. Теперь его картин в Союзе почти не осталось, все повывезли. А какой талант был! Цветоэнергия просто чудовищная». Мы переходили от картины к картине, от желтого к белому, от красного к коричневому — и вдруг белый домик кротко вспыхнул на стене, дверь в нем доверчиво распахнулась, и в проеме я увидел кусок голубой лестницы, винтообразно уходящей вверх. Я замер: «Что это?»
— Нравится?
— Очень. Он тоже... выбросился?
— Кто? Вася? Нет, он еще жив. Кстати, он свои картины недорого продает, совсем недорого.
— Еще бы, — вмешалась Полина, — у него же их никто не покупает.
И тут Аркадий Ефимович и сказал эту фразу, эту дикую фразу:
— Да, кстати, Полина, я тут на днях вашего отца видел.
— Какого отца? — Я повернулся к ней. Она смотрела на меня как нашкодившая школьница.
— Не волнуйтесь, Павел Сергеевич. — Аркадий Ефимович мягко дотронулся до моего локтя. — Он совсем не такой уж плохой человек. Он мне сказал, что сейчас почти что не пьет.
— Кто не пьет?!
— Я не понимаю, — растерялся он. — Полина, объясните же, я не понимаю.
Она потупила глаза и стала елозить мыском туфельки по полу. Потом медленно подняла к нему лицо, на котором уже было изображено смущение, и сконфуженно прошептала:
— Простите меня, Аркадий Ефимович, я пошутила.
— Да о чем речь? — закричал я.
Она потерлась головой о мое плечо и прошелестела:
— Он не отец, он в ЖЭКе работает. Я боялась, что ты рассердишься.
— Так он не ваш отец? — удивился Аркадий Ефимович.
— Да что здесь происходит? — Я крепко взял ее за плечо и тряхнул. Голова ее послушно болтнулась из стороны в сторону. Эта покорность неожиданно возбудила меня, и я тряхнул ее сильнее, потом еще и еще, на какую-то секунду мне даже показалось, что ей это нравится, нравится делать вид, что она боится меня. Хотя, может быть, она и вправду испугалась, потому что Аркадий Ефимович вдруг схватил меня за руку и закричал:
— Прекратите, сейчас же прекратите, ведь это женщина!
И тут со мной случилось странное: я вдруг перестал понимать, где я нахожусь и кто эти двое — плешивый мужчина и рыжая женщина. Белый домик кротко мерцал на стене, дверь в нем была доверчиво распахнута, в проеме виднелся кусок голубой лестницы. И я шагнул в эту дверь...
Странно, но лестницы там уже не было, а был коридор, залитый мягким голубым светом. Я пригляделся — в стены были вделаны матовые голубые окошки, и от них и шел этот свет. Впрочем, возможно, это был не коридор, а подземный переход. Я понял, что должен пойти по нему. Но эти двое не пустили меня, не знаю, как это объяснить, но я снова стоял в комнате и тряс ее за плечи. «Какой отец? Какой отец?» — выкрикивал я. На мой крик прибежала из кухни Наташа, жена Аркадия Ефимовича, с руками, вымазанными желтым тестом. Аркадий Ефимович хватал меня за руки, голова Полины со сконфуженной улыбкой механически болталась из стороны в сторону.
Дальше я помню смутно. Мы шли с ней через пустырь к трамвайной остановке, и пустырь этот был какой-то нескончаемый. А она говорила, что тот человек из ЖЭКа, который не был ее отец, а был слесарь, просто пожалел ее и приютил, когда ей негде было жить, но у нее с ним ничего не было, я же знаю, что до меня она была девушка, а Аркадию Ефимовичу она сказала, что он отец, потому что стеснялась, что все узнают, что она незаконнорожденная, а когда переехала ко мне, то постеснялась сказать мне про него, чтобы я ничего такого не подумал, а Аркадию Ефимовичу она сказала, что я не позволяю ей видеть отца, потому что он пьяница. В общем, это была какая-то дурно скроенная мелодрама, и больше всего меня разозлило то, что я против собственной воли оказался задействованным в ней в качестве опереточного злодея. Но разозлился я как-то вяло, у меня перед глазами все еще стоял голубой коридор, и мне хотелось снова войти в него.
Это была странная ночь. Мы ехали с ней в трамвае, и какие-то люди все входили и выходили, мне показалось, что это были одни и те же люди, за окном мчались красные трамваи, похожие на огромных рогатых насекомых, редкие фонари смотрели в наши окна желтыми безглазыми лицами, промелькнула церковь на холме, вся белая и золотая на фоне иссиня-черного неба, а по-моему, раньше там не было холма и церкви не было, а она прижималась ко мне и просила, чтобы я обнимал ее, по-моему, она делала это нарочно, чтобы все видели, что я ее обнимаю, и я обнимал, а они все входили и выходили, и лукаво улыбались, и были похожи на людей, и мы уже почему-то стояли в нашей прихожей и целовались.
Среди ночи я проснулся. Потому что кто-то во сне сказал мне, что я хочу пить. И я пошел на кухню, но по дороге понял, что вода в прихожей. И тогда я стал красться в прихожую, к зеркалу, — и там меня уже ждал Он, напрягая губы в торжествующей улыбке.
С этой ночи все обрело странное ускорение. Она начала проявлять неожиданную изобретательность в любви, чего прежде не было. По всей видимости, она чуяла что-то неладное и пыталась удержать меня. Но ночью, когда она засыпала, вздрагивая во сне и вскрикивая, я осторожно вылезал из постели, крался в прихожую к зеркалу, смотрел, как Он облизывает свои потрескавшиеся от любви губы, и возвращался обратно, и будил ее, и все начиналось снова, пока, изможденные, мы оба не падали каждый в свой сон. И там, во сне, я летел в какие-то грязно-бурые пространства с одинокими вспышками цветовых пятен, и пятна эти были домики — красные, желтые, зеленые, необычной формы, вокруг них все вихрилось, дыбилось, и я то ли летел ввысь, то ли рушился в провал, там не было разницы между верхом и низом.
Да, наверно, она и впрямь о чем-то догадывалась и то пыталась подладиться под меня, то проявляла стремление к самостоятельности. Кто-то предложил ей синие кримпленовые брючки с переплатой. Она померила их, и они ей так шли. Но я отказал. На самом деле я хотел сделать ей сюрприз: сперва отказать, а потом все же купить. Но в воскресенье, когда мы собирались в кино, она вышла из комнаты в этих брючках и коротком красном в облипку свитере. «Аркадий Ефимович дал деньги, — радостно сказала она. — Через месяц я получу за перевод и верну ему». Можно подумать, что она жила на свои деньги. Я устроил скандал. Я объяснил ей, что она уже взрослая женщина, а не девчонка, чтобы бегать за деньгами к чужим людям. Она заплакала. Но я же хотел купить ей эти брюки!
Вскоре я почувствовал недостаточность сношений только с ней. Я понял, что должен объединить их. Его и ее.
Когда я подвел ее к зеркалу, она сперва не поняла, чего я хочу, и улыбнулась мне. Я обнял ее сзади и, продев руки ей под мышки, стал расстегивать ее кофточку. И Он тотчас же шагнул к нам. Мы ласкали ее в четыре руки, целовали плечи, детские, хрупкие, под нашими ласками она двоилась, зыбилась, она одновременно была и здесь, в этой комнате, и с любопытством подсматривала из зеркала, как я раздеваю ее.
И через полтора месяца, на протяжении которых мы вновь и вновь предавались этой праздничной зыбкой игре в прихожей, она забеременела. Сообщила она мне об этом с каким-то глупым хихиканьем, как будто речь шла о детской шалости, немного неприличной, но вполне простительной. Подобный исход мне почему-то не приходил в голову. Я тупо молчал. Она, по всей видимости, приняла мое молчание за одобрение и, потершись щекой о мое плечо, вдруг выпалила: «Интересно, от кого из вас этот ребенок?»
Кто-то сказал ей, что в ее положении надо пить соки, яблочный и морковный, и она все время делала их и забывала вымыть за собой соковыжималку, это раздражало меня, а она все пила, и улыбалась, и многозначительно говорила: «Ему нужны соки». И снова пила и улыбалась, живущий в ее животе все время требовал соков, соков, соков! Ее часто клонило ко сну, она норовила поспать днем, но я не давал, я тормошил ее, выдергивал из сна и выпроваживал на улицу — гулять, гулять, ходить, дышать свежим воздухом, никакие отговорки, что на улице дождь, меня не смягчали. Но когда она уходила, я снова испытывал дискомфорт, ведь она уносила с собой мое «я», отделенное от меня, неподконтрольное, живущее своей, неизвестной мне жизнью. Впрочем, я не был уверен, что это был именно «я», — ее идиотская фраза относительно возможного отцовства неприятно задела меня.
Она никогда не была особенно аккуратной, а тут и вовсе... разгуливала по квартире в моих кальсонах и на все мои протесты отвечала, что мерзнет... И вправду, в ту осень в квартире топили плохо.
В тот день она вернулась домой и, не раздеваясь, прямо в пальто, уселась перед зеркалом.
— Что, по нему соскучилась? — пошутил я.
Она неприязненно оглядела меня и ушла в комнату. Когда я вошел туда, она сидела перед сервантом и пристально вглядывалась в его застекленную дверцу. Услышав мои шаги, она обернулась и бросила на меня раздраженный взгляд.
— Ты, — сказала она, — это ты во всем виноват.
— В чем? — удивился я.
— Ты, ты нарочно это сделал. Чтобы я не могла творить. Насекомые больше не хотят, чтобы я их рисовала! Ты должен был предохраняться.
— Да? — как можно спокойнее ответил я. — А по-моему, ты и так давно не рисуешь. Ты ведь теперь в великую переводчицу играешь. Ты бы лучше мылась почаще, скоро не то что насекомые, от тебя люди шарахаться будут.
Она взвизгнула, подпрыгнула и выскочила из комнаты. Входная дверь хлопнула.
Вечером она не вернулась домой. Я хотел позвонить Аркадию Ефимовичу, больше ей негде было быть, и уже начал набирать его номер, но вдруг представил, как она там на меня жалуется, и положил трубку.
Ночью я закрыл глаза и увидел, что нахожусь в метро, на эскалаторе, а на его полированной фанере рядом с поручнями ровно светятся большие матовые шары, похожие на коконы. И я еду вниз и трогаю коконы рукой. И вдруг один из них лопается, и из него вываливается какое-то месиво из тонких лапок, неразвернувшихся крылышек и реснитчатых глаз. Я вскрикиваю и бегу по эскалатору вниз. На платформе тихо и пустынно. Тощий старик в больничной пижаме поднимает ко мне лицо и тихо шепчет: «Она только что уехала». Две слезы выползают у него из глаз. И я вдруг понимаю, что это Аркадий Ефимович. «Уехала», — повторяет он и машет морщинистой рукой в сторону туннеля. Я ложусь на пол и пытаюсь заглянуть в туннель. Но тут раздается грохот, и, едва успев выдернуть голову, я вижу, как из туннеля вылетает электричка. С пустыми, освещенными вагонами она проносится мимо, и в последнем я вижу Полину, укачивающую на руках белый кокон. «Полина, вернись!» — кричу я, но она не слышит, и туннель быстро заглатывает электричку и Полину, нянчащую огромный кокон.
Утром ее все еще не было. У меня был отгул, я хотел немножко поработать над Малларме, но дело не ладилось, я все время мысленно пререкался с ней. В восемь вечера ее все еще не было. В десять тоже. В двенадцатом наконец раздался звонок в дверь. Я молча открыл ей дверь и ушел на кухню. Мне не хотелось разговаривать с ней, объясняться, потакать ее выкрутасам.
В час ночи я вошел в комнату. Она лежала на диване спиной ко мне. Обычно мы спали вдвоем на большой тахте. Впрочем, мне тоже было не до любви. Я молча расстелил тахту и лег.
И мне приснилось, будто ребенок наш плачет, но она притворяется, что не слышит, чтобы вынудить меня подойти к нему. Я не двигаюсь с места, ребенок начинает плакать громче, он уже не плачет, а рыдает и слабым голосом выкрикивает: «Паша, Паша, проснись, мне плохо». Я открыл глаза.
Она в розовой ночнушке, скорчившись, сидела на кровати и испуганно смотрела на меня. «Мне плохо», — прошептала она. «А мне, по-твоему, хорошо? — воспитательным тоном начал я. — Могла хотя бы позвонить». И тут я заметил, что губы ее покрыты белыми чешуйками. «Ты что, простудилась?» — «Нет, я у бабки была». — «Так у тебя еще и бабка есть?» Я окончательно проснулся. «Нет, она медсестра в гинекологии. Выкидыши на дому делает. Мне кажется, там что-то осталось. Очень болит». — «Так ты не у Аркадия Ефимовича была?» — «Нет». — «А ребенок?» Она молчала. «Ты убила ребенка?» — «Но ведь ты его не хотел. Ты... ты ненавидел его». — «Неправда», — прошептал я.
Через полчаса ее стало знобить. Я хотел позвонить в «Скорую», но она боялась, что ее привлекут к ответственности за незаконный выкидыш. Я не знал, распространяется ли закон о нелегальных абортах только на врача или на пациентку тоже, и колебался. Вскоре она стала жаловаться, что у нее темнеет в глазах, губы обметало еще сильнее, глаза запали, нос обострился. Я стал звонить в «Скорую». Сперва там долго не брали трубку. Потом женский голос сказал: «Скорая» слушает». — «Пожалуйста, — закричал я, — сильное кровотечение! Выкидыш, наверное!» — «Ждите, будут». Я подошел к ней: «Не волнуйся, сейчас приедут». — «Паша, — прошептала она, — ты не сердись, но весь матрас насквозь...» — «Ничего, ничего, потерпи немножко». Прошло полчаса, «Скорой» не было. Потом еще пятнадцать минут. Я снова позвонил. «Машина сломалась, — объяснили мне, — сейчас починят и приедут. Вы ей пока лед на живот положите». — «А где же его взять?» — «Ну, если льда нет, курицу положите. Курица у вас в морозилке есть?» Я пошел на кухню. Курицы не было.
Когда я вернулся в комнату, она лежала на спине и тихо хрипела. Смотрела она не на меня, а на кого-то незримого в полуметре над ее ступнями, и лампа горела, красный торшер, и освещала ее помучневшее лицо. Сколько это длилось, не знаю. И то ли от ее равномерных хрипов, то ли отчего-то еще мной вдруг овладело странное чувство, и с изумлением я понял, что чувство это было блаженство, и стал раскачиваться в такт ее хрипам. Незримый уговаривал ее, она делала головой «нет, нет», я раскачивался все сильнее, она протестовала все слабее, и завитушки топорщились вокруг ее головы, рыжие, взмокшие — и вдруг лицо ее дернулось, челюсть отвалилась, и рыжая кукла смотрела на меня закатившимися глазами.
Когда ее увозили в морг, носилки зачем-то поставили вертикально, брезент, которым ее накрыли, оттопырился, и я увидел, как ее легонькое тело упало на дно мешка.
Ночью какая-то женщина, пожилая, рыжая, бродила по моей комнате и что-то искала. Я натянул одеяло до самого носа, чтобы она не заметила меня. Но она заметила, она приблизилась к моей постели и... «Бирку, — заплакала она, — девочке моей бирку на ногу привязали, а мне, мне даже не сообщили. А! А! А!» Но как же я мог ей сообщить, ведь Полина никогда не давала мне ее адреса. Да я и не интересовался.
День кремации был солнечный. Но в крематории царил серый полумрак, и розовый гроб, не знаю, почему они дали нам розовый, резко выделялся на сером фоне. Она лежала, сложив на груди свои ручки-крылышки, и улыбалась. Рыжая дымка волос мягко обрамляла ее заострившееся личико. Укрытая по грудь белой простыней, она напоминала какое-то диковинное насекомое, которое как бы уже начало высвобождаться из своего кокона, уже выпростало из него свою пушистую головку и крылышки, как бы готовясь взлететь, и тут здоровенная тетка, служительница крематория, решительными шагами приблизилась к ней и прожурчала: «Уважаемые родственники и друзья, попрощаемся с дорогой усопшей». И все засуетились, стали совать гвоздики в гроб, Наташа припала к плечу Аркадия Ефимовича и грубо зарыдала, в ответ ей грянула музыка, в полу распахнулась дыра, улыбающаяся Полина медленно ушла под пол, я заплакал. «Да брось прикидываться-то, Павел Сергеевич», — прошептал мне кто-то на ухо, нет, наверное, мне это почудилось, дома зеркало было завешено белой простыней, кто-то сказал, что так нужно, чтобы зеркало не поймало ее душу, но я-то знал, зачем это надо на самом деле.
Я взял отпуск. Мне невмоготу было видеть людей, выслушивать соболезнования. Впрочем, мне никто и не звонил. Я слонялся по квартире, включал телевизор, выключал и снова включал и повсюду, повсюду натыкался на следы ее жизни: в ванной из стаканчика торчала ее зубная щетка, в гардеробе на плечиках висел ее голубенький халатик. А по ночам я парил над нарядными кладбищами — черные надгробия на белом снегу, красные гвоздики... — яркие, праздничные города мертвых! Я летел, я парил, легкий, невесомый, умерший...
Она явилась мне лишь однажды. Я крался по длинному коридору, это была чужая квартира, я почему-то должен был теперь здесь жить, и лампочка свисала с потолка, голая, на длинном шнуре... И вдруг какой-то мешок, я стал развязывать его... Она лежала на дне мешка, свернувшаяся калачиком, зажмурив веки, и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Я пощекотал ее за ухом, она зажмурилась еще сильнее, и вдруг лицо ее дернулось, челюсть отвалилась — и рыжая старуха смотрела на меня со дна мешка сквозь окаменевшие веки.
Больше она мне не являлась. Зато как-то раз я увидел его. Это не был сон. Я просто закрыл глаза, и вдруг передо мной отчетливо вырисовались красные гаражи, густо обсаженные зарослями золотых шаров. Заросли раздвинулись, и оттуда выглянул он, в красной ковбойке и коротеньких штанишках, какой он был в моем детстве, там, в нашей большой коммунальной квартире у метро «Динамо». Я явственно видел его яркие кудри и пунцовый рот. И вдруг он стал зыбиться, из его лица вылепилось другое — девчоночье, и на голове вспыхнул бант. Я попробовал воспротивиться и вновь вернуть ему знакомое обличье. Но он засмеялся и, вильнув подолом красного платьица, снова скрылся в зарослях.
В другой раз я увидел его в инвалидной коляске. Румяный, шестилетний, залитый желтым солнечным светом, он сидел посреди пустого двора и кокетливо улыбался маленькому зеркальцу, зажатому у него в руке. Я попытался мысленно отнять у него зеркальце, но от моих усилии оно только увеличилось в размерах, и он стал томно обмахиваться им, как веером.
В третий раз он явился мне во сне и тонким голосом потребовал, чтобы я перестал за ним подглядывать. Из-за меня он не может играть со слониками. Я притворился, что слушаюсь его, и прикрыл глаза широко растопыренными пальцами. Но это не обмануло его. Он рассерженно пробормотал что-то и стал оплывать мягкими треугольниками.
В тот день я возвращался из Третьяковки и, проходя по Пятницкой, вдруг услышал позади себя слабый свист, нежный и прерывистый. Мне захотелось узнать, кто же это свистит. Я обернулся, но никого не увидел. Свист повторился. Потом еще и еще — громче, настойчивей. Судя по всему, он доносился из ближайшей подворотни. Я засунул туда голову, но опять ничего не увидел, кроме пары тощих кустов сирени и развороченной помойки. Я хотел уже было уйти, но тут из подворотни выбежал мальчик. Ему было от силы лет пять. В коротеньких вельветовых штанишках, в розовой ковбойке, он выскочил на тротуар и замер, растопырив ножки, обтянутые красными гольфиками. Затем победоносно взглянул на меня, поднес ко рту маленькую зеленую свистульку и издал ликующий свист. Я обомлел — это был он, кудрявый ребенок из моих снов, зеркальный товарищ моего детства. Однако по опыту зная, что сновидение — вещь деликатная и назойливым разглядыванием его можно вспугнуть, я решил действовать аккуратно, принял равнодушный вид и, уставившись на ближайшую витрину, начал насвистывать «Прощание славянки». Мой маневр удался. Малыш озадаченно посмотрел на меня, потом гневно топнул ножкой и еще раз, но уже с вызовом дунул в свою свистульку. Я сделал удивленное лицо, повернулся к нему, как будто только что его увидел, и, нащупав в кармане леденец, медленно стал приближаться к нему. Он насторожился. Я улыбнулся и протянул ему леденец. Он попятился. Я улыбнулся еще шире и как можно дружелюбнее. На его личике отобразилась сложная работа мысли: ему явно хотелось получить леденец и вместе с тем ему что-то не нравилось во мне. Наконец он издал крик, что-то наподобие боевого клича команчей, высоко подпрыгнул, развернулся в воздухе и, вскочив обратно в подворотню, показал мне оттуда язык. Я изобразил испуг и, как бы защищаясь, прикрыл лицо руками. Он радостно засмеялся, моя реакция явно пришлась ему по вкусу. О, это было сложное и капризное сновидение! Но я уже знал, как действовать дальше. Слегка отведя руки от лица, я заглянул ему в глаза и тут же отвел взгляд, делая вид, что вовсе и не собирался смотреть, а так — случайно заглянул. Как тогда, в нашем с ним детстве. Потом опять и снова, заискивающе, подобострастно, всячески демонстрируя, что признаю его верховенство. И он начал отвечать мне победоносными взглядами, выражающими снисходительное одобрение моему послушанию. Должен признать, что на этот раз я превзошел самого себя — это была работа мастера! С каждым новым взглядом я почти неуловимо, тонко, чуть-чуть менял выражение лица: испуг — подобострастие — ласка... И вот я уже смотрел на него все более и более властно, мягко наращивая напряжение. Ему все труднее было отвести от меня глаза, наши взгляды делались все медленнее и продолжительнее. Лицо его начало каменеть и одновременно как бы размягчаться, становясь подобным белому гипсу, уже застывающему, но еще не застывшему. Напряжение сделалось уже почти что нестерпимым... И тут раздался визгливый женский крик: «Ты что же это делаешь? А? Козел вонючий!» Молодая женщина с пухлой грудью наступала на меня, размахивая авоськой, из которой торчали мертвые селедочные головы. «Ах ты! Да я ж тебя! К ребенку пристает! Светка, ты что ж за пацаном не смотришь, шалава!» Она решила, что я... Господи, идиотка с грязным воображением! На ее крик из подворотни выскочила белобрысая девица в бигудях. За ней мужик в брезентовой спецовке. Потом какая-то старуха, и еще кто-то, и еще... Их уже была целая толпа, они напирали на меня... Мальчик испуганно заревел. Толпа загудела. Женщина теснила меня пухлой грудью к проезжей части. Раздался противный звук милицейской сирены... Я вскрикнул, швырнул в пухлую грудь леденец и бросился бежать. «Держи гада», — неслось мне в спину.
Я бежал, ныряя в подворотни, перепрыгивая через какие-то ящики, поскальзываясь на картофельных очистках, и отовсюду, отовсюду — из окон машин, из витрин магазинов, из стеклянных киосков — смотрел на меня живущий в зеркале. Я бежал все быстрее, быстрее — мимо магазина «Мясо», мимо «Культтоваров», мимо красного кирпичного забора, — и вдруг голубое зияние вскрылось в заборе, и посредине этой голубизны мерцала белая церковь, и три лика глянули на меня со стены. И я шагнул к церкви... Внутри белизна оказалась красно-желтой, она извивалась язычками свечей и смотрела на меня со стен множеством скорбных глаз. И пение, тихое пение — «помилуй, помилуй, помилуй» — лилось со всех сторон. «Помилуй», — прошептал я, и тотчас рука в золотом рукаве взметнулась в мою сторону, размахивая чем-то на длинной цепочке, и оно дымилось и обволакивало меня сладким запахом. «Помилуй, помилуй», — пел кто-то вокруг, и этот кто-то были старушки, серые, в сером, они пели: «Помилуй, помилуй», и свечи горели, множество свечей. «Помилуй, — шептал я, — помилуй...» И все дрожало, плыло, переливалось, и я плыл в золотом потоке, растворяясь в толпе молящихся, сладостно тая... Помилуй!
ПЧЕЛИНЫЙ РАЙ
(Рассказ)
Дождь барабанит по стеклу... Нет, не дождь, это сосульки звенят. Белый сквер весь залит солнцем, сверкает, переливается... Скорей, скорей домой, девочка ждет. Олеся, малышка моя... Солнце, сосульки, как ноги скользят, апельсины пылают у прохожих в авоськах! Глупенькая, стесняется, не беспокойтесь, говорит, Анна Сергеевна, зачем вы на меня так тратитесь? Солнце, сосульки, Олеся... Они думают, что девочка некрасивая, слишком длинный нос, слишком маленькие глаза и кожа нечистая... Думают, но не говорят, знают, что этого говорить нельзя... Солнце, сосульки... Большой сложноветвистый куст на снегу весь усеян какими-то желто-черными птицами, синицы, наверно... Желтое, белое, черное, тает, течет, звенит... Господи, как хорошо! Некрасивая... Да если ее приодеть и подкрасить умело, так и в ней свой шарм обнаружится. Немножко пудры, немножко помады... нет-нет, деточка, раз ты не хочешь, я не буду. Глупенькая, спит с насупленным лицом, наверно, ей сны нехорошие снятся. Тает, течет... И девочка оттает... И может быть, перестанет рисовать всех этих гадких насекомых, хищно подрагивающих, плотоядно улыбающихся, перестанет рисовать свои страхи. Нет-нет, я ведь понимаю, что вмешиваться нельзя, я ведь все-таки тоже человек культурный, четверть века в библиотеке проработала, до главного библиотекаря дослужилась, и в кино ходила, и на выставки, недавно в Доме-музее Васнецова была... Что? Васнецов устарел? Странно... Да нет, я не спорю, я же не специалист... Тебе, детка, виднее, может, и устарел... Солнце, сосульки, Олеся! Как светло, как ярко, как звонко звенит на солнце тополь! Мама в голубом купальнике, в желтой соломенной шляпе лежит на топчане у реки и красит губы, улыбаясь крохотному зеркальцу, зажатому в ее наманикюренной руке. Тополь звенит... летний полдень... тополь качается, огромный паук спускается с ветки... «Мама, боюсь, прогони паука!» «Да не выдумывай же, он тебя не тронет, взрослая девочка, как не стыдно бояться, может, тебя еще в колясочку положить? Ну что ты ревешь, какой еще паук, где паук, нет тут никакого паука». «Вот, вот паук, мама, по животу ползет, больно! больно! больно! Олеся, прогони паука, забери меня отсюда! Больно! Больно! Больно!»
— Ну, хватит орать! Всех больных перебудишь! Ну и народ, ни днем ни ночью от них покою нет. А я что, виновата, если баралгину не завезли? Ну чего ты? Сильно болит ? И чего тебе вколоть, ума не приложу. Им бы только разрезать-заштопать, а как уколы колоть, так их тут нету. А я что, рожаю его, что ли, этот баралгин? Ну ладно, ладно, есть там у меня в загашничке.
Тополь звенит, серебристый, серебряный. Мама в желтой шляпе хохочет на берегу реки, мама, перестань смеяться, прогони паука, больно, больно, больно!
— Да щас сделаю, разве ж мы не люди, разве ж мы не понимаем... Да не ори ты! Старая, а безобразничаешь.
Ну вот, слава богу, укол сделали, угомонили маму, скорей, скорей домой, ноги скользят, апельсины пылают у прохожих в авоськах, букет из багровых и желтых листьев пламенеет на синей скатерти, Олеся на кухне пьет чай из белой чашки... «Как хорошо у вас, Анна Сергеевна, это вы сами варенье варили? А я вот ничего не умею, разве что рисовать». Огорченно руками разводит, глупышка, абрикосовое варенье капает ей на жакет. «Ничего, детка, научишься». Вторая капля летит на жакет и, переливаясь на солнце, медленно ползет вниз, оставляя за собой янтарный след. «Нет, нет, вы мне больше не кладите, а то потом будет еще хотеться, я и так вам стольким обязана!» Третья солнечная капля летит на жакет, четвертая, пятая... Олеся, вся перемазанная солнечной янтарной сладостью, сконфуженно смеется. Сладкая, сладкая, сладкая девочка!
— Здорово, цéлки! — Соседка Настасья вваливается в палату и взмахивает руками, в одной — увесистая авоська, в другой — гвоздика в целлофане. — Как спалось?
Плюхнулась на постель рядом с кроватью:
— А что? Вас тут разве всех не заштопали, гинекологические вы мои? Теперь небось как новенькие?
Расселась нагло, стала выгружать на тумбочку содержимое авоськи:
— Вот, три апельсинчика, лимончик... Отвар шиповника, чтоб писала хорошо!
Олеся, вся перемазанная солнечной янтарной сладостью, сконфуженно смеется, мама в желтой шляпе хохочет на берегу реки, тополь звенит, букет из багровых и желтых листьев полыхает на синей скатерти, апельсины горят у прохожих в авоськах, соседка Настасья вваливается в палату:
— Здорово, целки!
Расселась нагло, апельсины выгружает на тумбочку:
— Что, Сергеевна, больно? Кормят-то тут как? Все украли или больным чего оставили? Вот, шиповник пей, после операции главное писать побольше. А что же, это-то твоя так ни разу тебя и не навестила? Олеся-то твоя? Медсестра говорит, никто к тебе не ходит. Да ладно, ладно, не расстраивайся. Апельсинчик вот, лимончик... Хочешь, почищу? Да не расстраивайся, говорю. Она, наверно, не знает, что ты в больнице. Да чего ты все елозишь? Судно, что ль, тебе подать? Ну что «не надо»? Тоже мне, нашла время деликатесы разводить! Где оно у тебя? Под кроватью? Ага, вот. Ну-ка приподымись чуть. Больно? Давай я тебе помогу. Ну вот и ладушки. Куда вылить-то? Ага, понятно.
Вернулась с опорожненным судном:
— И совсем незачем стесняться. Дело соседское. Значит, так и не навестила...
Сгребла с тумбочки резко отощавшую авоську, направилась к двери. В двери обернулась:
— Ну выздоравливай. Главное — писай побольше. Дверь захлопнулась. Апельсины пылают на тумбочке. Скорей-скорей домой, Олеся ждет. Не ждет, не ждет, никто ее не ждет! Господи, как больно! Мама хохочет на берегу реки...
Желтые кувшинки с крупными лепестками слабо колышутся на воде. «Плывите сюда, Анечка, смотрите, какие кувшинки. Да не бойтесь же, здесь неглубоко». — «Ой, Гриша, боюсь». — «Да чего вы боитесь? Вот смешная... Да раздевайтесь же, что вы в тренировочном паритесь». Кувшинки колышутся, синие стрекозы с большими глазами летают над рекой. «Да бросьте же книжку. Что вы там все зубрите? В отличницы выбиваетесь?» — «Это устав ВЛКСМ. Нас осенью в комсомол принимать будут». — «Да подождет ваш ВЛКСМ». — «Ой, что вы говорите, Гриша! Какой вы несознательный. Комсомол — помощник партии». Душно. Мохнатые шмели сердито жужжат над белой кудрявой кашкой. Смуглые кобылки выстреливают собой в воздух. «Ну, раздевайтесь? Ой, какой у вас купальничек!» — «Это мама купила. В торгсине». — «Да не колотите так по воде, вот, за плечо мое держитесь». — «Пустите, я маме пожалуюсь!» — «Да хоть папе». — «У нас нет папы. Его на фронте убили». — «Да что вы, совсем целоваться, что ли, не умеете?» Солнце, стрекозы, кувшинки...
— Женщины, на осмотр!
Стрекозы, кувшинки... Шмели жужжат... Десятки тапочек шаркают по коридору...
— Анна Сергеевна, на осмотр зовут.
Кувшинки колышутся на воде...
— Да куда ей, она ж под капельницей.
Тапочки шуршат по коридору, десятки, сотни тапочек, шур-шур, шур-шур... Визг. Вой. Топот.
— Ой, чегой-то?
— Девственницу повели.
— Какую девственницу?
— Да девочку вчера привезли, пятнадцатилетнюю. По «Скорой», с болями. Так она уже третий раз себя осматривать не дает.
— Во орет-то!
— Чему ж вы радуетесь? Она ведь девушка, ей же больно.
— Девушка? А ежели ты девушка, так содержи свой нижний этаж в порядке.
— И не стыдно вам! Она ж вам в дочери годится.
— О, и ты, старая транда, туда же! Тоже в девушки метишь. Ишь, губы-то намазюкала.
— Женщины, не ругайтесь. Не видите, вон, человек заснул. Анна Сергеевна, вы спите? Спит.
Дверь хлопает. Хлопает. Хлопает. Мама в синем шифоновом платье в белый горошек выходит на террасу. «Аня, я в Москву, на концерт. Ты духи мои не брала?» Золотистые волосы мягко дымятся вокруг ее головы. Губы чуть тронуты розовой помадой. «Как ты думаешь, может, лучше бордовую? Или эту оставить? Аня, ты что, заснула, что ли? Какую помаду лучше? Наказание, а не девочка. Теперь уже и днем норовит заснуть. Значит, так. Слушай меня. Я в Москве заночую, а ты запрись хорошенько, мало ли чего...» Шмели жужжат... Смуглые кобылки выстреливают собою в воздух... Калитка хлопает. Ушла. Все ушли. На концерт. На осмотр. Бросили ее. Никому, никому не нужна!
— Аня, чулочки надевай. Ну давай, доча, вот так: на правую ножку, на левую.
— Пап, а ты мне юлу подаришь?
— Зачем тебе юла? Ты сама как юла.
— Ну, пап!
— Подарю, доча, подарю. Только не вертись, в садик опоздаем. Теперь ботиночки. Вот, умница у меня дочка.
— А пальчик поцелуешь?
— Ам, скушаю пальчик.
— Скушал? Сладкий?
— Ужасно сладкий пальчик. А чего это ты ножки стискиваешь? На горшочек посадить? Не хочешь? Точно не хочешь? Ну смотри, нам далеко ехать. Давай на горшочек...
— Женщины! Вы что, не могли ей судно подать? Вы же ходячие все. Аккуратней, мамаша, надо! Весь матрас насквозь. Да ладно, ладно, не плачь, всяко бывает. Да не плачь, говорю, щас поменяем.
Дождь барабанит по стеклу. Во сне что-то обиженно бормочут женщины, время от времени кто-то то ли всхрапывает, то ли вскрикивает, странные звуки доносятся из разных углов. Анна Сергеевна лежит на левом боку, прижимая к животу пузырь со льдом. «Больно?» — как будто бы спрашивает Гриша. «Больно». — «Но как же так? Почему выкидыш? Ведь мы так хотели этого ребенка». Анна Сергеевна втягивает голову в плечи, седые волосы липнут к лицу. «Теперь ты на мне не женишься?» — спрашивает она. «Женюсь, — неуверенно отвечает он и морщит свой мальчишеский лоб. — Но почему? Ты ничего не делала?» — «О чем ты?» — «Так, ни о чем...» Дождь барабанит по стеклу, бормочут, вскрикивают, всхрапывают женщины, и как бы в ответ им вдруг начинает где-то выть собака, потом другая, третья, вы знаете, Анна Сергеевна, а у нас там в подвале, оказывается, морг, от пузыря со льдом леденеет живот, руки, ноги, ледяные мурашки ползут по спине, холодно, холодно, очень холодно...
Анна Сергеевна стонала. Она точно помнила, что в этот раз ей на ночь сделали укол баралгина, а не слабенький анальгин. Тем не менее она стонала, потому что на маму, появлявшуюся теперь только глубокой ночью, баралгин уже не оказывал никакого действия. Она усаживалась рядом с кроватью, ставила ей на живот большую красноклеенчатую сумку и начинала извлекать оттуда раскаленные апельсины и украшать ими постель. «Почистить тебе апельсинчик, доченька?» — спрашивала она и вонзала палец в нестерпимо пылающий апельсин. Анна Сергеевна вскрикивала, отталкивала ее руку, плод шлепался на пол... «Как ты могла? Как ты могла, глупая девочка?» — «Я не девочка, мне шестьдесят пять». — «Шестьдесят пять? — удивляется мама. — А мне тогда сколько?» — «Тебе нисколько. Тебя нет». — «Меня нет? — Мама улыбается из гроба, седые волосы мягко дымятся вокруг головы. — Меня нет? А ты в этом уверена?» — «Уйди, мама, уйди, не мучай меня».
Дверь открывается. Открывается. Открывается. Олеся в байковом бордовом халатике сидит на табуретке посреди красной комнаты. «Так, значит, детка, папы у тебя нет? А мама, как же мама тебя одну в Москву отпустила?» Рыжие кудри жалко липнут к детскому лбу. «А я, Анна Сергеевна, от нее убежала». Душные обои, красные, с зелеными птицами, попугаи, наверно, от паркета пахнет свежей мастикой. «Так чья же это квартира, детка?» — «А это женщина одна, она на юг уехала, а меня постеречь пустила». — «А что же ты будешь делать, когда она вернется?» — «Не зна-аю». Душно, от красного паркета тянет жаром. «Олеся, детка, не хочешь искупаться? Что? Воду горячую отключили? Так я нагрею». Господи, какая худющая, ребра торчат, позвонки — как крупные пуговицы. «Так не горячо? Вот мыло. Давай я тебя оболью. Вот так, с гуся — вода, а с Олеси — худоба». Слабые, неразвитые груди, под мышками — пушок. «Так сколько тебе лет, детка?» — «Двадцать». — «Неужели двадцать?» Олеся смеется, мелкие капли брызжут во все стороны. Сладкая, сладкая, сладкая девочка!
Вот дурочка, все целует и целует ее. Совсем зацеловала. «Олеся, детка, так ты в какой институт поступать хочешь? Что ж, это хороший институт. Только общежития нет? Так ты у меня живи. Скажи, а та женщина, у которой ты живешь, она тебя тоже купает? Не разрешай, нехорошо это. Да нет, что ты, я не ревную. Завтра и переезжай. Только вот мама твоя... Она у тебя, кстати, кем работает? Ну, ну, не буду, честное слово, не буду. Ну не плачь». Вот дурочка, опять целуется...
Анна Сергеевна улыбалась. Потому что ей наконец-то удалось нарвать кувшинок. Оказалось, что мамину бдительность можно усыпить совершенно элементарным способом. Достаточно было дать медсестре шоколадку, красивую импортную шоколадку. Конечно, морфий не идет ни в какое сравнение с каким-то баралгином! А обошлось ей это всего лишь в шоколадку. И вот теперь желтые кувшинки влажно сверкали в жестяном тазу, а она смеялась и рассказывала Грише о том, как ей удалось провести маму. Ох, мама хитрая, хотела использовать ее тело для того, чтобы увековечить себя. Так некоторые осы откладывают свои яйца в живую гусеницу, чтобы их личинки питались чужим организмом. А потом, когда гусеница заживо съедена, из нее вылезает оса, точно такая же, как первая. Да, да, теперь она много читает о насекомых, она теперь знает, на что они способны. Она уже не та глупенькая девочка-школьница, какой он ее знал. У нее у самой теперь есть девочка. Оказывается, ее не зря тогда тошнило, потому что когда девочка, то всегда токсикоз. Она ведь с самого начала, как только ее стало подташнивать, поняла, что у нее будет девочка. Правда, девочка на них не похожа, ни на нее, ни на Гришу. Но это не страшно. Главное, что не похожа на маму. Она ему признается, теперь ведь можно, поскольку у нее теперь все равно есть девочка, что она тогда действительно вызвала выкидыш. Теперь ведь можно. Теперь-то он на ней женится? Да, она тогда избавилась от ребенка. Мама велела. Это из-за мамы она была такой бесполой! Нет, нет, она ничего не путает, дело не в логике, просто, избавившись от того ребенка, она теперь, через пятьдесят лет, обрела другого, не имеющего никакого отношения к маме. Нет, она не убийца, зачем он так говорит? Просто она и сама не хотела продлевать дурную множественность этих крохотных женщин с белыми наманикюренными ручками, женщин, которые жертвуют своими детьми ради мужчины, ради любовника! А она всегда любила детей, и теперь-то у нее есть девочка, но такая, в которой нет ни капли белокурой маминой крови. И имя у нее редкое — Олеся! Правда, девочка сложная, но такая умница, такая талантливая. Хотя иногда нарочно говорит ужасные вещи, чтобы ее никто не полюбил. Глупенькая, напугана людьми, боится, вдруг кто-нибудь ее полюбит. Это ничего, что они уже не молодые. Ей всего шестьдесят пять. А сколько же ему? Семьдесят, наверно? Да, она слышала от других, что у него жизнь не сложилась. Говорили даже, что он пьет. Но это ничего. Теперь он женится на ней, и маме не удастся заманить ее к себе. Теперь-то все в порядке. Достаточно было дать медсестре шоколадку. И ничего, что шоколадка на самом деле Настасьина. Она обязательно выздоровеет, выйдет из больницы и подарит Настасье две, нет, три шоколадки! Ведь где их взять в больнице, ее же никто не навещает. Господи, как больно!
Дождь барабанит по стеклу...
«Представляете, Анна Сергеевна, вдруг бы мы с вами не познакомились. Вдруг бы я в другую библиотеку пришла». — «В другую? — пугается Анна Сергеевна. — Зачем в другую?» — «Ну, мало ли...» Дождь стучит... «В кино, Олеся, хочешь?» — «Нет». — «А в театр? Ты не стесняйся, я вчера пенсию получила». — «Не хочу в театр». — «А что ты такая грустная?» — «А я вот думаю, вдруг с вами что случится». — «Дурочка, что со мной случиться может?» — «Заболеете и...» — «Что «и»?» — «Умрете». — «Ну, я еще на твоей свадьбе погуляю». — «Я не хочу замуж. Он драться будет». — «Да разве ж все мужья дерутся?» — «Не все?» — «Ты бы лучше косметику какую-нибудь положила. Хочешь, реснички тебе подкрасим? Ну не буду, не буду. Что же ты плачешь?» — «А вы не умрете?» Как светло, как душно, яркий луч дрожит на столе, желтые крылышки трепещут — бабочка, настоящая бабочка распласталась на столе, слабо шевелит лапками. «Смотри, Олеся, не улетает». — «А я ее иголкой пришпилила». — «Как — иголкой? Зачем?» — «Чтоб не летала, она противная. А вы не умрете?»
— Женщины, на осмотр!
Тапочки шуршат, тапочки, тапочки, тапочки...
— Подвиньтесь! — Высокая женщина с рыжей «химией» на голове втискивается на диван между Анной Сергеевной и девочкой лет пятнадцати в застиранном больничном халате. — Кто последний в смотровую?
— Мы, — отвечает девочка.
— А ты не безобразничай. — Женщина трясет головой и стучит рукой по коленке. — Понавезли тут всяких. Все, что ль, последние?
— Я последняя, — успокаивающим голосом говорит Анна Сергеевна.
Женщина подозрительно оглядывает ее и поджимает губы.
— С чем лежим? — деловито осведомляется толстуха в тренировочном костюме, приближаясь к рыжей и подмигивая окружающим.
Рыжая молчит.
— Какие синтомы-диагнозы?
— Вы не имеете никакого юридического права! — взвизгивает рыжая. — Я требую освободить меня. И не смейте колоть мне туберкулез!
— Ты что, туберкулезная? — Толстуха опасливо отступает назад. — Черт-те кого кладут.
— Сама ты туберкулезная. Я здоровая сюда поступила. А они мне туберкулез прибивают.
— А разве здесь есть туберкулезное отделение? — удивляется девочка.
Рыжая кидает на нее презрительный взгляд и сухо смеется:
— Ты совсем глупая, что ли? Не понимаешь, где находишься? Не отделение, а вводят в нас. Говорят, что анальгин, а сами в шприц туберкулезу наберут и колют. Ну бактерии, элементы такие медицинские, навроде чумы, с анальгином смешают и колют. А потом изучают, опыты делают, выживем или нет. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь!» — передразнивает она кого-то. — А я не волнуюсь. Я свои права знаю. Ни-ка-кого юридического права не имеют колоть!
Девочка хихикает.
— Смейся, смейся. Недолго тебе еще смеяться. Близятся, близятся сроки-то. В древних книгах все про это прописано. Погонения скоро начнутся, страшные погонения. Сказано, — женщина воздевает острый палец к потолку, — войны пойдут, войны... Мне женщина одна богомольная по секрету доверилась. И хоронить будет некому. Уже по телевизору тарелки показывали летающие. А кто знает, что в них, в этих тарелках?!
— Котлеты с перловкой, — прыскает девочка.
Толстуха одобрительно смотрит на нее и говорит:
— И впрямь жрать чего-то захотелось.
Капля упала... Вторая... В трубочку — в катетер — в вену... В трубочку — в катетер — в вену... А вы не умрете? Кап... Не умрете? Кап... Не умрете? «Олеся, детка, смотри, что я придумала. Я на тебя завещание написала. На квартиру. А вдруг я и впрямь заболею. Как же ты без меня будешь?» В катетер — в вену... В катетер — в вену... Олеся на кухне, вся перемазанная солнечной сладостью, смеется: «Да вы, Анна Сергеевна, еще меня переживете». — «Да я так, девочка, мало ли что, ты не бойся, я еще не скоро умру. Еще на твоей свадьбе... Нет-нет, не хочешь замуж, ну и не надо, без них обойдемся». Обойдемся... Обойдемся... Обойдемся... «А это, Анна Сергеевна, Костик. Он на параллельном курсе учится. Стихи пишет. Я его чаем напоила. Ничего, что мы здесь у вас похозяйничали?» Так, значит, этот, с бабьим лицом, — Костик. Расселся на кухне, как хозяин. «Ну что ты, Олеся, ты же у себя дома. Пейте, Костик, пейте. А может, вы кушать хотите? Мужчина должен кушать». — «А я не мужчина». — «А... кто же вы?» — «Никто изначально не мужчина и не женщина». — «То есть как это?» — «Пол — это следствие падения духа в материю. А я уже вышел из цепи перевоплощений. Мое астральное тело больше не подвергается воздействию половых ферментов. Как говорит йог Чандрачарака...» — «Йоги? Это которые на голове стоят?» Олеся хохочет: «Ой, Анна Сергеевна, ну вы и скажете. Йоги — это которые в астрал выходят. Так, Костик?» — «Ну, для данного этапа вашего развития можно и так». — «Олеся, ну что же ты. Корми гостя. Картошечки хотите?» — «Спасибо, у вас правильная аура, вот только... Да нет, ничего».
— Женщины, на обед!
— Женщины, на осмотр!
— Женщины, свет гасите, спать пора...
«Олеся, а Костик этот, он что, ненормальный?» — «Костик? Да нет, он просто преодолел свой пол. Ну, то есть он мне все объяснил, он физически мужчина. Только давно не перевоплощался. Карму отрабатывал. Он говорит, на высотах духа пола не существует». — «Ты бы с ним, детка, все-таки поаккуратнее, мало ли что...» — «Да нет, он хороший».
«Ну что, Сергевна, скоро бабушкой будешь?» — «Да вы что ж это, Настасья Ивановна, такое говорите?» — «Да ты что, слепая, что ль? Губы-то у ней как распухли! И пятнышки на лице. Да ладно, ладно, мое-то какое дело. Не моя печаль чужих детей качать». — «Олеся, детка, тебя опять вчера тошнило? Как же так? Нет, рыба была свежая. Ну не расстраивайся, не надо. Заявление в ЗАГС подать нужно. Как — не может? Почему?» — «Он говорит, что это ввергнет его в новый круг перевоплощений. Что он тогда упадет в свое низшее «я». Что надо быть выше земного брака». — «Как же так, детка? Может, в деканат на него написать? Ну не расстраивайся, бог с ним, с твоим Костиком. И без него ребеночка вырастим». — «Нет! От меня пахнет». — «Чем пахнет?» — «Воняет. От меня воняет. Я грязная! Грязная! Грязная!» — «Успокойся, успокойся, что ты?» — «Не подходите ко мне, Анна Сергеевна, не подходите! Я воняю!» — «Господи Иисусе, да что с тобой? Куда же ты? Олеся, вернись!» Дверь хлопает, хлопает, хлопает. Ушла. Бросила ее. Все бросили. Никто не навещает. Никому не нужна.
...Ребенок плачет... Кто принес сюда ребенка? Может, Олеся? Нет, Олесе еще рано родить. Да и вряд ли она решила родить, аборт, наверно, сделала. Да она и не знает, что я в больнице. Мама... Откуда опять мама взялась? Стоит, улыбается... «Что, Анна Сергеевна, все в куклы играешь?» Нет-нет, ребенок настоящий... Плачет. Громко. Маленький... Надо спасать ребенка, а то мама его отнимет. Осторожней, осторожней, бочком из палаты. Нет, сперва халат надеть, в халате мама ее не узнает. А что, если это все-таки Олесин малыш? А вдруг там Костик? Он ведь убьет ребенка. Убийцы! Они все убийцы! Они преодолели свой пол и теперь убивают. Господи, как больно! Как светло! Как ярко сверкает река! Говорят, теперь многие рожают в воду. А что, если попробовать? Может, и у нее получится? Сейчас, сейчас. Вот так, на четвереньки встать. Больно. Это схватки, наверно, начались. Она же ничего в этом не понимает. Она же никогда не рожала. Снова схватки. Кувшинки. Желтые кувшинки. «Плывите сюда, Анечка». Шмели летают. Снова схватки. Не бойся, Олеся, рожать — это не страшно. Только очень больно. Держись, девочка! И без твоего Костика воспитаем ребеночка. Чудовищная опоясывающая боль. Девочка не выдержит. Малышка моя, доченька, Олеся! Стрекозы, много стрекоз, тапочки шуршат по коридору, сотни, нет, тысяча тапочек. Визг. Вой. Топот. Неужели это я кричу? Больно! Больно! Больно! Нет, нет, сейчас полегчает. Я читала, что полегчает. Просто таз слишком узкий. Сейчас-сейчас, еще одно усилие. Кости расходятся, это тазовые кости расходятся. Так в книжке написано. Вот разойдутся, и все будет в порядке. И тогда Гриша на ней женится. «Плывите, Анечка, плывите, это не страшно». Сейчас, сейчас. Встревоженные лица наклоняются к ней, молодые, в белых колпачках. Чего они боятся? Схватка? Освобождение. Легкость в теле. Пустота. Неподвижность. Мрак. «Отмучилась». Кто сказал «отмучилась»? Наверно, эти, в белых колпачках. Закрывают ей глаза. Тело медленно холодеет. Отмучилась. Родила.
В САДУ
(Рассказ)
I. Кожа лица у нее была серая, губы — густо-бордовые. Одеваться сама она не любила и требовала, чтобы ее одевали другие.
— Штанишки, — говорила она дочери, — надень на меня штанишки, — и раздвигала свои полные ноги шестидесятипятилетней женщины.
— Комбинашку, — говорила она и, подняв вверх руки, зажмурившись, ждала, пока на нее натянут голубую комбинацию.
— Пусинька моя! Как мамочку свою любит, — говорила она и, поймав за плечо не успевшую увернуться дочь, впивалась ей в шею бордовым поцелуем.
— Ну, не буду, не буду! — обижалась она.
— Нет, честное слово, не буду, — пугалась она.
— Ты ведь мамочку любишь. Ну скажи, что любишь, — плакала она. И если дочь не успевала вовремя среагировать, то она жаловалась на нее своему мертвому мужу:
— Ты видишь, нет, ты видишь, как твоя дочь обращается со мной! Даже приласкаться не дает.
И тогда мертвый входил в комнату и молча смотрел на дочь.
II. Солнечный зайчик дрожал в медном тазу и отбрасывал радужные блики на ее наклонившееся над тазом лицо. А мертвый муж смеялся и лил ей на голову солнечную воду из голубого пластмассового кувшина. И она притворно сердилась, говорила, что вода горячая, и встряхивала своими длинными густыми волосами. И тогда веселые капельки выбегали из ее волос и, расправив прозрачные крылышки, с тихим стрекотом разлетались в разные стороны сада. И муж с удовольствием включался в игру, делал испуганное лицо и сердито отбивался от стрекочущих капелек, норовящих усесться ему прямо на лицо. А вокруг щелкал, свистел и истекал солнцем сад. Она еще раз сильно встряхнула головой и метнула лукавый взгляд на мужа. Но мертвый на этот раз рассердился по-настоящему и голосом дочери начал ей выговаривать. «Ну что ты делаешь? — говорил он. — Ты мне опять весь халат забрызгала. Ну, все, давай вытираться». И выключил душ. Сад вдруг перестал быть зеленым, большим и шелестящим и стал белым, тесным и кафельным. Но ей хотелось еще немножко побыть в саду, и она пустилась на хитрость.
— Но ты ведь мне еще ножки не вымыла, — возразила она мужу.
Но муж уже окончательно превратился в дочь и с красным полотенцем в растопыренных руках подступал к ванне.
— Оп-ля! — Полотенце ловко накинули на ее мокрую, коротко остриженную голову и начали сильно тереть ее, ворча, что лужа, натекшая на пол, конечно же, опять просочится к нижним соседям. Потом на нее стали натягивать ночную рубашку. Но поскольку она была обижена на дочь, то решила не поднимать руки вверх и не помогать ей. Тем не менее рубашку все-таки натянули на ее распаренное полное тело, потом ухитрились надеть на нее халат и повели на кухню пить чай.
На кухне она было снова попыталась превратить дочь в мужа, но это у нее не получилось, и, смирившись на сегодня, она принялась пить чай.
А потом пришел Тот человек, увел дочь в маленькую комнату и начал там с ней шептаться.
Тогда она вышла из кухни в прихожую, пошла к зеркалу и нарисовала себе густо-бордовые губы. Но дочь и Тот человек шептались слишком тихо.
III. Дочь была пусинька и очень любила свою мамочку. И мамочка тоже любила ее и, конечно, желала ей счастья. И это не она, нет-нет, упаси боже, не она, а мертвый муж сердился на посещение Того человека. А она ничего не имела против него. Даже когда он разбил ее любимую чашку. Даже когда предложил передвинуть их стол с середины комнаты к окну, а диван поставить вон туда. Но после перестановки мебели, произведенной Тем человеком, мертвый почти целую неделю не входил в комнату, изменившую свое обличье.
IV. Это очень нехорошо с его стороны, говорит она Тому человеку. Воспользоваться отсутствием ее дочери для того, чтобы наговорить старой больной женщине таких гадостей. При дочери он никогда не посмел бы этого сделать. И все это неправда — то, что он говорит ей. Она мучает свою дочь! Это же надо додуматься до такого! Да она за свою дочь, она за свою дочь не знаю что готова сделать! А он просто дурной человек, да, да, очень нехороший, она давно это заметила. Воспользоваться тем, что она спит и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, и сидеть перед ней и говорить гадости. Причем так подгадать, чтобы прийти к ней именно в тот сон, где нет ее дочери. Он ведь знает, что она старая женщина, она так устает за день, что у нее нет сил проснуться и тем самым избавиться от него. И вовсе это неправда, что она и так целый день спит. А если иногда и спит, так это ей нужно для здоровья. И врач всегда говорил, что ей надо побольше спать. А здоровье ей нужно для того, чтобы быть дочери опорой. Ведь кому нужна ее дочь, кроме матери? Кому нужна с такой внешностью? Тридцать пять лет, и все еще не замужем. И вряд ли кто ее возьмет. И хозяйка дурная. Да, да, а он этого не знал? Очень плохо готовит. Совсем не умеет готовить. Поэтому матери надо спать, много спать. Ради своей дочери. И это не она, а он мучает дочь, настраивая ее против матери. Она уверена, что настраивает. А если матери не будет, то кому же девочка будет нужна? Уж не ему ли? Да он никогда на ней не женится. С ее-то носом! С ее-то жидкими волосами! А фигура? Бедная девочка так дурно сложена! Да нет, она не против, пусть женится. Разве она не желает счастья своему ребенку! Неправда, неправда, что она могла бы одеваться и сама. Нет, не могла бы! И не мучает, неправда! Гнусная неправда!
V. А потом у нее вдруг кончилась помада. Целых пять дней дочь не могла найти ей в магазине помаду нужного цвета. И целых пять дней она боялась, что муж увидит ее с ненакрашенными губами. Ее страх передался мужу, и он не приходил.
VI. Дочь опять не дала поцеловать себя в шейку. Но поскольку помада была уже куплена и губы накрашены, то муж вошел в комнату и начал молча приближаться к дочери.
VII. Сад шелестел, исторгая из своих глубин желтые, зеленые и розовые запахи, удивленно ойкал губами лопающихся бутонов и разрисовывал воздух голубыми стрекозами и смугло-красными бабочками. А муж говорил, что ей очень к лицу новый синий сарафан в белый горошек, и спрашивал, не налить ли ей еще чаю. А потом пришел Тот человек и разбил ее синюю любимую чашку, которая так шла к ее новому сарафану, нравящемуся мужу, и переставил всю мебель в их квартире. И после этого муж почти целую неделю не появлялся в комнате, изменившей свое обличье. И ей пришлось маяться без сада, поскольку в отсутствие мужа она не умела сама переноситься туда.
VIII. Тот человек повадился приходить все чаще и чаще. Наяву он прикидывался вежливым и предупредительным, а во сне говорил ей ужасные вещи. И, загнанная в ловушку сна, беззащитная, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, она была вынуждена выслушивать все те чудовищные обвинения, которые он никогда не позволял себе высказывать наяву.
— Вы заедаете век вашей дочери, — говорил он, и в глазах его светилась тихая ненависть. — И вообще, зачем вы так ярко красите губы? Кого вы собираетесь прельщать? А посуда? Вы что, не в состоянии вымыть за собой тарелку? Вы же все время требуете к себе внимания, внимания, внимания! Вы и мужа своего заездили. А теперь за дочь принялись?
Тогда она начинала плакать, и он смягчался. Он говорил ей, что все еще можно уладить, не надо так плакать, он знает выход. Ей нужно умереть. И всем будет хорошо: и ей, и дочери, и покойному мужу.
— Ну что вам стоит? — ласково уговаривал он. — Вы же всех этим освободите.
IX. Дочь все реже и реже позволяла ей целовать себя в шейку и в губки. И жалобы на нее покойному мужу уже не помогали — мертвый перестал вмешиваться в их дела. Да и вообще, теперь он приходил не часто и не надолго. А Тот человек приходил почти каждый день, делал невинное лицо и вежливо, подробно — слишком подробно — расспрашивал ее о здоровье.
ФАРАОН
(Рассказ)
I. Две крохотные женщины, с телами цвета солнца, прикрытыми только узенькой нарядной повязкой на бедрах, неподвижно вершили свой нежно-угловатый танец. Эта трепетная неподвижность мучительно радовала его. Но все же он попросил крохотных женщин действовать немножко поэнергичнее. Если они хотят успеть завершить танец. Потому что с минуты на минуту может вернуться начальник. Но вместо начальника пришла жена, насильно разжала ему ложкой зубы и влила в него горечь. Он знал, что она делает это нарочно — из ревности к солнечным женщинам, но протестовать побоялся, потому что тогда она стала бы говорить, что ему необходимо хорошенько пропотеть, и тем самым окончательно спугнула бы танцовщиц. Вряд ли им могли нравиться потные мужчины. Горечь медленно разливалась по телу. Но он терпел. Он терпел долго, потому что жена нарочно не уходила и изыскивала для этого различные предлоги: подчеркнуто медленно переставляла лекарства на табуретке, подтыкала ему одеяло, долго ощупывала лоб... И все-таки он ее перетерпел, и ей пришлось уйти. Он захихикал и подмигнул маленьким женщинам. Теперь-то они видят, кто хозяин в доме! Только настоящий мужчина умеет себя правильно поставить. А какой он любовник! Они даже и представить себе не могут, какой он любовник. Но для того чтобы и это оценить, нужна настоящая женщина. Он им по секрету признается, что его жена ничего в этом не понимает. Иначе разве она уклонялась бы от... Господи, какой грубый язык! От... А как это называется у них, в Древнем Египте? Ну, он их очень просит, пусть скажут. Ему просто необходимо знать, как это называется у них, в Древнем Египте. А, он понимает, чуть попозже. Но они ведь скажут ему, скажут? Конечно, конечно, зачем торопиться — у них в запасе уйма времени: жена еще долго будет мыть посуду. Она вечером всегда долго моет посуду. А потом говорит, что устала и хочет спать. Да он в общем-то на нее давно уже и не обижается. Эпоха такая — все женщины хотят спать. Он-то сам ведь здесь случайно. По недоразумению. А вообще-то он должен был родиться в Древнем Египте. Ну, ничего страшного, у них еще в запасе уйма времени, он потерпит. Настоящие мужчины умеют терпеть. Кстати, он у них уже давно хотел спросить, чем они рисуют себе такие длинные глаза? Тоже попозже? Хорошо, он не настаивает. Ну вот! Он же говорил им, чтобы они поторопились! Он же предупреждал их! Начальник вплотную подошел к его постели и голосом едким, как стручок зеленого перца, вежливо поинтересовался: чему его учили в школе? Он опять все в своем переводе напутал. Он что, не знает, что нет такого выражения «толстые кишки», а есть — «толстый кишечник»? И вот тут ляп, и вот тут. Да, конечно, дирекция понимает, что он натура поэтическая и работает у них временно. До первой публикации его бессмертных стихов. А там он от них уволится. Но поскольку публикация, по всей видимости, откладывается на неопределенный срок, то ему все-таки следовало бы время от времени заглядывать в медицинский словарь. А потом начальник ушел на кухню и начал там громко греметь посудой.
II. И та девочка говорит, что ему слабо лизнуть на морозе железо. А он говорит, что ей самой слабо. Тогда она высовывает длинный розовый язык и начинает лизать железную решетку, загораживающую вход в подвал. Он не хочет выглядеть маменькиным сынком и начинает лизать решетку рядом с ней. И вдруг соприкасается кончиком языка с ее холодным острым языком. Она отпрыгивает в сторону и визжит, что он хотел затащить ее в подвал. Он пугается и спрашивает зачем. «Сам знаешь зачем», — ухмыляется она и, увидев, что из подъезда выходит ее старший пятнадцатилетний брат, начинает очень громко плакать. Брат подходит к нему, берет его за ухо и обещает сейчас же отвести его к завучу, чтобы его исключили из школы. И он начинает всячески унижаться перед ее братом. Тогда брат говорит, что ладно, так и быть, он не отведет его к завучу, а лучше расскажет все его жене и та отнимет у него книжку про Древний Египет, а может быть, даже вообще выключит его. Ведь все в школе знают, что жена время от времени его выключает.
III. И он спорит с Валерой и доказывает ему, что никакое это не бегство от действительности. Напротив, это бегство в действительность. «Как ты не понимаешь, — горячится он, — мы живем призрачной жизнью. А они, посмотри, какая мощь, какая полнокровная жизнь!» И тычет пальцем в альбом, в скульптуру фараона. Но Валера говорит, что не видит ничего полнокровного в том, чтобы рифмовать «розы» и «слезы». И он испуганно холодеет и спрашивает, уж не считает ли Валера его графоманом. Валера неуверенно отвечает, что не считает, но все же «розы» и «слезы» — плохая рифма. Банальная. Это он ему говорит как друг. Потому что главное в дружбе — это честность. Тогда он начинает объяснять Валере — тоже как друг, — насколько яркой и страстной была жизнь в Древнем Египте. Не то что у нас. Но Валера говорит ему, что он просто пытается согреть своей энергией ров с мертвецами — в надежде, что гальванизирует их и они будут любить его так, как ему хочется. Но рифма «розы-слезы» от этого лучше не станет. Они оба горячатся и кричат так громко, что жена приходит с кухни и выключает его.
IV. Он рвет тюльпаны, огромные красные тюльпаны. Нет, не красные, а пунцовые, потому что «пунцовые тюльпаны» звучит лучше, чем «красные». Музыкальнее. В сквере светло, но он знает, что это ночь и потому можно сколько угодно рвать с клумбы тюльпаны.
V. Жена снова разжала ему ложкой зубы и влила в него горечь. И он начал подбирать рифму к слову «горечь», потому что ни у кого еще нет такой рифмы, и если он ее найдет, то Валера больше не посмеет сказать ему, что он боится действительности. Но жена так громко моет посуду, что все время вспугивает рифму. И делает это нарочно — из ревности к маленьким женщинам с телами цвета солнца. Кстати, они ему так и не сказали, как это называется у них, в Древнем Египте? Но крохотные женщины неподвижно вершат свой нежно-угловатый танец и не отвечают ему. Наверное, мужчины эпохи Нового царства — видите, он хорошо помнит, что они из эпохи Нового царства, — давно уже подобрали бы рифму к слову «горечь» и сумели разговорить неразговорчивых плясуний. А на месте Валеры он вообще лучше бы помолчал, тот не то что «розы-слезы», но и «задницу» с «яичницей» срифмовать не может. Ну вот, слава богу, он их рассмешил. Они улыбаются ему, и улыбки у них такие же длинные, как глаза. И ему хочется потрогать хотя бы одну улыбку. Он протягивает руку, но та девочка быстро высовывает свой длинный розовый язык и визжит, что он хотел затащить ее в подвал. И тогда из подъезда выходит начальник, берет его за ухо и спрашивает, почему он опять написал «толстые кишки» вместо «толстого кишечника», он что, не знает, что к слову «кишечник» еще никто не подобрал рифмы?
VI. А что касается жены, так он сам не хочет с ней спать. Тоже мне удовольствие — это нельзя, то нельзя! Он ей еще покажет, кто хозяин в доме. А Валера уж лучше помолчал бы. У него и такой жены нет. Ах да, это не Валера, а та женщина так обидно смотрела на его жену и все советовала ей сменить стиль одежды. Да, да, он теперь понял, все дело в одежде. Если бы она одевалась по-другому, то разве она стала бы уклоняться от... от... Он произносит грубое слово. И ему становится легче. Надо было и вправду затащить ее в подвал. Или нет, лучше не ее, а жену. И пусть там моет свою посуду. А та женщина сказала, что он похож на фараона. Такой же волевой подбородок. Он сцепляет зубы и выпячивает подбородок. Но жена разжимает ему зубы ложкой и вливает в него горечь.
VII. В комнате светло, но он знает, что это ночь и потому можно сколько угодно рвать с клумбы тюльпаны. Он срывает один тюльпан, раздвигает его упругие лепестки и находит внутри их сосульку. И он смеется и говорит той девочке, что ей слабо найти такую сосульку. И тогда она завизжала, и фараон тяжело сошел со своего трона и отнял у него сосульку. Он смотрел на сосульку, жалко тающую в руке фараона, и плакал. А фараон смеялся и говорил, что он рева-корова и таким не место в Новом царстве. А потом сосулька окончательно растаяла.
VIII. Когда его хоронили, жена очень плакала.
ОЗЕРО
(Рассказ)
И когда он почти уже доплыл до середины озера, они настигли его. Упругая вода под ним вдруг обмякла — и маленькая женщина, просунув свою узкую, изящную голову в полуоткрытую дверь, быстро облизнула острым язычком свой ярко накрашенный рот и спросила его: «А это не очень больно?» — «Что — это?» — удивился он. Но она уже молчала, и удлиненные глаза ее становились все более и более круглыми. Он вздохнул и вяло поплыл обратно. Дряблая вода быстро впитывала в себя остатки той радости, которая переполняла его весь вчерашний день и сегодняшнее утро. ...А потом она лежала, натянув одеяло до самого подбородка, и смотрела на него глазами несправедливо обиженного ребенка. «Что?» — испугался он. «Ты! — всхлипнула она. — Ты! Ты сказал, что это будет не больно». Но ведь он не говорил ей этого. Остроносая стайка красных рыбок промчалась под ним и скрылась в синих водорослях. Он обрадовался рыбкам, вернее, обрадовался возможности обрадоваться и начал усиленно думать о них. Какие они красивые, думал он, как редко мы соприкасаемся с красотой. Он расстроился, перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Небо синее, думал он. Очень синее, думал он. Как в детстве на даче. Белый гамак, думал он. Качается, и качается, и качается. Дело, кажется, пошло на лад, и он почти уже представил себя лежащим в гамаке и просящим маму дать ему еще одну грушу. И если бы он успел надкусить ее, то они оба отстали бы от него. Но он не успел, потому что рыбки все же были цвета ее помады. Сергей Иванович говорил ей, что не стоит так ярко красить губы. Она и так слишком яркая. Сергей Иванович ее хочет. Так, по крайней мере, говорит она. Наверное, знает, что говорит. И еще говорит, что Сергей Иванович — гений. Ну, допустим, гений. Разве из этого следует, что тот имеет право мешать ему качаться в гамаке? Белый гамак. Очень белый гамак. Настолько белый, что пошли вы все к чертовой матери! И ты со своей гениальностью, и ты со своей девственностью! Морковку! Он, видите ли, по утрам ест морковку! Вегетарианец, твою мать! Да нет, я не спорю, он действительно очень талантливый художник. Но морковка — это смешно. Есть по утрам морковку и на полном серьезе считать себя из-за этого нравственным человеком. Ха-ха-ха! А, черт, совсем забыл о зубе. Конечно, отсутствие зуба никого не красит. У нее зубы красивые. И помада ей идет. И она любит смотреть на себя в зеркало. И я для нее не более чем зеркало. «Вселенная — это система зеркал, — сказал Сергей Иванович, — они установлены под разными углами друг к другу и, взаимоотражаясь, порождают изображения. И эти изображения и есть мы все: деревья, камни, люди...» Сергей Иванович похож на корягу, узловатую, лысую корягу. Но такую корягу, которая способна еще зазеленеть. Да нет, чушь собачья, конечно же, она с ним не спит. Все-таки двадцать пять лет разницы. Белый гамак. Синее небо. Желтая груша. Мама, прогони осу! Да не махай ты руками, она не укусит. Нет, укусит. Я знаю, что укусит. Еще как укусит! Ему стало холодно. «Мне холодно, — сказал он, — мне холодно». — «Ну, если тебе так холодно, — сказал он, — то плыви к берегу». — «Не хочу, — сказал он, — сам плыви». Зеркало. Он для нее не более чем зеркало. А зеркала должны быть холодными. И серебристыми. Никаких других цветов. Ведь если бы зеркало было разноцветным, то оно искажало бы цвета того, кто в него смотрит. Не будь он сам таким одноцветным, ее губы не казались бы ему такими пунцовыми. Они были бы зелеными. Или даже фиолетовыми. Он обрадовался возможности избавиться от нее: женщина с фиолетовыми губами — какое отвратительное зрелище! А теперь пусть она поцелует его своими фиолетовыми губами, пусть подойдет поближе и поцелует. Он нетерпеливо прикрыл глаза и замер в ожидании поцелуя, который наконец-то сделает его свободным. Ну, давай же, ну! Что же ты медлишь? А, она думает, что это игра. Эротическая игра. Пусть думает что хочет, но только пусть поцелует его. И тогда с ней будет покончено. Она улыбнулась, медленно пошла к нему навстречу и, вскинув руки, продела их ему под мышки. «Поцелуй меня», — прошептала она. Он оторопел. Это было против правил, так они не договаривались. Впрочем, может, это и лучше. Он сам поцелует ее. И наконец-то сможет спокойно насладиться своим отпуском, уединенным озером и крохотным пляжем, куда посторонним вход воспрещен. Да, воспрещен! Там даже табличка висит, что воспрещен! Она что, не понимает, что здесь заповедник? А ему можно, это ведь не ее, а его товарищ здесь начальник. Впрочем, она никогда не понимала, что такое заповедник, и вечно лезла ему в душу. Причем ухитрилась так далеко залезть, что теперь ее почти невозможно оттуда выковырять. Ну, ничего, сейчас он ее поцелует — и с ней будет покончено. И с Сергеем Ивановичем тоже. Кто вы по профессии, молодой человек? Ах, физик. Прекрасная профессия, прекрасная! И главное, полезная. Обществу нужны физики, много физиков. Тоталитарные режимы должны опираться на науку. Поздравляю вас, деточка, вы сделали прекрасный выбор. Такая утонченная художественная натура, как вы, нуждается в солидной опоре, именно в таком чудесном молодом физике. А то вокруг вас все больше художники, музыканты! Эфемерный народ. Рад, очень рад за вас.
Синее небо, очень синее небо. Ах нет, фиолетовые губы. Вполне в духе картин Сергея Ивановича. «Да, молодой человек, красота — категория не утилитарная». Не утилитарная... Еще как утилитарная. Красота — это крючок, на который его поймали. Но в заповеднике рыбная ловля воспрещена. И если они этого не понимают, то он сейчас ее поцелует и покончит с ними обоими. Он вскинул руки к небу, обнял маленькую женщину и притянул ее к себе. И тогда из зеркальных глубин его существа всплыло отражение этой женщины и его губами стало страстно целовать саму себя. И поскольку губы его перестали принадлежать ему, то он не смог выговорить того, что почувствовал: «Холодно. Очень холодно».
ДАВАЙ КОПАТЬ ЯМКУ
(Рассказ)
...И они с Варей идут по какому-то белому одноэтажному городу, густо заросшему зелеными деревьями. И она спрашивает Варю: «А это столица?» — «Столица», — отвечает Варя. «А столица чего?» — «Нам направо», — отвечает Варя. И тут начинает вечереть, и все становится голубым. Кроме белых домиков. «Адрес напутали», — говорит Варя и больно толкает ее. И она видит, что сидит в центре какой-то конструкции из металлических досок. И конструкция эта одновременно и качели и карусель. И она смеется и кокетливо говорит тому, кто сидит на другом конце одной из железных досок: «А вы не боитесь так сильно раскачиваться?» И тут ей становится страшно. И она начинает громко петь, чтобы перебить страх. Но доска, на которой она сидит, слишком узкая. Настолько узкая, что она вдруг вспоминает, что беременна. И тогда она начинает бояться родов. Потому что свекровь говорила, что роды — это очень больно. И она зажмуривает от страха глаза, потом открывает их и начинает подниматься по лестнице на четвертый этаж. Но на площадке третьего этажа стоит муж и говорит, что ударит ее. И он почему-то трезвый. Она хватает ребенка на руки и бежит вниз. Но пеленки, в которые завернут ребенок, все время разматываются и путаются у нее в ногах. И она боится, что если муж догонит ее и ударит, то она упадет прямо на ребенка. Но тут свекровь говорит ей, что она зря боялась родов, потому что теперь-то ей должно быть ясно, что все обошлось благополучно и вот какой здоровенький у них мальчик.
...Она стоит на дачной платформе и ждет поезда. А поезд почему-то опаздывает. И тогда отец берет ее за руку и говорит, что он купит ей мороженое только в том случае, если она снова выйдет замуж за своего мужа, потому что мороженое едят только хорошие девочки, которые слушаются своих родителей. Более того, говорит отец и начинает медленно раскачивать перед ее лицом указательный палец, если она снова выйдет замуж за своего мужа, то они с мамой прямо в следующее воскресенье сводят ее в зоопарк. Посмотреть на пингвинов. И бублики ей там купят. С маком. Но она плачет и говорит, что больше не хочет замуж. А хочет на ручки. Потому что очень-очень устала. А если он не возьмет ее на ручки, то она ляжет на скамейку и умрет. Но отец говорит, что если она сейчас же не перестанет хныкать, то он позвонит от дежурного по станции Бармалею и пусть тот забирает ее, потому что им такие непослушные девочки не нужны.
...Она в прихожей своей бирюлевской квартиры моет шваброй холодильник. Но конец швабры с горячей тряпкой с трудом протискивается в радиатор, потому что внутри его слишком толстый слой льда. И она упирается грудью в конец палки и давит на него. Лед начинает громко хрустеть, плавится от напора горячей тряпки — и швабра медленно входит в радиатор. И тогда она вдруг чувствует острое возбуждение — и в дверь тотчас же начинает звонить любовник. Но она боится, что любовник увидит ее в старом халате, и притворяется, что ее здесь нет. Но тут возбуждение ее становится настолько нестерпимым, что любовник догадывается о том, что она дома, и продолжает давить на звонок. Тогда она мокрыми пальцами быстро расстегивает халат и правой рукой тянет за левый рукав. Но халат прилипает к ее вспотевшему телу и никак не отдирается. Любовник перестает давить на звонок с силой и начинает нажимать на него мягко и прерывисто. Она пробует соскрести с себя халат ногтями. Но липкая ткань отскребается плохо, и ей удается лишь процарапать в халате несколько больших дыр. Тогда она садится на пол, рядом с холодильником, из которого валит горячий пар, и плачет, с наслаждением размазывая по лицу слезы.
...И она в их старой квартире на Красноармейской. И Варя в желтом байковом халате сидит перед трюмо и расчесывает свои длинные густые черные волосы. «Варя, а ты уже молодая стала?» — спрашивает она. «Молодая», — отвечает Варя и улыбается ей из зеркала красивыми зубами. «А я что, так и не выросла?» — спрашивает она. «А зачем тебе вырастать? — отвечает Варя и снова ярко сверкает ей из зеркала зубами. — Это совсем не нужно». — «А что, что нужно?» — «Ты сама знаешь, что нужно», — отвечает Варя, и голос ее становится ледяным. «Честное слово, не знаю, скажи, ты ведь старшая». Но Варя уже молчит и большим костяным гребнем чешет, чешет, чешет свои длинные седые волосы.
...Дверь открывается, и входит любовник. Она стремительно встает со стула, стул начинает раскачиваться, и она долго-долго бежит навстречу к любовнику. Наконец стул с бесшумным грохотом падает, и она с плачем облегчения повисает на шее у любовника. «Что ты? Ну что с тобой?» — ласково спрашивает любовник. «Я люблю тебя, я так люблю тебя!» — рыдает она. И вдруг осознает что не понимает, кто он: Андрей или Станислав? «Наверное, Андрей, — думает она, — потому что Станислав уже умер». Но тут Варя говорит ей, что это все же скорее всего Станислав, потому что Андрей давно бросил ее. Но она отвечает Варе, что ей уже неважно, кто он, и продолжает с плачем целовать его руки. И вдруг с ужасом понимает, что это не Андрей и не Станислав, а ее бывший муж...
...И Они уже хотят схватить ее. Но она видит, что крышка люка чуть сдвинута, и, быстро присев, начинает протискиваться в узкую щель между асфальтом и крышкой. Щель эластично раздвигается и вбирает ее в себя. В подвале тихо и холодно. «Не хочу», — громким шепотом говорит она, потому что понимает, что именно сейчас увидит. И тотчас же видит: на цементном полу лежит вмерзший в лед матрас, а на нем в голубом девичьем халатике, неловко поджав под себя левую ногу, лежит бабушка. «Не хочу», — снова говорит она и, сдернув с ноги туфельку, подаренную ей отцом на двадцатидвухлетие, начинает колотить острым каблучком-шпилькой в крышку люка. Крышка отодвигается, и Они свешивают в люк свои лица. «Вызывали?» — спрашивают Они. «Укол, — кричит она, — сделайте же ей укол!» — «Шприцев не завезли», — отвечают Они и начинают спускаться в люк...
...Она ведет ребенка в детский сад. На ребенке черная каракулевая шубка, и в руке у него — красная лопаточка. «Мама, давай копать ямку», — говорит ребенок. «Но мы же в садик опоздаем», — отвечает она. «Как же мы опоздаем, если у меня нет папы», — удивляется ребенок и начинает копать в снегу яму. «Прекрати, сейчас же прекрати, — кричит она, — я на работу опоздаю». Но ребенок смеется и продолжает копать яму.
Тогда она вырывает у него лопатку и больно шлепает ею ребенка. Ребенок становится печальным и взрослым, поворачивается к ней спиной и в синей куртке уходит от нее прочь. Она садится на снег, рядом с ямой, из которой валит горячий пар, и плачет.
...И она в мастерской у Андрея. И ей так хорошо, как никогда. «А ты меня любишь, что ли?» — спрашивает Андрей и ласково усмехается. И он почему-то трезвый. «Очень», — отвечает она. «Ну ты даешь. А я тут картиночку намарякал. Показать?» — «Конечно, покажи». Андрей ставит перед ней холст, густо покрытый белой краской. «Богоявление», — говорит он. «Где?» — спрашивает она. «Что «где»?» — «Где Богоявление? Тут же ничего нет». — «Интересно получается, — насмешливо кривится он, — значит, Бога нет, а ты есть. Это ты здорово придумала. А может, наоборот, это тебя нет?» И закрывает холст большой серой тряпкой. «Завистники, — бормочет он. — Потому что я был одареннее их всех. С самого детства. Думаешь, если у меня сегодня в койке не очень-то получилось, так я вообще бездарен?! Они же ничего не понимают в тайне цвета! Колористы хреновы! Да ты не бойся, я вот сейчас еще приму рюмочку, и все у нас тип-топ получится. Они же прасущности мира не понимают. Мазилы. Трахаться не умеют. Совсем». И тогда у нее вдруг делается выкидыш, и медсестра в белом халате тычет ей в вену шприц. Шприц лопается у нее в вене — и медсестра радостно констатирует: «Хорошо мы тебя выскоблили. Чистенько». — «Нет, — отвечает она, — там ножки остались». — «Тогда, может, будем сохранять плод? — спрашивает медсестра. — Больница у нас хорошая». — «Нет, — отвечает она, — вы же ничего не понимаете в прасущности мира», — и бежит по больничной лестнице вниз. Но на площадке третьего этажа стоит бывший муж и говорит, что ударит ее. Она решает отвлечь мужа и спрашивает его, в чем заключается тайна цвета. Муж обижается и отвечает, что получку он всегда приносил домой полностью. И тогда она вдруг понимает, что снова беременна.
...Станислав говорит ей: «А теперь проверим вашу печень» — и укладывает ее на диван с красным пледом. Плед начинает кусать ее. «Удобно лежите?» — спрашивает Станислав и, не дожидаясь ответа, с силой давит ей на печень. Она кричит. «С вас 25 рублей за визит», — говорит Станислав и начинает заниматься с ней любовью. Она пытается объяснить ему, что он все перепутал и что любовью они занялись не в тот раз, а во время ее третьего визита к нему. И что частный визит к врачу тогда стоил не двадцать пять рублей, а десять. Но он не слушает и продолжает заниматься с ней любовью. А потом говорит, что хотя печень у нее действительно немножко увеличена, но это не страшно. И лечить надо не столько печень, сколько нервы. Надо попить бром, и все будет в порядке. И продолжает заниматься с ней любовью.
...Она с красным сачком в руках бежит по огромному зеленому лугу за белой бабочкой и никак не может поймать ее. Тогда она отбрасывает сачок в сторону, становится на четвереньки, напрягает лицо, выталкивая из него вперед челюсти и нос, и, жадно принюхиваясь, мчится с мягким топотом по красному кафельному коридору, пытаясь поймать бабочку зубами. Дверь открывается. В санитарной комнате тихо. Бабушка сидит на полу на полосатом матрасе, вмерзшем в серые наросты льда, и ест из алюминиевой миски манную кашу. «Бабуля, ну кто тебе разрешил самой есть? — говорит она. — Доктор же сказал, чтобы тебя кормили с ложечки. Ну что же ты такая непослушная!» И отбирает у старушки миску. Бабушкино лицо съеживается, становится размером с кулачок, и тонким плаксивым голосом старушка выкрикивает: «Но я кушать хочу!» — «Тебе нельзя много кушать. Ты что хочешь, чтобы вся операция насмарку пошла?!» — «Что же, и в морге нельзя кушать?» — удивляется бабушка. Она вздрагивает и внимательно вглядывается в бабушкино лицо. Потом осторожно спрашивает: «С тобой доктор сегодня разговаривал?» — «Разговаривал, разговаривал, разговаривал», — радостно поет бабушка. «И что же он тебе сказал?» — «Что ты злая девочка, злая девочка, нечуткая девочка!» И, выхватив у нее из рук миску, бабушка жадно ест, ест, ест манную кашу.
...Варя ведет ее в зимний парк. «Варя, можно я дом буду строить?» — спрашивает она. «Попробуй», — усмехается Варя и подает ей красную лопатку. Она начинает копать в снегу яму. «Шире копай, а то вся не уместишься», — говорит Варя. «Но ведь я же маленькая, — удивляется она, — зачем мне такая яма?» — «Маленькая! — фыркает Варя. — Хорошо же некоторые устраиваются, а главное — удобно. Сына-то давно видела? Ладно, кончай копать, тебе и такой ямы хватит. Довольно, говорю, а то опять забеременеешь». И за шиворот оттаскивает ее от ямы.
...И она идет по какому-то белому одноэтажному городу, густо залитому солнцем, и в красной колясочке везет сына. А рядом в новом костюме идет муж и с восхищением смотрит на нее. «Я так люблю тебя», — говорит муж. «Как, Витя?» — удивленно улыбается она. «Как тайну цвета». Она вздрагивает и внимательно вглядывается в лицо мужа. Муж заговорщически подмигивает ей. «А ты действительно Виктор?» — спрашивает она. «А то кто же?» — отвечает он и снова подмигивает. «Настоящий Виктор?» — уточняет она. «Настоящий? — насмешливо переспрашивает он. — А что такое настоящий? Думаешь, если у тебя высшее образование, то все остальные уже и не настоящие?» И, наклонившись к коляске, начинает что-то там делать с ребенком. «Не смей! — кричит она. — Мерзавец!» Муж распрямляется и, выдернув из коляски большую пластмассовую куклу в ползунках, начинает размахивать ею и выкрикивать: «А он настоящий? Он настоящий?» — «Отдай, — слабо шепчет она, — отдай!» И хватает ребенка за пластмассовую ножку. «Не отдам», — пьяно улыбается муж и тянет ребенка к себе. «Отдай, — скулит она, — ведь ты его пропьешь». — «Дура, — возмущается муж, — я же его люблю», — и, рванув ребенка к себе, начинает жадно целовать его упругое кукольное личико. Ребенок заходится в плаче. «Скотина!» — визжит она и тянет ребенка за ногу к себе. Внутри ребенка что-то громко булькает, потом щелкает, и, оставив в руках у родителей по пластмассовой ножке, кукла шмякается на тротуар и отскакивает от него сверкающими нарядными осколками. «Ну вот!» — говорит муж.
...И она идет к белой-белой церкви. И много старушек в белых платочках тоже идут к церкви. И среди них двое батюшек. И вдруг огромный орел человеческого роста слетает откуда-то сверху и усаживается на ограду. «Смотрите, смотрите!» — кричит она батюшкам. Батюшки ласково улыбаются ей и ничего не отвечают. И тогда она видит, какие у орла огромные страшные мохнатые лапы.
...Она вскакивает, просыпается в своей детской кроватке на Красноармейской и зовет Варю. Варя молчит. Тогда она вылезает из кроватки, крадется к Вариному дивану и включает ночник. Вместо Вари на диване, скорчившись, лежит тощий морщинистый чулок. Она выбегает из комнаты и бежит длинным черным коридором на кухню. На кухне перед железной раковиной стоит Варя и улыбается красивыми зубами.
...Она идет по какому-то солнечному белому городу и везет в красной коляске сына. «Маленький мой», — говорит она и целует пухлую ручку ребенка. Ребенок улыбается ей, и она видит, что у него прорезался второй зубик. «Сладкий мой, деточка», — лепечет она, обмирая от нежности. И тогда невестка отталкивает ее от коляски и гадким голосом интересуется, давно ли ее бросил Андрей? «При чем здесь Андрей?» — высокомерно удивляется она, пытаясь оттеснить невестку от коляски. «При том, — ухмыляется невестка и целует ее сына в губы. — И вообще, мамочка, жить мы будем отдельно от вас». Она чувствует прилив ненависти и вежливо просит невестку все-таки разъяснить ей, при чем здесь Андрей. «Ах, мамочка, — отвечает невестка, — вам совсем не идет этот цвет помады. И платье вам нужно более скромной расцветки», — и снова целует ее сына в губы. Сын нежно улыбается сквозь свои густые усы, обхватывает невестку за плечи, — и, обнявшись, они уходят от нее прочь, оба молодые, красивые, сильные, он — в синей куртке, она — в красной, и, прежде чем свернуть за угол, невестка оборачивает к ней свое тонкое белое личико и улыбается красивыми зубами.
...И она идет по какому-то белому городу. В городе нет ни домов, ни деревьев — лишь бесконечный белый пустырь, сделанный из снега. Но она знает, что это столица, только никак не может вспомнить, столица чего. И она вся напрягается, для того чтобы вспомнить, напряжение переходит в возбуждение, возбуждение становится нестерпимым — и в дверь тотчас же начинает звонить любовник. Но она понимает, что если откроет ему дверь, то никогда уже больше не вспомнит, столицей чего является белый пустырь. И чтобы любовник не догадался о том, что она дома, она на цыпочках крадется к гардеробу, стоящему посреди пустыря, бесшумно достает из него старый халат и натягивает его поверх зимнего пальто. Но любовник догадывается о ее притворстве и начинает колотить в дверь ногами. «Наверно, это Станислав», — думает она. Но Варя говорит ей, что это скорее всего Андрей, потому что Станислав пять лет назад умер. Она возражает Варе, что любовник никак не может быть Андреем, потому что Андрей уже двенадцать лет как бросил ее. И вообще он был плохим любовником. «Уж какого заслужила, — красивыми зубами отвечает Варя. — И вообще, если некоторые думают, что они умнее всех, то очень заблуждаются». — «Что ты имеешь в виду?» — взвизгивает она. «Ничего, — снова сверкает зубами Варя, — только те, которые на самом деле не хотят видеть любовников, не меняют нарядов с утра до вечера». — «Так ведь это же старый халат!» — вопит она. «Не ори, — вопит Варя. — Ты меня что, за дуру считаешь? Халат старый, потому что любовник старый! В новом он бы тебя не узнал. Стариной тряхнуть решила? А мне тебя потом опять на аборт устраивать?» И хочет сдернуть с нее халат. Но она вырывается и, задыхаясь, бежит от Вари по белому пустырю — туда, где рядом с детским садом чернеет яма, вырытая ее сыном. Она впрыгивает в яму и, скорчившись на дне, притворяется, что ее здесь нет. В яме холодно и тихо. Бабушка в голубом девичьем халате сидит на полосатом матрасе и доедает манную кашу. «Вызывали?» — свешивается в яму лицо Вари. «Нет, — отвечает она, — нет, шприцев не завезли». — «Точно не завезли?» — недоверчиво щурится Варино лицо. «Точно, клянусь тебе». — «Ну смотри, тебе отвечать». И Варино лицо рывком отдергивается от ямы. Она поворачивается к бабушке. Та лежит на боку, неловко поджав под себя голую ногу, и ногти у нее на ноге становятся все более и более голубыми. «Бабуленька, не умирай», — испуганно лепечет она, прижимаясь к старушке и пытаясь согреть ее своим телом. В груди у бабушки что-то клокочет, булькает, изо рта вылетают обрывки слов. И, прижавшись еще теснее к старческому телу, источающему голубой холод, она с испугом слышит: «Деточка, зачем ты сказала, что шприцев нет? Теперь я умру». — «Но ведь я не виновата, бабуленька, миленькая, — растерянно шепчет она. — Разве ты забыла, у них в тот момент действительно одноразовых шприцев не оказалось». — «Надо было соглашаться на многоразовый, — шелестит губами бабушка. — Но ты всегда была непослушной девочкой». — «Я боялась, что тебя заразят. Прости меня, прости». — «Если бы мне тогда успели сделать укол...» Лицо бабушки дергается, нос жадно к чему-то принюхивается, заостряется, покрывается белой чешуйчатой пленкой, которая разрастается и наконец погребает под собой последние лицевые судороги. Седая кукла в голубом девичьем халате, вытянувшись, лежит на матрасе. «Брому надо попить», — говорит Станислав и, взяв ее за руку, уводит от бабушки все дальше и дальше по белому пустырю. «Это же столица», — говорит она Станиславу и начинает упираться. «Конечно, конечно, столица», — возбужденно шепчет он. И пытается подтолкнуть ее к дивану с красным пледом. «Но ты ведь даже не знаешь, столица чего?» — сопротивляется она. «Какая разница! — злится он и, превратившись в Андрея, добавляет: — Ты думаешь, я вообще бездарен? Вот приму рюмашку...» — «А это бром?» — спрашивает она и тянет руку к рюмке. «Бром», — соглашается Андрей. «От него полегчает?» — «Полегчает», — соглашается Андрей и наливает ей рюмку. Потом другую. Потом третью. Руки и ноги у нее теплеют, и, блаженно улыбаясь, она вытягивается на кровати у Андрея, а может быть, и у Станислава, и бредет, бредет, бредет по бесконечному белому пустырю — сквозь медсестру в белом халате, сквозь врача, бормочущего что-то по-латыни, сквозь сына, возбужденно толкующего о невозможности уследить за какой-то женщиной, потому что он живет отдельно от нее, сквозь белое полотно, которое называется «Богоявление», но на котором нет ничего, кроме ослепительной белизны, — все дальше, и дальше, и дальше...
СЧАСТЬЕ
(Рассказ)
— Господи! — сказала она. — Господи! — И заплакала.
— Что ты? Ну что с тобой? — Он ласково гладил ее по голове и осторожно прижимал к себе, к своему красивому телу.
Она не отвечала, потому что по его глазам видела, что он и так понимает, что с ней, и продолжала сладко плакать. А потом схватила его руку и начала целовать ее.
Он улыбнулся и поцеловал ее мокрые сияющие глаза.
Вскоре он уснул, тесно прижимая ее к себе и чутко вздрагивая во сне от ее малейшего движения. Ей было неудобно так лежать, потому что она отвыкла засыпать рядом с мужчиной, рука у нее затекла, но она боялась пошевельнуться и тем самым вспугнуть совершившееся чудо. Он беззвучно дышал, и жилка у него на шее пульсировала тихо и мягко, но она уже знала, каким неистовым может быть это красивое мужское тело. И ее тело тоже было красивым, она всегда знала, что у нее красивое тело. Даже когда бывший муж говорил, что у нее слишком короткие ноги. Но она-то понимала, что он говорит это нарочно — для того, чтобы отомстить ей за свое мужское бессилие. И еще он говорил, что она не в его вкусе и ему нравятся рыжие и длинноногие. Она почувствовала прилив ненависти и уже было приоткрыла рот, чтобы поинтересоваться, когда же он наконец соберется с силами — со всеми своими могучими мужскими силами — и вобьет в стенку гвоздь, чтобы повесить на него драгоценнейший подарок, который преподнесла им на свадьбу его любящая мама. Ведь до какой степени надо любить своего сыночка, чтобы подарить ему на свадьбу этот удивительный эстамп, ценой в целых три рубля! Она даже начала произносить эту фразу, но вовремя спохватилась, вспомнив, что в ответ он непременно пройдется в адрес ее папы, который настолько переполнен любовью к своей дочери, что звонит ей на редкость часто — раз в полтора месяца. Нет-нет, она теперь не такая глупая, как была в первые месяцы брака, она уже больше не даст мужу возможности выманить ее наружу, из укромных глубин ее «я», и привязать, как козу к колышку, к какой-нибудь его идиотской фразе. Тем более теперь, через пятнадцать лет после развода.
Спящий тихо дышал и во сне нежно и властно прижимал к себе ее тело, ее красивое тело. Ее очень красивое тело. А она ела клубнику, посыпанную сахаром и истекающую густым соком. У клубники был вкус счастья и свободы, потому что экзамены за восьмой класс были сданы почти на все пятерки и через три дня они с мамой уже будут в Евпатории. И она снова будет лежать на жаркодышащей бронзе песка, и тело ее, отделенное от мира только новеньким красным купальником, так удачно купленным в универмаге «Москва», будет вбирать в себя раскаленные токи этой древней смуглой природы Крыма и само станет цвета старинной бронзы. А потом она войдет в зеленое море и будет долго плыть, вспугивая стайки горбоносых морских коньков. И, доплыв до красного буйка, перевернется на спину и перестанет понимать, где море, где небо, где она сама. И тогда отец вошел в комнату и, брезгливо взглянув на ее голые коленки подростка, торчащие из-под мини-халата, спросил, почему она опять развесила свои трусы и лифчик в ванной комнате на всеобщее обозрение. Их что, больше сушить негде? И она тут же почувствовала, какое у нее гадкое тело. Спящий вздрогнул и приоткрыл глаза. Но она собрала всю свою волю и так взглянула на отца, что тот, пробормотав нечто невнятное, поспешно растаял в воздухе. «Спи, — сказала она спящему, — спи», — и, осторожно переложив его голову к себе на плечо, начала тихо покачиваться. Спящий доверчиво прижался к ней и, причмокнув по-детски губами, заснул еще крепче. Ее вдруг охватило желание взглянуть на свои ноги. Но она сдержалась и еще раз прошептала: «Спи». Но самой ей уснуть не удалось, потому что в комнату вошла мать, взяла ее за руку и повела на кухню. Там, плотно прикрыв за собой дверь, мать нервно поправила белый бант у нее в косе и, испуганно озираясь, громким шепотом спросила, не ощущает ли она уже болей внизу живота. Нет, не ощущает, удивилась она. Скоро будет ощущать, сказала мать. Сильные боли. Очень сильные. Причем каждый месяц. Так нужно, сказала мать. И тогда она набралась храбрости и спросила, откуда берутся дети. «Тс-с! — сказала мать. — Папа услышит». А потом пошла пятнами и скороговоркой объяснила, что у женщины там есть... м-м-м... ну, в общем... и мужчина должен ее прорвать. И это очень больно. И вообще самое ужасное в жизни женщины — это воспоминание о первой брачной ночи. Она усмехнулась словам матери и подумала, что не только о первой, но и о второй и о двадцать пятой ночи воспоминание было не шибко приятным. Она затрясла головой. Сильнее. Еще сильнее. Чтобы вытряхнуть из нее то, что уже начало медленно расползаться внутри ее тела, грозя снова изуродовать его. Нет, она не позволит. Она больше не позволит им: ни отцу, ни бывшему мужу, ни матери — вновь парализовать способность этого тела быть бронзовым, длинноногим и счастливым!
Тело спящего обнимало ее и источало смуглый, терпко пахнущий зной. Она напрягла ноздри и начала пить этот зной. Пила его до тех пор, пока не наполнилась им до такой степени, что во всем ее существе больше не осталось пустот, в которые могло бы проникнуть прошлое. Ни малейшей лазейки. И только тогда она позволила себе заснуть. Она спала, доверчиво запрокинув в темноту свое лицо, надежно хранимая этим смуглым мужским запахом, мягко обволакивавшим ее, — запахом любви, счастья и устойчивости. И там, в ее сне, спящий снова приблизился к ней и предложил билет. Он лукаво улыбался, совсем как несколько часов тому назад, и говорил, что вот какая досада, его друг заболел. И потому он может уступить один билет. Просто ему будет жаль, если такие симпатичные девушки не попадут в кино. Он их, мол, приметил, когда они еще в очереди стояли, и сразу понял, что им ничего не достанется. А он еще вчера купил. Для себя и для друга. А тот возьми и заболей. Так что, если они хотят... Но увы, только один билет. Пусть девушки сами решают, которая из них пойдет. И поскольку там, во сне, она уже знала, что будет дальше, что это не простой билет, то она повела себя иначе, чем наяву: не стала мяться перед незнакомым человеком и отказываться в пользу подруги, хорошо помня, что та в конце концов уговорит ее. Нет, она не стала отказываться, она просто протянула руку и вытянула счастливый билет. И тогда чашка с чаем задрожала у нее в руке и начала медленно падать на пол. А он смеялся и говорил, что посуда бьется к счастью и что у нее красивые руки. А потом она увидела, что и тело у нее красивое. Оно лежало на белой простыне и было уже обнаженным и смуглым. А она была и этим телом, распростертым и вздрагивающим под его поцелуями, и одновременно находилась в другом углу комнаты, перед трюмо, и в зеркало наблюдала за тем, что происходит у нее за спиной. Но поскольку чашка все еще продолжала медленно падать у нее из рук, то она никак не могла разглядеть в зеркале лиц тех двоих существ, одним из которых была она сама. И она вся напрягалась, чтобы разглядеть их, и напряжение это было мучительным, сладостным и возрастающим. А потом оно стало нестерпимым, и она поняла, что сейчас наконец-то испытает то, чего еще никогда в жизни ей не удавалось испытать ни с мужем, ни с другими мужчинами. И тут она испугалась. Испугалась мужа. Вернее, того, что она вдруг может сейчас вспомнить его жалкое и пристыженное лицо. И тогда опять ничего не получится. Она стиснула зубы и застонала. Громко. Еще громче. Слезы катились у нее по лицу — и сквозь слезы она подталкивала взглядом слишком медленно падающую чашку. Чашка стремительно полетела вниз, ударилась об пол и, освободившись от своей переполненности, разлетелась в разные стороны сверкающими острыми осколками...
...Она лежала, освобожденная, опустошенная, счастливая, и плакала, уткнувшись лицом ему в плечо и не отвечая на его ласковое «что с тобой», потому что по его голосу слышала, что он и так понимает, что с ней.
А потом было утро, и утро было воскресное, и они пили в солнечной кухне чай. И он смеялся и рассказывал ей о том, как ловко на предыдущей сессии облапошил своего университетского преподавателя. Просто-напросто, уверенно глядя тому в глаза, стал отвечать на вопрос, которого вовсе не было в билете, но который — единственный из всех вопросов — хорошо знал. И отвечал так увлеченно, что преподаватель не заметил обмана. Потом он сказал, что она прекрасно выглядит для своих тридцати пяти и как хорошо, что у нее отдельная квартира. А потом собрался уходить и, нежно поцеловав ее, сказал, что с нее причитается пятьдесят рублей. Она засмеялась удачной шутке. Но он продолжал настаивать. Она засмеялась еще громче и смеялась до тех пор, пока не поняла, что это не шутка. И тогда она сказала ему, что он подлец. Он улыбнулся. Она задохнулась. Он улыбнулся еще шире. Она достала из серванта пятьдесят рублей и дала ему. Он ласково поблагодарил и, нацарапав на клочке бумаги несколько цифр, сказал, что когда она захочет еще раз его видеть, то может позвонить по этому телефону. Она ответила, что ненавидит его.
В течение суток она выла, сидя перед зеркалом и расцарапывая себе лицо. Потом еще неделю не могла ни с кем разговаривать. Через два месяца она позвонила ему.
КВАРТИРА
(Рассказ)
...И будто бы я стою в прихожей нашей прежней квартиры на Ленинском проспекте и мне говорят, что пришла моя подруга. И я хочу повернуться, посмотреть, какая подруга. Но в этот момент она прыгает мне на спину и усаживается на меня верхом. И я бегу к зеркалу и трясу перед ним плечом, чтобы стряхнуть ее и увидеть в зеркале ее лицо. Наконец сзади что-то негромко щелкает — и голова ее, стремительно очертив четверть круга, застывает на уровне моего правого локтя. И я вижу в зеркале, что у нее мое лицо. Только ярко-сиреневое, как лак для ногтей, и с густо накрашенными алыми губами. И она тихо смеется, соскакивает с меня и бросается целовать меня в губы. И я кричу каким-то тонким голосом и наотмашь бью ее по лицу...
...Я лежу в полумраке с широко раскрытыми глазами. Сердце колотится у меня в горле. Часы на столике показывают восемь — и я не могу понять: вечер сейчас или утро. Я понимаю лишь одно — квартира опять перехитрила меня.
А ведь я была готова полюбить ее. С самого начала, как только сюда въехала. Она была совсем голая, с неприглядными серыми обоями и коричневатыми разводами на потолке. И потому я сделала над собой усилие и, временно преодолев свой застарелый ужас перед всяческими службами быта, навестила некое бюро. Через два месяца оттуда пришли трое в сером — и еще через месяц она ожила, мягко засветилась желтовато-кремовыми обоями, засверкала свежевыкрашенными подоконниками... А потом и мебель в ней появилась: тахту, журнальный столик и старый телевизор мне отдали приятели, а гардероб, «стенку», кухонный стол с табуретками и холодильник я купила сама. В общем-то нам с ней ничего больше и не нужно было. Тем более, что у нас было только две стены, к которым эту мебель можно было приткнуть. А на месте двух других зияли огромные окна, источавшие прозрачный серый холод. Но я ухитрилась так расставить мебель, что в квартире все-таки в целом преобладал желтый цвет.
Когда появились первые симптомы, я их просто-напросто не осознала. Сперва разбились все мои китайские чашки, не сразу, конечно. Если бы сразу, то я, наверное, начала бы уже о чем-то догадываться. Но они разбивались так естественно, во время мытья посуды, которая всегда скапливалась у меня за несколько дней в мойке, что я не придавала этому особого значения. Потом появилась пыль. А потом Гера. Впрочем, затрудняюсь сказать, кто из них появился раньше. Все-таки, наверное, пыль. Да, точно, пыль.
Я готовилась отпраздновать новоселье и заодно свое двадцатитрехлетие. И когда перетаскивала кухонный стол в комнату, то каким-то образом ухитрилась споткнуться об его ножку и упала. И тогда я увидела пыль. Она лежала под тахтой и имела вид трех пушистых комочков, которые слабо шевелились. А я лежала на животе и пыталась вспомнить, когда же я это уже видела. И наконец вспомнила.
Мне пятнадцать лет. Я сижу в плетеном кресле в аккуратном садике нашей пярнуской хозяйки Лии. Надо мной — ослепительно свинцовое небо Прибалтики, с которого в кои веки льется солнце. А в нескольких метрах от меня в свежей, еще чуть влажной от росы траве дрожит маленький серый комок. Это мышка, настоящая серая мышка с острой мордочкой и длинным розовым хвостом. Я делаю к ней шаг, потом другой. Но мышка почему-то не убегает, а только крупно и часто дрожит. Короткая шерстка ее стоит дыбом, и из-под нее медленно — одна за другой — выкатываются яркие красные бусинки. И внутри меня тоже что-то начинает неприятно дрожать.
— Тимси! — раздается у меня за спиной удивленно-радостный голос Лии. — Тимси, мальчик мой, совсем уже взрослый стал.
Я верчу головой, но Тимси нигде не вижу.
— Тимси, Тимси, — матерински-нежно зовет Лия, — иди, я тебе молочка налью, кис-кис-кис! Видишь, Соня, — ласково улыбается она мне, — он уже совсем мужчиной стал, он уже умеет...
— Убивать! — брякаю я.
— А ты бы что хотела?! — Тонкие брови Лии оскорбленно ползут вверх. — Чтобы весь дом кишел мышами?
Квартиру я, конечно же, тщательно подмела. А на следующий день появился Гера. Странно, но не помню, кто именно из приятелей привел его ко мне. Гере было сорок. Массивная горбоносая и зеленоглазая голова его была плотно пригнана к короткому телу. И он сразу же сделал резкую попытку полностью овладеть моим вниманием.
— Послушайте, Сонечка, — сказал он, как-то странно — боком — входя на кухню, где я разливала чай. — Да присядьте вы на минутку. Вот так. Давайте же толком познакомимся.
И он начинает надвигаться на меня верхом на табуретке, которую уже успел оседлать.
— Я, между прочим, работаю ночным сторожем. — Он пристально смотрит на меня.
— Очень приятно, — бормочу я, отползая от него вместе со своей табуреткой.
— Вас это шокирует? — шепчет он, и шесть ног (две его и четыре табуреткины) снова приходят в движение.
— Нет, нет, что вы! — смущаюсь я. — Очень интересно.
— Конъюнктурщики, — бормочет он и поддергивает под собой табуретку, — большинство людей — конъюнктурщики. А я человек, живущий вне зависимости от социума. У меня, между прочим, два высших образования. Но я не хочу, чтобы моя интеллектуальная деятельность кем бы то ни было направлялась. Вы вот где работаете, в Ленинке? Да, конечно, свобода тяготит человека. Люди любят быть зависимыми и направляемыми.
— Но я ведь переводчиком работаю. Перевожу статьи о музейном деле.
— Это неважно, — говорит он и загадочно смотрит на меня. — Хотите, я почитаю вам свои эссе? Вот, например, «О влечении к смерти»? — И в его руках вдруг неизвестно откуда появляется увесистая серая папка с розовыми тесемочками.
— Чаю! Чаю! Чаю! — дружно скандируют гости из комнаты.
— Может быть, как-нибудь потом? — извиняюсь я.
— Да, да, конечно же, конечно же, потом, — чему-то радуется он.
Странно, но квартира, которая, как потом выяснилось, обладала свойством отваживать от себя всех моих любовников — и реальных, и потенциальных, — Геру привечала. Может быть, потому, что, несмотря на все его старания, ему никак не грозило стать любовником. Может быть, потому, что он любил ее такой, какая она есть. Для других мы прихорашивались, а его могли принять в каком угодно виде. Ему все равно все нравилось.
— Как тебе идет этот халатик, — говорил он, незаметно завладевая рукавом моего старенького байкового бордового халата. (Другой — фирменный, купленный с переплатой и ни разу не надеванный, ждал своего часа в гардеробе вместе с двумя французскими лифчиками и пятью бейрутскими трусиками.) — Удивительно тебе идет этот цвет. И вообще ты похожа на египетскую фреску. Ой-ой-ой, вот так сиди, не отворачивайся. Боже мой, как я чувствую твое лицо, как я чувствую твое лицо! Особенно вот это место. — И он вкрадчиво проводит пальцем по краешку моих губ.
Я вздрагиваю и отпихиваю его руку.
— Ненормальная! — удивляется он. — Я же тебе уже объяснял: у меня такое устройство психики, что если человек мне духовно близок, то мне все время хочется его трогать. Ведь это так естественно, как ты не понимаешь, любые человеческие отношения эротичны. Отношения детей и родителей, отношения двух приятелей... Вот хочешь, я тебе прочту свое эссе «Вулканические извержения как проявление планетарного оргазма»? Я там рассматриваю гибель Помпеи с точки зрения панэроса. — И в руках его снова возникает мышиная папка с двумя розовыми хвостиками. Он дергает за один из хвостиков и ловко извлекает из нее белые шуршащие внутренности.
И я слушаю его чтение, время от времени внутренне вздрагивая при слове «оргазм» и не замечая того, что его табуретка опять пришла в движение. Опоминаюсь я только в тот момент, когда жизненное пространство вокруг меня уже сужается до катастрофически малых размеров. Я резко отодвигаюсь и упираюсь спиной в стену. Но, по всей видимости, квартира все-таки в сговоре с Герой, потому что стена вдруг отпихивает меня, Гера ловко наклоняется и впивается своим ртом мне в губы.
— Дурак! — кричу я, толкая его в грудь.
Серая папка, вильнув хвостиками, падает на пол.
— Псих! — удивляется Гера.
А ведь я была готова ее полюбить. С самого начала, как только сюда въехала после развода с мужем. Это четвертое жилище в моей жизни. Первое помню смутно. Мы переехали оттуда, когда мне было три года. Родители говорили, что это была девятиметровка в коммуналке из одиннадцати комнат. Одиннадцати комнат и соседей не помню, а помню только свое красное шерстяное платье с желтыми завязками-помпончиками у горла и еще серого человека, сидящего ночью на стуле посреди спящей комнаты и разглядывающего меня.
Потом мы переехали на Ленинский проспект, в отдельную квартиру. Одна комната была у нас желтая и большая, а другая — маленькая и красная. Желтую я любила, а красную боялась. В желтой жили родители, там была красивая новая мебель, и туда приходили гости. А в красной жила я. Жила я в ней по ночам, потому что днем меня заставляли ходить в детский сад. Красная комната не любила меня и по ночам развлекалась тем, что меня пугала: то внезапно шлепнет чем-нибудь по одеялу, то превратит цветок на стенном ковре в подмигивающий глаз или в ухмыляющийся рот... Но с годами мы притерпелись друг к другу, и между нами установились отношения взаимотерпимости, лишь изредка прерываемые неожиданными вспышками антагонизма. И все равно вплоть до самого своего замужества я предпочитала проводить время в желтой комнате. Комната была солнечной, и отнюдь не потому, что выходила окном на солнечную сторону (окно красной выходило туда же), а по какой-то иной причине. Может быть, из-за желтых обоев, может, из-за голубого граненого графина с водой, может, из-за юного Пушкина, сверкавшего своей кудрявой фарфоровой белизной на черной глади пианино «Ростов-Дон». В общем-то важно не это, а то, что мы с ней любили друг друга. Родителей я в общем-то любила тоже, но эта любовь была неинтересная, она подразумевалась сама собой, и в ней не было ничего от чуда. Более того, они мне мешали. Я не говорю уже о том, что, когда мы с ребятами играли во дворе в прятки, мне запрещалось прятаться в подвале или на чердаке, и потому водящий всегда обнаруживал меня, спрятавшуюся где-нибудь за тощим кустом смородины, самой первой и с обидным хохотом торжествующе вопил: «Чаю, чаю, чаю! Соньку выручаю!» Это в общем-то были мелочи — неприятные, временами серьезно портящие настроение, но все же мелочи. Существенным было другое — родители мешали моей любви. Мне крайне редко удавалось остаться с желтой комнатой вдвоем. А в присутствии других людей доля ее любви ко мне уменьшалась, равномерно распределяясь между всеми, кто в ней находился. Но бывали и счастливые часы, ради которых стоило даже пойти на прямой обман, например, взять градусник за скользкий кончик, внутри которого ярко сверкает серая ртуть, и натрясти температуру хотя до 38°. И хотя я уже взрослая и твердо знаю, что «пионер — всем ребятам пример» и, следовательно, должен быть честным, соблазн остаться с желтой комнатой наедине гораздо сильнее, чем чувство общественного долга.
Я лежу с трагическим лицом на постели в красной комнате и со сладким злорадством слушаю, как наш врач Клавдия Петровна внушает огорченной маме:
— Но ведь она уже взрослая девочка. Как же я могу дать вам справку по уходу. Идите себе спокойная на работу. Ничего с ней не случится. Да не надо плакать! Ну что вы? Обыкновенная простуда. Горло слегка красное. (Еще бы! Я что, зря накануне ела снег!) Недельку полежит — и в школу. Ну что, Сонечка, в школу хочется?
— Очень, — слабым голосом шепчу я, скорбно поникая головой.
— Ну ничего, ничего, потерпи, — утешает меня Клавдия Петровна. — Только тетрациклин не забудь днем принять. А вечером мама горчичники тебе поставит. Договорились?
— Договорились, — отвечаю я и старательно чихаю. (Так я и буду твой тетрациклин есть! А горчичники придется потерпеть — любовь требует жертв.)
...Наконец-то я одна. Я всовываю босые ноги в шлепанцы, бегу в желтую комнату и начинаю строить дом. Это мне почему-то категорически запрещается. Дом строится из диванных подушек. В нем тесно, но это мой дом, мой, и больше ничей. Дом стоит на необитаемом острове, который я начинаю потихоньку обживать. Для начала я выращиваю на острове цветы. Для этой цели вполне подходят цветы бумажные, которые кто-то подарил маме на Новый год. Я втыкаю их между паркетинами пола, забираюсь обратно в домик и любуюсь оттуда своим цветущим одиночеством: оно зеленое, белое, лиловое и, что самое главное, желтое.
В квартире мужа ничего желтого не было, а были две комнаты — серая и салатовая. И еще была свекровь. Но все это не было для меня новостью: и квартиру, и свекровь я видела еще до замужества и уже знала, что она будет жить в салатовой комнате, а мы в серой. Новостью оказалось другое — пьянство мужа. Через год я развелась с ним, переехала в однокомнатную квартиру и заклеила ее серые обои желто-кремовыми. А еще через полгода родители получили отдельную трехкомнатную малоинтересную квартиру в Измайлове и уехали с Ленинского проспекта.
...И как будто бы я сплю и во сне знаю, что сплю. И вдруг понимаю, что забыла закрыть входную дверь. И я хочу встать и закрыть дверь. Но никак не могу сесть в постели — что-то давит мне на грудь и не дает приподняться. И я переворачиваюсь на живот, сползаю с тахты и ползу в прихожую. Я подползаю к входной двери и вижу, что она чуть приоткрыта. И я силюсь дотянуться до нее и вдруг снова оказываюсь лежащей на тахте. И тут я понимаю, что, для того чтобы закрыть дверь, мне обязательно надо умыться. Я снова сползаю с тахты и ползу в ванную комнату. Там мне удается уцепиться руками за верхний край ванны, подтянуться и свесить голову вовнутрь ее. Ванна оказывается уже наполненной водой. Я погружаю голову в воду и просыпаюсь. Но в тот момент, когда я хочу поднять голову из воды, дверь в прихожей громко хлопает, кто-то хватает меня за голову и начинает погружать ее еще глубже. И, задыхаясь и пуская ртом и носом пузыри, я отчаянно брыкаюсь ногами, трясу ванну руками и вдруг чувствую, что свободна. Я сажусь на постели, включаю свет и осторожно, стараясь не шуметь, прокрадываюсь в прихожую. Входная дверь закрыта, в квартире тихо.
При Гере мы позволяли себе роскошь быть самими собой. Но для других наводили марафет. Операция по удалению следов предыдущей жизни занимала всего полтора часа, по истечении которых мы уже сияли новизной и готовностью к восприятию чуда. А оно непременно должно было случиться и изменить всю нашу жизнь, может быть, даже сегодня — в крайнем случае, в недалеком будущем. Но нельзя же, чтобы чудо застигло нас врасплох — неподготовленными, неприбранными, непарадными... И мы не оставляли ему такой возможности. Сперва в порядок приводилась квартира: мылась скопившаяся за неделю в раковине посуда, изгонялись из-под тахты пушистые серые комочки, распихивались по ящикам гардероба невесть каким образом расползшиеся по всей комнате свитера и юбки. Потом наступал мой черед. Я усаживалась на кухне перед столиком, раскрывала пудреницу с маленьким зеркальцем и начинала разглядывать себя. В маленьком зеркальце, слегка припорошенном почти незримым налетом пудры, лицо мое мне скорее нравилось, чем не нравилось, чего никак нельзя было сказать про большое зеркало, висящее в ванной комнате. И совсем уж противопоказано было мне смотреться прежде времени в зеркало, приделанное к внутренней стороне одной из дверец гардероба, — это могло надолго испортить настроение. И тогда уже никакой марафет не поможет — гардеробное лицо все равно будет проступать из-под нового, как бы искусно я его ни сделала.
Лиц у меня было много. Одни я любила, а другие — нет. О том, что у меня не одно лицо, я узнала в третьем классе.
Мы с соседской Светкой пускаем у нас в ванной комнате мыльные пузыри. Это страшно увлекательное занятие. Пузыри делаются из ничего. Вернее, почти что из ничего. Надо окунуть кончик макаронины в баночку с мыльной водой, потом извлечь его и начать осторожно дуть в другой — сухой кончик. И тогда из абсолютно пустой макаронины вдруг начинает вылезать прозрачный шар, который радужно переливается и растет прямо на глазах. Потом шар со слабым звуком отделяется от макаронины, несколько секунд живет совершенно самостоятельной жизнью, плавно парит и, наткнувшись на кафельную стенку, бесследно исчезает. Это рождение почти что из ничего и исчезновение в полное никуда так завораживает нас, что опоминаемся мы лишь тогда, когда больше не остается ни пузырей, ни мыльной воды. И тогда меня осеняет.
— А давай мы сами будем пузырями, — предлагаю я Светке.
— А как? — не понимает она.
— А вот так.
Я со свистом втягиваю в себя как можно больше воздуха, плотно стискиваю губы и начинаю надувать изо всех сил перед зеркалом щеки. Лицо мое раздувается и багровеет, глаза превращаются в две узенькие щелки, нос заостряется, удлиняется и свисает на верхнюю губу. Светка пару секунд изумленно смотрит на меня, потом с коротким хохотом резко всасывает в себя воздух и тоже начинает преображаться: кожа ее голубеет, а водянисто-зеленые глаза разбухают и медленно начинают выкатываться из-под век с редкими ресницами. Еще секунда — и они вывалятся совсем. «М-м-м, м-м-м», — мычим мы, подталкивая друг друга локтями и не отрывая глаз от зеркала, откуда на нас смотрят два чудовища, которые, оказывается, таились где-то внутри нас, а теперь вдруг обнаружили себя. Первым лопается Светкино чудовище. Мое еще несколько секунд отчаянно сопротивляется исчезновению, изо всех сил раздувает щеки, но потом лопается и оно. В зеркале отражаются два лица, почти такие же, какие были у нас со Светкой до появления чудовищ, и все-таки чуточку — неуловимо — иные. Лица слабо подрагивают и подергиваются, как будто внутри их кто-то ворочается, пытаясь вырваться наружу.
— А теперь давай будем скелетиками, — говорит Светкино лицо и, со странным всхлипывающим звуком втянув вовнутрь себя щеки, начинает жевать их изнутри.
— Давай, — соглашается мое лицо и тоже проглатывает свои щеки.
Два бесщеких и безгубых лица покачиваются в зеркале, заговорщически подмигивая друг другу.
Потом почти целую неделю при встречах со Светкой я испытывала непонятную неловкость, весьма смахивающую на стыд. И, кажется, взаимную. Затем это прошло, но мы уже больше никогда не делали коллективных попыток выпускать на волю своих чудовищ.
Сейчас я понимаю, что случай в ванной означал, по всей видимости, не что иное, как сбой в хорошо отлаженном защитном механизме мира, надежно страхующего себя различными способами от возможности нашего проникновения в тайну истинного его устройства, чтобы мы не смогли догадаться о том, что густая плотность, выпуклая очевидность и самостоятельная определенность его предметов — лишь мнимость, красочная ширма, за которой он прячет свою коварную зыбкость, мучительную текучесть, всепроникающую и всеразмывающую анонимность... Почему этот механизм дал сбой именно в нашей ванной комнате, позволив мне, девятилетнему ребенку, заглянуть в разверзнувшуюся на некоторое время брешь и подглядеть пугающую множественность собственного «я», — не знаю. Но, по всей видимости, просочившаяся ко мне информация была все-таки непредусмотренной, потому что вскоре она почти изгладилась из моей памяти, для того чтобы снова вынырнуть на поверхность лишь через существенный промежуток времени.
— Ты знаешь, — говорит Гера, делая очередную безрезультатную попытку дотронуться пальцем до моей щеки, — а без косметики у тебя совсем другое лицо — такое милое, домашнее...
— Такое зеленое... — в тон ему подхватываю я.
— Да нет, — удивляется он, — очень красивое, но совсем другое. Беззащитное. Так бы и ласкал тебя, так бы и ласкал!
— Но-но!
— Ну что «но»! Ну почему «но»? Зачем «но»? Не надо, маленькая моя, — упрашивает он, и горбоносое лицо его подрагивает и подергивается, приближаясь ко мне и разрастаясь.
И внутри меня тоже что-то начинает неприятно дрожать. Воздух между моим запрокинутым лицом и Гериным все ниже и ниже нависающим надо мной профилем уплотняется, вибрирует и вдруг с хищным треском разрывается. И сквозь образовавшуюся в нем пробоину я вижу ослепительно свинцовое небо Прибалтики, влажную от росы траву и в ней — маленький серый комок, сотрясаемый крупной дрожью.
«А ты бы что хотела? Чтобы весь дом кишел мышами?» — хлещет из пробоины возмущенный голос Лии.
Лицо мое напрягается. Герин профиль испуганно отдергивается от края пробоины, которая тотчас же зарастает.
— Боже, — шепчет он, — какое у тебя лицо было!
— Какое? — хрипло спрашиваю я.
— Как у дикой кошки.
А как она умела притворяться, приспосабливаться, подлаживаться под того, кто в данный момент входил с ней в контакт! Никто, кроме меня, не знает, сколь поразительной была ее способность к мимикрии.
Так, при Гере она имела облик скромного обиталища одинокой, интеллектуальной и явно недооцененной женщины (как долго я принимала это за ее подлинную сущность!), обиталища, где витает смутный эрос и главенствуют книги, простирающие свое влияние вплоть до кухни, где обычно и устраивались мы с ним. (Сейчас я понимаю, что отсутствие марафета было, по сути, не более чем очередным средством, дающим ей возможность просто проявить еще одно из своих лиц.)
Когда в нашей жизни появился Виктор, она начала стараться сделаться уютной. В ней даже появились недорогие желто-коричневые занавески, при помощи которых нам почти удалось скрыть отсутствие двух стен.
...И будто бы наконец все ушли. Я всовываю босые ноги в шлепанцы, бегу из красной комнаты в желтую и начинаю строить дом из диванных подушек. Дом нужно построить как можно скорей, пока не вернулась мама. Потому что, если она застанет дом недостроенным, она его сломает. Я тороплюсь, но крыша никак не желает держаться на мягких стенах и все время сползает. Наконец мне удается добиться равновесия. Я поспешно втыкаю бумажные цветы между паркетин пола, впрыгиваю в дом и, тяжело дыша, любуюсь оттуда своим цветущим одиночеством: оно зеленое, белое, лиловое и — что самое главное — желтое. И вдруг я понимаю, что забыла закрыть входную дверь. Я сползаю с дивана и ползу на животе в прихожую, стараясь не задеть за цветы, потому что именно в этом и кроется опасность. Я почти уже подползаю к двери, ведущей в прихожую, как вдруг вижу, что моя правая рука, как-то блудливо вильнув пальцами, делает резкий рывок вбок и начинает терзать лиловый цветок. И тотчас же входная дверь громко хлопает, кто-то хватает меня за шиворот, тащит к дивану и, засунув мою голову вовнутрь домика, начинает погружать ее в воду. И, пуская ртом и носом пузыри, я отчаянно брыкаюсь ногами и трясу домик руками. Мягкие стены бесшумно разваливаются, крыша обрушивается мне на голову, и я чувствую, что наконец-то свободна.
Виктор мне нравился очень. Сейчас я уже затрудняюсь сказать, что именно мне в нем так нравилось. Кажется, шея. Да, точно, шея. Она так и источала силу и уверенность, что выгодно отличало ее от худой шеи моего бывшего мужа. И голос, восходивший из этой шеи, был густым и сочным. Да, да, все правильно — сейчас, когда мне уже многое стало ясно, я начинаю понимать, что между моим нестерпимым желанием дотронуться пальцем до этой сильной шеи и отсутствием стен в квартире существовала какая-то тайная связь. Допускаю даже, что желание это возникло еще раньше — задолго до того момента, когда, распахнув дверь комнаты, где сидели мы, сотрудники Информцентра Ленинской библиотеки, навстречу нам шагнул высокий сильный мужчина и красивым голосом спросил: «Девушки, не могу я у вас получить небольшую справочку? Мне для диссертации нужно». И тогда я увидела его шею. Она круто уходила вверх из не застегнутой на верхнюю пуговицу рубашки и увенчивалась кудрявой черноволосой с легкой проседью головой. И мне сразу же захотелось дотронуться до этой шеи. И желание это было знакомым, хотя вроде бы ничья шея до этого момента подобных желаний у меня не вызывала. Да, да, я уверена, что оно было внушено мне квартирой. Только прежде оно было смутным и не носило столь конкретного характера. Вообще, я думаю, что собственных желаний у меня то ли не было, то ли они искусно подавлялись квартирой, для того чтобы иметь возможность внушать мне ее желания, которые я по неопытности принимала за свои. Иначе как, например, объяснить тот факт, что после знакомства с Виктором я вдруг купила диван. Я ведь его и теперь-то практически не использую: для спанья у меня есть тахта, а для того, чтобы сидеть, мне вполне хватает кухонных табуреток. Но поскольку диван для чего-то был нужен квартире, то для достижения своей цели она использовала сильный аргумент.
Прибирать ее и переставлять в ней мебель я начала уже за несколько дней до назначенного свидания. И сперва я решила, что это паутина. Но это были трещинки в обоях, слабые локальные трещинки, сквозь которые медленно просачивался в квартиру ее настоящий цвет — серый. И вдруг я ощутила нестерпимое — до зуда в руке — желание расковырять эти трещинки. И оно было настолько властным, что подавить его можно было единственным способом — купив диван и плотно задвинув им место соблазна, эти узкие щелочки в иную суть моего обиталища. Подобный зуд мне уже довелось однажды испытать. В детстве. У нас во дворе была карусель, то есть большой деревянный круг, из середины которого рос стальной столб, чья верхушка соединялась с краями круга стальными тросами. Надо было встать одной ногой на круг и, крепко ухватившись руками за трос, другой ногой начать отталкиваться от земли. И тогда карусель со старческим скрипом трогалась с места и начинала крутиться — сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее. И вот как-то раз мы со Светкой так сильно раскрутили карусель, что нога моя соскользнула с деревянного круга — и, взлетев на воздух, я начала на дикой скорости описывать круг за кругом. Тело у меня исчезло, и от меня остались только руки, вцепившиеся в стальной трос, и острый, режущий горло голос. «У! У!» — ликующе вопил этот голос, который, впрочем, вполне возможно, был даже и не моим, а Светкиным. А может, это и вовсе был голос ветра, на дикой скорости мчавшегося в направлении, противоположном тому, куда мчались мы. И вдруг у меня снова появилось тело. Оно лежало на земле, розовое платье на нем задралось, обнажив голое бедро, на котором медленно распускался большой багрово-серый цветок. И из этого цветка сочилась такая боль, что лицо пролетавшей над ним Светки вдруг позеленело. А потом тело мое снова стало куда-то лететь и очутилось на постели в красной комнате. «А теперь мы будем спасать твою ногу», — произнес надо мной чей-то ватный голос и стал поливать мое бедро прозрачной жидкостью. Цветок на бедре вспенился, зашипел и начал пожирать мою ногу. Но тут его быстро забинтовали, и боль потихоньку стала стихать. А через несколько дней я ощутила зуд в руке. В правой. Почесывание ее левой рукой не дало никаких результатов — зуд не проходил. И тогда я поняла, чего она хочет. Дождавшись, когда все уйдут, я сдвинула повязку на бедре. Цветок уже стал сморщенным и коричневым. Я начала обдирать его пожухлые лепестки — и вместо них расцветали новые: алые и свежие. И боль, сочившаяся из них, была слабой и приятной и вызывала воспоминание о недавнем полете.
После этого случая я больше никогда не летала. И потому, когда Виктор, решительно встав с моего нового дивана и отодвинув стоявший между нами журнальный столик, шагнул к табуретке, на которой я сидела, и плотно взял меня за плечи, то я сперва слегка испугалась, не понимая, почему тело мое вдруг начало вибрировать и исчезать. С мужем я никогда ничего подобного не испытывала. И чтобы унять непонятную дрожь, я обеими руками ухватилась за его шею. И тогда начал дрожать пол. А потом на меня вдруг опрокинулся потолок и по нему быстро пробежал маленький паук. И я отделилась от самой себя, медленно взмыла к потолку, прошла его насквозь и умерла.
— Какое у тебя лицо было! — прошептал Виктор.
— Какое? — постепенно стала обретать я голос и тело.
— Как на фреске.
— Честное слово, я настоящая.
— Не понял.
— Я живая, а не фреска. Только об этом мало кто догадывается. Да ты не пугайся, я шучу.
— А я не пугливый, — отодвигается от меня он.
— Ты что, обиделся?
— Да нет. Ты мне очень нравишься. Такая маленькая, беззащитная...
— Я беззащитная?!
— Конечно. Ведь женщина всегда намного слабее мужчины — и физически, и интеллектуально.
— Ну, физически понятно. А интеллектуально — это почему же?
— Да хотя бы потому, что женщины ничего существенного не создали. Ни в науке, ни в искусстве.
— А Цветаева? А Ахматова? А Софья Ковалевская?
— Послушай, ты меня что пригласила, чтобы читать мне лекции по теории искусств? У нас, между прочим, не так много времени. Меня дома ждут. Мы могли бы заняться чем-нибудь более интересным.
— Чем, например?
— А ты догадайся. Мне, между прочим, показалось, что тебе это понравилось. Ой, боже, да ты никак покраснела! Вот уж никак не ожидал, что ты такая застенчивая. Ты меня что, стесняешься, что ли? Какая прелесть! — И он плотно берет меня за плечо.
И внутри меня что-то начинает дрожать.
— А слезы зачем? — удивляется Виктор.
— Я тебя так люблю! — рыдаю я.
— Ну, ну, успокойся, — сочно рокочет он и гладит меня по голове.
...И я увидела, что нахожусь в большой прихожей, облицованной белым кафелем, какой бывает только в ванных комнатах. Но как будто бы это ЖЭК. И мне нужно получить справку о том, что девять лет назад мы снимали дачу в Жаворонках, а не в Пионерском. Справка эта нужна срочно, потому что завтра будет поздно и ничего уже нельзя будет поправить. В прихожей было две двери — справа и слева. И я поняла, что передо мной поставлен выбор и от того, что я выберу, зависит все. Это было испытание. Интуиция неудержимо толкала меня направо. Но я догадалась, что именно в этом и кроется подвох. И толкнула левую дверь. Там оказалась большая светлая комната. Несколько полированных столов. За каждым сидел человек, и вокруг него толпились люди. «Извините, будьте любезны...» — обратилась я к седовласому мужчине, сидящему за одним из столов. Мужчина приветливо взглянул на меня и ничего не ответил. «Будьте добры, вы не скажете...» — продолжала я. «Да, да, — ответил он, абсолютно с вами согласен». — «Но я же еще ничего не объяснила», — возразила я. Но он уже беседовал с другими.
«Скажите, пожалуйста», — обратилась я к пожилой женщине в розовом платье, на котором были нарисованы крупные васильки. Женщина подняла от бумаг мелко завитую седую голову и торжествующе оглядела меня. «А разве твои родители не запрещают тебе прятаться в подвалах?» — пропела она, почти не скрывая злого ликования. И вдруг я поняла, что это наша учительница Зинаида Васильевна, которая в шестом классе была у нас классным руководителем. «Но ведь я уже институт закончила. Вы разве не знаете?» — попятилась я от нее. «Знаю, милая, знаю, — усмехнулась она. — Я-то все знаю. А вот ты не знаешь. Педсовет постановил, что это отменяется. Так что изволь объяснить, почему ты опять без фартука». И она начинает медленно высвобождать из-под стола свое грузное тело. Я опрометью выскочила в прихожую и толкнула вторую дверь. Он стоял посередине комнаты и протягивал ко мне руки. «Неужели ты сразу не поняла, что надо было войти сюда? — тонким голосом сказал он. — Я тебя жду. Иди ко мне. Я буду тебя любить». — «Да! Да!» — откликнулось все во мне. «Иди же», — повторил он, вытягивая толстую шею. И тут я увидела у другой стены Зинаиду Васильевну и по размякшему выражению ее лица поняла, что он ей сказал то же самое. «Но как же это возможно одновременно?» — подумала я, но тут же почувствовала, что это возможно, что она не видит меня и, когда это все будет происходить, я уже не буду знать о том, что она одновременно со мной испытывает то же, что и я. «Иди же», — повторил он. Я со стоном обхватила его толстую шею...
...Я снова стояла в прихожей. Вокруг сновали люди. «Будьте добры...» — обратилась я к нему. «Да, да, — ответил он, — абсолютно с вами согласен». И прошел мимо. Ко мне подошла Светка. «В детском саду карантин, — сказала она, — и детей больше не дают домой. Но если хочешь, то мы попробуем их забрать. Только осторожно. Ведется наблюдение. Нам надо выйти из дома и пройти через лужайку. А там уже легче». Мы крадучись вышли из дома. В самом конце лужайки белело здание детского сада. «Лезь под крысу», — сказала она и показала на оранжевый автомобиль. «Какую крысу?» — удивилась я. «Эта оранжевая машина — на самом деле серая крыса. Мы под нее влезем и будем внутри ползти. Нас никто не увидит, и все будут думать, что просто по лужайке ползет серая крыса». Мы залезли под машину и легли навзничь. «Отталкивайся ногами», — шепнула мне она. Машина сдвинулась с места. Когда мы уже были посередине лужайки, послышались мужские голоса. «Они нас не видят», — шепнула я Светке. «Они нас не видят, — шепнул один мужчина другому. — Я привяжу их за волосы и буду тащить, а они будут думать, что сами едут».
До сих пор не вполне понимаю: то ли сны мои были предчувствием того, что Виктор меня бросит, то ли напротив, он меня бросил из-за того, что мне снились такие сны. Хотя я никогда ему о них не рассказывала. Трещинок в обоях он тоже не мог видеть — они были плотно задвинуты диваном. Но может быть, он все-таки каким-то образом чувствовал, что сочилось из них. Не знаю. Вообще, больше всего в жизни меня пугают зыбкость и неопределенность. Так в детстве я боялась темноты. И главным образом из-за того, что было непонятно, чего же именно надо в ней бояться. Если бы это можно было знать наверняка, если бы страх имел вполне конкретные опознаваемые приметы, то с ним можно было бы как-то бороться. Но бороться с чем-то смутным, расплывчатым, ускользающим и, именно в силу своей неопределенности, всепроникающим — невозможно. Если бы Виктор сказал мне, что мы должны расстаться потому, что я ему больше не нравлюсь, или потому, что он больше не хочет обманывать жену, или привел еще какую-нибудь причину, пусть даже самую обидную, но причину, то я как-нибудь сумела бы справиться с ударом, сильным, но единоразовым. Но удара не было, а было что-то похожее на волокнистый туман, какой я однажды в детстве видела у нас во дворе. Он был белый и плотный, и из окна было видно, как он подступает к самому подъезду. Но когда я вышла во двор, то оказалось, что туман начинается где-то дальше — у песочницы с красным грибком. Но, добежав до грибка, я опять не смогла зачерпнуть туман рукой, как мне этого хотелось. Потому что он странным образом уже отполз от песочницы — и сразу в двух направлениях: он был и далеко впереди и, одновременно, позади меня, у подъезда, от которого я только что отбежала. Началось все с того, что через месяц после нашего знакомства Виктор вдруг исчез на целую неделю. Хотя, может быть, это началось и раньше, а я просто не заметила тревожных симптомов — слишком была занята поддержанием уюта в квартире, то есть неусыпной слежкой за тем, чтобы она не растаскивала по всем углам мои свитера и юбки, не громоздила в мойке тарелку на тарелку и чтобы ее холодильник не истощился окончательно к возможному в любой момент приходу Виктора. И за внимание к себе она платила ответной лаской: мягкой желтизной своих стен, которых как будто бы даже стало несколько больше, почти что свежей белизной подоконников... Наверное, квартира так старалась для того, чтобы показать мне, что нам с ней хорошо и без Виктора... Но без Виктора было плохо. Наверное, собственные желания у меня все-таки были. По крайней мере, одно. И квартире на этот раз не только не удалось подавить его, но напротив — ей пришлось испытать на себе его силу. И сила эта, вопреки воле квартиры, разрушила иерархию, которую та навязала находящимся в ней предметам, и произвела среди них некоторую переакцентировку значимостей. Книги утеряли свое главенствующее положение и вступили в сложноподчиненные отношения с новым диваном, который вдруг стал каким-то особенно голым и своей наготой все время бросался в глаза. И поскольку сама я сидеть на диване не привыкла, то я приносила из кухни табуретку, садилась напротив него и начинала через журнальный столик беседовать с ним.
— Ты знаешь, — говорила я дивану, — а курсовую работу в институте я писала по копенгагенскому структурализму. Это очень интересное направление в лингвистике. Особенно теория универсализма. Если говорить вкратце, то, оказывается, категория падежа присуща всем языкам мира, даже тем, где ее вроде бы и нет в явном виде. Но она там присутствует в скрытой форме. На мой взгляд, это, безусловно, является доказательством существования праязыка.
Но, наверное, я говорила что-то не то, потому что после этих слов диван становился каким-то еще более голым. Тогда я меняла тему и начинала доказывать ему, какой вклад внесли женщины в развитие искусства. Но, добравшись до Зинаиды Гиппиус, я чувствую, что опять говорю что-то не то, потому что квартира вдруг становится совсем неуютной. И хотя трещинок в обоях я видеть не могу — они плотно задвинуты диваном, — но все равно я совершенно явственно ощущаю, как из них просачивается в квартиру ее прежний серый цвет. И тут раздается телефонный звонок. Воздух в квартире резко сгущается и становится желтым и душным.
— Алло! Алло! — кричу я в трубку.
— Ты чего так кричишь? — изумляется трубка Гериным голосом. — А я тут новое эссе написал. «Эротическое чувство как сверхпроводник смерти». Хотел почитать тебе.
— По телефону?!
— Ну, можно и по телефону... — несколько обижается трубка. — Вообще-то я подъехать хотел. — И нежно добавляет: — Соскучился.
— М-м-м, — начинаю я внутренне ерзать, — я это... ну, в общем, не могу сегодня. Что-то неважно себя чувствую.
— А что такое? Так я тогда тем более подъеду. Чего тебе привезти: анальгин? аспирин? горчичники? Да ты не стесняйся. Я даже могу тебе сам горчичники поставить! — воспламеняется он.
— Не надо! — пугаюсь я.
— Нет, нет, не возражай, я сейчас приеду.
— А про что там твое эссе? — ловко маневрирую я.
— Ну, это, в общем, о нас с тобой. Я недавно все понял. Понял, почему ты так ведешь себя со мной. Дело не во мне, а в некоем третьем.
Я вдруг чувствую страшное облегчение. Я устала плутать целую неделю одна в тумане различных предположений и догадок, тщетно пытаясь ухватить этот туман рукой и вылепить из него нечто осязаемое. И кто, как не Гера с его аналитическим умом, сумеет разъяснить мне причины странного поведения Виктора. Я, конечно, не настолько жестока, чтобы самой заговорить с ним об этом, но раз он и сам уже все понял...
— Что? Что? — тороплю я его. — Что ты понял?
— Ну, сперва это была только догадка. А теперь я в этом, увы, убедился.
— А как ты догадался?
— Ну, так в двух словах не объяснишь. Давай я лучше подъеду к тебе и прочту эссе.
Я начинаю колебаться. Соблазн через каких-нибудь полтора часа понять все слишком силен. Но вместе с тем за эти полтора часа, пока Гера будет ехать, может позвонить Виктор и сам объяснить мне все. И не стоит заранее отвергать возможности, что его объяснение окажется гораздо более приятным, нежели Герино. Но может и не позвонить. И тогда я снова останусь одна — среди этого зыбкого, застилающего зрение, но не дающегося в руки тумана.
— Ты знаешь, — осторожно говорю я, — когда я себя так плохо чувствую, то мне лучше побыть одной. Но ты мне в двух словах все-таки расскажи, о чем твое эссе.
— Ладно, — разочарованно уступает Гера. — Дело в том, — и он понижает голос почти до шепота, — что я давно уже заметил, что с тобой что-то происходит. Ты какая-то странная стала. Не пугайся, детонька, но я так за тебя боюсь, так боюсь. Ты только не пугайся, пожалуйста. Но, по-моему, тебя ищет смерть. Она и есть этот третий.
— Что?!
— Да, да. Но ты, главное, не пугайся. Ей нужна не ты. Это она меня через тебя ищет. Сейчас я тебе все объясню. Дело в том...
— Дело в том, что твой номер не пройдет! — кричу я. — Ты думаешь, я не понимаю, куда ты клонишь? Ты просто-напросто вымогатель.
— Но пойми, у меня такое устройство психики, что мне просто необходимо...
— Что тебе просто необходимо паразитировать на чужой психике! — И я кидаю трубку.
Но от Геры не так-то просто отделаться — телефон звонит снова.
— Ну? — грозно спрашиваю я.
— Здравствуй, — радостно говорит Виктор. — А я к тебе тут пару дней назад решил приехать. Вышел из дому — еду, еду по Кольцевой в метро, а потом смотрю — я почему-то опять на своей станции. Взял и пошел домой. Ну так я сейчас к тебе приеду?
— Ладно, — отвечаю я. И зачем-то добавляю: — Только ты посильнее в дверь звони, а то у меня звонок барахлит.
— Да я не то что звонить, я дверь выломаю!
Я положила трубку и, быстро изгнав веником из-под тахты пушистые серые комочки, бросилась на кухню. Краситься. Оперативно нарисовав именно то лицо, которое ему особенно нравилось, — лицо египетской фрески с длинными глазами — и натянув на себя фирменное белье и новый, еще ни разу не надеванный парадный халат, я заняла наблюдательный пост около окна на кухне. Через полчаса к подъезду с шумом подкатило такси и из него вышла могучая блондинка в красном пальто. Потом минут через пять в обозримое из моего окна пространство вошел старичок в сером плаще и желтых ботинках. Потом проехал автобус. Потом я вспомнила, что забыла стереть пыль с мебели в комнате. И когда я протирала телевизор, в дверь позвонили. Успев заглянуть по дороге в зеркало в ванной комнате и оставшись довольной тем, что я в нем увидела, я подбежала к двери и распахнула ее.
— Здравствуй, Сонь, — сказал сосед по лестничной клетке дядя Петя, заходя в прихожую и обдавая меня запахом несвежего белья. — Выручай, заболел я. На лекарство денег нет. Мне бы хоть пятерочку.
— Пятерочку не могу, а трояк дам, — мгновенно по трясущимся рукам распознала я характер его болезни.
Часа через четыре я начинаю понимать, что Виктор не приедет. Но поскольку плакать одной — без чьего-либо сочувствия — невыносимо, то я иду в ванную и плачу перед зеркалом, в котором, глядя мне в глаза и явно соболезнуя мне, плачет египетская фреска с длинными глазами, сочащимися черной едкой тушью.
Сейчас-то я уже понимаю, что квартира отвадила Виктора для того, чтобы полностью завладеть мной. Но тогда я всего этого не понимала, наивно полагая, что тут какое-то недоразумение. И, взвесив все за и против, я сделала то, что всегда считала неприличным, — сама позвонила ему на работу, где он, как я знала, часто задерживался по вечерам.
— А, — смущенно сказал он, — это ты? А я вот работаю. Да нет, ничего не случилось. Работы много. Да нет, не заболел. Я тебе потом позвоню.
Туман, сочившийся из телефонной трубки, никак не желал принимать осязаемые формы. И я попыталась ухватить его рукой.
— Послушай, я хочу, чтобы ты знал одно: то, что было, тебя ни к чему не обязывает. Если ты считаешь, что нам больше не надо видеться, ты так и скажи. Я не буду иметь к тебе никаких претензий. И звонить не буду. Но я должна знать, на каком я свете!
— На этом, на этом, — заклубилась трубка.
— Но я серьезно.
— И я серьезно. Я же сказал, что позвоню. Да, да, Марья Петровна, уже дописываю.
— Послушай, но я ведь знаю, что ты один в кабинете работаешь.
— Присаживайтесь, Марья Петровна, присаживайтесь. Я уже заканчиваю. Значит, договорились, я вам позвоню.
— Это ты уже мне?
— Да, да, вам. Ну, всего вам доброго.
И трубка, прекратив источать туман, начинает выплевывать короткие гудки. Я кладу ее, но туман, уже исторгнутый ею, не рассеивается. Он входит в меня и сгущается в горле. Проходит несколько дней, и комок тумана, все это время мешавший мне дышать, начинает потихоньку рассасываться. Часть его переползает из горла в грудь и больно распирает соски.
...И будто бы я стою на кухне нашей прежней квартиры на Ленинском проспекте. И я знаю, что, для того чтобы попасть в желтую комнату, мне необходимо влезть в мусоропровод. Я открываю его, зажимаю двумя пальцами нос и протискиваю туда голову. Но остатки разваренной лапши, которые я днем тайком от мамы выплеснула в мусоропровод, мягко прилипают к моей щеке. Я вздрагиваю и хочу выдернуть голову обратно. Но голова моя уже застряла, и мне остается только ползти вперед. И, извиваясь от мерзкого ощущения, мое тело начинает медленно ввинчиваться в мусоропровод. Стоя в кухне, я вижу, как в мусоропроводе исчезают сперва мои плечи, потом еще половина туловища. А затем, взбрыкнув новыми, недавно купленными в «Детском мире» ботинками, туда стремительно уплывает и остаток тела. Я облегченно вздыхаю и иду в желтую комнату...
Туман, исторгнутый телефонной трубкой и переползший через горло вовнутрь сосков, с каждым днем все больше отвердевает и болит. А тот его остаток, который застрял в горле, как-то спрессовывается, становится маленьким и компактным и, болтаясь в горле, все время вызывает приступы тошноты.
...И будто бы мы с мамой стоим в кабинете нашего врача Клавдии Петровны. У Клавдии Петровны почему-то лицо медсестры Лидочки. И как будто мне сейчас — прямо в этом кабинете — должны удалять гланды.
— А это очень больно? — спрашиваю я у мамы.
— Да ни капельки! — возмущается Клавдия Петровна и, схватив меня правой рукой за лицо, запрокидывает его на полусогнутый локоть своей левой руки.
— А может быть, роторасширитель нужен? — каким-то угодливым голосом спрашивает мама.
— Да нет же! — снова возмущается Клавдия Петровна. — Мы ведь ей не лежачую операцию делать будем, а стоячую. — И она засовывает мне в рот волосатую мужскую руку и начинает протискивать ее в горло.
«Странно, почему у Лидочки мужская рука?» — промелькивает у меня в голове.
Но тут пальцы Клавдии Петровны что-то нащупывают у меня в горле, вцепляются в это «что-то» и начинают с хрустом выдирать его. И я кричу от нестерпимой боли и пытаюсь укусить волосатую руку...
Вскоре я начинаю понимать, что туман, проникший в меня, наконец-то обрел форму. Причем совершенно нежелательную в моем положении женщины без мужа. Правда, маленькая надежда на то, что я, может быть, все-таки ошибаюсь, у меня еще есть. Но надежда эта довольно-таки смутная, гораздо более смутная, нежели распирающий мое тело туман.
Туман вовне меня, туман внутри меня — это уже некоторый перебор. И я отправляюсь в платную поликлинику для того, чтобы выяснить, какой из двух туманов все же является реальностью.
Реальностью оказался туман внутренний. Он даже имел точный возраст — 7 недель.
Итак, нечто, вселившееся в меня против моей воли, имело возраст. Но это было единственное, чем оно обладало. Ни пола, ни внешности, ни каких-либо иных примет у него не было. И потому было неясно, что делать с этой зыбкой неопределенностью, почему-то возжелавшей стать частью меня. К подобному повороту событий я была совсем не готова. С мужем у меня ничего подобного не было, и, по мнению специалиста, к которому меня в свое время заставила обратиться свекровь, причина таилась во мне. А теперь выяснилось, что медицина знает о причинах того или иного явления ничуть не больше, нежели знала я о причинах исчезновения Виктора.
С телом происходило что-то странное. С каждым днем оно все сильнее разбухало и надувалось — нечто, пробравшееся в меня и использовавшее мое тело в качестве временного убежища, явно занялось его переустройством в соответствии со своими потребностями, и в первую очередь расширением жизненного пространства. Собственно говоря, оно проделывало со мной приблизительно то же самое, что и я со своей квартирой. Только меня раздражало открытое, разомкнутое пространство, и я делала все возможное для того, чтобы его ограничить. А туманному постояльцу, нарушившему суверенность моего «я», явно претило пространство замкнутое. И маленькое нечто, это почти что пока еще ничто, надежно сокрытое от меня моим же собственным телом, тайно, но упорно вершило нелегкий труд преобразования и приспособления к себе своей квартиры. И хотя все медицинские справочники непреклонно свидетельствовали о том, что органы дыхания у него пока еще не сформированы, тем не менее оно каким-то образом дышало и своим дыханием надувало меня, как мыльный пузырь. Нет, живота у меня, естественно, еще не было видно — он мог наметиться только где-то на пятом месяце. И потому я пока была единственной, кто знал о том, что я уже не я, а мыльный пузырь, зависящий от чужого дыхания. Но в ощущении собственной эфемерности, как ни странно, было и что-то сладостное, отдаленно напоминающее безумный полет на карусели.
...И будто бы девочка моя больна и они убеждают меня, что вылечить ее можно единственным способом — обложить ей лицо ватой с хлороформом и на ночь зарыть ее в землю. Но я колеблюсь, я боюсь, что за ночь она может умереть в земле. Но они говорят, что это глупости, что это общеизвестный метод лечения и что все так делают. Что их самих в детстве так лечили. И мне нечего им возразить, потому что раз все так делают — значит, это правильно. И я соглашаюсь — и они обкладывают ее лицо ватой с хлороформом и начинают заворачивать ее тельце в простыню. И тут я понимаю, что они обманули меня. И я требую, чтобы ребенка сейчас же развернули. Но они показывают мне какую-то бумагу и говорят, что это договор, что я сама его подписала и что, согласно этому договору, с них снимается какая бы то ни было ответственность за исход эксперимента. И они уносят завернутое с головой тельце девочки, и последнее, что я вижу, — это ее ножки в красных ботиночках, свесившиеся из-под простыни и как-то механически болтающиеся в воздухе...
Тайна распирает меня, и мне становится невмоготу быть ее единственным свидетелем. Но довериться кому-либо у меня тоже нет сил. И потому единственный человек, с которым в данной ситуации я могу поделиться своей тайной, не рискуя при этом вскрыть канал, через который в меня потом будет беспрепятственно просачиваться нечто чужое, — это я сама. И поскольку карманного зеркальца для полноценного общения недостаточно, то я иду к зеркалу в ванной комнате, дающему возможность видеть лицо собеседницы в натуральном размере.
— Ну что? — резко бросаю я в напряженно следящее за мной лицо собеседницы. — Допрыгалась? Им, видите ли, любви захотелось!
Лицо у собеседницы подергивается, и она явно собирается заплакать.
— Ну, пореви, пореви, — дразню я ее.
Но она уже овладела собой и смотрит на меня с нескрываемой злобой. Я пугаюсь. Ссора в мои намерения не входила. Тем более в данной ситуации.
— Ну ладно, ладно, — примиряюще бормочу я. — Что делать-то будем?
Минут через пятнадцать я выхожу из ванной комнаты, уже несколько успокоенная. Не столько характером принятого решения, сколько самим фактом, что решение наконец-то принято.
Но принято решение — это одно, а реализовать его — это совсем другое. И я решаю посоветоваться с моей бывшей институтской приятельницей, которая старше меня на семь лет, имеет двоих детей и определенный опыт в решении подобных проблем. Я набираю ее номер и, претерпев не очень сильный град упреков за то, что редко звоню, излагаю приятельнице свою проблему.
— Да как же ты ухитрилась подзалететь! — изумляется она. — Совсем неграмотная, что ли?
— Да я как-то об этом не думала... Послушай, а это очень больно?
— Ну, если при помощи советского сервиса... Да ты не волнуйся, у меня у приятельницы есть знакомая медсестра. Заплатишь ей, и она все устроит в лучшем виде.
...И будто бы я стою на кухне и мою посуду. И вдруг входит Виктор в новом светло-сером костюме, какого я у него никогда не видела. Он поднимает руки и тихо обнимает меня сзади за плечи. Пол под моими ногами начинает крупно дрожать, чашка медленно падает у меня из рук — и с глубоким вздохом облегчения я откидываюсь назад, в его сильные руки...
Через неделю, слабо поскуливая и хватаясь влажными руками за перила, я поднимаюсь по лестнице в нашем подъезде. Странно, но, оказывается, полое выпотрошенное тело гораздо труднее втащить на четвертый этаж, нежели тело, переполненное туманом. Пустота весит больше. Она хлипко дрожит, распирает меня изнутри и норовит вырваться плачем наружу. Но мне было бы обидно расплескать ее втуне — на безлюдной лестнице, и потому максимум, что я могу себе позволить для некоторого облегчения, — это время от времени тихонько подвывать. Наконец я добираюсь до своей двери, торопливо отпираю ее ключом и устремляюсь в ванную комнату, где уже можно дать себе волю. Пустота, вселившаяся в меня сегодня утром в клинике, подкатывает к горлу и наконец-то прорывается наружу.
— Они обманули меня! — выхлипываю я собеседнице. Собеседница дергает головой и начинает корчить рожи и визгливо хохотать.
— Обманули! — кричу я ей. — Деньги взяли, а наркоз не сделали.
Лицо собеседницы багровеет от хохота, веки вспухают, глаза превращаются в щелки. Мне становится противно. Я замолкаю, медленно выхожу из ванной и бреду в комнату. Но пустота внутри меня продолжает болезненно дрожать и требовать словесного воплощения. И я набираю номер приятельницы.
— А, тебя уже выпустили, — говорит она. — А то без блата мурыжили бы там еще три дня.
— Они обманули меня, — тупо сообщаю я ей.
Со временем пустота, вселившаяся в меня на операционном кресле, не только не исчезает, но, напротив, начинает разрастаться и требовать постоянного насыщения. Я все чаще запираюсь в ванной комнате и общаюсь там с собеседницей. Но подобными маневрами мне лишь ненадолго удается обмануть пустоту. Вскоре ей надоедает питаться моим кислым отражением в зеркале, и она начинает требовать чего-нибудь более съедобного.
Мне приходится пойти ей на уступки и позволить Гере приезжать почти каждый вечер. Мы устраиваемся с ним на кухне, включаем все четыре газовые конфорки и наслаждаемся теплом и собственным интеллектуализмом.
— Я так люблю античность, я так люблю античность! — сладостно постанывает Гера. — У меня абсолютно эллинистическое мировосприятие.
— Не знаю, для меня эллинизм слишком совершенен. Посмотри на их статуи — ни единого изъяна. Это совершенство смерти — та степень законченности и завершенности, когда дальнейшее развитие уже просто невозможно. Я думаю, что эллинская культура и погибла от собственного совершенства, ибо дальше идти было некуда. Мне гораздо ближе Древний Египет.
— Да, да, ты права. Египет — это какое-то страстное взаимовлечение жизни и смерти, неиссякаемое движение мистериальной чувственности! Кстати, если бы я верил в переселение душ, то сказал бы, что в предыдущем воплощении ты была жрицей любви и смерти в Древнем Египте.
Последняя фраза особенно приходится по вкусу моей пустоте. Я поворачиваюсь лицом к вечернему окну. В окне идет снег. Из ванной комнаты, незримая Гере, выскальзывает собеседница, проходит сквозь кухонное стекло, приникает к нему с обратной стороны и сквозь снег смотрит на нас своими древними египетскими глазами.
— Господи, как хорошо-то! — выдыхает Гера и греет руки над газовой конфоркой.
— Угу, — отвечаю я.
И действительно, нам хорошо. Всем четверым: и мне, и Гере, и собеседнице, и моей пустоте.
Но по ночам, когда я остаюсь одна, моя пустота, лишенная возможности питаться Герой и мертвыми эпохами, снова требует пищи. И хотя трещинки в обоях все так же плотно задвинуты диваном, она тем не менее чутко улавливает и вбирает в себя то, что из них сочится...
А ведь я была готова ее полюбить. Она была такая жалкая, ободранная, вся в подтеках предыдущей жизни... Разве я не предоставила ей возможность забыть о том, какая она была раньше? Разве не моими стараниями, заглушив серое истечение ее воспоминаний, возобладал в ней лучший в мире цвет — желтый? Почему же тогда она отторгала мою любовь? Чем объяснить эти рецидивы серого цвета, который почти незаметно (наверное, для того, чтобы не привлечь к себе моего излишнего внимания) то в одном, то в другом углу вдруг прорывал обои и сквозь слабые паутинообразные трещинки сочился в комнату?
...И будто бы я наконец-то одна. Я всовываю босые ноги в шлепанцы и бегу из красной комнаты в желтую. Там, у обеденного стола, почему-то выдвинутого на середину комнаты прямо под люстру, горящую всеми восьмью лампочками, в длинном до полу клеенчатом фартуке стоит наш детский врач Клавдия Петровна и огромным секачом рубит ободранную свиную тушу. Фартук и волосатые руки Клавдии Петровны залиты красным густым светом. И я хочу прошмыгнуть мимо нее в коридор, но она замечает меня и, приложив к своим губам мокрый красный палец, заговорщически шепчет мне: «Подожди в предоперационной, я сама тебя вызову». — «Но ведь я уже выздоровела, — говорю я ей, — я тетрациклин пила». — «Ай-ай-ай, — укоризненно качает головой Клавдия Петровна, — нехорошо обманывать. Неужели ты хочешь, чтобы весь дом кишел мышами?»
«Но я ведь почти каждый день подметаю пол!»
«Ай-ай-ай, ведь взрослая уже девочка, как не стыдно бояться! Это ведь совсем не больно».
«А это под общим наркозом будет?»
«Я же сказала, небольно будет. Ну хватит, некогда мне тут с тобой, ступай подожди...»
И красные руки ее снова берутся за секач...
...И будто бы они показывают мне какую-то бумагу и говорят, что это договор, что я сама его подписала и что, согласно этому договору, с них снимается какая бы то ни было ответственность за судьбу эксперимента. И я пытаюсь доказать им, что это какое-то недоразумение, что я ничего не подписывала. Но они говорят, что Зинаида Васильевна, которая в шестом классе была у нас классным руководителем, уже подтвердила мою подпись и всякое запирательство бессмысленно. А если я буду упорствовать, то они всем расскажут о том, что мыльная вода у меня уже кончилась и мне больше не из чего делать мыльные пузыри...
...Серый пушистый комочек лежал под тахтой и слабо шевелился. А я сидела на корточках и смотрела на него. С некоторых пор я не могла засыпать, если хоть один из них находился под тахтой, где они почему-то больше всего любили устраиваться. Этот был особенно крупным, и его вид почему-то завораживал меня. Я протянула к нему ладонь, и он доверчиво прильнул к ней. Я осторожно сгребла его и, встав с корточек, пошла с ним в ванную комнату. Быстро утопив его в унитазе, я вернулась и легла в постель.
...Огромное желтое солнце висело над лугом. И я смеялась и бежала по лугу в сторону солнца. Я отталкивалась ногой от земли, зависала над травой и в течение нескольких секунд, часто-часто перебирая ногами, бежала по воздуху, а потом мягко приземлялась, снова отталкивалась и снова бежала по упругому пружинящему под ногами воздуху...
...И будто бы я кричу. Но они не обращают на меня никакого внимания. И, завернув тельце девочки с головой так, что из-под простыни свешиваются только ее ножки в красных ботиночках, уже собираются унести ее. Но я умоляю Зинаиду Васильевну сказать им, что хотя я и отлынивала от уборки класса, но по математике у меня всегда была пятерка, она ведь знает об этом. Зинаида Васильевна нехотя кивает, и они начинают колебаться. Но тут Гера говорит им, что он мой любовник и что это может подтвердить его прежняя жена, потому что она всегда была в восторге от его мужских качеств. Что я просто стесняюсь признаться в этом, поскольку египетские фрески очень боятся, как бы мыши не расковыряли их штукатурку. И что из всего этого явствует, что подпись на договоре, конечно же, моя. И они торжествующе смеются и уносят от меня тельце девочки...
...Спина Виктора в новом светло-сером костюме быстро удаляется от меня сквозь уличную толпу. Но на мне старый бордовый халат, и потому я не могу его окликнуть. А новый халат я надеть не могу, потому что для этого надо открыть дверцу гардероба и тогда гардеробное лицо будет проступать сквозь мою кожу, даже если я очень сильно напудрюсь...
...И будто бы я иду подвальным коридором Ленинской библиотеки. В коридоре пусто, и вдоль стен тянутся толстые желтые трубы диаметром в метр. И в них что-то слабо и ровно гудит. А иногда в стенах есть стальные глухие дверцы. Но я знаю, что это не те дверцы, потому что та, которая мне нужна, должна быть открыта и там мне дадут методическую разработку для моей начальницы. И вдруг гудение в трубах обрывается, и я понимаю, что пропустила нужную мне дверцу. И поворачиваю обратно и начинаю толкать по очереди каждую из них. Наконец одна из дверец распахивается, и, пригнув голову, я вхожу в нее. Посередине пустой комнаты на цементном полу стоит кухонная табуретка, и верхом на ней сидит Гера. Он тихо поднимает руки и говорит: «Господи, как хорошо-то!» Потом поддергивает рукой под собой табуретку и начинает надвигаться на меня.
«Нет», — говорю я ему. «Да! Да!» — сладостно стонет он, и из-под правой ноги у него вдруг выбегает маленький серый паук. Я отшатываюсь и упираюсь спиной в запертую дверь. «Фреска! Фреска! — бормочет Гера. — Ну иди же, иди ко мне». Горбоносое лицо его стремительно разрастается, покрывается мучнистой бледностью... И, слабо всхлипнув, я бросаюсь к нему навстречу и бью, бью, бью в это ненавистное, крысиное, еще более помучневшее от удивления и ужаса лицо...
РАДОСТНЫЕ И РАЗНОЦВЕТНЫЕ
(Рассказ)
I. Летать она отвыкла и сейчас летела трудно и неуклюже. Почти как в первый раз. Правда, на ней было синее платье, и почти того самого синего цвета, какой она особенно любила. Но теперь, как ни странно, это нисколько не помогало. Наверное, что-то не в порядке было с воздухом. Или сквер был чересчур безлюдным. Она летела низко, и когда взбрыкивала ногами, пытаясь подняться выше, то задевала мысками туфель о мокрый асфальт, густо обклеенный желтыми и бурыми листьями. По всей видимости, в сквере была уже осень. Но она не чувствовала холода, потому что помнила, что батарея в квартире сегодня работала исправно и, кроме того, на ночь она оделась в байковую рубашку и укрылась двумя одеялами. Так что дело было не в холоде, а в чем-то другом. И она знала, в чем именно, но никак не могла припомнить. Она подтянула колени к животу, тесно прижала к бокам согнутые в локтях руки, сжалась до предела, а потом резко распрямилась. Но, увы, она опять продвинулась вперед, а не вверх. Может быть, дело было в том, что она побоялась выключить свет и оставила гореть ночник? Или в том, что луна висела слишком низко на голом небе? Как бы то ни было, но она устала и приземлилась на четвереньки. И тогда она вспомнила. Окурок. Конечно же, окурок.
II. Та женщина протянула ей пачку сигарет и предложила угощаться. Французские, сказала та женщина. Но она в тот вечер прекрасно владела собой и, хотя почти сразу все поняла, взяла сигарету и принялась оживленно болтать с ними обоими. Та женщина была моложе ее. Нет, не красивее. Пожалуй, проще, чем она. Существенно проще. Но моложе. И потому после его возвращения из Франции та, которая моложе, угощала французскими сигаретами ту, которая старше. Но та, которая старше, к своему удивлению, оказалась способной владеть собой, и весело улыбалась им, и говорила о том, что первое отделение концерта было замечательным, а второе, судя по афише, будет еще интереснее. Но после концерта те ушли вдвоем, а она одна. Она шла к метро и по инерции все еще улыбалась.
III. Она сидела на постели в своей новой шубе, купленной специально ради него, с подергивающимся лицом, и ловила воздух широко раскрытым ртом.
IV. Окурок лежал на асфальте рядом с мокрым желтым листом и тихо тлел. Но это был не сигаретный окурок, а папиросный и наводил на мысль о том, что, может быть, все еще поправимо.
V. Она хохотала. Сидела на ветке клена и хохотала. Но трое мужчин не обращали на нее никакого внимания и продолжали искать ее в кустах смородины. Тогда она зажгла в комнате свет — все четыре лампочки, чтобы могли наконец-то разглядеть ее. Но они продолжали возбужденно расталкивать кусты и уходили все дальше.
VI. В общем-то та женщина не выглядела моложе ее. О том, что та моложе, она знала от придурка. Придурок как-то говорил ей, что вот, мол, какая интересная новость, наш общий друг влюбился. По уши. Чуть ли не жениться собирался. На двадцатитрехлетней. Но поскольку придурок сообщал ей подобные новости уже не в первый раз и в совершенно различных вариантах, то она не обратила на это должного внимания, полагая, что он говорит ей это нарочно, чтобы по ее реакции понять: а каковы же ее собственные отношения с их общим другом. Придурка такие вещи всегда интересовали.
VII. И как будто она в каком-то чулане целуется с придурком. Ей противно, но это единственный способ выведать у него, правда ли, что их общий друг до такой уж степени влюбился. Но придурок то ли вправду ничего не понимает, то ли притворяется — и целуется на полном серьезе.
VIII. И она говорит той женщине, что пусть та не надеется, что он женится. Это совершенно не в его характере. Тем более, что стирального порошка в магазинах теперь не достать. Но выясняется, что та женщина не только моложе ее, но и хитрее и все уже продумала. Низким эротическим голосом та отвечает, что хорошо умеет готовить голубцы, причем не только в капустных листьях, но и в баклажанах и помидорах. А летать, так это каждая дура может. Но она не хочет признать своего поражения и начинает торговаться: льстиво заглядывая в глаза той женщине, она говорит, что у нее есть вариант, который, на ее взгляд, устроил бы всех. Пусть та женщина продолжает готовить, она уверена, что та потрясающе готовит, а она, поскольку она старшая, будет с ним летать. И всем будет хорошо: и ему, и ей, и той женщине. На ее взгляд, это самый лучший выход из создавшегося положения. Для пущей убедительности она даже готова процитировать той женщине Камю. Та ведь, конечно, знает, что написано по этому поводу на тридцать четвертой странице собрания сочинений Камю? Той ведь известно, что Камю был ярчайшим представителем экзистенциализма? Но та женщина, оказывается, не так проста и, хотя явно не знает, что такое экзистенциализм, прекрасно чует, что именно в этом слове и кроется подвох и что если она попытается его произнести, то ее позиции могут пошатнуться. И потому, наивно улыбаясь, та женщина отвечает ей голосом еще более низким и еще более эротическим, что ничего не знает об отставных любовницах их общего друга, он не имеет привычки рассказывать ей о них. Может быть, своим предыдущим любовницам он что-нибудь и рассказывал об их предшественницах, но с ней он очень бережен. А насчет стирального порошка волноваться не стоит, их общий друг скоро снова поедет во Францию и привезет оттуда фирменный порошок. И от слов той женщины ей становится так холодно, что в квартире тут же перестают топить и полночи она ворочается с боку на бок и никак не может согреться.
IX. На этот раз она летит не по горизонтали, а по вертикали. Она стоит в воздухе и резко втягивает в себя ноги, а потом так же резко выбрасывает их вниз, ударяя пятками о пружинящий воздух и взлетая все выше и выше в марганцово-серое небо. Но, даже поднявшись довольно-таки высоко, она все еще продолжает различать тлеющий рядом с урной окурок.
X. И все же она довольна собой: в тот вечер она ничем не выдала себя, не доставила ему такого удовольствия. Хотя почти сразу же поняла. И тем не менее она взяла сигарету, протянутую ей той женщиной, и принялась так оживленно болтать с ними обоими, что он сперва успокоился, а потом начал нервничать и суетиться, предлагая то купить для нее программку, то поменяться местами, чтобы они все трое сидели рядом, то срочно отправиться в буфет и что-нибудь съесть. Но она держалась безупречно и не дала ему возможности откупиться от нее ни программкой, ни буфетом. И беспокоиться о том, чтобы поменяться местами, тоже не позволила: ей абсолютно безразлично, с какого ряда слушать музыку. А если подобная встреча повторится, то она будет держаться еще лучше. Нет, нет, она довольна собой и может себе позволить слушать музыку, не думая о посторонних вещах, не имеющих к музыке никакого отношения. Сейчас, например, она будет слушать по телевизору концерт классической музыки. Она включает телевизор — и диктор, радостно улыбаясь, сообщает ей о том, что, мол, не надо волноваться, ситуация явно улучшается, поскольку в магазинах снова появились стиральные и моющие средства. И после этих слов она наконец-то понимает, почему ей так холодно.
XI. Придурок говорит ей, что у него идея. Он придумал, как отомстить тем двоим. Сейчас он с ней пойдет в чулан, и там они будут целоваться, как и в прошлый раз, а потом поженятся. И он заговорщически подмигивает ей и дергает головой в сторону чулана. Но поскольку на этот раз на ней надето платье именно такого синего цвета, какой она особенно любит, то она легко отталкивается туфелькой от земли и, усевшись на верхнюю ветку клена, оглушительно хохочет, оставив придурка недоуменно искать ее в кустах смородины. Но, наверное, она хохочет слишком злорадно, потому что ветка под ней подламывается, платье свешивается ей на голову, и, лягая воздух заголившимися до трусов ногами, она вверх тормашками летит прямо в кучу мусора. И тогда дети накидывают на нее ошейник и, подхлестывая ее сзади прутиком, заставляют доковылять на четвереньках до собачьей будки. «Хорошая, хорошая», — говорят они и, ласково оглаживая ее по бокам, по шелковистой ткани ее любимого синего платья, приделывают к ошейнику большую цепь. А потом ставят перед ней алюминиевую миску с дождевой водой и, подталкивая ее лицо книзу, уговаривают: «Пей, ну пей же». И тогда она вдруг смиряется и под радостные возгласы детей начинает лакать воду. А потом вытягивает передние конечности, кладет на них голову и засыпает. И сны ей снятся радостные и разноцветные.
ИГРА В ПРЯТКИ
(Рассказ)
1. — Хачик, ты хлеб купил? Хлеб, говорю, купил? Да не притворяйся же, что не слышишь! Хачик! Хачик! Хачик!
Он засмеялся и еще ниже пригнул голову. Лицо его уперлось в коленку. Коленка пахла солнцем. Камень, за которым он прятался, был голубым, в нежных паутинообразных трещинках. Коленка тоже была голубой, холщовой, застиранной почти до прозрачности. И пахла солнцем. Солнцем пахли его руки с обгрызенными заусенцами, солнцем пахли волосы, упавшие ему на лицо, запах солнца исходил от голубого камня и от синей травы, в которой сновали бронзовые жучки. Он еще раз тихо засмеялся, но, по всей видимости, он засмеялся все-таки громко, потому что Морфилла тотчас же вошла в комнату, прошла сквозь голубой камень и обнаружила его.
— Вай, что за человек! — то ли удивилась, то ли возмутилась она. — Кушать любит, а как за хлебом сходить, так его не докричишься.
Наверное, все-таки возмутилась, потому что бронзовые жучки тотчас же потускнели и прошмыгнули в щелку между двумя паркетинами.
2. Хлеб пах солнцем. Правда, это был покупной хлеб, и потому солнце было не совсем настоящим. Тем не менее он тщательно жевал, по опыту зная, что не все, кажущееся настоящим, — настоящее. К тому же он не хотел дать Морфилле повода сделать ему замечание, что он плохо прожевывает пищу и совсем не следит за своим желудком. Запах крупного солнца щекотал ему нёбо, ударял изнутри в ноздри и медленно, но верно обволакивал все его существо. Наконец запаха стало так много, что он засмеялся и пригнул голову. Лицо его уперлось в коленку. Коленка пахла солнцем. Камень, за которым он прятался, был лиловым. Трава тоже была лиловой — и в ней сновали маленькие красные жучки. Он сорвал травинку и стал играть с жучками, то позволяя им взбираться на нее, то стряхивая их обратно — в источающую густой солнечный запах траву. Одновременно он искоса поглядывал на сидящую напротив него за столом Морфиллу, чтобы успеть, если понадобится, среагировать на ее слова и не дать ей возможности обнаружить его истинного местонахождения. Предосторожность оказалась не напрасной, потому что не успел он вдоволь наиграться, как Морфилла поинтересовалась, достаточно ли ему соли. Он заверил ее, что достаточно, и стал осторожно ползти по траве. Ему удалось отползти уже довольно далеко, но тут Морфилла сказала, что он сутулится, и потребовала, чтобы он сидел прямо. Он послушно выпрямился на стуле и пополз дальше — по источающей густой солнечный запах траве. Однако Морфилла, не догадывающаяся о том, как сложно одновременно сидеть на стуле, есть аджапсандал и ползти по траве, решила еще больше осложнить его положение и спросила, что он думает о новой комедии, которую вчера показывали по телевизору. Он чуть было не застонал от досады, но вовремя сдержался и наугад ответил, что фильм хороший. Это была ошибка. Потому что фильм, оказывается, был ужасно развратный. Он поспешил согласиться с ней, но было поздно — трава перестала пахнуть солнцем.
3. Из лоджии, переделанной во вторую комнату, он следил за Морфиллой, грузно удаляющейся в сторону магазина. Даже отсюда, с восьмого этажа, было видно, что у нее больные ноги. Наконец Морфилла свернула за угол. И он тут же юркнул за камень.
Ждать пришлось долго. Асмик всегда заставляла себя долго ждать. Но он был терпелив. И хитер. Он давно уже понял, что если уделять ей слишком много внимания, то она может и не прийти. Поэтому он притворился, что думает вовсе не о ней, а о длинноногом кузнечике, высунувшем из травы свою лошадиную головку и явно готовящемся к прыжку. Кузнечик томно взглянул на него, напружинил свои согнутые в коленках ножки и выстрелил собой в воздух. И тотчас же с другой стороны камня послышалось хихиканье. Но он знал, что еще не пора, и прикинулся, что ничего не слышит. Хихиканье стало более настойчивым. Он помедлил и начал красться вокруг камня...
...Она сидела на корточках, всей своей позой напоминая готовящегося к прыжку кузнечика, и хихикала, уткнувшись лицом в подол своего синего аккуратно заштопанного платьица. При его появлении она отдернула лицо от коленок и старательно изобразила испуг. Он притворился, что поверил в этот испуг, и, сделав страшное лицо, зарычал и лязгнул зубами. Она радостно взвизгнула, высоко подпрыгнула и с громкими воплями помчалась от него прочь...
...Он бежал за ней, счастливый, десятилетний, старательно лязгающий зубами, — и голубая трава пружинисто и щекотно пела у него под ногами...
4. Но иногда ожидание чересчур затягивалось. И тогда приходилось прибегать к другим хитростям. Например, наполнить горячей водой жестяной таз, снять носки и погрузить в воду ноги. Но это был рискованный метод, потому что, если Морфилла заставала его за этим занятием, она тотчас же впадала в беспокойство и начинала расспрашивать, что у него болит, горло или ноги, и даже пыталась щупать его лоб. Поэтому более надежным было другое средство — кофе. Крепкий кофе по-турецки. Это было более эффективным и к тому же не вызывало у Морфиллы никаких подозрений. Он подносил маленькую чашку к губам — отхлебывал, обжигался, отдергивал лицо от чашки, пережидал, а потом начинал медленно прихлебывать густую, почти черную влагу, источающую запах солнца, каким оно бывает в часы, когда сгущается жара. Он пил, низко наклоняясь над столом, — и где-то уже после третьего глотка с другой стороны камня раздавалось тихое хихиканье, а дальше уже дело шло на лад, и оставалось только не обнаружить прежде времени, что он догадался о том, что она уже здесь, и продолжать с безразличным видом пить кофе до тех пор, пока хихиканье не становилось все более и более настойчивым...
А иногда это получалось само собой — без каких-либо усилий с его стороны. Но бывали дни, когда это не получалось вовсе. И в такие дни он мучился, бесцельно слоняясь по квартире и пугая себя мыслью о том, что тогдашняя ее обида была все-таки всамделишной. И тогда он не выдерживал и начинал корить ее за такую длительную злопамятность. И с ужасом чувствовал, как она все дальше и дальше уходит от него.
5. Но он вовсе не хотел тогда ее обидеть. Она сама слишком резко выпрямилась. А он тут ни при чем. Думать же надо прежде, чем так вскакивать на ноги. Если бы он так скакал, то он бы тоже все время шлепался. Да, да, дело именно в том, что она слишком резко выпрямилась. И, не удержавшись на ногах, упала на спину. Синее, аккуратно заштопанное платьице ее задралось и обнажило коленку, похожую на розовую перламутровую ракушку, какую он однажды нашел на берегу реки. Он смотрел на коленку, отливающую теплым перламутром, — и ему ужасно хотелось пить. А Асмик плакала и говорила, что он нарочно толкнул ее. Она всегда была лгуньей, эта Асмик.
6. — Хачик, посмотри, кто к нам пришел! Заходи, Овик-джан, заходи. Хороший мальчик. Рафика нашего товарищ. Вот сюда, Овик-джан, сюда, в комнату. Вот эту полочку починить надо. ХАЧИК, ДА ИДИ ЖЕ СЮДА, ПОСЛЕДИ, КАК БЫ ОН У НАС ЧЕГО НЕ УКРАЛ. Да нет, не эту, а вон ту, Овик. Совсем большой мальчик стал. Сколько тебе сейчас? Вай, неужели пятьдесят? А Рафику нашему всего сорок восемь. Хороший мальчик Овик, хороший. ХАЧИК, ДА НЕ ПРИТВОРЯЙСЯ ЖЕ, ЧТО НЕ СЛЫШИШЬ! ПРИГЛЯДИ ЗА НИМ, МАЛО ЛИ ЧТО! Хороший мальчик... Видишь, как мы живем. И все из-за этого хулигана Гитлера. Все мои драгоценности в войну продать пришлось, все брильянты. Зато Рафик мой такой толстый был, такой хороший! Я ему недавно говорю: «Вай, Рафик-джан, все мои брильянты у тебя в животе!» ХАЧИК, ТЫ ЧТО, НЕ ПОНИМАЕШЬ? МНЕ СУП ВАРИТЬ НАДО. Я ЖЕ НЕ МОГУ ЕГО ЗДЕСЬ ОДНОГО ОСТАВИТЬ. ВДРУГ ЧТО-НИБУДЬ СТАЩИТ. Хороший мальчик...
Голос Морфиллы то отдалялся, то приближался — и в зависимости от этого Асмик то бежала с улыбкой к голубому камню в своем чистеньком платьице, то, спотыкаясь и плача, перепачканная, уходила от него прочь...
И ему было жаль Асмик, попавшую в зависимость к Морфилле, и жаль Морфиллу, потому что она лгала — и насчет брильянтов, которых у нее никогда не было, и насчет Рафика, который к ним давно уже не заходил. Она всегда была лгуньей, эта Асмик.
7. Но обычно такие ситуации случались редко. Он тщательно избегал всего, что могло бы хоть как-то спровоцировать их. И особенно старательно избегал мыслей о ее теплой перламутровой коленке. Потому что стоило ему хотя бы мельком подумать о коленке, как Асмик каким-то звериным чутьем улавливала его мысль и не появлялась. И даже если волевым усилием ему все же удавалось переломить ее сопротивление и заставить прийти, то ничего хорошего из этого не получалось — она появлялась, но какая-то не такая: то почему-то была выше ростом, то вместо старенького синего платья на ней оказывался кокетливый розовый брючный костюмчик, какой он недавно видел в витрине валютного магазина, то была похожа на себя, но так старательно подчеркивала это сходство, что ему становилось холодно. Он смотрел на нее, чересчур уж похожую на саму себя, и почти физически ощущал, как все вокруг отторгает его: голубой камень отторгал его, и синяя трава отторгала его, и отторгал его запах солнца, все более и более смахивающий на запах пережаренного кофе. И в эти минуты он чувствовал, как состаривается и начинает выглядеть на все свои восемьдесят два, хотя обычно больше семидесяти ему никто не давал.
8. — Кнарик, твоя внучка в какую школу ходит? То есть, я имею в виду, в простую или специальную? А, я так и думала. А наша Шушик в английской учится. Алло, алло, ты что, не слышишь? А зачем молчишь? Такая умная девочка, недавно звонит мне и говорит: «Бабуля, я тебя знаешь как люблю!» Что значит — когда «недавно»? Вчера. Или, может, позавчера... Какая разница, когда? Между прочим, на днях твою невестку видела. Да нет, ничего не хочу этим сказать. В такой короткой юбке. Чуть-чуть одно местечко прикрывает. Сколько ей, Кнарик? Да, бегут годы. А кажется, только вчера тридцать пять ей было... Коротенькая такая юбочка. Как фиговый листочек. Да нет, ничего не хочу этим сказать. Разговариваем, да? Моей невесткой? Довольна. Уважительная девушка. На днях звонит мне: «Мама, вам ничего не нужно?» Что? Куда уехала? В Кировакан в командировку? А когда? Две недели назад?! А ты откуда знаешь? Ах, Аракся сказала... Да нет, я в курсе. Она мне оттуда и звонила. Из Кировакана. Так что ничего плохого не могу про нее сказать. По нынешним временам хорошая девушка. Что? Шушик на нее похожа? Ты с ума сошла: Шушик — красавица! Эх, Кнарик-джан, если б не этот разбойник, чтоб ему на том свете все время икалось, я бы моей внученьке такое приданое сделала! Все изумруды мои Рафик в войну скушал, все брильянты! Зато такой толстый был — все смотреть приходили.
9. ...Большое голубое солнце мягко пульсировало в небе. И он смеялся, и бежал в сторону солнца за радостно визжащей Асмик. Синяя трава пружинисто и щекотно пела у него под ногами... И вдруг в боку у него закололо. В правом. Он приложил к боку ладонь и продолжал бежать. Боль исчезла.
10. Большое солнце мягко пульсировало у него в боку. То концентрируясь в одной точке, то расширяясь и захватывая собой все новые и новые области. И он никак не мог понять, что больнее — когда солнце сжимается или когда оно расширяется. Но желтое одеяло мешало ему сосредоточиться. Потому что Асмик нравилось мучить его. Но он вовсе не хотел тогда ее обидеть. Она сама виновата. Нечего было так резко вскакивать. Если бы он так скакал, он бы тоже все время шлепался. Так что он тут ни при чем. И одеяло ни при чем. Просто оно слишком желтое. Он предпочел бы, чтобы оно было голубым. Или хотя бы зеленым. Тогда бы ему удалось понять, что больнее — когда солнце сжимается или когда оно расширяется. Наверное, он все-таки съел что-то лишнее. Да, да, теперь он вспомнил. Морфиллины брильянты. Он съел все Морфиллины брильянты — вот они и колют его изнутри. Морфилла была права — он слишком плохо прожевывает пищу. И потому брильянты никак не могут перевариться. В следующий раз он будет жевать тщательнее. Он клянется ей в этом. И обидеть он ее не хотел. Он ведь не виноват, что одеяло такое желтое. Конечно, лучше, чтобы оно было голубым. Но она слишком злопамятна, и ей нравится мучить его. Да, да, ей всегда нравилось мучить его, этой Асмик. Жаль, что он и вправду не толкнул ее тогда. А стоило бы. Так что ей абсолютно нечего улыбаться. Ах, она просит, чтобы он засучил рукав. Ей мало той боли, которую она ему уже причинила. И где она только такой шприц выискала! Не могла найти еще побольше? Ну, колú, колú же! Господи, как хорошо!
11. Он лежал на спине и дышал. Вдох-выдох, вдох-выдох. Свежий накрахмаленный пододеяльник ритмично шуршал в такт его дыханию. И он радостно вслушивался в этот белый свежий шорох и улыбался. Потому что белый был лучшим цветом в мире. А все эти — голубой, желтый, розовый — только причиняют человеку боль. Даже голубой... Даже голубой! Потому что где голубой, там и розовый. Вдох-выдох, вдох-выдох. Белизна-свежесть-покой. Вдох-выдох. Белизна-свежесть-покой. Вдох-выдох.
12. — Хачик, ты лекарство принял? Лекарство, говорю, принял? Да не притворяйся же, что не слышишь! Что за человек! Хачик! Хачик! Хачик!
Господи, как она громко кричит! Вдох-выдох, вдох-выдох. Белизна-свежесть-покой. Хачик! Хачик! Хачик! Вдох-выдох, вдох-выдох. Свежесть-покой-Хачик. Вдох-выдох. Хачик-покой-белизна. И совсем незачем кричать. Хачик-Хачик-Хачик. А, она думает, что если будет так кричать, то все поверят, что у нее есть брильянты. Хачик-Хачик-Хачик. А брильянтов давно уже нет, он их все съел. Хачик-Хачик-Хачик. Нет, нет, он пошутил, он не трогал ее брильянты. Честное слово, пошутил! Так почему же опять эта боль? А, она это делает нарочно. Чтобы он не смог от нее спрятаться. Хачик-Хачик-Хачик.
Входная дверь хлопает. Ушла. Наверное, в аптеку. Значит, ненадолго. Значит, у него совсем мало времени. Он юркает за камень и приваливается к его голубому теплому боку. Но наверное, он сделал что-то не так, потому что крики не только не смолкают, но, наоборот, усиливаются, а затем переходят в визг и вой. Он еще теснее прижимается к камню. Камень теплый, но ему холодно. Ему очень холодно. Вой обрывается. Шуршание. Шаги. Совсем рядом — с другой стороны камня. Турецкая речь. «А мальчишка где? — спрашивает мужской голос. — Про мальчишку забыли, ишаки?» — «Наверно, в доме где-нибудь спрятался, — отвечает другой голос, тоже мужской, но красивый и мелодичный. И ласково добавляет: — Да куда он от нас, негодник, денется!» Шаги удаляются. С зажмуренными глазами он осторожно высовывается из-за камня. Потом резко распахивает их и видит коленку. Задранное платье и розовую коленку, отливающую теплым перламутром. Потом видит всех остальных: отца, мать, бабушку, дядю Геворка... Они лежат на земле, все пятеро, голубая трава вокруг них вытоптана и забрызгана красными жучками. У дяди изо рта течет багровый ручеек... Шорох. Он юркает за камень. Шаги. Ближе. Еще ближе.
— Да куда он подевался, ишаки вы эдакие! Ясно же было сказано: всех до одного!
Входная дверь хлопает:
— Хачик! Лекарство выпил? Да где же ты?
— Ищите, рогоносцы проклятые!
— Хачик, да не притворяйся же, что не слышишь!
— Ищите, он далеко не мог уйти.
— Хачик! Хачик! Хачик!
Он утыкается лицом в камень и беззвучно трясется. Огромное солнце пульсирует у него в боку, то сжимаясь почти до точки, то вновь выпуская из себя острые колкие лучи. Голоса приближаются. Ближе, ближе. Еще ближе.
ДОМ В МЕТЕХСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
(Эссе)
В комнате, прямо на полу, рядом с винтообразной, круто уходящей вверх лестницей стояло большое женское лицо цвета красной потрескавшейся глины. Оно загораживало верхний конец лестницы, и было непонятно, куда же эта лестница ведет. «Портрет матери», — пояснил художник. Красный кувшин отразился в синем зеркале и не узнал своего отражения — из зеркала на него смотрел красный храм. «Изоморфизм», — громким шепотом сказала вдруг я. «Что?» — не расслышал художник. «Изоморфизм», — повторила я упавшим голосом. Мне стало неловко. Я совсем не собиралась что-либо говорить. По крайней мере, так сразу — после второй картины. Но он уже смотрел на меня и ждал продолжения. Отступать было некуда — и, внутренне зажмурившись, я ринулась в воду: «Изоморфизм. Взаимоподобие. В восточной философии есть такое понятие. Что во вселенной все взаимоподобно: и дерево, и человек, и звезда. Только это мало кто видит. Ведь внешне все предметы такие разные. А вы вот увидели. Или, может, это у вас зеркало такое особенное? Мне кажется, что обычные зеркала искажают суть вещей. В них и смотреть-то иногда страшно — они стараются внушить тебе мысль, что ты — это только ты, единый и особый, и тебя можно отделить, отторгнуть от тебя самого, раздвоить, расчленить. Что они с нами и проделывают. Смотришь в такое зеркало — а на тебя оттуда смотришь Ты. И чувствуешь, что разъят надвое и, значит, подвержен распаду. А если бы на тебя оттуда другое лицо смотрело — не твое привычное, а, скажем, лицо коня или камня, то тогда было бы нестрашно. Вернее, страшно было бы только в первую минуту. А потом бы ты понял, что это тоже твое лицо, одно из возможных твоих лиц. Что в тебе таится возможность бесконечных превращений и переходов — и, следовательно, ты бессмертен, просто будешь переходить из одного состояния в другое, как лед — в воду, вода — в пар, пар — в воду, вода — в корни, корни — в плоды и так без конца. А ваше зеркало — это зеркало Вечности. Оно — как тот ручей, в который смотрел Нарцисс. Он ведь себя не узнал в своем отражении. Верхним, обыденным разумом не узнал. А подсознанием откликнулся на родное, единосущное и захотел с ним воссоединиться. Ваше зеркало настоящее».
Мой монолог иссяк так же спонтанно, как и возник. И мной снова овладела неловкость. «Не поймет, — тоскливо подумала я. — Невразумительно я как-то все сказала». Но между нами кто-то незримый уже поставил то невидимое глазу, но настоящее зеркало, которое дарит чудесную и редкую возможность увидеть другого таким, как ты, а себя — таким, как другой.
И, помолчав, художник ответил мне. Нет, не словами, а новой картиной. Это был натюрморт. На столике стояла посуда, хотя сперва можно было подумать, что это город с тесно столпившимися зданиями. Но это был набор кухонной посуды. Вот кувшин, вот еще кувшин, а вот ступка. А вот еще какая-то посудина — стакан? Это было неважно, потому что художник незаметно для меня уже заманил меня в тот мир, где предметы не настаивают на своей особости. Желтая ступка одновременно была и свечой. Нет, пламени не было, но она вся светилась изнутри от распирающего ее жара, который просто пока еще не получил возможности вырваться наружу. И вместе с тем что-то роднило ее и с серым кувшином, стоящим слева поодаль от него (через две другие посудины). Я пригляделась внимательнее. На поверхности кувшина был нарисован вертикальный блик, как раз размером со ступку. Только он был не желтый, как она, а голубой. И еще. Ступка была выпуклой, а он вогнутый, то есть он был и блик, и замочная скважина — наверно, в небо или в другую комнату (голубую!), или опять-таки в Зазеркалье. Я переводила взгляд с блика на ступку, со ступки — на блик. Это была симметрия — зияния и объема, пустоты и наполненности, желтого и голубого. Наверно, не надо было так долго смотреть, потому что ступка вдруг тоже утратила объем и превратилась в желтую скважину. «Странно, — подумала я, — ведь предметы на картине не размыты, а имеют четкие контуры. Как же это они ухитряются изменяться, приспосабливаться друг к другу прямо на глазах у зрителя?»
Да, это был дом с сюрпризами. И самый первый сюрприз этот дом в Метехском переулке преподнес мне, как только мы к нему подошли. Сюрпризом оказался балкон. Вернее, его отсутствие. Но тут требуется небольшое отступление во времени и пространстве.
— Поедем в Грузию, — уговаривает меня в Москве моя подруга поэтесса Лариса Фоменко. — Ты увидишь Сиони, Джвари...
— У меня работы много, как же я поеду? — расстраиваюсь я. — А Джвари я видела. Мы с отцом были один день проездом в Тбилиси, и нас возили в Джвари.
— Один день! — возмущается Лариса. — Она, видите ли, целый день сто лет назад была в Тбилиси. Можно просто умереть от зависти!
— Но ты же знаешь, что я сейчас без денег, — привожу я неотразимый аргумент.
— Да, но ты увидишь Мцхету, Кашветскую церковь, нас в пещерный город свозят! — приводит Лариса аргументы еще более неотразимые. Я колеблюсь, и она начинает меня добивать: — Мы старый Тифлис увидим. Представляешь: домики прямо на гору карабкаются, один за другой цепляются, а некоторые чуть ли не висят над пропастью...
— Прямо над пропастью? — начинаю страдать я. — Я очень люблю пропасти...
И тут терпение оставляет мою подругу, и она начинает применять силовые приемы:
— Значит, ты не хочешь увидеть работы Роберта? — грозно спрашивает она.
— Хочу, — честно признаюсь я. Я столько слышала от нее о тбилисском художнике Роберте Кондахсазове, что уже не то что хочу, а просто-таки жажду.
— А он что же, специально из Тбилиси привезет их тебе на дом? В твое Новогиреево?
— М-м-м...
— Вот именно! — торжествует Лариса и, вопреки поговорке «лежачего не бьют», наносит мне, уже поверженной, последний удар: — У него работы... хищные! Он подарил мне одну работу — «Фрезии». Это цветы такие, — снисходя к моему невежеству, поясняет она, — так вот эти фрезии такие плотоядные, такое впечатление, что они тебя вот-вот сожрут. Здорово?
— Здорово! — восхищенно выдыхаю я.
— Значит, завтра идем за билетами. Ты не пожалеешь об атом — «я клянусь этим домом в Тифлисе и его несравненным балконом», — впадает Лариса в грех самоцитирования.
И через полторы недели я лечу с ней в Тбилиси, заранее исполненная любви к дому в Метехском переулке, где живет семья Кондахсазовых, и к «его несравненному балкону», воспетому Ларисой в стихах.
Лариса не обманула меня. Балкон действительно оказался несравненным. Потому что его попросту не было. И следовательно, ввиду «наличия отсутствия» его нельзя было ни с чем сравнить. А дом был. Надежный, прадедовский. И табличка медная на нем была — «Доктор Абгар Аркадьевич Кондахсазов».
— Это отец Робика, — поясняет Лариса. — Он был врачом-терапевтом. Роберт — четвертое поколение, живущее здесь. Это старый дом.
— А балкон где?
— Какой балкон?
— Голубой. Ты говорила, что у них дом с голубым балконом.
Но тут дверь распахивается, оттуда кто-то радостно улыбается нам — и я устремляюсь вслед за Ларисой вверх по каменным ступенькам, так и не разрешив своего недоумения относительно «несравненного балкона». И через секунду дом преподносит мне второй сюрприз. Да разве же это Роберт? Таким ли рисовало мне его мое воображение! Разве Роберты бывают такими? Они должны быть стройными, поджарыми и неуловимо французскими. Это я знала с детства. Я родилась в 1953 году, через несколько лет после того, как в Советскую Армению хлынула мощная волна репатриантов со всех концов света. Они иногда появлялись и у нас дома, в Москве. Друзья наших родственников, родственники друзей наших родственников, друзья родственников друзей наших родственников... Это были элегантные, красиво одетые мужчины и женщины, что было совсем непривычно для Москвы пятидесятых-шестидесятых годов. У них были чудесные бежевые куртки, мягкие темно-коричневые или же светло-кремовые свитера, брюки из дорогого качественного материала. Это называлось «спортивный стиль». Наш московский спортивный стиль был иным: черные или синие сатиновые трусы до колен и майки цвета линялой промокашки. У них были элегантные костюмы, сидевшие на них как влитые, непринужденные раскованные манеры и фирменные сигареты в красивых упаковках. Наш двор курил отечественные папиросы «Беломор», которые извлекал из грубо склеенных тусклых картонных коробочек, раскованность манер обретал только в состоянии сильного опьянения — и тогда наш сосед дядя Вася гонялся по всему двору за своей женой тетей Галей и во вполне непринужденных выражениях объяснял ей все, что он о ней думает. Что же касается элегантных костюмов, то... Да что говорить, до элегантности ли было стране, еще не оправившейся от страшнейшей разрухи, следы которой были во всем. В инвалидных колясках, стоящих посреди двора, в брате дяди Васи — дяде Вене, который громким шепотом разговаривал сам с собой — и мы, дети, боялись его, потому что он был «контуженный на фронте». И вдруг — необыкновенные люди, в красивой одежде, и у них есть изящные штучки, которые называются «брелок». И прикуривают они не от спичек, а от зажигалок. И зовут их как в иностранном кино: Роберт, Моника, Рудольф, Мари... И они приехали из Франции, Америки, Ливана и других, не менее экзотических стран. Это были первые иностранцы, которых я видела. И почему-то эти иностранцы одновременно были армянами, такими же, как, например, наш дядя Бабкен из Баку или моя двоюродная сестричка Каринэ из Еревана. Все это было не вполне понятно, но зато страшно интересно. Я тогда еще не знала, что все эти элегантные женщины и мужчины привезли с собой из заграницы не только красивую одежду, изящные брелоки и иностранные имена, из-за которых и Советскую Армению надолго охватило поветрие называть своих новорожденных не по старинке — Аршаками и Сэдами, а по-новому — Робертами и Мадленами. Но они привезли с собой и другое — трагические судьбы. Откуда мне, ребенку, было знать, что эти дамы и господа — беженцы и дети беженцев. Я тогда еще не читала сборника документов «Геноцид армян в Османской империи» и ничего не знала о трагедии, постигшей мой народ в 1915 году, когда правительство младотурок, пришедшее к власти в Турции, разработало и осуществило политику планомерного геноцида в отношении населения Западной Армении. Те, кому удалось спастись от резни, бежали в другие страны — да, да, в те самые, экзотические — Францию, Америку... И вот теперь, через много лет, уже с детьми и детьми детей, они устремились на Родину. Дети — для того, чтобы жить на родной земле, старики — для того, чтобы вскоре этой землей стать. Но я всего этого не понимала. Книги «Геноцид армян...» тогда еще не было, а если бы и была, то вряд ли мои родители сочли бы это подходящим чтением для маленькой школьницы-первоклашки. И моему семилетнему сознанию было ясно одно: что имя «Роберт» и понятие «чудо» связаны между собой самым непосредственным образом. Много лет прошло с тех пор. Красиво стала одеваться Москва. Обрели элегантность и Бабкены, Аршаки, Карапеты, живущие в Ереване и других городах Советского Союза. Но удивительная вещь — память детства! Никто из них не был так обаятельно элегантен, так утонченно обворожителен, как чудесные Роберты моего детства. Нет, детство не уходит от нас — оно просто перемещается в другую область, откуда и подает о себе весточки, причем самые неожиданные.
И вот я, уже взрослая женщина, тридцати двух лет от роду, придя в Тбилиси в гости к своему соотечественнику — художнику, испытываю разочарование за разочарованием. Мало того, что обещанный мне голубой балкон оказался не голубым и не балконом, а просто-напросто фикцией. Так еще к тому же и Роберт оказался не Робертом. Передо мной стоял плотный коренастый человек. Где его элегантные брюки и мягкий бежевый свитер, пленившие мое детское воображение четверть века назад? Какая-то домашняя вязаная куртка... Разочарование было мгновенным, но глубоким. Он был совсем не похож на тех Робертов.
Балкон, который не балкон, Роберт, который не Роберт... Но картины-то хоть, по крайней мере, существуют? Картины существовали. Только они жили не в гостиной. В гостиной жили книги, много книг. А картины жили наверху, в мастерской. Мы поднялись туда по винтообразной лестнице, росшей в углу гостиной, вошли в мастерскую и увидели новую винтообразную лестницу. Она круто уходила вверх — от середины картины к ее верхнему правому углу. Рядом с ней, прямо на полу, стояло огромное скорбное женское лицо цвета потрескавшейся глины. Красный кувшин отразился в синем зеркале и не узнал своего отражения — из зеркала на него смотрел красный храм. Желтая ступка была одновременно и свечой, распираемой внутренним жаром, и скважиной, желтым зиянием. Предметы приспосабливались друг к другу прямо на глазах у зрителя, отрекаясь от своих внешних признаков ради сохранения сути. И суть эта была неизменна, и заключалась она в бесконечной способности к изменениям. Вот гранаты, такие еще маленькие, только что вышедшие из материнского лона сада, эдакие бледно-розовые сморщенные младенцы, еще не вполне оправившиеся от мук расторжения с материнским организмом. А вот зрелый зверовидный гранат-самец, в который в недалеком будущем превратится один из этих малышей, пока только что вылупившийся из небытия и еще не подозревающий о том, что художник уже нарисовал всю его будущую жизнь. И вот передо мной, как в кинематографе — кадр за кадром, прошла вся недолгая жизнь граната. Недолгая, потому что всю серию картин «Гранаты» я просмотрела за десять минут. От картины к картине гранат необратимо изменялся, набухал соками жизни, которые одновременно были и соками смерти и в конце концов взорвали его плоть изнутри, чтобы вырваться наружу и расцвести чудовищно прекрасным цветком. И я вдруг подумала, что мы умираем не оттого, что жизнь в нас скудеет, а, наоборот, оттого, что со временем в нас накапливается некий переизбыток жизни, который уже не может умещаться в нашем теле и потому ищет выхода наружу — из тесного пространства нашего физического «я» — в иные пространства. Гранат жил десять минут. И за эти десять минут он успел родиться, созреть... И вот передо мной уже череп граната. А какой срок отпустил мне мой художник? И кто сейчас просматривает, расставив их перед собой, картинки моей жизни — от рождения до того момента, когда мне станет тесно в самой себе и я вырвусь, изольюсь из себя — в иные пространства? А может быть, мой художник что-то сейчас доделывает, подмалевывает в моем будущем? А вдруг ему что-то там не нравится и он замажет несколько картин, сочтя, что для осуществления полноты замысла достаточно и оставшихся? А впрочем, может быть, это и хорошо, что мы не знаем своего будущего, что оно от нас сокрыто, как сокрыт верхний конец лестницы на «Портрете матери»? Надо ли знать, куда ведет эта лестница? А вдруг если мы это узнаем, то у нас вообще пропадет желание подниматься вверх по лестнице жизни?
И вот я стою на одной из ступенек и думаю: а может, Роберт все-таки — Роберт? Ведь картины его — это он? И они так же бесконечно притягательны, как и те картины, которые всплывают из глубины моей памяти при имени — Роберт.
Вот одна из них.
Я только что закончила восьмой класс. И меня отправляют на лето к теткам в Ереван. Я здесь во второй раз. Маленькое отступление. Впервые меня туда возили в пятилетием возрасте, и я сохранила воспоминание об Армении как о большом парке, где стоит гигантский монумент Сталину и где я рыдаю от того, что мы с двоюродной сестрой нарвали красивых цветов, а сторож увидел и кричит на нас. Он кричит по-армянски, слов я не понимаю, но интонация и жестикуляция старика вполне красноречивы. И я рыдаю от ужаса осознания содеянного мной преступления и оттого, что тетки моей почему-то поблизости нет. Но самое ужасное — это то, что весь запас моих познаний в армянском состоит из слов «балик-джан» (детка дорогая) и «бари гишэр» (спокойной ночи), явно не подходящих для объяснения со страшным стариком. И размазывая слезы по щекам, я предательски тычу пальцем в сестренку и трусливо кричу по-русски: «Это не я, а вот эта девочка рвала их».
Но это воспоминание постыдное и, следовательно, не имеющее к Роберту никакого отношения. Он появился во второй мой приезд в Армению. Я уже девушка-подросток с модной стрижкой «под мальчика», на мне розовое трикотажное мини-платье, и тетки «выводят меня в свет», то есть к родственникам и знакомым родственников. И тут я впервые узнаю, что жить, оказывается, можно не только в коммунальной квартире, но и в собственном доме. Мы у очередных знакомых наших знакомых. Мы сидим на солнечной веранде, все окна распахнуты — и вокруг нас плещет, звенит и сверкает сад. Перед нами столик с фруктами, их много, и они разные, но я вижу только огромные, багровые с синеватыми вкраплениями гранаты. Они источают нестерпимый зной, и в соседстве с ними блекнут и нежно-розовые персики, и смугловато-бледные груши. Хозяева наши — пожилая чета репатриантов из Франции — упорно пытаются накормить нас обедом. Мы столь же упорно от обеда отказываемся, потому что это уже пятый день визитов, и результаты армянского гостеприимства налицо, вернее — на наших значительно округлившихся лицах. И вот в самый разгар наших темпераментных пререканий с хозяевами за моей спиной что-то зашуршало, и мужской голос с легким акцентом произнес: «Но может быть, мадемуазель хочет кофе?» — «О, Роберт! — обрадовалась хозяйка. — Что так долго?» Я обернулась и, раздвинув лезущие в дверь упругие ветки, на веранду то ли из сада, то ли прямо из моего детства шагнул мужчина. «Роберт», — сказал он. На столе полыхали источающие багровый зной гранаты. Дом был действительно домом, а не двумя комнатами в коммуналке. А я была уже не девочкой-подростком, как минуту назад, а взрослой барышней — «мадемуазель». Не знаю, кем он приходился хозяевам, не помню, куда он потом делся. Его потеснили другие впечатления — Севан, Эчмиадзин, Дом-музей Сарьяна... И он отошел на задний план, на задворки моего сознания — туда, где уже обитали те, другие, Роберты.
А я ушла вверх по лестнице жизни... И вот, одолев — треть? — половину? — этой винтообразной лестницы, очутилась в мастерской художника — в старом доме с сюрпризами, где кувшин оказывается храмом, ступка — свечой и одновременно — скважиной, где за десять минут рождаются, набухают соками и, истекая нестерпимым багровым зноем, агонизируют гранаты... В мире, где предметы не настаивают на своей внешней индивидуальности, оставаясь верными лишь одному — неизменной способности к изменениям. Кофеварка на очередной картине из серии «Посуда» оказывалась похожей на муравейник, лицо матери на портрете было лицом раскаленной потрескавшейся от зноя земли, лицом памяти, ибо земля — это собирательная память человечества: столько нас уже вернулось в ее материнское лоно, принеся с собой обратно все то, что познали мы в этом мире, в который были некогда исторгнуты из нее, что, наверно, тяжело ей это знание. Так же как тяжела собственная память этому дому в Метехском переулке, где в 1915 году дед художника, купец второй гильдии Аршак Арутинович Кондахсазов приютил беженцев из Западной Армении, спасшихся от резни, — около тридцати человек, истощенных голодом, обезумевших от зрелища зверской расправы, учиненной над их родными и близкими. Как долго переполняла эта память дедовский дом, чтобы через десятилетия взорваться красной болью, чудовищным цветком на картине внука.
— Я написал «Гранаты» после того, как прочел сборник документов «Геноцид армян в Османской империи», — говорит Роберт и смотрит на меня. И я смотрю на него — и вижу летний полдень, веранду, залитую светом, в доме армян-репатриантов, столик с полыхающими гранатами и человека, который, раздвинув лезущие в дверь упругие ветки, то ли из сада, то ли прямо из моего детства шагнул в дом. Красный кувшин отразился в синем зеркале — и я попала в тот мир, где нет времени, ибо там смыкаются детство, юность и зрелость, в мир, где Роберт был Робертом.
Потом, после просмотра картин, мы вчетвером что-то ели, сидя за низким столиком внизу, в гостиной. Мы, то есть Роберт, Лариса и я. А четвертой была женщина с именем, похожим на нежное название растения, — Вика. Я не знала, существует ли растение с таким названием. Но оно должно существовать, ведь растет же где-то не менее загадочная юкка. Значит, должна быть и Вика. Она растет где-то далеко, а женщина ничего не знает об этом. Как же она живет, даже не подозревая о том, что она чудесное растение, живущее вдали от самой себя?
Кстати, я оказалась права. Потом, позже, я узнала, что вика действительно существует в природе, только это кормовое растение. Я ужасно обиделась, потому что моя Вика, которая на третий день нашего пребывания в Тбилиси так отважно карабкалась по невообразимо узким и постоянно обрывающимся тропинкам на гору к Нарикале (ведь надо же показать Ниночке старый Тифлис), ну просто никак не могла быть каким-то там кормовым растением. Я ведь непреложно знала, что она — нежный, пышный куст с тонкими, но упругими веточками и темно-синими, почти что черными, тугими ягодами. Иной и не могла быть жена этого удивительного художника.
А потом и юкка чуть не лишилась для меня своей загадочности. Мы ехали на машине по Грузии. «Смотри, смотри, — стала подталкивать меня Лариса, — вот это называется юкка». — «Не буду смотреть», — упорствовала я, боясь оказаться в том положении, в которое в свое время попал поэт Евгений Винокуров: «И вот передо мною Ниагара — и хочется воскликнуть: «Ну и что?!» Так я не узнала, как же все-таки выглядит юкка. Зато мне удалось сохранить в себе более важное знание: юкка так же прекрасна, как и Вика.
Но я опять отвлеклась. Все это было потом, а сейчас мы вчетвером что-то ели, сидя за низким столиком внизу, в гостиной. Не помню, что именно, почему-то запомнились лишь лобио и виноград, столь отрадные моему кавказскому нёбу, так редко входящему в соприкосновение с этими божественными порождениями южной земли. На столе стояла бутылка, вполне достаточная для того, чтобы возбудить жажду сердечных излияний, но совершенно недостаточная для того, чтобы возвести собеседника (в данном случае — меня) в ту степень раскованности и легкомыслия, при которой можно без напряжения высказывать — вытаскивать из себя — самые сложные, самые дикие, а потому, быть может, самые верные мысли. Думать вслух, не думая, а просто извлекая из себя все эти ни с чем не сообразные слова (а может быть, на самом деле сообразные, только не с чем-то нам уже известным, а с чем-то смутно ощущаемым), протаскивая их на поверхность прямо из подсознания, минуя бдительный контроль своего маленького, но неумолимого к подобной контрабанде «рацио». Увы, он все еще был на страже. И общение наше протекало приятно, но сдержанно. Мое желание «обняться душами» становилось нестерпимым. И, хмелея от невообразимой смеси застенчивости, нахальства и еще каких-то более сложных и мне самой не вполне понятных чувств, я воинственно сжала в руке бокал (и как он только не треснул!) и глухо выкрикнула:
— Я хочу произнести тост!
Ясные, приветливые лица обратились ко мне.
— Хотя у нас на Кавказе и не принято, чтобы женщина произносила тосты, — сказала я, — но я все-таки хочу поднять бокал за вас, за ваш дом, в котором я смогла позволить себе роскошь, да, именно роскошь — чувствовать себя как дома.
Это было неправдой. Неправдой вдвойне. Во-первых, потому, что «у нас на Кавказе», а тем паче в таких интеллигентных домах, женщина давно уже не сидит на кухне, когда «джигиты разговаривают», а вполне равноправно присутствует за столом и, конечно же, может произнести тост. Никто ей в этом препятствовать не станет. Но это еще была вполне невинная неправда. Настоящей неправдой было другое. Я отнюдь не чувствовала себя «как дома». Надо было быть совершенно слепой, глухой, лишенной обоняния и осязания, чтобы «чувствовать здесь себя как дома».
Дом жил своей, ведомой только ему жизнью. Это был добрый дом. Он с благожелательным интересом приглядывался к гостям и позволял вступать с собой в контакт. Но вряд ли он стал бы терпеть чье-либо бесцеремонное любопытство. Он был дружелюбен, но фамильярности с собой не позволял. Дом был стар, намного, очень намного старше меня. Он вынянчил уже не одно поколение — и многие из тех, кого он помнил еще бледно-розовыми, сморщенными от мук рождения младенцами, давно уже завершили свое восхождение по лестнице жизни и перешли в иные пространства. И дом был посвящен в таинство этого перехода. Он слишком много знал о жизни и смерти, но даже Роберту, полноправному наследнику, выдал далеко не все из той информации, которую хранил в ячейках своей памяти. И потому все лестницы на картинах Роберта (а он любит рисовать лестницы) ведут в неизвестность. И может быть, трюк с балконом — это было предупреждение мне. Потому что, когда мы, попрощавшись с хозяевами, вышли на улицу, балкон вдруг обнаружил свое присутствие. Он неожиданно навис над нами, проступив из каких-то неведомых глубин дома, в которых до этого таился. По всей видимости, дом хотел дать мне понять, что он сам распоряжается своими тайнами и позволяет их видеть далеко не всем и не всегда. Дом защищался от меня? Думаю, что скорее всего он защищал меня от самой себя, от того хищного стремления, которое таится в любом человеке, а тем паче в писателе, — от разрушительного и саморазрушительного стремления схватить тайну руками. О, эта жадность к проникновению в суть — человека ли, предмета, явления!..
Вот «Семейный портрет». Женщина и мужчина сидят лицом к зрителю. А между ними — окно, и в окне — город. Целый город пролег между ними, сидящими так близко друг от друга! Всего-то расстояния между двоими — небольшое окно, но сколько вместилось в него: дома, улица и слепой с палочкой, бредущий по этой улице, разделившей двоих. Наверно, это он, незрячий, мешает женщине повернуть лицо к мужчине, а мужчине — протянуть ей навстречу руки. Я долго смотрела на картину и вдруг поняла, что эти двое счастливы. Наверно, они и сами не знают об этом и думают, что их разделяет неполнота взаимопонимания. А ведь это охранительная неполнота: незрячая тайна, стоящая между ними, — это как раз и есть то, что не позволяет им встать и отодвинуться, отвратиться навсегда друг от друга. И мне вспомнилось, как в Ереване один талантливый писатель, тонкий эссеист, как-то в разговоре вдруг спросил меня: «Как вы думаете, если двум любовникам в момент наивысшего обладания друг другом — полнейшего слияния вдруг какая-то сверхъестественная сила продлила бы это ощущение на всю оставшуюся жизнь, во что бы эта жизнь превратилась?» — «В ад», — не колеблясь ответила я. «Я тоже так думаю», — грустно улыбнулся он.
Но где же проходит эта грань между животворным таинством взаимопонимания и разрушительным безжалостным взаимопроникновением? Наверно, чувство этой грани — тоже талант. Увы, я лично не всегда им обладала. И потому, несмотря на деликатные предупреждения Дома, на следующий день я круто приступила к процессу познания тайны влекущих меня картин.
Мы сидели вдвоем наверху в мастерской. Передо мной стоял портрет. У женщины на портрете было гибкое имя — Лиана и темно-рубиновые глаза, похожие на крупные зерна граната, странно светившиеся на нежно-хищном лице, погруженном в красновато-коричневый сумрак. Слева от лица цвели огромные тревожно-красные амариллисы. Женщина эта чем-то смущала меня. И я хотела знать, чем? И потому без околичностей приступила к делу.
— А какая это техника? — солидно спросила я.
— Темпера и картон, — ответил художник.
Так, значит, это нежно-хищное обаяние, пугающее и одновременно влекущее, называется «темпера и картон»? Женщина, сотворенная из темперы и картона, смотрела на меня, и мне было неуютно под этим взглядом — я вдруг поняла, что она тоже изучает... Кого? Неужели меня? А почему бы и нет? Мы ведь любим говорить — «общение с искусством», как-то ненароком забывая при этом, что общение — процесс, по крайней мере, двусторонний. Доводилось ли вам после посещения художественной выставки вдруг почувствовать себя как-то перенасыщенно опустошенным? Или вот другой пример. Через какое-то время вы вновь обращаетесь к впечатлявшей вас картине и вдруг с удивлением замечаете, что это уже несколько другое произведение. Что-то там неуловимо изменилось, сдвинулось. А изменилась картина потому, что вы из нее что-то изъяли, присвоили себе, пока разглядывали, — отсюда и чувство перенасыщенности. Но ведь мы не только «потребляем» картину, но и отдаем ей обратные импульсы — чувства, мысли... И она вбирает их в себя. Отсюда — наше ощущение опустошенности. А что такое этот тайный обмен информацией, как не взаимное изучение? Женщина, сотворенная из темперы и картона, смотрела на меня, непонятное ей существо из другого мира. Может быть, ей тоже хотелось проникнуть в тайну моего существования и она безмолвно вопрошала моего творца, в какой технике выполнена я. «Мясо, кости, нервы, сухожилия», — безмолвно ответствовал ей мой художник. «Но это же не так, — мысленно возроптала я, — разве я — это только мясо и кости?! Я ведь пока еще живая, зачем же меня заживо препарировать?» — «Но я ведь тоже живая, а ты хочешь расчленить меня на темперу и картон». Я почувствовала себя убийцей. Ведь мое бесцеремонное любопытство могло убить картину. Зачем мне это «темпера и картон»? Что добавляет это частное знание к той великой тайне, которую мне так доверчиво поведала о себе картина? Ведь только поставил ее передо мной художник — как мне сразу открылось, что она прекрасна. И это и есть главное знание. А мы не умеем его ценить. Нам подавай подробности. И вот мы назойливо вопрошаем тайну, из чего она сделана. До тех пор, пока своей бесцеремонностью не надоедим ей до такой степени, что она кинет нам, как подачку, какой-нибудь из своих мелких секретов.
Говорят — «чужая душа потемки». А своя? Не потому ли почти у любого художника есть автопортрет, что его собственное лицо для него такая же тайна, как и окружающий мир? Иначе как объяснить этот странный феномен — автопортреты? Отделить от себя же самого свое лицо и доверить его, уже не защищенное тобой, холсту! Это ведь совсем не то, что смотреть в зеркало — от зеркала можно отойти и унести свое лицо с собой. А выйти из мастерской, пойти в гости — пить вино, есть шашлык и знать при этом, что твое собственное лицо осталось одно в пустом доме, без присмотра! Или выставить его на вернисаже. Ты занимаешься каким-нибудь домашним делом, скажем, чинишь сломавшийся замок, а в это время чужие люди за много километров от тебя что-то делают с тобой — подходят совсем близко, ощупывают тебя взглядами, а потом в преображенном их мыслями и чувствами виде отдают твое лицо обратно холсту. И тогда там, в зале вернисажа, твое лицо как-то неуловимо меняется — оно покрывается коркой чужих ассоциаций, на него ложатся тени чужого опыта. Я думаю, что художник вот безропотно отдает свое лицо на произвол чужих людей только потому, что где-то в подсознании своем знает, что его лицо не принадлежит ему — оно дано ему во временное пользование, да и к тому же оно у него не единственное.
У Роберта было два автопортрета. Один — в профиль. С ярко-алыми веками над узкими, хищно заостренными глазами. Страшный, демонический портрет. Другой — в анфас. Похожий на фреску Возрождения. Большое лицо с удивленно распахнутыми глазами. Такое ощущение, будто смотришь на него сквозь какой-то гигантский микроскоп — так отчетливо видны на этом лице все поры. Даже кажется, что видишь, как дышит кожа.
— Понимаете, — говорит Роберт, — мы тащим на себе слишком большой груз всей предшествующей культуры — груз воззрений, стилистических приемов, художественных концепций, которые накопило человечество за тысячелетия своего существования. Это с одной стороны. А другой, современный ребенок раньше, чем настоящего зайца, видит зайца мультипликационного. И когда он видит настоящего, то говорит, что заяц не похож. Все это мешает непосредственному восприятию. И я попытался увидеть человеческое лицо как бы впервые. И оказалось, что лицо это очень интересно. Какие-то волоски на нем, какие-то дырочки...
Груз предшествующей культуры... Кто из художников не получал «подпитку» из этой гигантской кладовой, ощущая прилив сил и обретая уверенность движений? Кто из художников не роптал, ощущая, как эта же самая пища, проникнув в его кровеносную систему, исподволь изменяет состав его крови до почти что полной замены ее на чужую — и начинает диктовать ему изнутри свои законы? Мертвецы начинают предписывать ему, как видеть тот или иной предмет, как жить, как чувствовать.
У Превера есть стихотворение «Художник и яблоко»: художник смотрит на яблоко, но видит не его, а Еву и Адама, вкушающих запретный плод, сады Гесперид, Вильгельма Телля, сбивающего стрелой яблоко с головы сына, Ньютона, которому на голову падает яблоко, в результате чего он открывает закон всемирного тяготения...
Да, река времени, поток ассоциаций, представлений, мыслей, чувствований тех людей, которые жили до нас, отшлифовывает предмет до неузнаваемости. И тогда мы ропщем, мы хотим знать, «какого цвета море, когда на него никто не смотрит», мы рвемся «к Богу без посредников». И вот возникают новые научные концепции, рождаются новые вероучения или еретические течения в старых религиях, новые художественные школы и направления. Опьяненным головокружительной новизной неофитам кажется, что они вот-вот «ухватят Бога за бороду». И иногда Бог идет на уступки — он позволяет нам войти в одну из запретных дверей своего бесконечного Дома и пересмотреть, перещупать все, что находится в этом отсеке. А там и вправду очень занимательные штуки: вот эти кубики, например, совсем другие, чем те, которыми мы играли вчера, из них можно строить совсем другие здания, в которых мы, конечно же, наконец-то будем счастливы. А вот эта дубинка — атомная! Ею можно так шарахнуть по башке несговорчивого соседа из ближайшей пещеры, что все недоразумения сразу уладятся. А это что? О, руководство по сексологии! Наконец-то будет исчерпан конфликт между мужчиной и женщиной. Ой, а что в этой коробочке? Ага, так вот из чего, оказывается, делаются стихи: ямб, хорей, анапест, дактиль, метафора, метонимия, синекдоха... Мужская рифма! Женская рифма! Дактилическая! Нет, вот это еще интереснее:
— Ты что это построил, малыш?
— Как — что? Это вер... вер... вер... во — верлибр! Новейшее! Уникальное! Средство возрождения поэзии!
Что же это все значит? А это Наш Дом защищается от нас. Он очень старый, этот Дом: он вынянчил уже не одно поколение людей и растений, звезд и галактик, в нем бесконечное количество комнат, комнатушек, чердаков, подвалов, балконов... И все они связаны между собой лестницами, прямыми и винтообразными, длинными и короткими, уходящими вверх, и вниз, и вбок... Дом уже позволил нам облазить несколько десятков из его бесчисленных лестниц и увидеть, какие тайные помещения они связуют собой, позволил заглянуть в несколько комнат из числа его неисчислимых помещений. И нам уже удалось не только потрогать и рассмотреть, но и поломать некоторые из находящихся там предметов. Но Дом, этот сложный и чуткий организм, по всей видимости, обладает мощной системой самозащиты. И если ты подходишь к нему с агрессивным намерением, то двери его, сквозь которые ты только что видел кусочек уходящей вверх лестницы, мгновенно закрываются, предметы поспешно натягивают на себя маски и притворяются мертвыми. И мы изучаем их, пишем пухлые диссертации о свойствах неживой материи... А по ночам, когда мы спим, запрокинув во тьму свои незащищенные лица, предметы беспрепятственно изучают нас. Может быть, они тоже думают, что мы мертвые? Откуда нам знать, что происходит с нами, покуда мы спим? Как меняются черты наших лиц, форма рук под пытливыми взглядами предметов? Кем становимся мы во сне, какую цепочку превращений претерпеваем под взглядами этих безмолвных зрителей, которые, зная, что за ними наконец-то никто не наблюдает, тоже затевают свой хоровод превращений? Вот красный кувшин отразился в зеркале и не узнал своего отражения — из зеркала на него смотрел красный храм. Спящий художник внезапно открыл глаза и застиг желтую ступку в тот момент, когда она превращалась в свечу, разбухшую от внутреннего жара, от распирающей ее тайны, а потом вдруг сделалась скважиной, желтым зиянием. Голубой блик вспыхнул и замерцал на поверхности кувшина, и блик этот был входом в иное пространство, в голубую тайну, которую нельзя схватить руками, даже если разбить кувшин.
ТИХИЕ ПРАЗДНИКИ
(Рассказ)
Праздник первый
Он бесшумно провернул ключ в замочной скважине, скользнул в темную прихожую и прислушался. Увы, так он и знал: они уже были здесь. Он еще с минуту подождал, давая отдых лицу, затем притворился дедушкой и вошел в столовую.
— Наконец-то! — сказала жена, взглянув на доброе лицо мужа.
— Наконец-то! — сказали дети, глядя на суровое лицо отца.
А внуки сказали:
— Подарки!
И ему стало жаль внуков, потому что они уже были взрослые и в этом году должны были закончить школу. А во всем виноваты были дети, и в первую очередь, конечно же, младшая дочь — разведенная и, вне всякого сомнения, имеющая любовников.
— Подарки? — сказал он и повернул к внукам то самое лицо, какое любили его дети, когда были маленькими, — лукаво-праздничное и поддразнивающее. Но он просчитался — внуки этого лица не знали и потому среагировали неадекватно. — Подарки! — сказали они и приготовились плакать. И ему снова стало жаль их — особенно девочку, потому что она была крепкая и крупная и он не очень любил ее.
— Оставьте дедушку в покое, — сказала разведенная дочь и поправила на себе голубой ситцевый халат, который он на прошлой неделе купил жене. — Голодные дедушки не любят, когда с ними разговаривают.
Он чуть было не кинул на нее сердитый взгляд, но вовремя спохватился: кто ее знает, может быть, у нее сейчас и нет любовника и она намерена обобрать эмоции отца. Нет, милая, не выйдет: я даю тебе ровно столько, сколько положено по закону. И тебе не удастся раздражить меня и получить что-либо сверх того, что я обязан тебе давать согласно Кодексу. И все-таки он не удержался:
— А почему ты надела халат матери? Сколько раз я говорил, приезжайте со своими халатами!
Гипотетический любовник дочери где-то там, на другом конце города, откинулся в кресле и облегченно вздохнул.
— Папа, супу тебе налить? — Это его старшая любимая замужняя дочь спешила на помощь к своему отцу.
— Подарки! — сказали внуки.
Увы, они были правы и знали об этом. Особенно мальчик. Худенький, ниже своей двоюродной сестры на целую голову, он готовился поступать на юридический факультет и был страшным законником. И это именно он выкрикнул дрожащим голосом:
— Ты ведь знаешь, что сегодня двадцать пятое воскресенье года! И не притворяйся, пожалуйста!
Две прозрачных слезы оскорбленного юношеского идеализма капнули в тарелку с супом.
— Статья 14, параграф 3, пункт 16, — довыкрикнул мальчик.
Увы, они были правы. А впрочем, не совсем.
— Какой пункт? — вкрадчиво переспросил он у мальчика.
— Шестнадцатый... — Голос ребенка утратил уверенность и даже как будто слегка постарел.
— Шестнадцатый. Прекрасно. Шестнадцатый.
Он чуть-чуть помедлил, примерился и ударил:
— То есть ты имеешь в виду пункт 16а? «Каждое пятое и двадцать пятое воскресенье года внуки, приехавшие в гости к родителям кого-либо из своих родителей, имеют право на получение от них подарка для дальнейшей стимуляции своей психической деятельности». Так?
— Так... — Он все еще надеялся.
— Ну так это не имеет к тебе никакого отношения. Ты ведь не приехал к нам в гости, а постоянно живешь у нас.
Но ребенок все еще боролся:
— Так ведь я же не у вас прописан, а у нее. Мама, скажи!
— Дедушка шутит, — сказала разведенная дочь. Уж лучше бы она помолчала, ведь именно из-за нее он не купил детям подарков. Разве не она три дня тому назад сказала ему по телефону, что на каникулы возьмет мальчика к себе и в воскресенье муж ее замужней сестры поведет их всех — обеих сестер и обоих детей — в Психотрон на Праздник Наказания Воров психической энергии. А ведь любому школьнику известно, что, согласно пункту 1бб параграфа 3 статьи 14 Кодекса, тем детям, которые в пятое или двадцать пятое воскресенье года посещают Психотроны, подарки делать воспрещается. И это, кстати, абсолютно справедливо. Ведь психическая энергия государства небезразмерна и нельзя, чтобы кому-то досталась двойная порция психической стимуляции. А теперь вот дети остались вообще без стимуляции.
— Дедушка шутит, — повторила разведенная дочь, уверенная в своей полной безнаказанности, ибо прекрасно знала, что, согласно пункту 5 параграфа 1 статьи 9, было строжайше запрещено кому бы то ни было уличать родителей в совершенных ими ошибках в присутствии их детей, если последние еще не закончили школу. Все, что касается ее прав, она вообще знала назубок и потому спокойно смотрела в разгневанное лицо отца.
— Папа, — вмешалась старшая замужняя дочь, глядя на его доброе лицо, — не шути так. Ты ведь знаешь, что пункт 1ба дозволяется трактовать самым широким образом — на усмотрение дедушки и бабушки. И раз он у вас не прописан, то его пребывание здесь может быть приравнено к приезду в гости.
— Может быть приравнено, а может и не быть приравнено.
— Ты что, нам всем хочешь праздник испортить? — недоверчиво спросила жена, глядя на его все еще влюбленное в нее лицо. — Ты ведь знаешь, что в следующем году они уже не будут иметь права на получение подарков.
— Да? — Он собрал всю свою волю, напрягся — и у него получилось: все пятеро увидели, что у него крайне удивленное лицо — лицо человека, который забыл нечто и теперь сконфужен тем, что его уличили в старческой рассеянности.
Первым побледнел мальчик. Потом разведенная дочь. Бледность медленно расползалась по комнате — и вот уже бледными стали все пятеро. И тут он потерял контроль над собой. Он вдруг перестал быть дедушкой. Потом отцом, потом мужем... Он снова был мальчиком, первоклашкой с оттопыренными ушами, который растерянно переминается с ноги на ногу у доски, тщетно пытаясь вспомнить, как же все-таки звучит пункт 2 параграфа 7 статьи 18 Кодекса, мысленно клянется больше никогда не играть с ребятами в Искателей Вшей, предварительно не выучив уроков, и с ужасом видит, как красивая рука учительницы выводит в журнале против его фамилии жирную двойку. Слезы навернулись ему на глаза...
— Господи! — ахнула жена. — Господи! Что ж это такое?
И тогда он побежал.
Он бежал к ней навстречу, расталкивая худенькими руками сопротивляющийся воздух, уменьшаясь на бегу, все дальше и дальше от их испуганных лиц, все дальше и дальше от того невыносимого страдания, которое он причинил им, слезы катились по его мальчишеским щекам и капали в тарелку с супом... «Мама, — всхлипывал он, — мама!» И тогда она поднялась из-за стола, обхватила его седую голову и прижала ее к своей груди. «Ну, ничего, ничего», — бормотала она, раскачиваясь и все теснее прижимая его к себе. Он благодарно затих, ему стало уютно и спокойно, ибо он был способным ребенком и только вчера еще воспитательница в детском саду при всех похвалила его за то, что он без запинки процитировал пункт 36 параграфа 9 статьи 25, гласившего, что дети, не достигшие школьного возраста, в экстренных случаях имеют право на дополнительную порцию положительных эмоций со стороны одного из родителей.
А потом они лежали рядом в своей супружеской постели, и ее седая голова покоилась у него на плече, и она шептала ему, что не стоит так расстраиваться, что все еще поправимо, что дети обязательно вернутся, ведь он же знает, что, согласно пункту 4 параграфа 10 статьи 6, детям вменяется в обязанность не менее пяти раз в год навещать родителей, достигших пенсионного возраста (а им до пенсии осталось совсем немного — ему пять, а ей три месяца), и что они как-нибудь продержатся до этого срока, поскольку за безупречную службу ее недавно на работе премировали двумя спецталонами на внеочередную психическую стимуляцию, причем талоны эти выписаны не в какой-нибудь там заурядный районный психотрон, а в Центральный дом работников сферы обслуживания, и они дают право на высшую категорию стимуляции — присутствие на торжественной казни преступников, уличенных в психологическом изнасиловании. И он согласно кивал в такт ее словам, растворяясь в мягкой музыке ее голоса, и думал о том, что, конечно же, все еще поправимо и потому не стоит расстраиваться до такой уж степени.
Праздник второй
— Я хочу, чтобы ты лишил меня девственности, — сказала она.
Но он не умел лишать девственности женщин, имеющих четырнадцатилетних сыновей, и выжидающе молчал.
Тогда она сделала лицо Мадонны с картины неизвестного художника раннего Средневековья и скромно потупила свои голубые глаза.
— Ну же! — прошелестела она и покрылась застенчивым румянцем.
Он смотрел на нее — и взгляд его выражал злость и восхищение. То, что она делала, было абсолютно противозаконным.
— Ах, господин Н., не лишайте бедную девушку единственного сокровища, которым она обладает. Что скажет моя матушка? Вы разобьете ее сердце! — В голосе ее проступили опасные нотки.
Он почувствовал себя идиотом. Но ощущение это было малоприятным, и он решил обороняться.
— Кажется, чайник вскипел! — быстро парировал он.
Когда он вернулся с кухни, чтобы торжествующе сообщить ей о том, что чайник действительно вскипел, она уже сидела в совершенно немыслимой позе, закинув правую ногу себе на левое плечо, отчего ее и без того короткое красное платье окончательно задралось, обнаружив под собой розовые кружевные трусики.
— Мужчина, угостите портером, — прокуренным голосом искусно прохрипела она. Потом подумала и добавила: — И папиросочку.
И он снова почувствовал прилив злости и восхищения.
— Как? Вы не хотите? — изумилась она и всплеснула руками. Черные глаза ее позеленели, крупный чувственный рот превратился в маленький. И этот изящный ротик исторг из себя подряд пять колечек дыма и закапризничал: — Мне с вами скучно, мне с вами спать хочется!
Он сделал вид, что понял ее слова буквально, и начал стелить постель.
— Фу, товарищ Бубликов! — возмутилась она. — Как вам только такое могло прийти в голову! Это же злоупотребление служебным положением.
Она стояла перед ним, строгая и подобранная, узкая черная юбка доходила ей до щиколоток, блузка слепила взор девственной белизной...
И тут его взорвало. Мало того, что она проделывала вещи уголовно наказуемые, мало того, что она пыталась и его вовлечь в эти криминальные действия... Но «товарищ Бубликов» — это было уже слишком.
— Не смей меня так называть! — закричал он. — У меня, между прочим, имя есть. И вполне нормальная фамилия. И нечего ее коверкать.
— Извини, пожалуйста, — смутилась она, обрела свой нормальный вид и, взлетев под потолок, уселась верхом на люстру. — Значит, ты не хочешь лишить меня девственности, — грустно констатировала она, раскачиваясь вместе с люстрой.
— Тише! — взмолился он. — Соседи наверху услышат. Донесут.
Люстра продолжала раскачиваться.
— Я тебе совсем не нравлюсь? — донеслось оттуда. Каким-то сто пятнадцатым чувством он вдруг понял, что это ее настоящий голос. Он смутился. Он все-таки был мужчиной. А мужчине не подобало чересчур уж грубить женщине, с которой он спит.
— Нет, почему же? — осторожно сказал он. — С чего ты это взяла?
— Совсем-совсем? — уточнила она, продолжая раскачиваться.
— Что «совсем-совсем»?
— Совсем-совсем не нравлюсь?
Нет, ее почти невозможно было обмануть. Впрочем, собственно говоря, почему обмануть?
— Ты мне психологически нравишься, — честно признался он.
— А внешне?
Боже, он даже и представить себе не мог, что эта люстра может так оглушительно скрипеть.
— Ты надежный товарищ, — сказал он.
— А внешне?
— Ты многогранный и интересный человек.
— А внешне?
— Пожалуйста, я тебя очень прошу, слезь оттуда. Соседи услышат.
— Ну и пусть услышат, все равно ничего не поймут. Они ведь не умеют качаться на люстре. Подумают, что мы просто скандалим или деремся. Им и в голову не придет, что на люстре можно качаться. Ограниченные люди. Да и закона такого нет, чтобы нельзя было на люстре качаться.
— Такого нет. — Он многозначительно посмотрел на нее.
— Послушай, — она мягко спланировала на тахту, — если ты хочешь, если ты только очень хочешь, — голос ее задрожал, — то я могу стать блондинкой, крупной блондинкой с ярко накрашенным лицом. Только вот я не знаю, как она должна быть одета. Ты ведь об одежде ничего не говорил.
Он не верил своим ушам. Если то, что она проделывала до этого, было запрещено строжайше, то то, что она намеревалась сделать, было запрещено архистрожайше и квалифицировалось уже не просто как преступление, а как тягчайшее преступление. Он хорошо помнил обе статьи Кодекса. И если первый случай: «преднамеренное изменение своей внешности путем внутреннего психического усилия с целью создания облика, отличного от изначального, но не выходящего за рамки внешности, потенциально могущей соответствовать психическому складу личности, совершающей это действие» — карался всего лишь пятью годами, то второй случай: «изменение внешности с целью создания облика, резко противоречащего психическому складу личности, совершающей это действие» — карался... Нет, об этом и подумать-то было страшно! Хотя это, наверное, было справедливо, ведь если первый случай был чреват всего-навсего микродестабилизацией общества, то второй, по мнению Специалистов, мог повлечь за собой довольно-таки серьезные последствия и, в случае массовости явления, подорвать основы государства.
Он не был так наивен, чтобы слепо верить Специалистам, он не был так труслив, чтобы чересчур уж бояться того малоприятного, но в общем-то легкого наказания, которое грозило ему как соучастнику, но он был благоразумен и не любил бессмысленного риска, склонность к которому порой так раздражала его в ней. И, кроме того, он все-таки боялся за нее — она была надежным товарищем, многогранным и интересным человеком, она была женщиной, с которой он время от времени спал, а мужчине не подобало позволять женщине, с которой он спит, так рисковать. И главное, ради чего!
— Ради чего? — спросил он.
— Но ты ведь говорил, что тебе нравятся блондинки.
Но он все еще не понимал.
— Крупные, с ярко накрашенным лицом, — пояснила она.
— Но ведь согласно Кодексу... — Он осекся.
Она смотрела на него таким взглядом, какого он у нее никогда еще не видел. И снова в нем сработало какое-то сто пятнадцатое чувство, и он вдруг понял, что это ее настоящий взгляд.
— Я люблю тебя, — тихо и членораздельно произнесла она и начала разрастаться.
Он хотел крикнуть ей: «Не надо!» Он был далее готов, отринув гордость, признаться ей в том, что никогда не нравился крупным блондинкам, более того, они всегда его игнорировали. Но было уже поздно. Волосы ее вздыбились и зашевелились — и от корней их, вытесняя ее черные кудри, полезли наружу светлые сильные прямые пряди. Лицо ее подергивалось, под ним что-то тяжело ворочалось, распирая изнутри ее кожу и расплющивая мышцы. Это было настолько непохоже на все ее предыдущие, легкие и безболезненные перевоплощения, что он от ужаса прикрыл ладонями лицо, чтобы не видеть, как мучительно она превращается в ту, которая никогда не полюбит его.
А в дверь уже вовсю стучали, и среди множества голосов он особенно явственно различал голос верхнего соседа, радостно выкрикивавшего: «Это я, я первый учуял! Запах-то, запах в доме на целых полградуса отклонился от нормы. У меня на эти дела нюх!»
И когда сотрудники Службы Государственной Психологической Безопасности выводили их из квартиры, он вдруг замедлил шаг и сделал то, чего не делал еще ни разу за все годы их знакомства, — ласково положил ей руку на плечо и слегка сжал его.
Праздник третий
— Гы! Хо! Хи! — стонали они, хватаясь руками за животы.
— Ой, не могу! Ой, умру! — захлебывались они.
— Ну, ты даешь! — надрывались они. — Ну, ты и скажешь!
Она с недоумением смотрела на то, как они корчились от смеха на большом семейном диване, потом неуверенно спросила:
— Вы что, идиоты?
— Вв-у! Ох! Ха! — по новой закатились они, а внук от избытка чувств даже взбрыкнул худой ногой в спортивной тапочке.
— Дурак, — сказала она внуку.
Внук сполз с дивана и под одобрительные уханья остальных забил ногами по полу, выпуская из себя короткие очереди смеха.
— Встань сейчас же! — закричала она. — А не то сам будешь стирать свои брюки.
— Гы! — ответили они и по новой уставились в телевизор.
— Ну, так что же я такого смешного сказала? — через минуту поинтересовалась она. — Чему вы так смеялись?
— Не мешай, — сказали они.
— Послушайте, почему вы из меня всегда дуру пытаетесь сделать?
— Да не мешай же, — возмутились они, — а не то потом опять ничего не поймешь и будешь спрашивать, кто кого убил.
— А он ее уже убил?
— Кто? — Шесть пар глаз насмешливо уставились на нее.
— Ну, этот, с бородой. Музыкант.
— Ой, уписаться можно! — зарыдал от восторга внук. — Это она о следователе.
— Ну, мама, — недовольно поморщилась дочь, — ты вечно все путаешь. Там нет никакого музыканта. И никто никого еще не убил. Сиди себе тихо и смотри. Тогда все поймешь. С тобой совершенно невозможно смотреть детективы.
— Чаю, — сказал внук.
— И впрямь, не вдарить ли нам по чайку? — сказал муж.
Она молчала.
— Да, чай был бы сейчас более чем уместен, — сказала дочь.
— Ну вот и налейте себе.
— Что? — удивились они.
— Ну вот и налейте себе сами чаю.
— Мы? — удивились они.
— Вы.
Они некоторое время молчали, осмысливая то, что она сказала.
— М-м-м, — начал внук, — мысль на первый взгляд не лишена некоторой логики.
— Но только на первый, — подхватила дочь.
— А при ближайшем рассмотрении она не выдерживает никакой критики, — завершил муж.
Она начала думать. Конечно, правильнее всего было бы не дать им чаю. Но тогда у нее до самого ужина не будет больше повода обратиться к ним. Она пошла на кухню.
Через секунду с кухни донеслись тихие странные звуки.
— Плачет, — сказала дочь.
— Ну, ничего, ничего, — нахмурился отец. — Мы ведь ради ее же блага...
Дочь заколебалась:
— А может быть, мне все-таки пойти к ней?
— Нет! — Лоб отца прорезала вертикальная морщина. — Нет! Тогда она будет тебя общать.
— Папа, а ты уверен, что Специалисты не могли ошибиться?
— Специалисты не ошибаются. А потом, разве вы сами не видите, что ее общительность далеко выходит за рамки нормы?
— Она меня вчера целый час уделывала, расспрашивая, что мы сейчас проходим по астрономии, — пожаловался внук. — Как будто она что-нибудь понимает в астрономии!
— А меня пытала на предмет, не собираюсь ли я снова замуж, — тихо засмеялась дочь.
— А у меня, — отец понизил голос, — у меня интересовалась, как складываются мои отношения с новым начальником. И еще. Позавчера нижний сосед сказал мне, что она расспрашивала его о том, как здоровье его жены и хорошо ли учатся его внуки. Представляете? Уж я перед ним извинялся, извинялся...
— А еще она... — начала было дочь.
— А еще она, между прочим, сейчас делает то, что должна делать ты! — резко прервал ее отец. — Специалисты рекомендовали ограничить ее общительность, но они ничего не говорили о том, чтобы она подавала тебе чай.
— А тебе? — Голос дочери стал ехидным.
— Что — мне?
— Специалисты что-нибудь говорили о том, чтобы она подавала чай тебе?
— Дети, не ссорьтесь!
Она стояла в дверях с подносом в руках и улыбалась им. Ее отходчивость была просто поразительной. И они в ответ чуть было тоже не заулыбались, но вовремя спохватились.
— Спасибо, — сказали они и, взяв по чашке, уставились в телевизор.
— Вкусно? — спросила она.
— Угу, — ответили они.
— А может быть, лучше было заварить чай по рецепту № 2? — спросила она.
— Угу, — ответили они.
Она вздохнула. Потом сделала новую попытку.
— У тебя завтра сколько уроков? — спросила она у внука.
— Блямц! — ответил внук.
— Что? — не поняла она.
— Блямц! Здорово он ему врезал!
Она посмотрела на экран. Потом на мужа. Потом на дочь. На внука она смотреть боялась, потому что в эту минуту он был такой красивый, с возбужденно горящими глазами и щеками, такой кудрявый и хрупкий, что она могла бы не выдержать и погладить его по голове. А ведь сегодня был только еще понедельник и внук не любил, когда его ласкали вне расписания.
Праздник четвертый
...И как будто бы они говорят ему, чтобы он снял это. А он делает вид, что не понимает, о чем идет речь, и начинает расшнуровывать ботинки. Но они говорят ему, чтобы он не прикидывался, что не понимает. И абсолютно зря он развязывает галстук, ведь он прекрасно знает, что они имели в виду вовсе не галстук. И брюки тоже совсем ни к чему расстегивать, поскольку никому не интересно смотреть на то, что у него там, под брюками. Разве что — и тут они хихикают — разве что той женщине. Да, да, той самой. Вот ей, может быть, и интересно было бы взглянуть. Нет, нет, говорят они, не надо округлять глаза, говорят они, и делать вид, что он не понимает, о ком они говорят, ведь он прекрасно понимает, что им уже известно все, у них даже вещественные доказательства есть. Вот, например, говорят они. И показывают ему гранат, красный гранат с треснувшей кожурой. И тогда у него начинает болеть голова. И они сочувственно смотрят на него и говорят, что для того, чтобы голова перестала болеть, ему надо снять это. И тогда минут через десять голова перестанет болеть. Совсем. Навсегда. А если он сам не решается снять это, то они ему помогут. И они начинают приближаться к нему... Но он делает отчаянные попытки исчезнуть, напрягается изо всех сил — до звона в голове. Звон лопается, и он облегченно вываливается в другой сон. И ему снится, что у него болит голова и что, для того чтобы она перестала болеть, ему необходимо положить ее на колени к матери. Но не к той, чье шестидесятилетие они недавно праздновали, а к той, какой она была в его детстве, тридцать лет тому назад. И он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить, как же она тогда выглядела. И от напряжения просыпается. Но поскольку голова продолжает болеть, то он сперва не понимает, что уже проснулся. Потом понимает. Потом снова не понимает. Потом понимает окончательно и пугается. Потому что те — из сна, наверное, сказали ему правду. Иначе же откуда у них тогда гранат? Хотя... Он смеется. Он торжествующе смеется. Они его что, за дурака считают, что ли, смеется он. Он ведь хорошо помнит, что тот гранат был нарисованным. И где только таких дураков, как они, понабрали, хохочет он. Подсунуть ему настоящий гранат вместо нарисованного и пытаться убедить его в том, что это вещественное доказательство! Ой, умереть можно! Ну юмористы, ну юмористы! Им бы в Театре сатиры работать, а не в Службе Государственной Психологической Безопасности. Да и вообще, при чем тут гранат! А заявление у них есть? Заявление от пострадавшей у них есть? Естественно, нет. Потому что она себя отнюдь не считала пострадавшей. Очень даже напротив! Он уже не смеется, он рыдает от смеха. Громко. Очень громко. Настолько громко, что просыпается.
Он зажигает ночник. Он встает, снимает с полки Кодекс и листает его. Это, конечно, глупо. Он сам понимает, что это глупо. Потому что для того, чтобы привлечь его к ответственности, необходимо ее заявление. А это абсолютно исключено, чтобы она заявила на него. Ведь она сама этого хотела. А Кодекс он просматривает просто так. Из любопытства. Из чисто теоретического любопытства.
...Табуретка была серая и замшелая, с кривоватыми венозными ногами. И в том, как она стояла, раскорячив свои старческие, но еще крепкие ноги, было что-то нестерпимо противоестественное. Но пожалуй, еще более противоестественным был гранат. Он лежал на табуретке и сквозь треснувшую кожуру ухмылялся своими гладкими розовыми зернами.
Молчать и дальше было уже неудобно, и он спросил у рыжей женщины, как называется ее картина.
— Автопортрет.
— Автопортрет?!
Вот тогда-то она и приблизилась к дивану, на котором он сидел, и, сощурив свои голубые и без того маленькие глазки, спросила:
— А что, собственно говоря, вас смущает?
— Да нет, ничего, — пробормотал он. Не мог же он ей сказать, что его смущает эта старчески-похотливая табуретка или этот нагло ухмыляющийся гранат. Кстати, чуть позже он понял, что гранат ухмылялся совершенно зря. Поскольку при более внимательном разглядывании становилось ясно, что он не столько лежит на табуретке, сколько пожирается ею — посередине дощатого сиденья вилась еле приметная узкая трещинка, присосавшаяся к гранату и медленно вжирающая его в себя. Но все это он понял чуть позже, а пока еще гранат победоносно скалил свои розовые зерна, а рыжая женщина, сощурив свои крохотные глазки, ждала его ответа.
— Да нет, ничего, — пробормотал он.
Она отодвинулась от него и каким-то неожиданно робким голосом спросила:
— Еще?
— Да, да, конечно же.
Она водрузила на заляпанный красками стол новую картину и потупилась. Эти ее непредсказуемые переходы от надменности к робости, далее какой-то приниженности, неприятно волновали его. Он отвел глаза от ее замызганной юбки с полуотпоровшимся подолом и стал разглядывать картину.
Это был утюг. Не тот, электрический, каким сейчас пользуются все, а тяжелый чугунный утюг его детства. Утюг стоял посреди заснеженного поля, а на нем — и на ручке, и по бокам — сидели крупные комары с утолщенными хоботками и выпуклыми желтыми глазами.
— Тоже автопортрет? — пошутил он.
— «Ноев ковчег».
Голос ее снова стал морозным, как заснеженное поле на картине. Кстати, это была единственная картина с белым цветом, и то белым его можно было назвать лишь с некоторой натяжкой, поскольку даже эта белизна отдавала серым. По всей видимости, серый был излюбленным цветом этой женщины в замызганной юбке и с тощей рыжей косичкой на затылке. Он переполнял почти все картины и был похож на домашнюю пыль, сквозь которую воспаленно светились одинокие пятна красного или желтого.
— Одиночество, — сказала она.
И ему стало жалко ее.
— Одиночество, — повторила она и чуть наклонила картину.
На железной больничной кровати, застланной серой простыней, корчилась то ли в агонии, то ли в страсти застиранная до ветхости женская ночная рубашка, под которой смутно угадывались чуть отвисшие груди, живот и раздвинутые колени. Короткие рукава рубашки были вскинуты вверх и пытались то ли обнять, то ли оттолкнуть нечто незримое.
— Очень сильная работа, — сказал он, участливо глядя на нее. Показалось ли ему, или вправду в ответ на его участие крохотные глаза быстро укололи его? Наверное, показалось, потому что они уже были устремлены не на него, а на два мягких мизинца, которыми она выделывала какие-то странные вензеля, то страстно сплетая их друг с другом, то как бы в недоумении разводя их в стороны.
— Спасибо, — прошелестел ответ.
Нет, конечно же, показалось.
...Он перевернул страницу и наконец-то нашел то, что искал. Статья 59 — «Психологическое изнасилование».
«Во время полового акта, — читал он, — воспрещается смотреть в глаза партнеру (партнерше) без согласия последнего (последней)». Ну, это вряд ли к нему применимо. Правда, он смотрел ей в глаза. Иногда. Но не во время полового акта. Он еще не окончательно утратил вкус, чтобы переспать с таким чучелом гороховым. Поэтому и следующий пункт, гласивший о том, что во время полового акта воспрещается разговаривать с партнером (партнершей) без согласия последнего (последней), тоже не имеет к нему никакого отношения. Так что товарищи из первого сна совершенно зря рассчитывали на то, что им удастся снять с него это. Он машинально засовывает руку под майку и ощупывает грудь. Нет, нет, вовсе не для того, чтобы убедиться, что это на месте. Конечно же, на месте. Он облегченно вздыхает. Чушь какая-то! Где это еще может быть, как не на месте! Кстати, еще большой вопрос, кто кого изнасиловал. Да, он рассказывал ей о своем детстве. Ну и что? Разве в Кодексе что-нибудь сказано о том, что ему запрещается рассказывать о своем детстве?! Хотя... Какой черт дернул его рассказывать ей о том, что в детстве он страдал из-за своего маленького роста? При желании это в общем-то можно подвести под статью. Пункт 7а: «Воспрещается обременять собеседника разговорами о своих психологических комплексах и тем самым вынуждать его к насильственному сопереживанию». Но он ведь рассказал ей об этом так, между прочим. Это заняло не больше чем полминуты. Ну, от силы — полторы. А она? Разве она не вынудила его к насильственному сопереживанию, целых полчаса распространяясь о том, как она боится насекомых, в частности тараканов? Разве не пришлось ему во всех подробностях выслушать о том, как в детстве ее старший брат засунул ей за шиворот таракана и как омерзительно бегал этот таракан по ее позвоночнику — вверх-вниз, вверх-вниз? И как, наконец, ей удалось его вытряхнуть из-под платья, но уже полураздавленным? И что с тех пор вид насекомых ассоциируется у нее со смертью? Ну, допустим, он ей пожаловался на то, что у него по утрам бывает изжога. Но что такое его изжога по сравнению с ее обстоятельным рассказом о том, как в пятом классе ее травили одноклассники из-за того, что она отказывалась играть с ними в Искателей Вшей, а она боялась пожаловаться на них учительнице, потому что их класс считался тогда образцово-экспериментальным и был переведен на принцип коллективной саморегуляции! Так что, извините-подвиньтесь, если кто тут и пострадавший, так это скорее он, чем она, потому что после этого рассказа у него просто сердце защемило от жалости к ней. А она прямо-таки порозовела от удовольствия, когда увидела у него слезы на глазах. Да, да, порозовела, он с полной ответственностью утверждает, что порозовела. Так что какая же она пострадавшая, что это за пострадавшие такие, которые от страданий розовеют? Более того, порозовев, она похорошела. А похорошев, вынудила его пожаловаться на одиночество. Что значит — вынудила? Ну, дала понять, что он может пожаловаться ей, что она не возражает. Каким образом дала понять? Ну, как «каким»? Взглядами. Так что никакого насилия с его стороны не было. Она сама этого хотела. В течение скольких минут он жаловался ей на свое одиночество? Ах, не минут, а часов? Так и запишем: в течение нескольких часов он ей жаловался на одиночество, тем самым вынуждая ее к насильственному сопереживанию. Пусть он только не вешает им лапшу на уши россказнями о том, что она сама этого хотела. Может, сперва и хотела. Они не исключают, что сперва это могло быть и добровольно с ее стороны. Ну, первые пять минут, ну, максимум десять. Но чтобы в течение нескольких часов!.. Он их что, за идиотов считает? Вот заключение Специалистов: «Выслушивание чьей-либо исповеди, сопровождающееся сопереживанием со стороны выслушивающего, может считаться добровольным только в течение первых десяти минут. Превышение этого срока со стороны исповедующегося, даже при отсутствии видимого сопротивления со стороны выслушивающего, является психологическим изнасилованием и подлежит наказанию способом № 1». Ему известно, что такое способ № 1? Да не надо все время совать руку под майку! Он ведь не маленький и прекрасно понимает, что никто не собирается снимать с него защитный экранчик здесь. Он что, никогда не видел, как казнят преступников? Это делается торжественно, в Центральном Психотроне, при большом стечении народа. Его выведут на сцену и по всем правилам, с соблюдением всех процедурных нюансов, снимут с него экран психологической защиты и оставят один на один с публикой. А как быстро исчерпает публика его психическую энергию, этого они ему сказать не могут. Это зависит от многих параметров. Кто знает, может быть, ему даже повезет и он умрет мгновенно. Да не надо так кричать. Он же еще не на сцене. Что значит, откуда они снова взялись? Они... Ну, скажем, они ему снятся. Хорошо, хорошо, они верят ему, что он давно уже не спит, и потому они никак не могут ему сниться. Тогда тем более не надо так нервничать: раз он не спит, значит, они ему и не снятся. Хорошо, хорошо, уговорил, их тут вообще нет. И заявления от пострадавшей у них тоже нет. Ах да, она не пострадавшая. Ну хорошо, хорошо, хорошо...
Праздник пятый, или Приключение
— Трам-там-там, трим-там-трум, тиу-тиу-тиу! — пели колеса, бодро прощупывая рельсы в темноте туннеля.
— Шир! Шар! Шрум! Ширшаршрум! — шуршали газеты в руках у пассажиров.
— «Площадь Героев», «Площадь Героев», следующая станция метро «Площадь Героев», — пел голос из серебряного репродуктора.
Он откинулся на спинку сиденья и радостно рассмеялся. Мальчишеское лицо, с одобрением наблюдавшее за ним из противоположного окна электрички, беззвучно рассмеялось ему в ответ. Он заговорщически подмигнул своему лицу. Лицо подмигнуло ему. Он снова подмигнул. Солидный гражданин, сидящий напротив него, принял это подмигивание на свой счет, вынул из маленького чемоданчика газету и с сердитым шуршанием широко развернул ее, как раздвижную ширму. Мальчишеское лицо, выглядывавшее из-за левого плеча солидного гражданина, исчезло. Конечно, можно было бы слегка переместиться, и тогда лицо снова вынырнуло бы из-за другого плеча солидного гражданина. Но он воздержался, ибо солидный гражданин мог неправильно понять его.
— Трам-там-там, — пели колеса.
Он вслушался в их пение, тихонько вздохнул и попытался снова начать радоваться. Но, по всей видимости, где-то там, в недоступных его пониманию сферах, случился некий ритмический перебой, и ему никак не удавалось сделать так, чтобы радость его совпала с упругой мелодией колес и сама обрела упругость. Радость оставалась вялой и не проявляла никаких признаков возрастания.
— Шир! Шар! Шрум! — шуршали легкие раздвижные ширмы газет, скрывавшие лица пассажиров.
Нет, она не просто не проявляла никаких признаков возрастания, она проявляла все признаки спада. Тогда он попытался подключить свою радость к голосу из серебряного репродуктора. Но голос, нежно поющий о том, что они скоро подъедут к «Площади Героев», не имел ни возраста, ни пола, ни каких бы то ни было иных отличительных признаков, за которые могло бы уцепиться воображение. Это был идеальный голос, синтезированный из множества разнополых и разновозрастных голосов за счет удаления из них всего индивидуального, это был голос вообще, принадлежащий всем и никому, и наладить с ним контакт никак не получалось. Оставалось одно — прибегнуть к помощи карманного справочника. Он слегка привстал, выдернул из заднего кармана джинсов маленькую книжечку в обложке успокоительного цвета и, снова усевшись, развернул ее. «Справочник по эмоциям» — красивыми добротными буквами было выведено на титуле. Он раскрыл справочник, нашел раздел «Радость» и начал читать подзаголовки. «Влияние радости на процессы Пищеварения», «Радость желательная и нежелательная», «Способы регуляции непредвиденной радости», «Радость контактная и бесконтактная», «Беспричинная радость и ее возможные последствия: положительные и отрицательные». Нет, все это никак не подходило к его случаю. Он пробежал глазами еще несколько страниц и наконец нашел искомое — «Интенсификация процесса радости без посторонней помощи»: «Если вам необходимо интенсифицировать вашу радость, но по каким-либо причинам вам не удается употребить метод № 3 (например, по причине отсутствия субъекта, желающего и могущего разделить ее с вами), то вам следует прибегнуть к методу № 5, т. е. самообслуживанию. Подойдите к зеркалу и установите контакт с собственным отражением...»
Он захлопнул книжку. Ничего нового он там не вычитал. Все это он знал и без них. Но попробовали бы авторы справочника «установить контакт с собственным отражением», если бы между ними и их отражением колыхалась газетная ширма.
— Шрум! — Ширма сложилась пополам, потом вчетверо и, превратившись опять в газету, исчезла в чемоданчике. Электричка въехала из мрака в свет и остановилась. Солидный гражданин вышел из вагона.
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Проспект Изобилия», — пропел серебряный голос — и, подчиняясь ему, электричка тронулась с места и въехала в новый туннель мрака.
— Трам-там-там, — бодро запели во мраке колеса, все убыстряя и убыстряя ритм своей незатейливой песенки. — Тиу-тиу-тиу!
Он улыбнулся и начал устанавливать контакт со своим отражением, которое вновь широко улыбалось ему из противоположного окна электрички, радуясь своему освобождению из небытия, в которое оно было ввергнуто солидным гражданином. Оказалось, что авторы справочника, эти чудесные люди, были абсолютно правы, ибо не прошло и полминуты после вхождения в контакт, как радость его совпала с упругой мелодией колес и сама обрела упругость. А потом она начала возрастать. Когда они проехали станцию «Правозащитная», радость его уже увеличилась в два раза. А после станции «Основоположники» — в три. А на станции «Фестивальная» в дверь вошла маленькая старушка. Настоящая старушка из школьной хрестоматии то ли для четвертого, то ли для пятого класса. Ласково улыбнувшись ему, старушка уселась прямо напротив и разрушила его отражение. Она была такая маленькая, что целиком заслонить собой отражение ей не удалось — треть его лица все еще продолжала выглядывать у нее из-за плеча. Но контакт с третью лица вряд ли можно было считать полноценным. Продолжая по инерции улыбаться, он сердито посмотрел на ее морщинистое личико. Личико ответило улыбкой. Причем улыбнулись не только ее губы, но и глаза, которые оказались голубыми и окруженными сетью лучистых морщинок. Наверное, радость его набрала уже ту скорость, при которой ее не так-то просто было затормозить, потому что его губы вдруг сами поползли к ушам. Старушка улыбнулась еще ласковей и поправила на голове свой допотопный платочек. Он весело разглядывал ее, пытаясь припомнить, в каком же из рассказов хрестоматии уже была такая старушка. И вдруг вспомнил. Но воспоминание это было настолько невероятным, что он даже мотнул от удивления головой. Ну конечно же, это была воровка радости — излюбленный персонаж писателей прошлого. Как же он не узнал ее сразу? Ведь это было настолько очевидно! И вовсе не потому, что она была одета бедно. Некоторые пассажиры тоже были одеты небогато. И не потому, что она не отгораживалась от других газетой. Далеко не все пассажиры читали газеты. Но те, кто не читал, были погружены в глубокий контакт со своими отражениями, одни из которых улыбались им в целях интенсификации радости, а другие хмурились в целях сопереживания и облегчения неприятных эмоций. Но она-то улыбалась ему! Не своему отражению, а ему! Единственная из всего вагона! Нет, это было невероятно! И главное, бессмысленно! На что она рассчитывала? В наше время, когда экранчики психологической защиты давно уже перестали быть предметами роскоши и прочно вошли в быт самых широких масс, заниматься столь бесперспективным промыслом, как воровство психической энергии?! Обалдеть можно! Ну и экземплярчик! Прямо-таки и просится в какой-нибудь учебный фильм на историческую тему, типа «Бесприютная старость». Вот так приключеньице! А ведь расскажи он об этом завтра в школе, не поверят и засмеют — где у нас сейчас бесприютная старость? Если она одинокая, так им спецталончики выдают на психическую стимуляцию, то ли раз, то ли даже чуть ли не два раза в месяц... А что, если?.. Он чуть было не рассмеялся вслух, до того нелепой показалась ему эта мысль: что, если она улыбается ему просто так? Он взглянул на нее еще раз — и не удержался, громко прыснул. И снова ее маленькое личико превратилось в сплошную улыбку, веселую и беззубую. И снова эта улыбка предназначалась ему. И тут его пронзил стыд. А потом догадка. Нет, сперва догадка, а потом стыд. Причем догадка, по всей видимости, абсолютно точная, ибо иных объяснений странному поведению старушки быть не могло. Она их потеряла! Потеряла свои спецталончики на этот месяц. Он задумывается. Он думает долго. Очень долго — целых полминуты. Потом решительно засовывает руку под ворот куртки, затем глубже — под плотный пушистый свитер — и отключает свой защитный экранчик. Радость начинает медленно вытекать из него. Сперва по капле. Потом струйкой. А потом его захлестывает такой мощный поток радости, что, уже не в силах справиться с ней, он громко хохочет. Так громко, что пассажиры испуганно высовываются из-за своих газетных ширм и смотрят на него.
СКВОЗНЯК
(Рассказ)
Навстречу ей бежал голый мужчина. Она удивилась, потому что не каждый день встретишь в зимнем лесу голого мужчину. Правда, когда он подбежал поближе, она разглядела, что он все-таки был не совсем голый, а в плавках. Мужчина был представительный, с красивой седой шевелюрой и стройными ветвистыми рогами. Удивиться во второй раз ей почему-то не удалось. Мужчина приветливо улыбнулся и, обдав ее легкой тучкой снега, вылетевшего у него из-под ног, промчался дальше. «Фу! — весело подумала она, отряхиваясь от снега. — Не мужчина, а прямо сквозняк какой-то». Слово «сквозняк» ей неожиданно понравилось, и она начала повторять: «сквозняк, сквозняк, сквозняк». Произнеся «сквозняк» в двадцать пятый раз, она заметила, что, оказывается, уже не идет по тропинке, а продвигается по ней крупными прыжками. Она попыталась сконфузиться, потому что в ее возрасте и с ее комплекцией скакать от куста к кусту было не совсем прилично. Интересно, что сказала бы Марья Петровна, увидь она подобную сцену. Марья Петровна была кислятина. Даже сам голос ее наводил на мысль о суточных щах и свернувшемся молоке. Но если хочешь следить за своим здоровьем, то будешь терпеть и Марью Петровну. Не гулять же одной в лесу, даже если этот лес не совсем лес, а городской лесопарк. Ну, летом еще куда ни шло, летом здесь народу много. А зимой безлюдно. Марья Петровна говорила, что в прошлом году здесь изнасиловали женщину. Затащили в кусты и изнасиловали. Их возраста женщину. При этом Марья Петровна так возмущенно размахивала руками, что Клара Ивановна басом посоветовала ей: «Не возбуждайтесь, Марья Петровна!» Если Марья Петровна — кислятина, то Клара Ивановна — преснятина. Но зато она крупная, и когда с ней гуляешь, то как-то спокойнее. Но крупной Кларе Ивановне не более, чем щуплой Марье Петровне, понравилось бы, застань они свою приятельницу нелепо скачущей по тропинке. Кстати, им обеим давно уже пора было бы появиться. Она вдруг громко засмеялась. Причем без особых на то оснований. Более того, если у нее и были какие-то основания, то скорее для того, чтобы плакать, чем для того, чтобы смеяться. Потому что сегодня был уже пятый день. «Закрой дверь», — сказал ей муж. И хотя последние пятнадцать лет он всегда так отвечал на ее попытки зайти к нему в кабинет и прообщать его, она вдруг почему-то обиделась больше обычного и, вместо того чтобы закрыть дверь, громко хлопнула ею. А потом внук сказал ей, что жареная картошка — это гадость, и, добавив свое любимое словечко «нищ-щет-та», резко отстранил от себя тарелку. И на все ее слова о том, что они с дедушкой не воруют деньги, а если ему не нравится, то он может уехать от них жить к своей любящей маме, внук только противно хихикал и ехидно осведомлялся: «Это тебе что, в лесу так посоветовали, да? Марья Петровна, да? Оч-чень интеллектуальная женщина!» И хотя она сама была не больно высокого мнения об умственных способностях Марьи Петровны, она снова обиделась. Потому что внук вроде бы как намекал на то, что ей доставляет удовольствие общество недалекой Марьи Петровны. Она стала искать слова, могущие опровергнуть внука. И ей показалось, что она их нашла. «Как тебе не стыдно, — почти спокойным тоном сказала она. — У тебя что, бабушка неграмотная женщина, что ли? Слава богу, с высшим медицинским образованием. И на работе меня всегда уважали!» — «Да-да-да, — запел внук, — уважали. И по физкультуре у тебя пятерка всегда была. Физкультура — это вещь. Физкультура — это предмет интеллектуальный». И тогда она перестала с ними разговаривать. Она не разговаривала целых пять дней: молча подавала им еду, молча стирала их трусы и майки, молча уходила в лес. Но они ничего не замечали и спокойно поедали приготовленные ею кушанья и надевали выстиранное белье.
Куст, около которого она стояла, неожиданно зашевелился, раздвинулся — и из него высунулся коротконогий голый мужчина в плавках и очках. Голова у мужчины была совсем лысая, и рога его были какие-то кривые и худосочные. Мужчина удивленно оглядел ее и заспанным голосом спросил:
— Ты чего здесь делаешь?
— Гуляю, — независимо ответила она.
— Ну ты ваще, — опешил мужчина, — ну ты даешь. А который час-то, знаешь?
— Полседьмого утра, — любезно ответила она, взглянув на часы, и наконец-то удивилась: что это, оказывается, она вышла сегодня из дому на час раньше.
— А. — Он понимающе кивнул худосочными рогами. — Гуляешь, значит. Гулять — это хорошо. Только я тебя вроде раньше тут не примечал. Ты под каким кустом живешь-то?
— Чего? — не поняла она.
— Так ты новенькая, — обрадовался рогатый и, поправив на носу очки, деловито предложил: — Вали сюда.
— А это еще зачем?
— Как зачем? Тусоваться будем.
Слово было из лексикона ее внука, но она не совсем понимала его смысл и на всякий случай быстро сказала:
— Я Марь Петровну жду. И еще Клару Ивановну.
Потом подумала и добавила:
— У Клары Ивановны незаконченное высшее образование.
— Нет-нет, — забеспокоился рогатый. — Тем, которые с незаконченным, нельзя. Те, которые с незаконченным, пусть в Новогиреевский лесопарк идут.
Потом неожиданно посуровел, вышел из куста и, плотно задвинув его за собой, официальным голосом потребовал:
— Документы!
— Какие еще документы?
— Об образовании. И поторопитесь. Без четверти семь закрываемся.
И поскольку она все еще не понимала, то он схватил ее за руку и, стянув с нее варежку, стал разглядывать ее ладонь. Лицо его выразило удовлетворение.
— Высшее медицинское, — констатировал он, возвращая ей ее ладонь. — Пардон, но еще несколько мелких формальностей. Одинокая? Или дома обижают?
— Дома.
— И крепко обижают? Потому как которых не крепко, тем нельзя. Те пусть подождут, пока их крепко будут.
Она попыталась представить себе лицо мужа, но вместо лица ей все время почему-то представлялся его затылок. Потом лицо внука. В его лицо она вглядывалась особенно долго. На разглядывание лица дочери ушло всего несколько секунд.
— Крепко, — сказала она, — очень крепко.
— Ну и хорошо, ну и ладушки, — обрадованно посочувствовал ей рогатый, и глаза его под очками подозрительно увеличились в размерах. — Тогда сигай сюда.
И раздвинув одной рукой куст, другой рукой подхватил ее под локоть.
— Нет, Марья Петровна, нет, тараканов лучше морить по старинке, борной кислотой, — послышался за деревьями голос Клары Ивановны. — А где ж это наша подруга запропастилась? Проспала, что ли?
Она на секунду заколебалась, но тут рогатый ловко подтолкнул ее под локоть, вместе с ней впрыгнул в заснеженный куст и захлопнул его за собой.
Она бежала по летнему лесу, легкая и упругая, и юные рога набухали у нее на темени. А навстречу ей уже сбегались другие старики и старухи, красивые и рогатые, и среди них даже было несколько детей.
ЛЕСОПАРК
(Рассказ)
Она дубина, говорят они. Полная идиотка, говорят они. И если она наконец к пятнице не выучит первый закон термодинамики, то пусть пеняет на себя. Только не надо изображать, что ее это не волнует. В прошлом году кое-кто тоже делал вид, что ему это без разницы. Все думал, что они шутят. И это в то время, говорят они. Когда весь народ, говорят они... говорят они... говорят они... говорят они... черт, заело!.. рят они... рят они... К вершинам! Уф! Аппаратуру проверять надо, Марк Иванович! И не по понедельникам, а по средам, Марк Иванович! Он же знает, что по средам, Марк Иванович... Марк Иванович... Марк Иванович... К вершинам... весь народ... Марк Иванович... плюс электрификация всей страны... Марк Иванович... И ничего тут смешного нет! Абсолютно нет ничего смешного. Марк Иванович, между прочим, заслуженный учитель. А она... Если она к пятнице не выучит наконец первый закон термодинамики, то им придется собрать Педсовет. А там уж. Сама понимает. Они будут вынуждены. Они ведь ради ее же собственного блага. Они ведь ей добра желают. Только добра. Так что пусть пеняет на себя. Здесь нормальная школа, а не. В то время, когда весь наш народ. Если она не выучит, то они будут вынуждены, не отвлекайтесь, Марк Иванович, отправить ее, они не шутят, пусть не надеется, что это шутка, отправить ее — в Школу для особо одаренных детей! В Школу для особо одаренных детей! В Школу для особо одаренных детей! Пусть пеняет на себя... себя... одаренных детей... Марк Иванович... Марк Иванович... Марк Иванович... рят они... рят они... и не по понедельникам, а по средам... плюс электрификация... рят они... рят они... рят они...
Дети бежали к реке. Но поскольку это были дети из сборника диктантов для седьмых классов, то бежали они как-то странно. Рыболов, сидящий на берегу реки, не знал о том, что река ненастоящая, потому что в свое время, когда был еще школьником, он пропустил именно то занятие, на котором должен был писать именно этот диктант. И все же, увидев бегущих к реке детей, он подумал: «Странно, очень странно».
«Поцелуй меня», — прошептала Она и нежно зарделась. Но Он, как назло, именно сегодня забыл дома подзорную трубу и потому не мог целоваться. Сказать же Ей об этом Он постеснялся, и Она, не понимая, почему Он медлит, решила, что все эти годы Он обманывал Ее, когда клялся в любви и молил хоть когда-нибудь даровать Ему хоть единственный поцелуй. А такое простое объяснение, что человек всего-навсего забыл дома свою подзорную трубу, Ей даже не пришло в голову. Больше Они никогда не встречались.
...рят они, что надо сдавать макулатуру, потому что!
Володя был нехорошим человеком и знал об этом. Но он хотел стать хорошим и поэтому ходил в гости к писателю Ивану Петровичу-младшему. Иван Петрович-младший жил в кооперативном доме у реки, на берегу которой сидел Рыболов. Но в отличие от Рыболова Иван Петрович-младший никогда не пропускал занятий в школе и потому знал, что река ненастоящая. Иногда он объяснял это Володе, и тот чувствовал, как постепенно перестает быть нехорошим человеком.
— Так, значит, она считает, что конъюнктивит — это не страшно? Ну слава богу, она его успокоила. А то он так нервничал. Нет, он в общем-то понимал, что это не смертельно, но все же как-то неприятно. Между прочим, она могла бы его почаще навещать. Все-таки у них когда-то любовь была. А у нее конъюнктивит когда-нибудь бывает? Жаль! То есть он хотел сказать, что соскучился по ней. А может быть, у кого-нибудь из ее знакомых бывает конъюнктивит? Ага, значит, у других все-таки тоже бывает. А то когда думаешь, что ты один такой на свете, то как-то неуютно становится. Да, все проходит. Вот и молодость прошла. Может, и конъюнктивит пройдет? Все же она могла бы почаще его навещать. Он, конечно, понимает, что у них такая разница в возрасте. Но ведь любовь была. А она помнит, как он ее в ресторан водил? Четыре раза. Но он в общем-то доволен своей жизнью. Любовь была. Теперь вот — конъюнктивит. Но она ведь еще придет к нему? Правда придет? Удивительно все-таки: он стареет, а она нисколько. Потрясающе выглядит. А это у нее не та помада, которую он ей из Парижа привез? Ах, та уже кончилась. Ну да, конечно, за семь лет любая помада кончится. Значит, конъюнктивит — это не страшно. Только пусть она еще придет, а то как-то неуютно...
...что надо сдавать макулатуру, потому что наш народ... к вершинам...
Но однажды, гуляя по берегу реки, Она наткнулась на подзорную трубу, запутавшуюся в траве. И хотя Она ничего не знала о тайной связи, существующей между предметами и явлениями в этом мире, тем не менее сердце у Нее защемило как-то особенно сладостно и в ушах зазвучала дивная и печальная музыка: то ли Бах, то ли поп-группа «АБВ».
Когда Володя стал уже почти хорошим человеком, он пошел на литературный вечер и там узнал, что существуют фаллические эманации духа. Спросить у докладчика, что это такое, он постеснялся и на следующий день обратился за разъяснениями к Ивану Петровичу-младшему. Иван Петрович высказал предположение, что докладчик, по всей видимости, имел в виду «фавнические эманации духа» — от слова «фавн». Но поскольку Володя упорствовал и настаивал на «фаллических», то Иван Петрович был вынужден объяснить ему, что такое фаллос. На вопрос, откуда у духа мог взяться фаллос, писатель ответить не смог. Это несколько пошатнуло его авторитет в глазах Володи.
Дети бежали к реке. Им ужасно надоело туда бежать. Но поскольку это была единственно возможная форма их существования, а других форм автор учебника для них не предусмотрел, то они не смели нарушить установленного порядка.
По небу летели крокодилы с глазами ланей. Рыболов, сидящий на берегу реки, знал, что они вылетают из Школы для особо одаренных детей. Но обычно у крокодилов были глаза сумчатых медведей, а таких, у которых глаза ланей, он видел впервые и решил разглядеть их получше. Но крокодилы летели слишком высоко. Тогда он начал озираться и случайно, чисто случайно, обнаружил запутавшуюся в траве подзорную трубу. Он поднес ее к глазам — и хотя он ничего не знал о тайной связи, существующей между предметами и явлениями в этом мире, ему тем не менее сразу же очень захотелось целоваться.
И это в то время, говорят они. Когда весь наш народ, говорят они... говорят они... говорят они... Аппаратуры на вас не напасешься, Марк Иванович, говорят они... рят они... Потому что!
И тогда Акакию Рабиндранатовичу стало так грустно, что у него пропал аппетит, а потом деньги. А потом воля к жизни.
В квартире с глухо зашторенными окнами, в таинственном полумраке, тревожно озираясь, Анна Минаевна ругалась матом. Потому что!
Володя решил переждать, пока авторитет Ивана Петровича не перестанет шататься и не встанет на свое место. От литературных вечеров он решил тоже какое-то время воздержаться. И он отправился на музыкальный вечер.
Крокодилы уже перестали летать по небу, а Рыболов все еще оставался нецелованным. Или, точнее будет сказать, не целующим. Ся.
Но после музыкального вечера у Володи вдруг окончательно пропало желание быть хорошим человеком.
...Ирина Самойловна бежала по ночному городу, заламывая тонкие руки. Свои, а не чужие. И тем не менее ночной патруль задержал ее, что было абсолютно противозаконно.
...Но жена продолжала громко рыдать и не отвечала на его расспросы. Она не отозвалась на «рыбоньку», а потом на «ласточку». «Цыпочка» и «лапочка» тоже не внесли успокоения в ее громко скорбящую душу. И только на «кисоньку» отозвалась она, но как-то странно. «Лесопарк!» — глухо выкрикнула она, и прекрасные глаза ее...
В однокомнатной квартире с совмещенным санузлом, в кругу своих друзей и почитателей, Иван Петрович-младший говорил о пантеизме. «Пантеизм, — говорил он, — это...» — «Да, да, да», — кивали друзья и почитатели. «А не-пантеизм, — говорил он, — это...» — «Да, да, да», — кивали друзья и почитатели. Друзей и почитателей было пятеро, и это резко отличало их от всего остального человечества, которого не было в этот час в квартире Ивана Петровича по той простой причине, что оно (человечество) отнюдь не было другом и почитателем этого замечательного писателя. Но вовсе не отсутствие в его квартире недружественного ему человечества заставляло сегодня Ивана Петровича нервничать и поглядывать на часы. Вовсе нет. Заставляло его нервничать и поглядывать на часы отсутствие Володи. Ибо, будучи писателем, то есть существом с очень тонкой психической организацией, чувствовал Иван Петрович, что человечество рано или поздно придет в его квартиру. Относительно же Володи такой уверенности у него не было. И печалился Иван Петрович, и даже пару раз оговорился, употребив вместо термина «пантеизм» термин «индивидуализм». Грустно было ему, ох как грустно!
Дети бежали к реке. Но это уже не казалось странным Рыболову, сидящему на берегу. Ему уже ничто не казалось странным в этом мире. Даже то, что по вечернему небу вместо крокодилов с глазами ланей теперь летели лани с глазами крокодилов. Он смирился. Ибо если слишком долго оставлять человека, вооруженного подзорной трубой, в состоянии полной нецелованности, то рано или поздно он смиряется.
...и прекрасные глаза ее подернулись ужасом. «Лесопарк! — глухо выкрикнула она. — Они ограничили посещение Лесопарка. С десяти до двенадцати. А в остальное время — только по талонам за сданную макулатуру». Он попытался ее утешить. Он сказал ей, что наверняка эта мера временная. И что двух часов в день, на его взгляд, вполне достаточно. Потому что если умножить часы на посетителей, то получится цифра, далеко превышающая количество часов, содержащихся в сутках. А ведь ни в одном уважающем себя государстве расход не должен чересчур уж превышать приход. Но у нее было гуманитарное образование, и она ничего не понимала в высшей математике. И потому прекрасные глаза ее...
...рят они...
— Ну слава богу, наконец-то она пришла. А то его все забросили. Конечно, он сейчас не у дел, мало чем может быть полезен. И все же люди какие-то странные: то крутятся вокруг тебя, сами в гости набиваются, а то вдруг все куда-то исчезли. Правда, некоторые уже умерли, но ведь остальные еще вполне живы! Она вот прекрасно выглядит. Столько лет не виделись, а она все не стареет. Все такая же, как тогда, когда он ее в ресторан водил. Или когда помаду из Парижа привез? Кстати, она ею еще пользуется? Ах, кончилась... Ну да, конечно. Грустно это все-таки. Даже помада и та кончилась. А у него вот сахар в моче обнаружили. Что? Она лучше без сахара чай попьет? Ну зачем же она сердится, они ведь друг другу не чужие. Она могла бы к нему и почаще заходить. А то неуютно как-то...
В квартире с глухо зашторенными окнами, в таинственном полумраке, Анна Минаевна закончила ругаться матом, нарисовала на своем лице глаза лани и отправилась в Лесопарк.
К Акакию Рабиндранатовичу постепенно возвращался аппетит, чего никак нельзя было сказать про деньги и волю к жизни.
...и это в то время, когда весь наш народ...
Не считая Ирины Самойловны, незаконно задержанной патрулем.
Лесопарк сверкал, сиял, шелестел, источал и вызывал. Он пьянил, манил, навевал и временами становился совершенно похожим на представление Ивана Петровича-младшего о пантеизме. Но люди, собравшиеся в этот час перед Лесопарком — вместо того, чтобы наслаждаться сверканием, сиянием, шелестением и истечением, — пребывали в возбуждении. Потому что обнаружили, что их Лесопарк заперт в клетку. Большую клетку с железными прутьями и табличкой: «Вход для посетителей с 10 до 12 ч. Не кормить и не дразнить». Женщины роптали, мужчины угрюмо молчали, дети плакали.
...рят они, что не надо волноваться. Потому что!
Женщины роптали.
...потому что временные трудности...
Женщины роптали.
... трудности... временные... потому что!
Дети плакали.
...рят они, что нашли выход... срочно запретить рисовать крокодилов с глазами ланей. А еще лучше любых крокодилов. С глазами и без. Потому что!
Дети плакали.
— Ну хорошо, — ...рят они. Они согласны. Потому что. Ну они же согласны. Они же признают! Они даже готовы выпустить Ирину Самойловну.
Мужчины оживились. Женщины сникли.
...Ирина Самойловна бежала по ночному городу, заламывая тонкие руки. Свои, а не чужие. И тем не менее ее никто не арестовывал.
К Акакию Рабиндранатовичу вернулась воля к жизни.
Дети бежали к реке. Но это были совсем другие дети, потому что детей из старого учебника сдали в макулатуру — на восстановление Лесопарка — и заменили их новыми. Рыболов, сидящий на берегу реки, давно уже вышел из школьного возраста и потому не знал, что реку тоже заменили. И все же, увидев бегущих к реке детей, он на миг опустил свою подзорную трубу и подумал: «Странно, очень странно».
Иван Петрович-младший нервничал и поглядывал на часы. Потому что человечеству давно уже пора было прийти в его квартиру. Наконец дверь распахнулась, свежий ветер ворвался в прихожую — и неслышными стопами в комнату вступил Володя. Володя был пьян.
В квартире с глухо зашторенными окнами, в таинственном полумраке, тревожно озираясь, Анна Минаевна ватным тампоном стерла со своего лица глаза лани и начала ругаться матом. Потому что!
Володя был пьян и недобро улыбался. Иван Петрович в спешном порядке обрадовался. Но Володя улыбнулся еще более недобро и спросил, откуда все-таки у духа мог взяться фаллос? А потом сел мимо табуретки, услужливо пододвинутой к нему Иваном Петровичем, и горько-горько заплакал.
Дети бежали к реке.
Она дубина, говорят они. Полная идиотка, говорят они. И если к следующей пятнице она опять не подготовит доклад «Критика первого закона термодинамики с точки зрения оккультизма», то пусть пеняет на себя. Только не надо изображать, что ее это не волнует. И пусть не надеется, что они шутят. И это в то время, говорят они. Когда весь народ, говорят они... говорят они... говорят они... говорят они... говорят они... Испытывает такие трудности! Уф! Аппаратуру проверять надо, Марк Иванович! И не по средам, а по понедельникам, Марк Иванович! Марк Иванович... Марк Иванович... Марк Иванович... такие трудности... весь народ... Марк Иванович... Вот что получается, когда аппаратуру проверяют по средам, а не. И ничего тут смешного нет. Абсолютно нет ничего смешного.