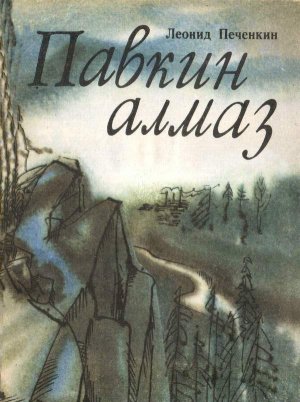
Пришлый
Неприветлив Урал к человеку в этих краях, а порой страшен. То опускаясь крутыми уступами, то вновь громоздясь одна на другую, Уральские горы выглядят хмуро, неприютно. В зимнюю пору господствуют здесь лютые морозы и снегопады, разноголосо завывают бураны и метели, а летом, бывает, хлещут проливные дожди и бушуют ураганные грозы, после которых остаются лесные завалы, и потом долго еще шуршат камушками гигантские оползни.
Случаются и знойные дни.
Первобытная сила, глухомань, дикость: огромные каменные валуны, стволы матерых лиственниц, кедров и поседевших от старости елей обросли белесыми мхами и подернулись не то затвердевшею плесенью, не то какими-то лишаями, а высоченные папоротники местами образовали настоящие заросли: кажется, что это расползся по лесу слоистый зеленый туман…
На вершину одной из гор взобрался грязный, оборванный человек. Тяжело дыша, прислонил к камню суковатую палку, улыбнулся чему-то и, широко перекрестившись, выдохнул:
— Ну, здравствуй, гора Качканариха!
Видать, не впервой оказался он в здешних местах. Низко поклонившись на север, восток, юг и запад, он осмотрел из-под ладони раскинувшийся у подножия горы золотой прииск, перевел взгляд на дымивший вдали Теплогорский чугуноплавильный завод, с интересом понаблюдал еще за чем-то, ведомым только ему одному, и неторопливо стянул со спины тощенькую котомку. Опустившись на камень, подставил ветерку заросшее лохматой бородищей лицо, устало закрыл глаза и блаженно откинул голову.
Нахлынули разные думы. Сколь повидал да пережил за долгие годы… Много где побывал, многому научился. Сводила его горькая судьба с гулевыми бродяжками и такими же, как он, беглыми, кому невмоготу стало от кнута заводского надсмотрщика да лиходейства хозяина. Встречались и старатели-одиночки, что ищут по Уралу и в других краях россыпи золота да самоцветные камни.
Сухо треснул где-то обломившийся сук — будто щелкнул взводимый курок. Человек встрепенулся, испуганно оглядел лес, траву, камни и, не увидев ничего подозрительного, опять привалился к нагревшейся каменной глыбе, полузакрыл глаза.
Строятся по Уралу заводы. Не счесть, сколь их по Уралу коптит. А всем уголек подавай, как хлеб человеку. И расползлись по горам лишаями стригущими вырубки. Понастроили пришлые деревушек, раскорчевали под пашенки облысевшие склоны гор и низины, хоть и знают, что туга землица для крестьянского дела. Но ничего, приноровились людишки, живут. Кое-где и по сю пору еще приживаются. Куда ж деться, ежели второе столетие сгоняют сюда целыми деревнями из Центральной России больного и крепкого, молодого и старого! Надо ж кому-то и заводскую силу пополнять, добывать хозяевам на местных промыслах золото-серебро, каменья поделочные и драгоценные…
Полсотни лет прошло, как препожаловал сюда с войском сам Пугачев, освободитель-царь, но помнят старики его грамоты: «…Жалую я вас всех крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и хлебом и провиянтом, и свинцом и порохом, и всякою вольностью…» Вот когда обезумел народ от свалившейся воли и начал крушить, сжигать заводы-фабрики, дома хозяйские, вешать на суках да перекладинах приказчиков да надсмотрщиков. Ох и гулял тогда народ, полной грудью дышал, как в угаре пьяном был, а потом дорогой ценой за это расплачивался… С кем тягаться вздумали, сиволапые? Закон да власть всегда на стороне у Демидовых, Строгановых, Воронцовых, Шуваловых! Сам вон царь-государь их руку держит! Да только отдельные ухари до сих пор отваживаются — бунтуют да в леса бегут — волю ищут.
Человек подставил солнцу и ветру широкую волосатую грудь и снова оглядел холмистые горы, пади с долинами и примостившиеся в них деревушки с заводами. А окоём вокруг Качканар-горы преобширнейший, до пятидесяти верст окрест можно все обозреть в такую вот погоду ладную.
Неторопливо развязав ремешок на котомке, человек достал туесочек со студеной водой родниковою, краюху хлеба ржаного и черствого, берестянку-солонку и луковку. Посыпав густо на хлеб крупную серую соль, он принялся жевать его не спеша и с охотою. Опять вспомнил свой завод, даже помрачнел. Эвон там вдали, верст за пятьдесят, он дымит. Еще мальчишкой был, когда Строгановы заложили свой завод на речке Бисерти, перекрыв ее большой плотиной. А железорудное месторождение там богатейшее. Полторы тысячи тонн чугуна в год с домны получали — каторжный труд. А им, Строгановым, все еще мало было! Ох и жадные! На одном только Урале полмиллиона десятин лесных и луговых угодий принадлежало им, а крепостных счету не было! Когда умер сам-то Александр Григорьевич, люди думали, что облегчение выйдет, а получилось тошнее тошного… Завод этот Би́серский со всеми приписанными к нему наделами и людишками перешел дочери Строганова — замужней Вере Александровне Шаховской, которую на Урале и в глаза-то не видели.
Заметив взобравшуюся на его босую ногу ящерку, человек не шелохнулся, перестал жевать. А она, любопытная, понаблюдала за ним черными глазами-точками и вдруг, испугавшись чего-то, шмыгнула с ноги обратно в щель под каменьями.
…А потом уж завод Бисерский перешел по наследству же внучке Шаховской, Варваре Петровне, по первому мужу графине Шуваловой. И эта в Петербурге на широкую ногу живет, под стать бабушке. И этой деньгу подавай… Правда, слух прошел, что, недавно овдовев, не ходила она в долгом трауре и вышла замуж за графа, Адольфа Антоновича Полье, не то русского, а может, французика. Много их тут в Россию понаехало.
Приметив вдруг, что ветер закрепчал и пошли тучи с севера, человек начал жевать торопливее. Закончив трапезничать, надел задубевшие от пота и грязи лохмотья холщовой рубахи, не заправляя ее в порты, прихватил армяк с котомкою и начал спускаться с горы, опираясь на ту же суковатую палку-помощницу.
Чем ниже, тем гуще лес. На прогалинах, старых осыпях разноцветье трав. Какая-то птаха свистнула, дятел простучал. А тут как полыхнул с шумом из-под ног косач — путника к кустам шарахнуло — думал, медведь.
А по небу облака уже ва́лом валят, темно-синие, тяжелые. От земли испарения пошли. Духота. По всему видать — гроза надвигается. Деревья запокачивались, заскрипели. И трава шуршит. С горы идется ходко — почти бегом. Но пришелец осторожничает, озирается. Обойдя валежину, шагнул в кусты и увидел там звонкий родничок. Припав ртом, долго и жадно пил, а потом смочил голову, плеснул на грудь студеную воду…
Спустившись к реке Койве, он опять постоял в кустах, прислушиваясь и приглядываясь. Знает человек, что, ее держась, выйдет к Чусовой, и там вдоль берега можно прошагать до самой до Камы. До Дона вольного еще долгий путь — шагать и шагать, а кругом засады стражников, как убережешься?
Здесь-то места свои да знакомые. А он и у себя дома как волк. Если б можно было, то пришел бы еще засветло на завод. Жену с ребятами целых семь годов не видал! Зимой встретился с беглым земляком, так тот сказывал, что жена под надзором все еще. Поди-ко поработай двадцать лет в яме угольной! Да и дети все уже к заводской работе приставлены. Вот придет ночь, огородами прокрадется он к избе отставного солдата деда Попова — человек надежный, не продаст. Многих тайно привечает. Уж всегда поделится куском хлеба, в баньке выпарит, одежонку даст. Любят старика за добрую душу, за сказы о войне да о землях чужих и диковинных. Перво-наперво через него надо повидать семью, потом друга старого Пантелея Копытова и тогда, благословясь, двинуть в дальний путь. Деревень теперь больше встретится, и народ пойдет другой — попокладистей. Повидали на Урале люди всякого, понапуганы, оттого и завели правилом: на ночь выставлять под окно на завалинку кружку молока с краюхой хлеба, чтобы путник-странничек, оборони бог, не возгневался бы и не сотворил какого лиходейства: избу б не поджег, лошадь бы не увел, кур не утащил, семью не вырезал…
— Эй ты, подь сюда!
Вздрогнул человек от окрика, сжался весь, вскочил и в лес бросился.
— Эй! Не балуй!.. Сто-ой!..
— Ну, пальни в него!
Петляя между деревьями, дальше-дальше бежал он, и тут сзади громыхнуло…
Смотритель прииска
Петр Максимович Горбунов недовольно расхаживал из угла в угол по кабинету. Ожидаемый приезд хозяина графа Полье очень был некстати: намыв золота в последние дни резко снизился. Еще тут немчишки эти… Привезли приказ хозяина — в промываемых песках самоцветные камни искать!..
Четыре года назад Горбунова, как одного из лучших специалистов по золоту и знатока самоцветных камней, рекомендовал графу Полье сам начальник уральских горных заводов генерал Глинка. Графу потребовался специалист, чтоб провести разведку россыпей и установить, есть ли смысл открывать частный промысел. Он положил Горбунову приличное жалованье, и тот согласился.
Петр Максимович слышал, что в двадцати верстах от Бисерского завода, в вотчине этого вельможи, на речушке Полуденке, стражники поймали какого-то беглого, который мыл в ее песках золото. Первые пробы в присутствии самого графа дали ошеломляющие, не виданные еще до той поры результаты — столько россыпного золота оказалось в песках, что ахали и с завистью качали головами золотые тузы не только в Екатеринбурге. Прииск открывали под колокольный звон, при больших гостях, по всем правилам. Хозяин расщедрился до того, что народу выставил бочку водки. И назвали прииск Крестовоздвиженским по имени расположенной поблизости деревушки, что была заложена самим графом Строгановым. К промывке золота сразу же согнали крестьян этой и других близлежащих селений.
С той поры и хозяйствует на Крестовоздвиженском золотом промысле смотритель прииска Горбунов, ежемесячно посылая хозяину в Петербург докладные, отчеты, а в Екатеринбургскую государственную казну сдает золото… А оттуда уж хозяевам идут денежки…
Петр Максимович подошел к столу, набил табаком трубочку, раскурил ее, снова зашагал из угла в угол. Коренастый, плотно сбитый, он походил на крестьянина. Бородка — «в скобочку». Горбунов вышел из крепостных, но образован, получает такое жалованье, которое вполне позволяет ему жить на широкую ногу, но он предпочитает даже по делам в Екатеринбург ездить без особого шика. Сейчас на нем крестьянского покроя рубашка, хотя и из тонкого заграничного полотна, черные шаровары заправлены в жесткие сапоги на толстой подошве. Стук их каблуков по выскобленным до желтизны половицам через распахнутые окна и двери конторы слышен на улице. В окна виден разметнувшийся по обоим берегам реки прииск с грудами песка, работающими людьми и лошадьми.
Мысли смотрителя далеки от всего этого.
…Везет же графу! За четыре года, по самым скромным подсчетам, прииск дал Полье около десяти миллионов рублей! При таких-то доходах раскатывай по заграницам, устраивай на всю столицу балы. Так нет, жадность одолевает, в каждом письме граф требует увеличения добычи золота! Мало того, весной этого года он, Горбунов, обнаружил новую россыпь — и всего-то в четырех верстах от этого прииска, на правом берегу Полуденки. А россыпь-то оказалась какой! Такого не снилось даже и смотрителю самому: золото гнездовое, на глубине каких-то четырех-пяти аршин[1] от поверхности. Добывать его начали сразу же — черпали лопатами вместе с песком! От двадцати пяти до пятидесяти трех золотников[2] намывается с каждой сотни пудов[3] промываемого песку! Где еще такое можно увидеть?
Вспомнив, как усердствовал он, Горбунов, перед графом в порыве нахлынувшей радости, какого-то ослепления в ту пору, Петр Максимович устыдился себя, швырнул на стол потухшую трубку, скрипнул зубами, рванул на вороте рубашки пуговицы, крикнул через плечо в сторону раскрытой двери:
— Тишка!
И тут же мгновенно, словно стоял за дверями и ждал вызова, из соседней комнаты выскочил писарь.
— Что надоть, Петро Максимыч?
— Квасу холодного, и поживей!
У, холуи… Недолюбливает Горбунов конторских служащих за их угодничество и лакейское презрение к простому народу.
— Вот, Петро Максимыч, извольте, прямо из погреба! — небольшого роста, поджарый, с жиденькими волосенками на голове и тощей, словно мочальной, бородкой, Тишка угодливо согнулся перед Горбуновым.
— Поставь на стол и иди! — «Ну чисто церковный дьячок!» — Нет, постой! — Петр Максимович взглянул на настенный барометр. — Передай кучеру, чтоб запрягал.
— Да куда ж вы? Грозе быть! — удивился Тишка.
— Не твое дело. Иди!
«Вот так же и я перед графом…» — подумал Горбунов, сняв крышку и поднося жбан[4] к губам…
Обнаружив новое месторождение золота, Петр Максимович незамедлительно уведомил о сем хозяина и тут же предложил привлечь к разработке новых песков крепостных крестьян из деревни Калининской и заодно из других, с ней соседствующих. Попутно он воспрошал дозволения наречь этот прииск в честь хозяина его — Адольфовским. Специальный курьер из столицы привез ответ: «…Хвалю за усердие и сообразительность. Действуйте, руководствуясь своим опытом и познаниями. Повелеваю организовать одновременно повторную промывку песков на обоих приисках, ибо специалисты считают таковое зело выгодным. В июне месяце приеду сам…»
Но вместо «самого» на завод приехали два инженера-немца. Они-то и рассказали Горбунову, что по приглашению Всероссийского императора Николая в столицу прибыли три берлинских профессора во главе со знаменитым ученым-минералогом Гумбольдтом. А этот-де барон превеликий спец не только по драгоценным камням, но и по алмазам, и что-де на приеме его императрицей Александрою Федоровной он заявил, что Россия должна непременно иметь в недрах своих земель алмазные россыпи, о чем свидетельствует аналогия хребта Уральского с алмазоносной местностью в Бразилии…
Эти же немцы сообщили Горбунову о том, что будто после встречи и бесед с герром профессором граф Полье увлекся минералогией, нанял хотя еще и молодого, но весьма разбирающегося в камнях немчика и что поехали они сопровождать экспедицию из ученых немцев тех через Нижний Новгород на Казань-город, а уж после того соизволит граф заявиться сюда собственной персоною…
Такие сообщения расстроили Горбунова. Надеясь, что граф распорядился о повторной промывке песков не подумавши, Горбунов тут же отписал ему, что такое дело немыслимо: где возьмешь людей и какой резон, коли и так люди стараются, на оба промысла все подключены! И что повторный промыв делают в тех случаях, когда оскудела россыпь и ее в пору закрывать… Ответ был гневный и категоричный: привлечь к повторной промывке песков всех без исключения, определив на подвоз песков малолетних и к посильному делу — брюхатых баб…
Петр Максимович — человек нанятый, и перечить в таком деле хозяину у него нету прав. А насчет камней — воля барская, пусть потешится!
Не одиножды он показывал этому графу бестолковому вымываемые из песков хрусталь, кварцы, колчедан, толковал ему предостаточно о непригодности их как в поделочном, так и в ограночном ремесле! Ну, встречаются еще уваровит с аширитом, так ведь качество никудышное! И неужели он, Петр Горбунов, проработавший на золоте и камнях уже столько лет, обучившийся минералогии у известных екатеринбургских мастеров, разбирается в камнях хуже Гумбольдта?! Верно, слыхал о человеке том, но, может, тот и великий спец по чужим местам, а на Урале-то он не бывал, и ему ль судить прежде времени об аналогии?
Обидно за себя стало смотрителю. Но что поделаешь? Может, где и найдут алмазы, но не здесь же на приисках…
И всем работающим на приисках Горбунов велел выбирать из промываемых песков блестящие, разноцветные, как прозрачные, так и темные камни, галечник и предъявлять оные в конце дня ему на обозрение. А уж он и порешит — выбрасывать ли их в отвал или складывать в специальный ларь для хранения, что поставлены в балаганах надзирателей того и иного прииска…
Напившись квасу, Петр Максимович достал из кармана шаровар золотые часы — подарок графа, щелкнул крышкой, время посмотрел. Усевшись за стол, порылся в бумагах, но отложил их в сторону, вновь задумался, трубку раскурил.
— Кони запряжены, Петро Максимович! Вели подавать? — появился в дверях Тишка.
— Что? — очнулся от задумчивости Горбунов и махнул рукой. — Пусть ждет. Недосуг пока!
Не так камни и остальное все волнует Горбунова сейчас, а как бы не нагрянул граф сюда в эти дни, когда сам смотритель, без хозяйского ведома, на свой страх и риск, половину приискового народу распустил домой: страда приспичила сенокосная и у баб в огородах дел невпроворот — гряды заросли, огуречную рассаду пора высадить, на полях сорняки повылазили… Хоть золото и надо добывать, а людишкам как же быть без пропитания? Граф о них и не думает! Какое ему до того дело, как им зиму жить…
Слава о том, что Горбунов дает послабление народу приисковому, дохаживала не раз до хозяина, за что тот и пробовал его прорабатывать. А потом сказал: «Н-ну-с, смотри, поступай как думаешь. Н-но добычу золота не снижать! За нее с тебя будет стро-огий спрос!» Вот и приходится теперь Петру Максимовичу вертеться как меж двух огней.
Павкина артелка
Адольфовский прииск развернулся в узком логу, где не так давно еще зайцы бегали, росли сплошь ивняк с ольхой, осока да смородинник, лопухи с крапивою, а теперь все это вырезано и вырублено, по дну лога на версту кучами песок, галька, шурфы пробные.
Из ям-выработок, словно из-под земли, лохматые крестьянские лошади с трудом выволакивают груженые двухколесные таратайки. Старатели рассыпались по прииску пестрыми артелками. Грязные, усталые и обозленные, долбят они ломами и кайлами то, что не поддается лопате, перемывают пески, кляня золото и хозяина. Но нет-нет да где-нибудь и затянет кто-то из парней песенку, или захохочут вдруг парни с девками. Не по нутру такое старикам: ишь, развеселилися, окаянные, скоро же позабылось им, как сгоняли сюда народ деревнями целыми, да как выли в ту пору на разные голоса бабы с девками, да как понуро тянулись к новой каторге обозы длинные с курами и телятами, с немудреным скарбом да с детишками…
Павке Попову четырнадцать лет. Но выглядит он взрослее и грудью пошире иных своих сверстников. Ходит без рубахи, с завернутыми штанинами, босым. Побурел от солнечного загара, брови выцвели. Волосы мягкие, цвета спелой ржи, а глаза голубые-голубые и чистые, как топаз. Любая работа в руках парня ладится. Может, этим, а может, иным чем, но заслужил он внимание приискового смотрителя, и тот поставил Павку к вашгерду[5] за артельного. А в артели у него шесть душ: рябая Фекла, пятнадцатилетняя Марфутка, две молодухи погрузчицы да два голопузых подвозчика. Погрузчицы работают вдали у отвалов, а у вашгерда только Павка с Феклой и Марфуткою. Марфутка набрасывает на грохот[6] песок, а Павка с Феклой аккуратно растирают его.
На Марфутке сарафан и рубашка синяя. Передник она подвязывает по-бабьи, под мышками, чем и смешит Павку. Подумаешь, задаваха какая выискалась, под взрослую ладит себя и довольнехонька! На голове у Марфутки вылинявший платочек с голубыми разводами. Внешне она девка статная и красивая: коса черная, брови тонкие, коромыслицем, а глазища цыганские, с блеском, с шалостью… И не поймет никак Павка, чего же больше в них — лукавства, грусти, задора ли? Эти Марфуткины глаза больше всего и смущают его, оттого он так старательно и ворошит по грохоту железным скребком накидываемый Марфуткой песок, дробит ссохшиеся в песке комья глины, ловко подхватывает рукой и откидывает с грохота камни-окатыши, галю крупную, одновременно зорко следя за тем, чтобы вода поступала на грохот ровной струйкою. Заметив в песке кристалл горного хрусталя, цветной камешек, Павка берет его аккуратненько, осматривает и откладывает в растущую кучку камней прямо тут же, подле вашгерда. А сам нет-нет да и посмотрит на стройные, загорелые ноги Марфутки, на подоткнутый подол сарафана…
Фекла — на сносях. Работать ей тяжело. Она то и дело покусывает нижнюю губу, стонет, морщится, хватается руками за свой огромный живот. Из-под выгоревшего до белизны платка то и дело выбиваются начавшие прежде времени седеть волосы. Павка и Марфутка жалеют несчастную. Но на все их уговоры присесть и передохнуть Фекла с испугом отмахивается:
— Да вы чо, милые? А урок-то наш?
Иногда ей бывает совсем уж невмоготу, и тогда она, с мучительным стоном подхватив живот, опускается подле вашгерда. Посидит так пару минут, помучается, хлебнет воды из туеска и опять за скребок или лопату, с трудом поднявшись на ноги.
Снова подъехала таратайка, и Павка с Марфуткой быстро выгрузили из нее песок. Подвозчику нет и семи лет, но он, сидя верхом на лошади, ловко с ней управляется. Это сын Феклы, Захарка, — белобрысый, веснушчатый, толстогубый и курносый малец. С утра и до вечера он канючит: «Ма-ам, хле-еб-ца да-ай!»
Павку с Марфуткой это злит. Но они сдерживаются.
— Давно ли я тебе давала кусок?! Подумал бы сам: откуль у нас эсколь хлеба-то? Просишь и просишь без передыху… — слабо журит Захарку изможденная мать и тут же лезет мокрой грязной рукой в кошелку, чтобы отломить от краюшки кусочек. Сама она хлеб почти не ест, а довольствуется вареной репой и луковкой. Хлеб же весь скармливает Захарке.
— Ма-ало-о… Дай иш-шо-о… — канючит тот.
— Потерпи. Скоро полдничать будем. Онтипко вон помладше тебя, а не надоедает так…
— Посоли-и!
— Ну и шмыгало же ты, Захарушко! Обопьешься ведь!
Фекла солит хлеб и протягивает сыну. Тот с жадностью хватает его, откусив, торопливо жует, но ныть не прекращает:
— Невдосо-оль…
Марфутка прыснула в кулак, а Павка на этот раз не сдержался.
— Ты, тетка Фекла, нашоркай ему солью язык — надолго хватит! Не будет просить столько-то.
Но Фекла не понимает шуток и норовит оправдать сына.
— Да ты чо? В работе-то кому хошь будет есться. А ведь он ишшо дитятко малое, неразумное…
Зато второй возница в артельке, Антипка, — полнейшая противоположность Захарке. Антипке всего лишь шесть лет. Но в повадках и характере он копирует взрослых. Антипка словоохотлив и постоянно привозит к вашгерду приисковые новости. На Марфутку он поглядывает с напускной строгостью.
Антипка любит свою сестру как-то по-своему, затаенно, со скрытой нежностью. Вот и теперь, доставив после Захарки песок, он первым делом осведомился:
— Ты, сеструха, не притомилась ишшо? Отдохнуть бы тебе. Пашке вон чо, он как боров здоров, ему хоть сколь песку-то на грохот набрасывай — перемолотит!
Глаза у Антипки, как у Марфутки — большие, широкие. Глядя на сестру с высоты коня, он, как и его отец, поводит бровью, слова выговаривает неторопливо, с достоинством. Хотя и страшно ревнует он свою сестру к Павке, но норовит это скрыть. Поэтому и Павку как бы старается не замечать, не вступает с ним в разговоры. Зато Феклу, как сестру, журит постоянно. Заметив, как Фекла выронила скребок и обхватила, застонав, руками живот, Антипка нахмурился:
— А ты, тетка Фекла, шибко-то не кожилься. Гляди, береги себя. А то ведь, неровен час, разродишься тут… Это Пашка все измывает вас…
Марфутке смешно от таких его слов. Вот малец, как-то вечером после работы подслушал в балагане ее разговор со старшей сестрой о тетке Фекле и теперь беспокоится за нее!
— Нога-то у тебя как, болит? — спросил Павка.
Антипка тоже не спешит отъезжать после выгрузки песка. Ему здесь нравится больше, чем там, в яме, и с сестрой поговорить хочется.
Недавно лошадь наступила ему на босую ногу, содрала копытом кожу с нее, но Антипка стерпел, не заплакал. Нога и теперь заметно опухшая.
— На месте она, не видишь? Хоть и побаливат, до свадьбы, однако, заживет… — ответил Антипка, даже не взглянув на Павку. Пощурившись на солнце, он почесал кнутовищем свою бурую от загара спину, зевнул, перекрестил рот и изрек: — Поясницу ломить што-то зачало, да и духотишша стоит… Знать-то, грозе быть…
Все понимают, что поясница у Антипки к изменению погоды болеть не может, разве поламывает ее оттого, что он целый день не слезает с лошади, что это он говорит лишь в подражание кому-то.
Его таратайку разгрузили давно, но Антипке больно уж хочется сообщить им что-то интересное, важное. Он борется сам с собой, решая, сказать ли это сейчас или приберечь до следующего приезда. Снова притворно зевнув, он не торопясь вытащил из гривы лошади запутавшуюся там травинку, смахнул с ее шеи присосавшегося паута, указал кнутом к подножию горы.
— Э-эвон там седня стражники подстрелили в малиннике человека. Поехали на телеге за ним.
А духота одолевает прииск и всю округу. Работается тяжело. Вершину горы Качканар заволокли черные тучи, и с той стороны доносится далекий раскатистый гром, будто кто перекатывает по ней пустые бочки.
В грозу
Громыхнуло уже подле прииска. И не успело солнце застелиться тучами, как с неба тяжело упали первые, пробные, капли дождя. Клубя и накатывая из-за гор низкие мрачные тучи, порывистый ветер туго пронесся по прииску, поднимая, завихряя пыль и песок. Громыхнуло сильнее и с треском. Синеву надвигающихся туч полосуют зигзагами молнии. Люди начали торопливо распрягать лошадей, побежали к поселку. Испуганно перекрестившись, Фекла взглянула на Павку.
— Заро́зно пойдем али ждать вас? Ишь какой морок идет с грозой! Как бы к балагану успеть…
— Ты иди, а мы тут управимся и одни, — разрешил ей Павка, торопясь разгрести оставшиеся на грохоте песок и галю. Прихватив кошелку с остатком провизии, Фекла неуклюже побежала к поселку, семеня босыми ногами и придерживая руками живот.
И вдруг надвигающийся лавиной навесной дождь окатил замешкавшихся на прииске. Громыхнуло несколько раз подряд с перекатами, с молниями… День померк. Стало тоскливо и жутко. Мимо Павки с Марфуткой пробежала, повизгивая, напуганная собачонка…
Марфутка помогла Павке снять с вашгерда и запруды тяжелый дощатый желоб, раскопать в запруде окно, чтобы не снесло ее во время дождя бурными сточными водами, сложить на место инструмент, и они тоже побежали к ближайшему балагану.
Они вбежали в первый же попавшийся балаган, набитый мокрыми, грязными, напуганными и растревоженными людьми. Люди стоят плотно, при каждом ударе грома и сиянии молнии жмутся друг к другу, крестятся и шепчут молитвы. В глубине балагана надрывно плачет младенец. Порой слышно, как там же в углу кто-то стонет и старчески кашляет с болью, надрывно.
Марфутка и Павка стоят у самого выхода. Он чувствует, как ее бьет озноб и как она вздрагивает при каждом ударе грома. Очень боится Марфутка грозы.
Сквозь сплошную завесу дождя Павка увидел подъехавшую к соседнему балагану телегу с накрытым рогожей человеческим телом. Увидев, как промокшие стражники торопливо шмыгнули в тот балаган, оставив под дождем лошадь, телегу и на ней труп человека.
— Видала? — Павка взглянул через плечо на Марфутку.
— Бог с тобой! Сумасшедший!
— Боишься, что ли? На него не будем глядеть. Послушаем только стражников…
— А о чем их, душегубов, слушать-то? О том, как они порешили этого человека? Не ходи к ним, Павлуша… Боюсь я…
— Кого боишься-то, его вон или их?
— Всего я, Павлуша, боюсь… — Марфутка горячее задышала в его спину, положила на плечо Павки холодные мокрые пальцы. — Страшно, Павлуша! Ой как страшно мне! Не ходи…
— Ладно, ты тут постой, я сбегаю. Скоро вернусь.
Павка решительно выскочил из балагана под дождь и побежал к балагану с подводой. Увидев его, привязанная к сосне лошадь жалобно заржала. Насмелясь, Марфутка тоже выбежала за Павкой.
В этом балагане народу меньше и сухо. К своему удивлению, Павка кроме стражников увидел тут и Петра Максимовича Горбунова. Смотритель прииска сидел у самого выхода за грубо сколоченным из колотых поленьев столом. На его голове кожаный новый картуз. Ворот шелковой кумачовой косоворотки расстегнут. Заметив вбежавших Павку с Марфуткой, Горбунов улыбнулся им.
— Молодцы! Видел, как беспокоились о казенном имуществе. Похвально и пример другим! А кое с кого я потом строго спрошу, ежели в их вашгердах размоет шлихи [7] и не окажется золота!
На столе перед Горбуновым мокрая котомка, суковатая палка и два небольших узелка из грязных тряпиц.
Пососав с наслаждением короткую трубочку, он не спеша развязал сыромятный ремешок на котомке, выложил на стол туесок, солонку-берестянку и раскисшую под дождем горбушку хлеба. В котомке больше ничего не оказалось.
Горбунов неторопливо придвинул к себе один из лежащих перед ним узелков и начал осторожно его развязывать. Когда он развернул тряпицу, все увидели на ней кучку намытого золота с тускло поблескивающими в ней самородками.
— Ого! Да тут однако ж, фунтов пять чистоганом!
Люди в удивлении сгрудились вокруг стола. Петр Максимович предостерегающе приподнял руку.
— Осади! Что, золота не видали? Обыкновенное, намывное, но не здешнее… Сдается мне, из Сибири…
В углу балагана тяжко вздохнула старуха:
— Ох уж энто золото, будь оно неладно! Сколь народу, скаженное, спровадило на тот свет! От лукавого оно, испытанием великим на землю послано…
— Наговоришь тут, старая, четвергов на неделю! — забасил стоявший подле стола черный, как жук, бородач в разорванной от ворота до пупа мокрой из мешковины рубахе. — Кабы от лукавого было, а не от бога, то бы и нам, грешникам, маненечко перепадало. А то вишь вон как оборачивается…
Мужик многозначительно кивнул на телегу.
— О том же и я, дитятко, ба́ю[8]. Ежели до энтого золоту наша жизнь хоть маленько сносной была, то теперича совсем уж никудышной стала, — тяжко вздохнула старуха. — Изъездили народ, поискожилили. Ро́бят люди на них, ро́бят, а им все мало…
— Ты тут, бабка, однако ж, права. Хозяева-то шибко охочи по денежной части, сколь хошь этого добра подавай, а все одно ему место находят! А ежели наш брат, мужик, сам себе што отпущено богом позволит, то с ним ишь вон как…
Бородач кивнул опять головой в сторону телеги и, встретив строгий взгляд смотрителя прииска, прикусил язык, даже рот прикрыл короткими толстыми пальцами, втянул голову в плечи, словно ожидая удара.
— Ты, Пантелей, эти разговорчики прекрати. Не забывайся…
И тут же, было, с обеих сторон к Пантелею подступили стражники, но Горбунов, задумчиво разгребая по тряпице пальцем золото, приподнял бровь.
— Не трожьте его. А ты в другой раз язык-то не распускай. Он у тебя давно плетей просит!
Завязав в узелок тряпицу с золотом, Горбунов принялся за другую.
А гроза не унимается: то разразится сухим трескучим до резкости громом, будто норовит разнести в щепу лес, балаганы, вселить в людей животный страх перед всевышним, то ударяет придавленно-глухо, раскатисто, с отголосками. И молнии то вспыхивают ослепительно ярко, до рези, после чего в глазах у людей долго еще стоит непроглядная муть, то начинают сверкать оранжево, как бы с затаенной угрозой, и тогда даже стражники спешат оградить себя крестным знамением, норовят заслониться от нее чужими спинами…
И не успел Петр Максимович развязать второй узелок, как опять взвоссияла молния, и из-под его рук, между пальцев, полоснуло яркое разноцветье необычных лучей. Людям показалось, что в стол и по рукам смотрителя ударила необычная молния, и они шарахнулись от него в стороны. Да и сам Горбунов от неожиданности руки отдернул, шатнулся прочь. Но тут же все понял и весело загоготал.
В наступившем полумраке пучки разноцветных лучей, затухая, все еще как бы озаряют сиянием балаган.
Пораженный увиденным, Павка так и подался к столу. Горбунов ухватил его за руку, усадил подле себя.
— Молодец, Павлуха, первым из всех сообразил! Не робей, а лучше гляди вот на них и запоминай, что я скажу, показывать тебе буду. Это что? — Горбунов взял с тряпицы кристалл и вытянул с ним руку. — А? Не видывал?
За балаганом вспыхнула молния — и кристалл в пальцах Горбунова сверкнул, засиял фиолетовым огнем.
— Это аметист! Расчудеснейший самоцвет! Знатный камушек! Больших денег стоит!
Смелея, но осторожно люди и стражники начали придвигаться к столу. Горбунов недовольно повел рукой.
— Вот тут стойте, а проход не загораживать! Камням этим необходим свет!
Он опять повернулся к Павке и покровительственно похлопал его по плечу.
— Подержать, поди, хочется? Ну на, подержи, полюбуйся.
Павка с трепетом принял из пальцев смотрителя холодный и скользкий кристалл величиной с головку воробья и начал рассматривать словно на станке отшлифованные грани, будто специально под углом заточенную рукой отменного гранильщика головку. И никак поверить не может, что сама природа так искусно огранила камень, запустила внутрь его сгусток фиолетового дыма.
С Марфутки страх словно рукой сняло. Она с большим интересом смотрит на вспыхивающий при ярких молниях фиолетовым светом в Павкиных пальцах кристалл. Даже пододвинулась поближе к столу.
— Сдается мне, Паша, что этот аметист уральский, наш, с Мурзинских копей. Давно его роют там. Бывает он не только таким, но и красным, и зелено-синего цвета. А название свое он получил от греческого слова «аметиустос», что в переводе на русский означает быть пьяным…
Название камня понравилось стражникам и мужикам. Они заулыбались. Кто-то многозначительно кашлянул в кулак. Пантелей приободрился, хотел что-то сказать, но воздержался и только засунул в рот клок бороды, пожевал.
— Я ведь баю вам, што от беса они и золото энто… — тяжко вздохнула лишь бабка Оксинья.
Горбунов взял с тряпицы другой кристаллик, потоньше, но длинный.
— А теперь погляди, что это за диковина…
Кристалл в его пальцах замерцал то вспыхивающим, то угасающим малиновым угольком.
— О-о, ничего, подходящий! Шерл это, Павел, а по-нашенски, по-уральскому, прозывается турмалином. Ох и хорош же, лихоманка его забери! Такой диковинной чистоты и игры я еще не встречал! Превеликая редкость! За рубин может сойти!
Люди с изумлением глядят на самоцветы. Павке не верится, что это все наяву.
А Горбунов наблюдает за ним с нескрываемым удовольствием, улыбается покровительственно.
— Потянуло, гляжу, тебя к камню-то? А? Давно заприметил я в тебе жилку этакую в понятии камней, коя не каждому от роду дана. А у тебя, Павел, есть она, есть! Оттого и прилаживаю тебя исподволь к камнезнатному мастерству. А мастерство это особое, требует верного и острого глаза, превеликого любознательства и редчайшего душевного дарования. Камень любит того, кто понимает и ценит его не за стоимость, а за красоту! Ты думаешь, не приметил я, как ты первым к столу-то шатнулся? Это ведь не ты, а душа твоя к камню потянулась!.. Давай-ка сюда аметист, положим на место его, а пока подержи вот турмалин, разгляди его хорошенько и запомни, сколько граней на нем, какие они, форму головки запомни и все прочее. Они ведь разные все, одинаковых не найдешь!
Горбунов стукнул по краю стола трубочкой, выбивая из нее пепел, не торопясь начал заряжать ее из железной коробочки табаком. Один из стражников угодливо застучал по кремню кресалом.
— А откуда же, Петр Максимович, они в земле-то берутся? — осмелев, спросил Павка, разглядывая кристалл. — Может, они появляются в том месте, куда молния ударяет?
Горбунов ласково посмотрел на него улыбающимися зелеными глазами, раскурил от шаявшего в пальцах стражника трута трубку. Задумчиво гмыкнул.
— Нет, Павел, молния тут ни при чем. Ну как тебе объяснить? Чтобы это познать, надобно целую науку пройти. Читать-то хоть дед тебя научил?
— Научил. И этот турмалин из нашенских мест?
Горбунов призадумался.
— Может, и наш, а может, из Сибири, с реки Токовой…
Наблюдая за Павкой и Горбуновым, Пантелей осуждающе покачал головой.
— А ты, паря, гляди, кабы камушки-то энти с тобой не сотворили беды…
— Отчего так? — добродушно полюбопытствовал Горбунов.
— Да ведь всяко бывает… — поскреб Пантелей пятерней за ухом. Он искоса глянул в сторону телеги, как-то судорожно вздохнул и потом, осмелев, спросил уже о другом: — Лучше скажи-кось ты нам, Петро Максимыч, пошто же это нам, занятым на казенных работах, не дают пропита́л? Сам ведь знашь, своих-то припасов не густо у нас, и видишь, как нам тут на золоте-то чертомелить приходится… Заводским эвон положено, на чужих приисках получают… Неладно ведь как-то выходит…
Горбунов пыхнул табачным дымом. Кто-то за спиной Пантелея поддержал своего товарища.
— Верно, господин смотритель, он говорит. Робим мы справно, не хуже и не легче, чем у печи огневой, а пропитал не дают… Мы ведь тоже и есть хотим, и израбливаемся, и всякая там другая протчая…
Горбунов согласно кивнул головой.
— На чужих промыслах добытчикам золота пропитал выдают, это верно. Приедет хозяин вот — спрошу.
— Сделай милость, отец наш родной, науми́ его! — обрадовался Пантелей. — Сам ведь видишь, как мы тут перемогамся, хозяйство забросили…
Ничего не ответив, Петр Максимович достал из тряпицы новый кристалл, начал задумчиво разглядывать.
— А ты, Паша, меньше слушай о камнях и их искателях байки всякие. Народ темный у нас, верит всему. Минералогия — это увлекательная, интересная и притягательная наука. Камень — как и человек, может много поведать о себе умному, знающему человеку… Есть у меня давнишний знакомец, учитель мой, Яков Васильевич Коковин. Так и он родом из крепостных. А вот через такие камушки самоцветные стал большим человеком, теперь командир Екатеринбургской гранильной фабрики, имеет ученые степени, жалован орденами! Еще в молодости отлично закончил Санкт-Петербургскую академию художеств, да еще и в чужих землях учился.
Даже стражники от услышанного разинули в удивлении рты. Нет, не то что-то говорит смотритель прииска! Да где ж это видано, чтоб крепостной — и в такие начальники выбился, столько наук превзошел?!
— Погоди, приедет вот граф, буду просить за тебя…
— А кто это такой, командир-то гранильной фабрики? Неужто из крепостных? Может, ты с кем спутал? — подозрительно ухмыльнувшись, опять поскреб за ухом пятерней Пантелей.
— Нет, не спутал. Ко всему, он и главный спец по огранке камней! — с гордостью ответил Горбунов. — Под его руководством на этой фабрике делают не только вазы из камня размером выше тебя, весом под тыщу пудов, но и гранят мельчайшие камешки с мошку величиной, под названием «искра».
Петр Максимович взял у Павки из пальцев турмалин, показал его всем:
— Это разве у камня блеск и игра? Вот когда его на той фабрике огранят да шлифанут как надлежит — вот тогда-то он и покажет себя по-настоящему! И цены тогда не будет ему! Не каждому графу или барону бывают доступны некоторые из них…
Гроза удаляется. Дождь успокоился, идет мелконький, с перерывами. Урчание грома доносится со стороны. Завыглядывало солнышко. Горбунов посмотрел на стражников недовольно:
— Как же это вы оплошали? Почему не взяли живым?
— Дак чо бы мы смогли с ним иначе поделать? Лес кругом, глухомань! Попробуй там излови!
— «Попробуй излови»! — недовольно повторил Горбунов. — Ожирели, канальи, на хозяйских харчах да от безделья! Конечно, куда вам живого человека поймать! Куда легче убить его! Эти камни он, может, на нашей заводской даче сыскал? Да знаете ли вы, что они дороже всякого золота?! Погодите вот, приедет граф, так он с вас за это убийство шкуры-то спустит… Я ему все доложу.
— Дак мы-то тут при чем?! Пожалей, Петро Максимович! По всему видать, из беглых, орёлко он, настоящий варнак! От одного его виду нас в жар бросило! Кричим ему «стой!», «стрелять будем!», а он, как козел, только пятки мельтешат…
— Дармоеды! Нахлебники! Ожиревшие свиньи! Вам бы только мужиков да заводских кнутами пороть! Награды ждали, поди, за него? Вот будет «награда» от графа вам! Разве от этого многое выпытаешь? — Горбунов с сожалением махнул рукой на лежащие перед ним на столе узелки, вещи. — Ладно уж, ответ не передо мной, перед хозяином держать будете. Не признали его? Залетный или наш, заводской?
Стоят оба стражника, как побитые, топчутся. Второй из них, что постарше и ростом повыше, запустил пятерню в мокрую еще бороду.
— А кто его знат? Но сдается мне, навроде бы он больно уж на Мишку Кота по обличью-то смахиват, с печи огневой…
— Кто такой? Почему я не слышал? Давно сбег?
— Давненько… Годов эдак семь, может, поболе… С мастером не поладили. Тот Мишку-то в рыло, а Мишка-то, стало быть, того в ишшо не остывший чугун…
— Ладно. Свезете его на завод к опознанию! А золото и самоцветы я лично его светлости преподнесу. Вот радости-то у него будет! Больно уж кстати…
Завязав тряпицу с самоцветами в узелок, Горбунов указал стражникам на палку.
— И бадог этот в контору доставьте. У них, у бродячих-то, привычка есть потайные заметы на чем-нибудь делать…
Над прииском снова засияло чистое солнце. Тучи прошли. Зелень вокруг яркая-яркая, а песок в логу так и искрится, радует глаз своей яичною желтизной. Ветер утихомирился. Но издали еще докатывается ворчливо и глухо гром, да небо в той стороне освещается всполохами расплывчатых молний.
— Восьподи Иисусе, знать-то, прошло! — шумно вздохнула в углу балагана бабка Оксинья и, с кряхтеньем поднявшись с чурбана, зашлепала босыми ногами по утрамбованному земляному полу. На вид ей под сто. Сгорбленная, морщинистая, с ввалившимся беззубым ртом, она подошла к выходу, перекрестилась: — Любо-то стало как! Ну и слава Христу…
— Теперя, после эдакого-то дожжа, все побуровит в рост: и трава-мурава, и хлебец-кормилец наш, огурчики, в лесу грибки! Теперя уж с голоду не помрем! — забасил Пантелей, тоже выходя из балагана.
Пантелей подошел к телеге, приподнял мокрую рогожу и посмотрел на убитого. Лицо его передернулось. Сощурив глаза, он опустил угол рогожи обратно, перекрестился. Увидев вышедшего из балагана Павку, ухватив его за руку, начал шептать:
— Эх ты, дурна башка! Пошто себя смотрителю-то оказал? Да знаешь ли, кака работа на той фабрике? Хуже, чем на огневой печи! Знавал я одного оттудова, так он заживо сгнил… Вре́дна работа тамо, пять-шесть годов — и люди начинают кровью харкать, исходят кашлем. Каменна-то пыль в нутре человека хуже всякой болезни! А ты… Дурна у тя, парень, башка, вот те пра! Подумал бы сам, для чо это тебе? Вот доложит он барину, и тот зашлет тебя на гранилку, али ишшо подале, в шахту камни энти копать. И только родны-то тебя видали! Муторно тут у нас, верно, а на чужбине-то, паря, ишшо тошней. Верь мне! Туто ты хоть промежду своих… — Пантелей приметил краем глаза вышедшего смотрителя со стражниками и смолк…
Стражники подошли к лошади с телегой, начали ее отвязывать. Горбунов стоит подле балагана и осматривает прииск, по которому начал рассыпаться народ. Где-то в глубине леса тоскливо закуковала кукушка.
Диковина
Небо голубеет умыто и ласково. От лесов тянет настоем трав и хвои. Земля дышит прохладой. Лес по склонам гор окрасился всеми тонами влажной зелени, а в тех местах, где еще сохранились от вырубки ели, он кажется подернутым серебристою дымкой. Пролетая над прииском, самодовольно каркнул ворон.
Павка с Марфуткой быстро навели на своем участке порядок: засыпали в запруде промоину, установили на место желоб для подачи из запруды воды на грохот и сели полдничать, поджидая, когда в ней поднимется вода до необходимого уровня.
Придерживая живот, осторожно ступая, подошла Фекла и тоже, присев подле них, начала развязывать принесенную назад кошелку с провизией.
Подъехал с песком Антипка, сообщил новость:
— У Сана Косого всю вашгерду громом вдребезги разнесло! Единой щепочки не оставило!
К нему подошла Марфутка и нежно погладила его по коленке.
— Ну и умница же ты у нас, Антипушко! И все-то наперед старших узнаешь! Да как же они теперь без вашгерды-то?
— Будут новую ладить.
— Давай, братик мой, пособлю тебе слезть. Идем полдничать.
Антипка, входя в свою роль, нахмурился, отдернул ногу.
— Ишь хватилася! Я дома был, утрешню кашу поел. А вам всем хлеб да соль! Я ведь не ты, по чужим балаганам шататься не буду. — Антипка с каким-то презрением кивнул головой в сторону Павки.
Марфутка в удивлении всплеснула руками.
— Да как же так, братец ты мой! Много ль каши-то в чугуне оставалось? А у меня тут тебе припасен хлебца кусочек, зеленый лучок…
Антипка по-отцовски скособочил бровь.
— Ну, девка, и бестолкова же ты! Тебе сказано — полдничал я! — он деловито разобрал повод. — Выгружайте, а то недосуг. Дело-то ждать не может! И так из-за грозы без намыва будем…
Пришлось Павке с Марфуткой отложить еду и взяться за лопаты. Антипкина таратайка быстро опустела. Но Антипка не отъезжал, делая вид, что заприметил что-то неладное с хомутом.
— А орёлка-то убиенного опознали. С нашинского заводу он — Мишкой Котом кликался. Н-но-о, удалой-вороной, будя стоять-то! Не наробились мы с тобой, а уж с бабами болтовню развели!
Наскоро перекусив, дружно принялись за работу: Марфутка, как всегда, взялась за лопату, а Павка с Феклой за скребки. Из желоба потекла мутной струйкой не устоявшаяся еще в запруде вода.
— Мывкой стала порода-то! — улыбнулась Фекла.
Щеки ее разрумянились, на земле она стоит твердо. Легче стало ей после грозы.
Мокрые песок, глина, земля размываются хорошо и податливо, только успевай подкидывать Марфутка на грохот. Обмытые камни и галя просматриваются всеми своими цветами, прожилочками, оттенками. Но рассматривать их Павке теперь недосуг, и он только мимолетно задерживает внимание на отдельных камнях, мгновенно решая, положить ли заинтересовавшие к вашгерду или отшвырнуть в сторону. Размываемый песок искрится, поблескивает многочисленными обломками кварца. Обманчиво сверкает желтизной великое множество чешуек слюды — в первое время Павка с Марфуткой были убеждены, что это малые золотиночки. Они даже пытались вылавливать их, но из этой затеи ничего не получилось. Павка уже привык и не обращает на ложный искряк никакого внимания. А вот увиденные сегодня самоцветы Мишки Кота засели в его голову накрепко. Вот бы засверкали они, засияли под солнечными лучами! Павка даже зажмурил на миг глаза, воображая, как заиграли бы фиолетово, огненно, ярко-красно те камушки…
Работает Павка, а сам думает о самоцветах и сожалеет, что несправедливо все же раскладывает свои богатства земля, наделяя одни места золотом, другие самоцветами, третьи железной или медной рудой. А почему бы не собрать это все хотя бы вот в этих местах! И вдруг Павка вздрогнул, окаменел. Он уставился в то место под струйкой воды, куда Марфутка только что бросила лопату песку. Ему показалось, что там ослепительно сверкнула многоцветием звездочка.
— Погоди! — крикнул он Марфутке. — И ты, тетка Фекла, тоже поме́шкай!
Они с недоумением уставились на Павку. А он, боясь шелохнуться, пристально вглядывается в таявшую у него на глазах под струйкой воды горку песка и почему-то уверен, что сверкнувшая звездочка не плод его воображения. Он осторожно тронул в том месте песок скребком и снова ясно увидел радужное сияние. Маленькая песчинка словно взрывается красными, синими, фиолетовыми, оранжевыми лучами!
Лоб Павки покрылся крупным потом. Боясь шелохнуться, моргнуть, он наблюдает за мерцающей диковиной…
— Па-аш, что тамока? — шепотом спросила Марфутка, тоже заглядывая сбоку на грохот.
— Молчи!
— Осподи, огради и помилуй! Час от часу не легше! — закрестилась Фекла, выронив скребок и с испугом взирая на Павку.
Павка опять потерял из виду диковину, но чуть шевельнул скребком песок — и вот она снова пронзает мутную воду тонюсенькими пучками радужных лучиков. Диво какое-то, диво!
Павка чуть качнулся в сторону — и нет в песке сияния, исчезло. Чуть наклонился обратно — и вот оно снова так и переливается, чарует, не дает оторвать от него глаз…
Марфутка подумала, что Павка их разыгрывает. Ну что же такое особенное можно увидеть на грохоте? Песок как песок… Она поправила на голове платок, подставила под желоб ладони лодочкой и, набрав в них воды, плеснула Павке на спину. Но он, не чувствуя и не замечая ничего вокруг, приподнял руку, начал тянуться пальцами к той звездочке, приговаривая:
— Не-ет, шали-ишь, это не блазнится![9] Только, чур, будь на месте, не сгинь! Я-то уж как-нибудь приловчусь и выловлю тебя! Только на месте будь, на одном месте…
Глаза Феклы в ужасе расширились. Она, словно очнувшись от оцепенения, вдруг сорвала с головы платок и, размахивая им, побежала по прииску.
— Люу-у-ди-и! Пособи-и-те-е! Па-ашка-а рехну-у-улся-а! По-соби-и-те-е!
Ее услышали. На соседних вашгердах побросали работу. Не доехавший до своих Захарка с перепугу повернул назад груженную песком таратайку и погнал ее к отвалам.
Прижав к груди руки, с затаенным дыханием Марфутка в ужасе наблюдает, как Павка, выцеливая что-то пальцами на грохоте, продолжает бормотать несуразицу:
— Вот она, вот… Та-ак… Не шевелись! Еще… Еще чуть-чуть… Спокойней… Спокойней… Спойма-ал!!! — вдруг закричал он и запрыгал в диком восторге, размахивая зажатыми в щепоть пальцами. — Спойма-ал!!! Люу-у-ди-и! Вот она, тут у меня! Холодненькая, скользкая! Спойма-ал!!!
Марфутка и другие знают, что самородное золото здесь не водится, а существует лишь в виде тонюсеньких, маленьких, как пылинка, чешуечек, которые невозможно удержать в пальцах. Поэтому и на местных приисках надзор за промывальщиками никудышный — украсть золото во время промывки практически невозможно. Иное дело, когда «снимают головку», то есть доводят его, отделяют от шлихов. Тут-то уж непременно подле доводчика охрана, и при оружии. Эти же стражники возят при себе в тарантасе опечатанные железные кружки, в которые и ссыпается намытое артелями золото…
Марфутка подступила к прыгающему и орущему Павке, заглянула в его сияющие глаза.
— Никак, ты, Пашенька, самородочек выловил?
Павка вдруг остановился, положил осторожно на ладонь полупрозрачный небольшой камешек.
— Во, гляди! Какое диво я споймал!
Марфутка начала рассматривать лежащий на его ладони светленький ребристый камушек величиной с небольшую горошину.
Их окружили сбежавшиеся люди, взирают на Павку с испугом, с сочувствием, с недоумением.
— Ну и что? Какое же это диво? — не может понять Марфутка.
— Да как это какое?! Ты погляди!
Павка отвел ладонь, и вдруг эта горошина брызнула во все стороны ослепительным разноцветьем лучей, заиграла ими. Марфутка так и присела.
— Ой, мамонька-а!!!
— Диво! Настоящее диво! И откуда оно только взялось? Неужто с неба свалилось во время грозы?! — восхищается Павка, то подставляя свою находку под солнце, то загораживая ее от него ладонью. Дикий восторг все еще не покидает Павку.
— Во, глядите все, какое чудо в песке споймал! Во, заслоняю его рукой от солнушка — и нет ничего, простая хрусталинка! А теперь поглядите, как солнушко начинает светить на нее — она так и сият, так и сият!
А Фекла все еще топчется в испуге по ту сторону вашгерда, испуганно шарит что-то на своей груди, бормочет не то заклинания, не то молитвы и, обалдевшая, ничего не понимает.
Раздвинув людей, к Павке шагнул Пантелей. Наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, он осмотрел на ладони у Павки камешек в тени и под солнцем.
— Ну-кося, Павша, дай разглядеть…
Павка сжал ладонь в кулак.
— В руки не дам. А так гляди.
— Ишь ты-ы! Чо боишься? Куды она денется?
— Уронишь в песок, и попробуй потом найди ее там!
— Ладно, показывай так… — согласился Пантелей.
Их обступили плотным кольцом. Пантелей пользуется среди своих людей неоспоримым авторитетом в житейских и других всевозможных делах. Потому и молчат все, ждут, что скажет бывалый об этой диковине.
Павка разжал кулак и подставил кристаллик под солнечные лучи. Тот вспыхнул лучистым сиянием, живою звездочкой, замерцал разноцветно.
— А ну, Павша, поверни-ко чуток, я его с другой стороны погляжу… Та-ак… А ну-кося, переверни ее, верхом вниз… Сияет ведь и эдак, холера неведома. Чудно! Ну, а ежели ишшо другой стороной повернуть…
Пантелей то приседает, разглядывая кристалл, то рассматривает его сверху, то оглядывает ладонь Павки снизу, опять начинает обозревать его с разных сторон…
Появился Пантелей в здешних краях лет двадцать назад. Откуда появился, какого он роду-племени, сколько ему лет, как его нарекли при рождении — не знает никто. Назвался он Пантелеем Копытовым — и все тут. А на заводе и по сю пору, чего греха таить, принимают и беглых, и странников, лишь бы работали. Выяснять личность пришельца не стали, записали в журнал, как назвал он себя, и поставили к самой тяжелой работе — на разлив чугуна. Но свой строптивый, неуживчивый характер Пантелей проявил сразу же. Перевели его вскоре на другую работу, на третью, и везде он спорил с мастерами, вел себя независимо. Кончилось тем, что мастера брать его отказались, и начальство предложило ему заняться сельским хозяйством или же смолокурением, а при желании и углежжением. Облюбовал тогда почему-то Пантелей тихую деревушку Калининскую, с помощью местных мужиков построил себе избушку в ней, сошелся с местной солдатской вдовой и даже ухитрился каким-то образом обзавестись лошадью.
— А ну-кося, Павша, заслони опять ладошкой от солнушка… Эдак вот его поверни, эдак вот… Та-ак, стало быть… Задача-а… А теперь освети…
Пантелей нагнулся, поднял из отобранной у вашгерда Павкой кучки камней обломок горного хрусталя:
— … А ну, черкани-ко им вот тут по площадочке… Да не так, ребрышком норови али уголком… Та-ак, царапат — тверже, стало быть… Однем словом, Павлуха, даже не знаю, чо тебе и сказать… Всяко место видал, а вот этакое…
Пантелей опять запустил пятерню в бородищу, начал скрести подбородок в задумчивости и неопределенности.
Народ сгрудился вокруг еще плотней. Загалдел. Оттеснили Марфутку с, Феклой, Тоже разглядывают люди находку Павки с возросшим любопытством и интересом.
— …Н-но, ежели опять же вот с другой стороны поглядеть, меня опять же сумленье берет… — продолжает рассуждать как бы сам с собой Пантелей. — У каждого самоцвета есть только свой собский цвет, все как положено на своем месте… А вот энту диковину как понять? Мишка Кот ей бы зараз како положено место отвел. По камням-то он, царство ему небесно, был ой какой жох.
— Може, энто обнаковенный хрусталь? — спросил кто-то из окружающих.
Пантелей поглядел в ту сторону и нахмурился.
— Ну-ну, поучи! Много знашь, как вижу — не просыпь! — Он тут же повернулся к Павке, еще раз пристально оглядел находку прищуренными глазами. — Поторопился ты, дурна башка, народу ее показать… Опрежь со мной посоветовался бы… Да чо теперь сделашь? Жди. Приедет вот к доводке смотритель — ему и показывай…
И тут вдруг опять закричала-запричитала Фекла, начала руками размахивать:
— Ну чо вы не робите?! Ополоумели, чо ли?! Со всего прииска набежали суда! Робить надо! Кто за нас урок-то будет сполнять? А ты, Пашка, преставленье тут не устраивай! То гроза робить не дала, то собралися и забаву устроили, а золото-то потом с кого будут требовать?
— Не кудахтай, дура глупая! — покосился на нее Пантелей. — С тебя-то какой спрос? Ну да ладно, давай, народ, по своим местам. А то уж эвон и стражник сюда ковылят. Ты же, Павша, гляди, диковину энту не потеряй. С тебя теперича за нее в случае чего спросят строго…
Люди начали расходиться. Павка положил кристаллик за щеку — тут он сохранится надежнее…
Доводка
Солнце уже склонилось к закату. Ветерок приутих, успокоился. Стало опять душно и жарко. Людей и лошадей одолевают усталость и пауты. Пауты липнут, кусают больно и до крови. Лес вокруг стал сумрачным, краски его — расплывчатыми. Зазвенели в воздухе комары. Затолклась столбом, сбившись стаями, мошкара. Зарезвились, вылавливая добычу на лету, ласточки. Оранжевыми мазками загуляли по небу отблески начинающегося заката, и вскоре заполыхала, как при огромном лесном пожаре по ту сторону гор, вечерняя заря. Тягучий, изнуряющий день подходит к концу. От балаганов доносится мычание коров, зовущих хозяек на дойку… Люди работают молча и вяло.
Теперь уже все ждут появления на прииске доводчика и с ним окончания рабочего дня.
Приехал с песком Антипка, сообщил очередную новость: только что какая-то брюхатая баба у дальнего вашгерда рожать начала, так их подвозчик помчался на таратайке за повитухой бабкой Оксиньей.
Это уже третий ребенок рождается прямо на прииске!
— Вот и я, может, так жо тут разрожуся… — тяжко вздохнула Фекла, услышав нерадостную весть от Антипки.
— Эвон Савва-доводчик пожаловал! — вдруг радостно закричал Антипка, указывая кнутом на вынырнувший из леса знакомый всем тарантас.
Фекла и Марфутка с облегчением вздохнули. Все знают, что тарантас остановится сейчас у крайнего от поселка вашгерда и Савва приступит там к своему делу. Тем, первым у дороги, постоянно фартит: с них начинают доводку золота, и при этом они первыми кончают работу. А порядки на прииске установлены строгие: никто не смеет прекратить работ до тех пор, пока к их вашгерду не подъедут доводчик со стражниками…
Марфутка поглядывает на Павку уже без былого задора, устало, со скрытой в глубине ее больших темных глаз печалью, даже с какой-то тревогой. Нелегко целый день бросать лопатой на грохот песок — его ведь подвозят две таратайки! А Фекла опять то и дело хватается за живот, стонет, мается, с трудом толкает скребок по грохоту туда-сюда, механически, и кажется, что бессмысленно. Лицо ее еще больше сморщилось, посерело.
К концу рабочего дня на Захарку с Антипкой лучше и не смотреть. У Захарки от невысыхающих слез под глазами грязные полосы. Он до того нарабатывается, что перестает канючить у матери хлеб, сидит на лошади нахохлившись, квелый, полусонный и только изредка отмахивает от себя комаров пучком березовых веток. Антипка держится пободрее. Подражание старшим вошло у него в привычку, потому и выдерживает до конца степенность: то примется отчитывать споткнувшуюся лошадь, то вдруг запоет песню… А сегодня днем, вскоре после грозы, Антипка привез очередную таратайку песку и, пока ее разгружали, услышал донесшийся из леса голос кукушки. Малец на какое-то время позабыл о своей роли взрослого, по-детски вдруг захлопал в ладоши:
— Марфа, слышь, кокушка закокуковала! Загадывай скорей, сколь лет накокует тебе! — но тут же, увидев в глазах сестры и на лице Павки удивление от его детской радости, насупился, почесал кнутовищем себе спину и равнодушно изрек: — Не пора кокуковать ей теперь. Это она по Мишке Коту затосковала…
Вот он снова с песком пожаловал. Видно издали, как дремлет, покачивается на спине лошади. А та свой вашгерд знает, и не надо управлять ею — сама довезет. Антипка очнулся, когда лошадь остановилась сама на том месте, где ее разгружают, и, желая показать, что все в порядке, что он и не дремал вовсе, а глубоко задумался, потер кулаком нос и лениво сообщил:
— Эвон Савва начал доводку уж у Митрия Косолапова. Скоро, однако же, и наш наступит черед…
— Скоро, Антипушко, маленько осталося, потерпи! — подбодрила его Марфутка, обласкав взглядом.
Антипка уловил в ее словах сочувствие. Он попытался насупиться, скособочить бровь, что-то ответить сестре, но… уголки губ его неожиданно поползли книзу, на глазах навернулись слезинки, и он отвернулся.
Павка с Марфуткой сделали вид, что ничего не заметили. Когда они закончили выгрузку песка, Антипка уже сидел на лошади, как будто ничего не случилось, и вглядывался вдаль из-под ладони.
— Эвон стражники повели бить плетями Фильку Глухаря и Сеньку Рыжего!
Павка с Марфуткой тоже начали смотреть в ту сторону и увидели, как стражники ведут двух мужиков к той телеге, на которой они привезли в грозу убитого Мишку Кота.
— За что же их? — с сочувствием спросила Марфутка.
— За дело! Пошто они плохо обязанности артельных сполняют? Все бросили перед грозой и сухонькими домой заявились. Вот золото-то у них через желоб водой и смыло дочиста. Савва глянул — а в вашгерде-то чисто. Смотритель им по сотне плетей и велел отсчитать.
Антипка говорит о наказании плетьми мужиков как о чем-то обычном. Да это, пожалуй, и так. Горбунов зря никогда не наказывает людей. Но если уж кто провинился — пощады не жди.
— Я бы на месте смотрителя Пашке вон тоже прописал бы плетей пятьдесят… — вдруг заявил Антипка, не глядя на Павку.
— А его за что? — удивилась Марфутка. — Смотритель нас с ним даже похвалил за радение. Молодцы, говорит, вся ваша артель молодцы! Я ведь, говорит, вижу все: особенно у вас подвозчики молодцы…
— Будет врать-то! — недовольно одернул сестру Антипка.
— Ну, немножко, может, не так, но он и тебя похвалил вместе с Захаркой. Так за что бы ты Пашу-то наказал?
— А за то, штобы на тебя поменьше заглядывал!
— Глупости ты говоришь, — Марфутку даже в жар бросило. — Откуда ты только все это берешь? И как тебе, Антипушка, не стыдно… На, вот, перекуси-ко, — Марфутка торопливо достала оставленный ему с обеда кусочек хлеба. — Может, посолить?
Но Антипка оттолкнул руку сестры с протянутым хлебом. Его глаза гневно сверкнули.
— Ты чо делашь?! Сызнова обделяшь себя? Хлеб-то надобно есть тебе, штоб потом ребят здоровых рожать. А мы с тятькой, сама знашь, мужики, и щи да каша — вот еда наша. Ты у меня гляди, штоб в последний раз! И никогда боле мне свой кусок не подсовывай. Я ведь не роблю лопатой-то.
Обиженно отвернувшись от сестры, Антипка уже начал разворачивать лошадь, но вдруг натянул поводья, хлопнул усевшегося на его шею комара и сообщил:
— У Харитона Каши вон ныне добрый намыв. Натака́лися они сызнова на гнездушко — намыли пятнадцать золотников! Савва их артель похвалил!
Марфутка и Павка улыбнулись. Бросив на грохот несколько лопат песку, она устало посмотрела на Антипку.
— Им постоянно фартит. Но ничего, кормилец, и нашей артели тоже, дай того бог, когда-нибудь счастье-то улыбнется!
— Разевай шире рот! Кабы прямо из выработки, то могло бы, а то на перемывке-то не больно разбежишься… — рассудительно ответил Антипка, растирая для бодрости свои уши. — Намеднись у Ивашки Косорылова вот был съём так съём: зараз полсотни золотников! Они бродячую жилу, наверно, пересекли…
Антипка не знает счета и не представляет себе, что такое есть золотник, но на услышанное у него память цепкая, держит в голове долго.
Приисковая работа изматывает даже крепких здоровых мужиков. Норма выработки установлена твердая — перелопатить, перевезти и промыть на каждый вашгерд по сто сажённых кубов[10] песку. Правда, теперь, когда на прииске остались одни почти старики, малолетние, худосильные да бесхозные, норм таких не придерживаются, зато работают от зари до зари.
Вашгерд Павкиной артели находится посреди прииска, и отсюда хорошо видно, как тарантас, задерживаясь подле промывальных станков хоть медленно, но приближается. Однако сегодня у Павки забота и думы не о намыве артелкой золота и не об удачах других. Не думает он и о своем дедушке, о сытном ужине, об уехавших на покос отце с матерью, а неотступно волнует его лежащий за щекой камушек. Вдруг да Горбунов отнимет его? От такой мысли парню становится грустно. У графа-то и так, поди, всяких каменьев не счесть, от намытого их трудом золота сундуки ломятся! Неужели он и на его, Павкину, находку позарится? Ишь какая она необыкновенная… Графу сегодня и без нее за спасибо живешь какие самоцветы достались от Мишки Кота! Вон какие пригожие да большие! У каждого свой цвет и своя игра! Не чета, поди, они этой крохотулечке…
Павка воткнул в землю лопату, достал из-за щеки свою находку, положил ее на ладонь. Посмотрела на его ладонь и Марфутка. Без солнца камушек посерел, ни сияния у него и ни блеска. Мутный какой-то и невзрачненький: хоть сейчас его выкинь в песок, хоть погоди. Но Павка знает уже, что стоит упасть на его камушек солнечному лучу, как находка сразу же преобразится, заиграет диковинными лучами…
А вон и сам Горбунов на прииск пожаловал. Он ездит в лакированном тарантасе, запряженном парой сытых вороных лошадей. Лошади у него не мужицкие, да и кучер важнющий такой, что и близко не подходи! На людей смотрит свысока, бородищу вырастил окладистую, во всю грудь, словно лопата совковая. Наконец тарантас с охранниками подъехал к Павкиному вашгерду. Подошел степенный съемщик золота Савва. В руках у него маленькая деревянная лопаточка с волосяной щеткой.
— Савве Селиверстычу наше почтенье! — низко поклонился ему Павка.
Молча поклонились съемщику и Фекла с Марфуткой.
Кивнув слегка в ответ, доводчик деловито оглядел вашгерд, указал глазами Павке на желоб, чтобы тот поубавил подачу на грохот воды, наклонился над вашгердом, осмотрел площадку, присел на корточки.
Свое дело Савва Селиверстович знает до тонкости и всегда работает молча. Даже на приветствия людей отвечает лишь кивком головы. Но на прииске его уважают за честность и добропорядочность. От него в немалой степени зависит намыв золота: чуть поспешит или неаккуратно отнесется к доводке — и не мало золотиночек унесет водой обратно в пески.
На вид Савве Селиверстовичу под шестьдесят. Его бороденка схожа с вышорканной мочалкой, и телом он хлипковат, выглядит нездоровым. Может, так оно и есть, нездоров человек? Прежде чем стать доводчиком, он немало перелопатил песков, и не на одном прииске. Есть слушок, что граф купил его как специалиста по золоту у Демидовых за огромные деньги. Другие же рассказывают, что Савву Селиверстовича выменяли у тех же Демидовых за пару аглицких пистолей новейшей конструкции…
Фекла тронула Павку за руку, еле слышно спросила:
— Мне помешкать али можно домой?
Павка кивнул в знак того, чтоб она шла к балагану, и опять повернулся к доводчику, готовый мгновенно выполнить любое его приказание.
Пыхтя и отдуваясь, из тарантаса вылез стражник с пышными усами и гвардейской выправкой — в военном мундире, на боку сабля. Звякнув пустой жестяной кружкой с оранжевой сургучной приисковой печатью, припадая на покалеченную ногу, он шагнул к вашгерду и вытянулся столбом, как стаивал когда-то в армии на часах. Даже моргать перестал.
Засучив рукава, Савва Селиверстович начал осторожно водить волосяной щеткой снизу вверх по дну площадки, где темными полосами прибились к перекладинкам и неровностям тяжелые, не смываемые водою шлихи. Проточная вода враз в том месте взмутилась от потревоженного щеткой шлиха, понесла его более легкие частицы с площадки. А Савва Селиверстович не торопясь, деловито все водит и водит щеткой по дну вашгерда, и с каждым разом шлихов остается там все меньше и меньше. Наконец оставшиеся шлихи начали постепенно желтеть, и в них запосвечивали золотиночки. Вот шлих и совсем пожелтел от примешанного в нем золота. Савва Селиверстович сгреб лопаточкой в кучки остатки несмывшихся желтых шлихов, достал из-за пазухи лоскут чистой тряпицы и сложил на него сгребенные кучки.
Старательно пообдув и туго-натуго пообжав узелок от воды, он аккуратно ссыпал с тряпицы шлих с золотом в протянутую стражником кружку. Тяжело звякнув, туда же упала и брошенная Саввой Селиверстовичем железная бирка с фамилией артельного Павки.
Подошел Горбунов, кивнул головой.
— Богато ли?
— Золотников пять.
— Худо… А ты чем меня сегодня порадуешь?
Понял Павка по глазам смотрителя, что молва о его диковинной находке дошла уже и до Горбунова. И так не захотелось Павке отдавать чудо-камушек, что он готов был сказать, что потерял его. Но вокруг уже начали собираться толпой любопытные, ждут, что скажет смотритель.
Стражник с кружкой в руке заковылял к тарантасу. Савва Селиверстович направился к следующему вашгерду. Петр Максимович, улыбаясь, протянул руку.
— Ну-ну, не робей. Показывай, что за чудо-юдо ты изловил.
Павка достал из-за щеки находку, ополоснул ее в желобе и осторожно положил на ладонь Горбунова. Но ожидаемого всеми чуда не произошло. Кристалл лежит на ладони смотрителя серенькой, полупрозрачной ребристой горошинкой, и ни блеска в нем, ни лучей из него, ни сияния…
— Подменил, варнак!!! — выдохнул кто-то в толпе, и люди враз загалдели, еще плотнее сгрудились вокруг Горбунова и Павки.
— Ло-о-вок, окаянный!
— Кого ж ты оммануть-то собрался? Мы все видели у тя другой камешок-то!
— Ничего он не подменял! Зачем в напраслине обвиняете?! — гневно выкрикнула Марфутка и шагнула поближе к побледневшему, растерявшемуся Павке, чтоб прикрыть его собой, если потребуется. — Не оговаривайте его! Честный он! Это то самое и есть!
— И ты, видать, заодно с ним!
— Успели уж сговориться! А люди другое видали!
Петр Максимович не обращает на крики никакого внимания. Попыхивая трубочкой, он достал из кармана увеличительное стекло в железной оправе, внимательно осмотрел Павкину находку и улыбнулся.
— Все правильно, ничего он не подменял. Но вот что удивительно: как смогла природа так обработать хрусталь?! Будто специально кто грани навел да отшлифовал его. Презабавно… Значит, он сиял всеми цветами, когда ты его нашел вот тут, на грохоте в песке?
— Сиял, Петр Максимыч! Вот тут я его и споймал! А потом как рукой закрою его от солнушка — не сият, а как солнушко его осветит — воссият как звезда! — подтвердил Павка, растерянно глядя на смотрителя.
— Верно все. Так оно и должно быть. Хвалю тебя за зоркость и любопытство достойное! Быть тебе камнерезом или огранщиком! Да не горюй, не ты первый в таком деле ошибся… Бывало, и настоящие знатоки попадают впросак…
Горбунов положил назад в карман увеличительное стекло, покатал на ладони Павкину находку.
— Это самый обыкновенный горный хрусталь. Окатало его в песках только как-то по-странному, навроде ромба, и заиграл он при солнце-то… Д-да-а… Странно…
К ним протиснулся Пантелей, похлопал весело по плечу Павку, подмигнул собравшимся.
— Ну чо, Павлуха, оплошка вышла? Не горюй, радоваться должон, што Петро-то Максимыч сумлеваться не стал, а понял, что обахмурился ты… Кабы на его месте кто другой оказался, не разобрался бы толком-то, да вон энтим поверил — знашь, што бы ждало тебя?
Павка с испугом взглянул на Пантелея, потом на Горбунова. Смотритель попыхивает табачным дымом и молчит. Только в его глазах таится усмешечка.
— Вначале бы тебя спытали плетьми, а потом бы и до каленого железа дело дошло. Петро-то Максимович все правильно углядел, да и я днем-тось тоже подумал, што хрусталь энто, без всяких сумлений. — Пантелей нагнулся к ладони Горбунова, тронул ногтем хрусталик. — Безо всяких сумлений — она это! И размером, и цветом, и така же округла! Я ведь разглядывал ее и под солнушком, и в тени. Точно, Петро Максимович, утверждаю, хоть под присягу веди!
— Да я и не сомневаюсь, — улыбнулся Горбунов добродушно и снисходительно. — А ты откуда в хрустале разбираешься?
— Я-то? Бывалось, имел и с ыми дело… — неопределенно ответил Пантелей и вдруг пригрозил пальцем кому-то в толпе. — Эх вы, сиволапы! Рады-радехоньки парнишку к дыбе подвести! Ишь как раскаркалися: «Варнак!», «Подменил!» И нечо вам тут людей на грех наводить — отработалися и катитесь отселева!
Пантелей решительно раздвинул могучими плечами стоявших у него на пути, первым направился к поселку.
Толпа начала растворяться. Вскоре у вашгерда остались только Горбунов, Павка и Марфутка.
Петр Максимович покатал на ладони Павкину находку и, заметив в глазах Павки тревогу, испуг, что кристаллик может упасть на землю, затеряться, улыбнулся и протянул руку.
— Хочешь сберечь? Тогда на, забери… Дед-то твой жив-здоров? Совсем уж, поди, утлым стал? Бывальщины-то свои все еще людям сказывает?
Павка от радости дар речи потерял. Осторожно взяв с ладони смотрителя свою находку, сунул ее за щеку и только после этого ответил:
— Жив он и здоров.
— Тогда передай ему, что управлюсь вот и к вам наведаюсь. Давненько не виделись мы с ним. А рассказывать он бо-оль-шущий мастак!.. Однако показывай мне другие камни, что за день собрал.
Старый гренадер
Балаган Павки построен почти в середине поселка. Когда Павка вернулся с прииска, в логу и по округе уже теснились, густея, сумерки. Воздух наполнился мошкой и комарьем.
Дед сидит у костра и варит в чугуне по́лбу[11]. От соседнего балагана аппетитно тянет горошницей. Только теперь Павка почувствовал, как ему хочется есть. Увидев внука, дед пододвинулся, уступая Павке место.
— Отробился? Ухлестался, небось? Худой ныне намыв? Гроза-то набедокурила вам? Свире-епая была! — Дед подгреб хворостиной к чугунку угольков, подбросил в костер пару полешков. — А я тут, внучек, днем-тось, елки зелены, чуть было не помер…
— Отчего это, дедко? — насторожился Павка в недоумении. Дед никогда раньше не жаловался ему на плохое здоровье.
— Да, поди, от грозы. С утра ишшо неладно мне стало, а потом, перед грозой-то, и взяло меня в оборот, закрючило. Поясницу, слышь, перехватило, сдавило в эвот энтом месте в грудях и как шрапнелиной прострелило наскрозь. Я и рассолу капустного, я и бессмертник-траву отварил — ан ни в каку. Все, елки зелены, думаю, шабаш пришел. Отходил по земле! Попа в саму пору позвать, а его, как назло, унесло сенокосить. Неужто, думаю, этак вот, без причастия и отпущения грехов? Ладноть, думаю, коли так, не по своей воле без исповеди помру. Не впервой нам, солдатам, тако…
Павке сделалось жутко. Он только на миг представил себе дедушку лежащим в балагане со сложенными на груди руками… Да как же они остались бы без него? Хоть и старый он, весь израненный, но веселый и добрый, гордость семьи.
— Сразу и помирать. Тоже мне выдумал! Живи хоть тыщу лет…
Дед погладил сухой ладонью Павку по голове, улыбнулся печально.
Двадцать пять лет прослужил дед неотлучно при самом генерале Павле Александровиче Строганове. Во многих боевых кампаниях участвовал с ним: били француза в 1807 году, потом шведов и турок, а Отечественную всю прошли с самого начала ее и до взятия Парижа, до пленения самого Бонапарта. И чем только дед не изранен был…
— А теперь-то как, не болит ничо? — полюбопытствовал Павка, кося на деда глазом.
— Теперь ничаво-о! Бог спомиловал. Но ты, Пашенька, помни мой наказ: как спомру я, елки зелены, обрядите меня по всем правилам, в мундир и при сабле. Пред всевышним я должон предстать по всем правилам. Тамо ведь меня много друзей-полчан дожидается. Да и перед Павлом Лександровичем мне надо появиться как положено…
Дед шепелявит: у него всего пять зубов. Историю его Павка знает хорошо. Знает и то, что потом по ненадобности, а может, за заслуги великие граф отпустил деда назад в деревню, к семье, а сам уехал лечиться да и умер. А заслуг у деда перед царем, Отечеством и Строгановыми было мно-о-го, иначе бы его генерал изо всех остальных не выделил — повелел он не беспокоить деда податями, работами казенными и притеснениями. Так и живет он при семье на положении вольного, ублажает людей воспоминаниями.
— Петр Максимович о тебе спрашивал.
— Н-но-о?! Не забыл ишшо? Вспомнил старого! Он ведь ране-то, елки зелены, ко мне часто наведывался.
— По потемкам в гости обещал прийти.
— Чо же ты молчишь?! Встретить надобно. Чо у нас с тобой поскуснее есть? — Дед обрадовался сообщению Павки, заторопился. — Капуста квашена, грибы соленые…
Дед и сам знает, что у них с Павкой имеется из съестных припасов, — спросил больше не его, а самого себя.
Полба в чугунке сварилась, вспенилась. Дед подхватил чугунок ухватом с короткой ручкою, отодвинул от огня. Ложку взял деревянную, резки собственной, попробовал, обжигаясь, варево.
— Вот и хорошо, можешь ужинать…
Дед с кряхтением поднялся на ноги, пошел в балаган. Павка вслед за ним. В балагане мрак, и только в дальнем углу, перед почерневшей иконой старого письма, тлеет огонечек лампадки. Утвари не богато: посреди стоит тесовый стол, скамья, а в углу сундук. Подле входа кадушка с питьевой водой, деревянный ковш, а на полке чашки глиняные, горшки, ложки деревянные.
— Ну-кось, милый внук, вздуй лучину.
Знает Павка, что смотритель прииска всегда приносит с собой полуштоф[12] вина, а дед любит пропустить пару чарочек, после слушать его можно сутками…
Павка достал сухих лучин, зажег в костре одну и воткнул ее в подставку. Дед при свете лучины извлек из сундука свою гренадерскую[13] форму, встряхнул ее для порядка, и при этом на ней награды звякнули.
Павка положил в глиняную миску из стоявшей в дальнем углу кадушки квашеную капусту, поставил на стол берестяную солонку, полковриги хлеба черного, положил пару луковок. Потом принес от костра чугунок с полбой — вот и стол накрыт.
Смешным дед в форме Павке кажется — будто все не с его плеча: одежда на худых плечах — как на вешалке, сапоги со шпорами велики и просторны, кивер со стоячим султаном — не по голове, да и сабля с темляком длинной кажется. Но боевые награды, красный воротник с погонами придают ему внушительность. А регалии деда — гордость всей семьи, всего прииска: железный черный крест в серебряной окантовочке был пожалован деду самим прусским королем за отличия в битве под Кульмом-крепостью. За Париж дед получил медаль в серебре на голубой ленточке. И еще медаль в память Отечественной войны — на ней око изображено государя ли, может, богово. И еще у деда на груди есть большой красивый гренадерский знак…
И каждый раз Горбунов дивится этим регалиям. Полюбились ему и рассказы бывалого о том, как он вместе с барином воевал, как самолично дважды спас его, самого генерала Павла Строганова! Это сродный брат того Строганова, устроителя завода Бисерского. Оба раза дед на себе графа из боя вынес.
Дед натер тряпицей до блеска сапоги, расчесал усы, потом бороду. Подошел к костру. Павка уселся поближе к огню, разложил рядом на полешко лук, соль, ломоть хлеба, поставил на колени миску с полбой, начал есть.
— Ты уж, Пашенька, не серчай, што седни я по маслята не сходил, ягод не собрал…
Неловко стало Павке от таких оправданий деда. Он знает сам, что дед всегда к ужину успевает набрать в лесу грибов и нажарить их или сварить грибницу. А ягоды разные у них не переводятся. Дед иной раз даже расстарается у соседей молока или простокваши…
— Обойдемся. Ты хоть сам-то ел?
— Ел, ел, дитятко!
Потемки опустились густо уже, все окутали. У балаганов кое-где еще горят или шают семейные костры. В темном небе звезды проясняются. Звенят жалобно комары.
Шаркая по утоптанной земле подошвами сапог и позванивая шпорами, дед принес из балагана Павке еще ломоть хлеба.
— Вот тебе, работничек, ишшо добавочка. Ох ты ж, боже наш, как разнесчастливо, елки зелены, на этом свете людям живется! И у нас мука кончатся…
— На утро оставь! — решительно отстранил Павка дедову руку с хлебом. — Ты лучше вот на чо взгляни!
Павка разжал ладонь, и дед вздрогнул, увидев на ней лучезарно вспыхнувшее сияние. А Павка чуть наклонит ладонь, и камушек начинает выпускать пучки одних цветов, наклонит в другую сторону — новое разноцветье.
— Это чо тако? Где ты взял?
— Там, в песке нашел! — кивнул Павка самодовольно в сторону прииска. — Это есть хрусталь. И всего-то с горошину, а гляди — как звезда сият!
Дед тронул камушек кончиком пальца, щелкнул языком:
— У его светлости, графа Павла Лександрыча, эко же диво было в перстень вставлено. Он им дорожил. Говорил не раз — штука редкая!
А Павка любуется игрой находки, то поднося ее к костру, то наводя на нее другой рукою тень.
Дед опять сходил в балаган, вернулся с набитой табаком трубкой. Сев подле Павки на чурбан, раскурил ее и с неодобрением стал наблюдать, как внук камушком забавляется.
— И дитя ж ты неразумное. Ну зачем тебе энти камушки? Не о них тебе думать надобно, а как жизнь прожить…
— Интересно ведь! Петр Максимыч вон…
— Ты себя с ним, елки зелены, и равнять не смей! Ишь куда хватил! Интерес твой должон быть к земле: она наша мать и кормилица! Ты про Мишку Кота, небось, уж слыхал? Вот таким же был сызмальства, да будет царствие ему небесное! — Дед тяжко вздохнул, перекрестился. — Думали, сгинул, а седни, глянь — объявился. Знавал я его… Вот таки дела…
— А правда, что он мастера затолкал в чугун?
Дед нахмурился, грудь перекрестил.
— Бог судья ему…
— Где ж он жил целых семь годов?
Дед затянулся дымком из трубки, даже закашлялся. Отдышавшись, ответил:
— В лесу прятался.
— Семь годов так в лесу и просидел? — удивился Павка, взглянув на деда всего лишь мгновение, и похолодел: камушек чуть не соскользнул с его ладони в костер, и только чудом Павка успел вовремя сжать ладонь в кулак. Кристаллик, к радости, оказался между пальцами. Дед сделал вид, что не заметил испуга внука, ответил рассудительно:
— Чо он делал где, занимался чем — мне неведомо. А тебе скажу: от золоту да таких камней ты добра не жди. Вот те заповедь: живи трудом только рук своих, дело знай свое мужицкое, старших, хозяев почитай, грубости сноси и обид не имей. Легко этак-то твоя жизнь пройдет. На чужое не смей зариться. И ленив не будь. Их, ленивых-то, давно знаешь сам, на пожарке вон заводской больно уж хорошо в две плети бодрят!
— Здоровы будете, все крещены!
Павка вздрогнул от неожиданно раздавшегося подле него баса вышедшего из темноты Пантелея.
— Чо, на камушек все любуетесь? Эвон как сият — за версту видать… — Пантелей присел подле Павки на корточки, широко зевнул и поскреб бороду. — Эх ты, батюшко Урал! Весь-то ты в горах, а в них только чо не запрятано! А для кого ж те богатства все? Вот народ бы да поставить над ним хозяином…
Дед неодобрительно покосился на Пантелея, кашлянул в кулак.
— А ты энто брось… За таки слова… А-а, Петр Максимыч свет к нам пожаловал! Хоть я и не богат, но гостенечкам рад, елки зелены! — поднялся дед, увидев появившегося у костра Горбунова.
Горбунов обнял деда, долго хлопал его радостно по спине. Павка поспешил положить находку за щеку. Горбунов не заметил этого, шутя потрепал его по голове.
— Слышал, Федорыч, как сегодня внук-то твой всполошил народ?
Дед об этом еще ничего не слышал и, подумав о неладном, испугался за Павку. Но Горбунов успокоил его, коротенько рассказав о переполохе на прииске в связи с Павкиной находкой. Они посмеялись над незадачливостью парня и пошли в балаган, прихватив с собой зажженную от угольев лучину.
И тут же, как по команде чьей, из темноты с разных сторон потянулись в балаган охочие до дедушкиных баек старики с мужиками.
Поев и оставшись у костра один, Павка снова достал свой кристалл. Спать не хочется. Находка увлекла его, взбудоражила, сон отогнала. Ночь короткая, давно спят многие. В ночи нет-нет да лошадь фыркнет, то корова тяжко так вздохнет. Где-то далеко побрякивает ботало. Вот у соседей заскулил во сне щенок. А Павка рад, что он один на один со своим камушком. И пусть гогочут в балагане над дедовыми байками. Им теперь распривольно там. А он, Павка, не раз слыхивал эти сказы о баталиях, о чужих землях, о красавицах да об лихости… Он даже знает, что дед, выпив чарочку, сейчас расхаживает — грудь колесом, усы подбивает, изображает рядовых и начальников…
— …А Пал Лександрыч шпагу выхватил, поднял вверх да как гаркнет на все поле ратное: «Гренадеры-молодцы! Братья во Христе! Постоим за Русь — позади Москва! На нас смотрит все Отечество! Давай врага на штык! Не отставай! За мной!!!» — донеслось из балагана.
Павка понял, что дед рассказывает про сражение при Бородино, где генерал Строганов командовал дивизией гренадеров и дюже отличился с ними в бою, за что был жалован орденом. И еще знает Павка, что в том бою полегло много дедушкиных товарищей. Насмерть стояли гренадеры там…
Павка снова увлекся своим камушком и не заметил, как люди за его спиной расходиться начали, как дед с Петром Максимовичем остановились у костра.
— Ну-ка, дай взглянуть! — Петр Максимович присел рядом с Павкой на чурбан, аккуратно положил находку себе на ладонь, в удивлении брови приподнял. — Удивительно! Кристалл занятнейший! Хм… Презабавно… Игра странная… Может быть, топаз? Есть такой хрусталь, тяжеловесом называется — превосходнейший обманщик! Екатеринбургские гранильщики умеют, Паша, так его отделать — от бриллианта не отличишь. Д-да… Слышь, загадка ведь! Я его возьму. Днями должен приехать граф. И везет с собой он немца какого-то, знатока камней. Вот мы и подложим ему вместе с другими камушками в шкатулочку и эту диковинку. Смекнул? Вот и будем знать, насколько немец тот постиг минералогию.
Адамас
И случилось так, что на следующий день пополудни на прииске появилась графская карета, запряженная в шестерку превосходных лошадей. Остановилась она на лужайке. Лакеи распахнули дверцу, и из кареты вышел граф Полье Адольф Антонович собственною персоной в белоснежной рубашке, отделанной на груди и по рукавам пышными кружевами, в темно-синих панталонах и лакированных туфлях с огромными сияющими золотом пряжками. В руке — изящная тросточка.
Вслед за графом из кареты появился худенький белокурый господин в такой же рубашке и в таких же туфлях, только панталоны на нем черные. На вид этому господину не более двадцати. Графу же можно дать за сорок. Щуря под ярким солнцем глаза, граф с любопытством осмотрел прииск, начал пояснять что-то молодому господину, поводя вокруг тросточкой.
Петр Максимович заметил карету сразу же. Он подбежал к своему тарантасу, вскочил в него, и лошади понесли к графской карете, расшвыривая копытами песок во все стороны.
Граф встретил смотрителя прииска приветливой улыбкой и с протянутою рукой.
— С приездом, ваша светлость! Благополучно ль доехали?
Граф утвердительно кивнул, подал Горбунову кончики пальцев.
— Здравствуйте, Петр Максимович, здравствуйте! Все хорошо. Знакомьтесь-ка, это господин Шмидт, магистр, окончил Фрейбергскую горную школу. Будет управлять нашими приисками. Прошу любить и жаловать!
Граф черняв, смуглолиц, с аккуратными бакенбардами. В правом глазу поблескивает монокль.
— Как успехи? Послушны ли мужики? Исполняется ли мое указание о сборе в шлихах минералов? Господин Шмидт горит желанием немедля их осмотреть…
Вопросов у графа к Петру Максимовичу много. Пока он их задавал, Горбунов подал знак наблюдающим за ними со стороны людям, и вскоре на лужайке появился стол, на телеге привезли ларь с собранными минералами.
— Так што, вашскородь, вот доставлено все в сохранности! — отрапортовал графу припадающий на одну ногу стражник, вытянувшись перед ним с приложенной к козырьку фуражки ладонью.
— Осел! «Ваша светлость» следует обращаться, а не «ваше благородие»! — поправил его Горбунов и махнул рукой, чтоб все посторонние удалились.
— Обшибся, вашскородь! — опять рявкнул солдат и, повернувшись кругом, замаршировал прочь.
Граф и Шмидт подошли к ларю. Горбунов открыл крышку. Камни разложены аккуратными рядками, по определенной системе, тщательно очищены от грязи и вымыты. Тут же в ларе стоит и другой ларец, совсем маленький, с внутренним замком.
Хозяин и новый управляющий приисками принялись неторопливо разглядывать камни. Некоторые из них немец исследует через увеличительное стекло. То многозначительно кивая белокурою головой, то высоко вскидывая в раздумье белесые брови, он что-то говорит графу. Горбунов ни слова не понимает по-немецки, но по лицу графа видит, что тот доволен, да и из разговора графа с немцем улавливает знакомые названия некоторых камней.
«А ведь немчишка-то, лихоманка его забери, в камнях-то, кажись, разбирается!» — подумал он, почтительно стоя от них на два шага в сторону.
Между тем Шмидт перешел к разглядыванию халцедонов. И эти он изучает через увеличительное стекло в оправе из слоновой кости, что-то лопочет по-своему графу. Граф самодовольно кивает ему головой, и Горбунов чувствует, догадывается, видит, что оба они камнями довольны. А Шмидт берет тонкими холеными пальчиками камень за камнем и безошибочно называет их: «…оникс, агат, сардер, хризопраз, сапфирин…»
Когда осмотр камней в большом ларе подошел к концу, Горбунов открыл малый ларец, и граф вместе со Шмидтом одновременно выдохнули изумленно: «О-о-о!!!»
В набитом до краев ларце сверкают дымчатые, голубые и розовые кристаллы горного хрусталя, черные морионы, лилово-желтые цитрины…
По лицу графа расплылась блаженная улыбка. А восхищенный немец достает трясущейся рукой кристалл за кристаллом, что-то оживленно лопочет по-своему графу. Каждый камень он рассматривает то в вытянутой руке на фоне неба, леса, смотрит через него на солнце, то подносит его к самому носу и водит над ним увеличительным стеклом, водит, изучая каждую грань, каждую трещинку, правильность формы кристалла.
Когда же ларец опустел и немец с графом досыта налюбовались камнями, Шмидт с каким-то безразличием вынул со дна ларца на свет найденный Павкой камушек, и они с графом от неожиданности остолбенели: камушек ослепительно, засиял, заиграл, запереливался радужными лучами.
— О-о, майн готт! — выдохнул Шмидт, тараща глаза. — Адамас!!![14]
Лицо графа вытянулось, и он растерянно забормотал по-русски, совсем позабыв, что немец не понимает его:
— Алмаз?! Вы сказали — алмаз?! Это, вероятно, ошибка… На моем прииске алмаз? Такое невероятно!
Все еще не в силах прийти в себя от изумления, Шмидт провел кристалликом по вставленному в его перстень камню, утвердительно кивнул головой:
— Адамас! Их гратулире йнэн! Ферштеен зи мильх? Адамас![15]
Граф осторожно взял из его пальцев Павликову находку, повертел ее перед глазами, тоже попробовал потереть ее о камень в своем перстне и повернулся к Горбунову.
— Вы слышали? Это алмаз. Где вы взяли его? Где нашли?
Через несколько минут граф и Шмидт неслись в карете к конторе Крестовоздвиженского прииска, прихватив с собой и Горбунова.
В конторе Шмидт подверг Павкину находку всестороннему анализу и сделал утвердительный вывод: это настоящий алмаз весом 0,54 карата![16]
Расхаживая в большом волнении по комнате и потирая от радости руки, граф приказал немедленно доставить к нему нашедшего этот первый русский алмаз человека и тотчас же передать всем работающим на приисках людям в обязательнейшем порядке собирать все блестящие камушки независимо от их цвета и размеров.
Потом граф ударился в рассуждения о том, каким провидцем оказался приглашенный императором Николаем Павловичем барон Гумбольдт, твердо заверивший русскую императрицу, что в уральских золотых и платиновых россыпях непременно должны быть алмазы, ибо вся аналогия Уральского края с Бразилией указывает на это. Там, по его словам, алмазы чуть ли не черпают лопатами вместе с песком.
Но Шмидт ничего не понял из сказанного графом. И только когда граф упомянул его имя, призывая его в свидетели подлинности гумбольдтовских заверений, тот отчужденно взглянул на графа и, продолжая блаженно улыбаться, снова склонился к лежащему перед ним на столе в фарфоровой чашечке алмазу. О чем думал он в этот момент? Наверняка радовался неожиданно свалившемуся на его голову счастью: его не только назначили с первого же дня приезда в этот «варварский» край управляющим богатейших недр, золотых приисков, но и ему теперь суждено войти в мировую историю как первооткрывателю русских алмазов. Сколько их в этой благодатной земле? О-о, тут можно в два счета разбогатеть! Теперь ему остается лишь наладить работу на приисках по немецкому образцу, заменить примитивный ручной труд более современным: построить работающие круглый год золотопромывальные фабрики, и тогда дело пойдет! О-о, он это в два счета сделает! Он уговорит графа закупить в Германии для этого оборудование, выписать из нее же специалистов…
Испуганно озираясь, Павка вошел в контору и низко поклонился сначала графу, затем обернувшемуся к нему Шмидту. Граф сам подошел к нему, положил на потное Павкино плечо руку.
— Как звать тебя?
— Пашка… Павел Попов! — ответил Павка, вспомнив, как учили по дороге доставившие его сюда люди.
— Знаешь ли ты, что нашел?
— Не, неведомо мне. Какой-то камушек.
— Ты нашел адамас! По-русски означает алмаз! Ты знаешь, что это такое?
— Не, неведомо мне.
— Эх ты, темнота русская! Ну хорошо, расскажи мне, как ты его нашел.
Граф отошел от Павки и опустился на стул.
— Мы промывали песок. Гляжу это я, в песке на грохоте засверкало… Ну, я и выловил его, этот камешок….
— А ранее, до этого, ты такие встречал? Видел в песке, во время промывки кристаллы с таким же блеском?
Очень грустно Павке.
Отдавая вчера свою находку Петру Максимовичу, он как чувствовал, что больше никогда уже не увидит ее. И нисколечко не хочется ему рассказывать этому барину, как он выловил с грохота чудо-кристаллик, раскрывать перед ним свои чувства…
А граф и немец, глядя на Павку, весело переговариваются на непонятном ему языке, смеются. И так хочется Павке побыстрее выскочить отсюда, убежать подальше от людей и выплакать в одиночестве свое горе, бессилие… Наконец граф закончил допрос, какое-то время смотрел на Павку, положив ногу на ногу, и затем снова спросил:
— Н-н-ну-с, что же ты хотел бы получить в награду за свою находку?
Павка даже не поднял на него глаз.
— Не стесняйся. Ты первый человек, кто нашел в русской земле адамас. Тебе за это полагается щедрое вознаграждение. Проси.
Молчит Павка. Чувствует он, что если скажет еще хоть одно слово, у него больше не хватит сил сдерживать себя, и он разрыдается. Ничего не надо ему, кроме находки своей. Но разве граф на такое пойдет?
— Проси, Паша, у его светлости лошадь или корову! Ну что ж ты робеешь? Проси! — подсказал Горбунов, считая, что Павка от радости растерялся и может брякнуть что-нибудь, не подумав.
Горбунов хорошо знает, что у Поповых совсем дряхлая лошаденка, а корову в прошлом году почти у самой деревни задрал медведь.
— Ваша светлость! Считаю своим долгом уведомить, что этот парнишка весьма толков, имеет огромное влечение к минералогии. Было б неплохо для пользы дела отправить его обучению в Екатеринбург…
Но досказать мысль Горбунову помешал Шмидт. Ему захотелось узнать, о чем же идет разговор между русскими, и он спросил об этом графа. Тот с улыбкой перевел ему слова Петра Максимовича, и это рассмешило немца.
— Что?! Он предлагает за такую находку лошадь или корову?! О-о, майн гот! Оч-чень смешно! Да понимают ли они, что это вот не корова и не лошадь, а это же настоящее Эльдорадо! Этот адамас может обернуться вторым, только уже русским Эльдорадо! Этот мальчик открыл…
Шмидт потряс над головой Павкиной находкой, но граф, не дослушав его, повернулся к Павке и серьезно сказал:
— Хорошо, Павел Попов. Можешь идти. Я подумаю, чем наградить тебя.
Эпилог
Так был найден первый в России алмаз. Через два дня графу принесли второй алмаз, найденный на соседнем, Крестовоздвиженском прииске, тоже мальчиком, сверстником Павлика, Ваней Соколовым. Потом нашли третий алмаз, четвертый…
Первые находки на Урале алмазов произвели настоящий переполох как среди ученых, так и в золотопромышленном мире. Алмазная лихорадка захлестнула Урал.
И где только не начали находить алмазы, даже в самых невероятных местах!
На Крестовоздвиженском и Адольфовском приисках в 1829 году было найдено четыре алмаза, в 1830 году уже 26, а в 1831 году только восемь. В 1831 году было найдено два алмаза на прииске Меджера, в четырнадцати верстах на восток от Екатеринбурга, а в 1838 году нашли алмаз на Гороблагодатских золотых промыслах в двадцати пяти верстах[17] от Кушвинского завода. В 1839 году случайно же на дне вашгерда вместе с золотом был обнаружен алмаз на промысле Жемчужникова в Верхнеуральском округе Оренбургской губернии.
В пятом номере журнала «Уральское горное обозрение» за 1904 год была опубликована статья Н. Солодова «Алмазы на Урале», в которой описан совсем курьезный случай находки алмаза на том же Крестовоздвиженском прииске в 1902 году. Этот алмаз снесла курица! Двор хозяина этой курицы был вымощен жердовником. А хозяин оказался чистоплотным и, желая убрать из промежутка между жердями завалившийся туда куриный помет, зацепил его щепочкой и в нем случайно заметил блестящую галечку. Зная, что здесь иногда находили алмазы, он промыл находку, которая и оказалась алмазом почти в¾ карата!
В архивах сохранился подлинный документ — письмо графа Полье к министру финансов графу Канкрину: «…5-го июля приехал я на розсыпь вместе с г. Шмидтом, и в тот же день, между множества кристаллов железного колчедана и галек кварца, открыл я алмаз. Алмаз этот был найден накануне 14-летним мальчиком из деревни Калининской Павлом Поповым, затем, два дня спустя, был найден второй алмаз, а потом третий…»
Какова же судьба причастных к первому алмазу людей? История сохранила о них очень скупые сведения. Так, Петр Максимович Горбунов вскоре был переведен в старшие смотрители, а затем многие годы проработал на этих же золотых приисках в роли приказчика. Немцу Шмидту довелось управлять приисками недолго, всего лишь два года, после чего он скончался 12 января 1832 года при неизвестных обстоятельствах. Граф Полье успел-таки подарить второй и третий по счету алмазы своему знакомому барону Гумбольдту при скорой их встрече после находки алмазов.
Барон Гумбольдт действительно в то время путешествовал по Уралу, 19 и 20 июня 1829 года он осматривал Кушвинский, Верхне- и Нижнетуринские заводы, 21 июня Богословский завод, а в день находки алмаза Павликом Поповым 4 июля был на Турьинском медном руднике и об этом алмазе узнал спустя лишь два месяца от самого же графа Полье, который и подарил ему второй и третий русские алмазы по счету.
Свое слово, данное русской императрице, барон Гумбольдт сдержал и представился ей с русским алмазом в руке, будучи уже в Берлине, в ноябре 1829 года, где она оказалась случайно, проездом. Он преподнес ей третий по счету найденный в России алмаз, а второй подарил Берлинскому Королевскому музею.
Павлик же Попов был «облагодетельствован» графом — награжден отпускною, то есть получил «вольную». Дальнейшая его судьба, как и судьба найденного им алмаза, не известна.
В 1979 году, к 150-летию находки первого русского алмаза, именем Павлика Попова был назван крупный отечественный алмаз, найденный в знаменитом месторождении «Трубка мира» 31 августа 1978 года. Его вес 78,85 карата.
Теперь этот алмаз хранится в Алмазном фонде страны вместе с такими известными отечественными алмазами-великанами, как алмаз имени 24-го съезда КПСС, «Валентина Терешкова», «Злата Прага», «50 лет СССР», «Дружба», «За счастье детей» и другими.