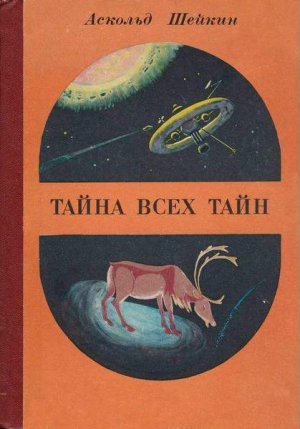
— Так мы тебя оставляем, — сказал бригадир и развел руками: что же, мол, делать?
Зубцов усмехнулся. Его совершенно безмятежная, даже будто слегка сонная физиономия оживилась.
— Завтра не обещаю, послезавтра — тоже, но еще через денек, к вечеру, — точно. — Бригадир похлопал себя по карману пиджака. — Тогда и напишем бумагу.
Зубцов опять усмехнулся.
— Немного поживешь в одиночку. И не работа будет — курорт.
Тут уж Зубцов не выдержал.
— Дай подкову, — сказал он и протянул руку.
— Какую подкову?
Бригадир ошеломленно оглянулся на вертолет. Высунувшись из люка, пилот нетерпеливо махал огромной, словно сапог, перчаткой. Зубцов покивал головой:
— Эх ты! Ничего-то у тебя нет: ни подковы, ни счастья.
— А это ты зря, Федя, — вмешался Тимофей Кращенко, тоже слесарь, как и Зубцов.
Новенький синий комбинезон, щегольски простроченный зелеными и красными нитками, сидел на нем как влитой. Из нагрудного кармана багряной ковбойки выглядывал, поблескивая, штангенциркуль.
— Да, зря, — с въедливой назидательностью повторил Кращенко. — У Никиты Кирилловича жена красавица, и сам он кровь с молоком.
Кращенко нисколько не кривил душой. Это и на самом деле было так.
— Ну вас обоих к дьяволу, — сказал бригадир и пошел к вертолету. Сгибаясь под тяжестью брезентовой сумки с инструментом, Тимофей Кращенко потащился за ним.
— А ларек? — насмешливо крикнул вдогонку Зубцов. — Пивной ларек поближе тут где, елки-палки? Друзей разве так покидают? Адресок, елки-палки, могли бы сказать на прощание, уважить…
— А-а… — отозвался Кращенко, не останавливаясь, и это прозвучало как: «Тебе только бы у ларька и торчать».
Вертолет затрещал мотором, проутюжил воздушной струей уже начавшую никнуть от летней жары траву, швырнул в Зубцова облако сорванных вихрем листьев рябины. Несколько мгновений повисев в вышине, он скользнул вбок, за черно-зеленую стену дремучего ельника.
Зубцов запахнул свой бурый от пятен машинного масла и ржавчины, видавший виды ватный бушлат, с которым не расставался ни в жару, ни в холод, поджав губы, покивал головой.
— Эх, Федя, Федя, — вслух обратился он сам к себе, — и вся-то твоя жизнь в холодочке…
Он даже презрительно сморщился, чтобы картинней выразить свое отношение и к бригадиру, и к Тимофею Кращенко, и к вертолету, и вообще ко всей этой проплешине в таежном лесу, которая называется нефтяной скважиной № 1735.
Относилось это также к вагончику, в котором ему предстояло жить. Был он зелененький, аккуратненький, белел занавесочками. Не вагончик, а райское гнездышко, или, вернее, нечто вроде избушки на курьих ножках, потому что он стоял на полозьях.
Это было, конечно, всего лишь игрой, но такой, какая давно стала для Зубцова привычной формой взаимоотношения с окружающим миром: снисходительно посмеиваться, немножко ворчать, но всем и каждому — не только людям, но и предметам неодушевленным! — сразу выказывать, что он, Федор Зубцов, несмотря на свои всего только двадцать четыре года и простецкую внешность, парень тертый и его уже ничто не удивит.
Вразвалку и все еще сохраняя на лице выражение презрительной многозначительности, он приблизился к тому, что, собственно, и было скважиной. В этом месте земного шара из бетонной плиты торчало огражденное легкими металлическими мостками кряжистое стальное дерево, подставлявшее солнцу три яруса коротких, но могучих ответвлений, усеянных колесами кранов.
На языке специалистов эти краны назывались задвижками, вся верхняя часть дерева — елкой, и так же, как новогоднюю елку венчает серебряная или золотая звезда, стальную елку завершала круглая плоская коробка манометра — буферного манометра, сказал бы нефтяник об этом приборе, потому что был тут еще один манометр, но только уже почти у самой земли. Он назывался затрубным.
Вообще, то, что Зубцов знал немало слов, неизвестных большинству людей на Земле, например: превентор, лубрикатор, затрубное и буферное давление, — составляло для него предмет особой гордости, равно, впрочем, как и то, что поворотом колеса задвижки ему порой доводилось открывать или преграждать путь потоку самой сокрушительной стихии. Каждая профессия имеет своих патриотов.
Подойдя к скважине, Зубцов некоторое время постоял, склонив голову набок и прищурясь, и только потом уже начал орудовать задвижками и вентилями.
Нижний манометр ничего нового не показал.
Зубцов достал из кармана бушлата тетрадку в желтой картонной обложке и с заложенным между страницами карандашом, мизинцем сдвинул обшлаг рукава, взглянул на часы, записал: «24 и-ля, 15 ч. Затр. ман. ход. ок. 50 ат.» Это значило: «24 июля, 3 часа дня. Стрелка затрубного манометра колеблется около деления, показывающего давление 50 атмосфер».
Закрутив вентиль манометра и задвижку, Зубцов поднялся на мостки. Верхний прибор вел себя точно так же, и это безусловно значило, что 2-километровый столб тяжелого раствора, залитого в скважину, чтобы удержать ее от фонтанирования, раскачивается, как на пружине.
Сделав вторую запись и спрятав тетрадку в карман, Зубцов ладонью похлопал по колонне.
— Что ж ты, голубушка? — спросил он. — Нехорошо. Сознательность-то у тебя есть?
Он еще раз похлопал по колонне, спустился с мостков и пошел к вагончику.
Внутри вагончика была всего лишь одна комната, оклеенная розовенькими и уже изрядно выцветшими обоями. По левую руку от входа располагались коричневый фанерный шкаф для спецовок, умывальник, ведро с водой (в нем плавал алюминиевый ковшик), кухонная тумбочка и низенькая железная печка на тоненьких ножках.
Правую часть вагончика занимали двухъярусная койка и шкаф для чистой одежды, среднюю — стол и две табуретки. Сидя на этом месте, было очень удобно посматривать через окошки на лес и на скважину.
По промысловым меркам это жилье считалось вполне приличным, однако в вагончике уже несколько месяцев никто постоянно не квартировал. Занавески, которые отгораживали бы умывально-кухонную часть помещения от всей остальной, отсутствовали, пол был затоптан, и даже — единственное украшение — плакат, прикнопленный в простенке между окнами над столом: веселый мальчуган-лыжник скатывается с горки, неся на лихо вскинутых палках лозунг: «Встретим Новый год трудовыми победами!», и тот отличался по меньшей мере восьмимесячной давностью.
— Да, ребята, — сказал Зубцов, войдя в вагончик и глядя на этот плакат. — На лыжах сейчас далеко не уедешь. Но и пешком, — он погрозил лыжнику пальцем, — далеко не уйдешь.
Он подсел к столу, рывком отгреб в сторону куски хлеба, плавленые сырки, газету с обрубком докторской колбасы, стаканы с недопитым чаем и всего лишь полчаса назад опустошенные консервные банки, оперся на локоть и задумался — решал проблему: сразу завалиться спать или сделать это позже. Ночь-то ведь тоже надо куда-то девать!
Продумав так минут пять и ничего не решив, он взял с койки рыжий чемоданчик с личным своим имуществом, вынул транзисторный приемник «Меридиан», любовно обтер его рукавом бушлата, поставил на стол и пощелкал переключателями. На всех волнах однообразно трещали электрические разряды.
Зубцов поморщился. И утром, когда они еще только прилетели на скважину, кроме этого треска в эфире ничего не было. Похваляясь ученостью, Тимофей Кращенко сказал тогда, что это, мол, из-за метеоритных дождей, которые хлещут по нашей планете.
— Может, и хлещут, — вспомнив это, сварливо проговорил Зубцов, обращаясь в пустое пространство. — Но скажите, ребята: разве такое дело — порядок? — И сам же ответил себе: — Нет, ребята… Нет…
Выключив «Меридиан», Зубцов достал из кармана брюк складной ножик и отхватил порядочный кус колбасы.
В 4 часа он снова отправился к скважине.
Лениво и всем своим видом выражая, что заниматься пустяками ему противней противного, он повернул вентиль нижнего манометра и тут же увидел, что стрелка откачнулась до деления «700 атмосфер»! Она, правда, сразу вернулась к нулю, но затем снова побежала по циферблату!
Зубцов поскорее перекрыл вентиль, а потом одну и вторую задвижки и некоторое время стоял, недоверчиво глядя на циферблат.
Он поднялся ко второму манометру.
С ним творилось то же самое.
Зубцов уже 4 года работал на промыслах. На его глазах при давлении всего в 525 атмосфер напором газа и соленой воды выворотило 30-сантиметровые трубы и, будто игрушки, расшвыряло лебедки. Вокруг скважины образовалось озеро, и, пока фонтан задавили, бригада просолилась так, словно были они не нефтяники, а моряки, целый год проплававшие в штормовом океане.
И только ли одно это мог сейчас вспомнить Зубцов? Скважины и пережимало, и заносило песком… Однако такого случая, чтобы давление то подскакивало до 700 атмосфер, то исчезало вовсе, не встречалось ни разу.
Он опасливо приложил руку к колонне труб. Металл был спокоен. И значит, тем более ничего не удавалось понять.
Отходя от скважины, Зубцов через каждые десять — пятнадцать шагов останавливался и оглядывался, с опаской поворачиваясь в ее сторону всей своей фигурой.
В вагончике он сразу включил приемник. Разряды не только не утихли, но и сделались резче. Они звенели теперь, будто в динамике одна за другой лопались струны!
— Ну и курорт! — Зубцов озадаченно покрутил головой. — Нет уж, ребята, тащи такие Сочи обратно.
Минут через двадцать он снова пошел к скважине. Было понятно: самое опасное место сейчас там. Но отсиживаться в вагончике, тогда как показания манометров потом наверняка понадобятся бригадиру, он не считал для себя возможным. Дело есть дело.
Весьма успокаивало то, что день стоял солнечный, без малейшего ветра. Редкие белые плотные облака почти неподвижно висели в небе. Лето было в самом разгаре. И потому, когда Зубцов смотрел из окошка вагончика, ему совершенно не верилось, что вот-вот послышится рев вырывающегося из недр фонтана. А может, все давно улеглось?
Он впервые для себя оказался в очень уж непривычном положении. Обычно, когда скважина начинала вести себя непонятно, вокруг нее собиралось довольно много народу: буровые мастера, инженеры промыслового управления, а то даже ученые из Тюмени, из Баку, из Москвы.
Конечно, трудился там и свой брат слесарь, но всегда в таких случаях приходилось действовать по самому точному заданию: подтянуть или убрать трубы, передвинуть насос, лебедку, установить емкости для раствора. Теперь же никого рядом не было.
Когда он и в этот раз взглянул на нижний манометр, сперва ему показалось, что стрелки нет вовсе. Потом он понял: едва приоткрылся вентиль, ее загнало за красную черту и она уперлась в ограничитель. Это значило, что давление в скважине перевалило за 1100 атмосфер.
Зубцов заставил себя подняться на мостки, хотя ноги так и порывались унести его подальше от скважины. От напряжения он даже приплясывал.
Верхний манометр вел себя ничуть не лучше.
Зубцов на мгновение зажмурился. При таком давлении трубы вот-вот выворотит из земли. Их, должно быть, вышвырнет в космос, причем от искры, вызванной ударом металла о металл или металла о камень, неизбежно начнется пожар. На месте скважины много-много недель, а то и месяцев будет бушевать огненный смерч, и, чтобы укротить, его придется расстреливать из артиллерийских орудий, заливать потоками воды, глушить взрывами аммонала.
В вагончик он возвратился бегом, спрятал в чемоданчик «Меридиан», навалился грудью на стол и начал писать в тетрадке поперек строчек: «4 часа 30 минут. Давит за 1100…»
Ему показалось вдруг, что он не выключил радиоприемник, причем разряды гремели вовсю и треск их был настолько оглушителен и резок, словно с неба валились листы железа.
Зубцов открыл чемоданчик. Шкала «Меридиана» не светилась. Он все же приложил динамик приемника к уху. Тот молчал. Зубцов понял, что звуки доносятся снаружи.
— Все, ребята, — сказал он, — началось!
Он глянул в окно. Солнце сияло по-прежнему ярко, и стальное дерево арматуры стояло на месте, но как раз посередине расстояния между скважиной и вагончиком, на черном от мазута клочке земли, мерцал сноп радужных струй.
«Какой же это будет фонтанище!» — мысленно ужаснулся Зубцов, потому что за все годы работы на промыслах еще ни разу не встречал, чтобы свищ, то есть прорыв нефтяной или газовой струи, возник почти в сотне метров от скважины.
Швырнув радиоприемник на стол, он схватил тетрадку, сунул ее в карман бушлата, туда же затолкал несколько кусков хлеба и снова взглянул в окно. Радужного столба больше не было, а по тропинке к вагончику шла очень красивая девушка лет восемнадцати, самое большее — двадцати, светловолосая, в белых брюках и в белоснежном жакете, обтягивающем талию и отороченном ярким, как золото, желтым кантом.
Зубцов так плотно прильнул к стеклу, что оно едва не затрещало.
Прекрасная незнакомка шла неторопливо, даже торжественно, видимо зная, что на нее непременно кто-нибудь смотрит, любуясь.
Зубцов с размаху двинул себя кулаком промеж глаз: нет, он не спал.
Одна пустяковая несообразность вдруг всего более поразила его: незнакомка белейшими туфельками ступала по тропинке, пробитой грубыми сапогами бурильной бригады, причем, как определенно увидел он, подошвы туфелек тоже были белее снега! Такого Зубцов не видел даже у балерин, приезжавших к ним в поселок из Новосибирска с концертами. А уж как легко порхали они по сцене Дома культуры!
— Та-ак, — шепотом проговорил Зубцов. — Ну, ребята…
Тут же он спохватился: но ведь скважина с минуты на минуту выдаст фонтан! Черт принес эту красавицу в такой день!
Не отрывая лица от стекла, Зубцов скосил глаза на вертолетную площадку, чтобы увидеть, на чем же явилось сюда сие возвышенное создание, — площадка была пуста.
Зубцов кратко выругался. На пространное выражение чувств времени не было. Затем он сорвал с себя бушлат, швырнул его на пол, ударом ноги распахнул дверь и выпрыгнул из вагончика, разом перелетев через все ступеньки.
И едва не столкнулся с этой незваной гостьей. Она стояла шагах в десяти от вагончика и смотрела с радостным ожиданием чуда.
Зубцов промчался мимо нее. Земля гулко отдавалась под ударами его кирзовых сапог. Надо было еще раз взглянуть на манометры и тогда решить главное: оставаться в вагончике или уходить в тайгу. И не в одиночку, а вместе с этой красавицей, ни к селу ни к городу свалившейся на его голову.
Оба манометра показывали одно и то же: 45 атмосфер, причем стрелки застыли как вкопанные. Такая величина значилась и в технологической карте.
Зубцов вытер рукавом гимнастерки пот со лба и перевел дух. Да было ли все это?
Но девушка в белом была. Она стояла возле вагончика и, видимо, поджидала хозяина.
Ощущение бесшабашной легкости, которое, несмотря на всю его грузную внешность, с самой юности таилось в душе Зубцова, его всегдашняя уверенность, что вся та часть жизни, которая уже прошла, — это лишь подготовка к той жизни, которая начнется после того, как вдруг из-за очередного поворота дороги ему явится то главное, ради чего он живет, овладели им.
Подчеркнуто неторопливо и зная, что гостья, конечно, следит за каждым его поступком, Зубцов еще раз проверил показания обоих манометров, трижды обошел скважину, крутнул, хотя это было совершенно ненужным, колесо одной из задвижек.
Он чувствовал небывалый прилив сил. Ему даже показалось, что он стал выше ростом. Что погрузнели мускулы его рук. Гордо распрямилась грудь.
К прекрасной незнакомке Зубцов подошел без какого-либо смущения. В конце концов, кто здесь хозяин?
Он первым протянул руку и сказал:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — звучно ответила гостья, глядя на Зубцова с выражением восторга.
— Ну что же, — проговорил он, осторожно сжимая в своей большой лапище ее ладонь. — Спасибо, что посетили.
Он не стал продолжать, но не из-за растерянности, а потому лишь, что подумал: «Явилась ты, ясным делом, сюда не одна. Подойдут спутники — тогда начнем разливаться: «Передний край… Самая расчудесная нефть… Небывалое месторождение газа… А какие у нас тут ребята!..»
В прошлом году на скважину, где они тогда занимались ремонтом, нежданно свалился целый десант: московские и ленинградские художники. Сопровождало их самое большое промысловое начальство. До поздней темени проторчали они на скважине и то расспрашивали, то рисовали, то фотографировались, обнявши колонну труб. Наверняка кто-нибудь из руководства сопутствовал и этим товарищам, и, если делать как положено, он-то и должен прежде всего их познакомить. Если на то пошло, мало ли кто может заявиться на скважину?
Но гостья была так красива и молода, так лучезарно улыбалась, что стоять и молчать, ожидая, пока подойдут остальные, Зубцов не смог. Он спросил:
— Где же все ваши?
Гостья улыбнулась еще ослепительней и ответила:
— Со мной больше никого нет. Я одна.
Зубцов широким жестом указал на распахнутую дверь:
— Прошу!..
Поднявшись в вагончик, гостья стала оглядывать его с такой нескрываемой радостью, так жадно вдыхая даже самый воздух его, сияющими глазами впиваясь в каждую мелочь, как будто не только никогда ничего подобного не видела, но и не чаяла увидеть, — ни такого рукомойника, ни такого ведра с водой и ковшика в нем, ни самодельного березового веника у порога, ни железной печки, ни двухъярусной койки.
Плакат «Встретим Новый год трудовыми победами!» привел ее в величайший восторг. Она засмеялась и захлопала в ладоши, а потом взяла со стола пустую консервную банку «Скумбрия в масле» и начала всматриваться в этикетку, в цифры, выштампованные на дне. Она даже заглянула внутрь банки!
Она держала ее осторожно, сразу двумя руками, будто редчайшую и очень хрупкую драгоценность.
Так и не расставаясь с этим предметом, гостья обернулась к Зубцову и сказала счастливым и почему-то немного извиняющимся голосом:
— Вы даже представить себе не можете, насколько все прекрасно.
Потом она подошла к койке.
Матрасы там были. Были подушки, хотя и без наволочек. Были серые одеяла. Все это очень неновое, вероятно уже списанное за истечением срока годности.
Но гостья с таким же бережным любованием осторожно погладила одеяло и опять на мгновение обернулась к Зубцову, приглашая и его разделить радость.
Она погладила стенку вагончика.
«Чудная же ты, — подумал Зубцов, но уже с опасением. — Живешь во всем блеске столицы, ходишь по коврам да паркету, и все тебе тут в удивление». Он твердо решил, что диво это явилось не из Тюмени, и не из Новосибирска, а из самой Москвы.
Оконное стекло гостья тоже погладила, подула на него, подышала, потерла ладошкой, счастливо засмеялась.
— Это тайга? — кивнула она в сторону елей.
— Тайга, — нерешительно ответил Зубцов.
— И с медведями?
— С медведями, — отозвался Зубцов, продолжая настороженно думать: «Чокнутая… Ну, ребята… Ну, ребята… Вот это да…»
После этого она села на табуретку и положила на колени руки. И Зубцов (он как вошел, так и продолжал стоять возле шкафа для спецовок) увидел, что теперь прекрасная незнакомка в упор глядит на него, и настолько жадно, с такой откровенной радостью, с таким стремлением навеки запечатлеть в своей памяти каждую черту его лица, складку одежды, фигуру, что ему сразу стало ясно: и радость эта, и восторг предназначаются лично ему, Федору Зубцову. Больше никто и ничто во всем свете не существует для этой незнакомки. Ему — вся ее беспредельная приветливость, бесхитростное намерение понять и всем сердцем принять его, Зубцова, таким, какой он есть. И явилась она на скважину лично к нему. Он ей дороже всех.
И ради него, говорил ее взгляд, надела она сверкающий белизной модный костюм, хотя знала, что отправляется в глухую тайгу. Для него так тщательно уложила свои льняные волосы. И тонкие брови вразлет — для него. И блеск больших голубых глаз тоже.
Ничего иного. Зубцов был совершенно уверен, этот взгляд не выражал.
Он подошел к столу и опустился на табурет напротив.
В его жизни подобного случая никогда прежде не было. Ни одна дивчина еще не смотрела на него такими глазами. И он тоже стал смотреть на нее, как ни на кого не смотрел: с восхищением, робостью и ожиданием счастья.
Потом он привстал, распахнул окно и выглянул наружу, чтобы все-таки обнаружить спутников этой незнакомки. Не сбросили же ее с парашютом! И уж конечно, не могла она пройти в своих белых туфельках всю ту пропасть километров по дремучей тайге и непроходимым болотам, которые отделяли скважину даже от самого ближайшего к ней лесного поселка.
Зубцов вспомнил вдруг, что в последний раз так и не сделал на скважине никаких записей, поднял с пола бушлат, вынул из него тетрадку, повесил бушлат в шкаф и, ничего не сказав, вышел из вагончика. Хоть и не отдавая себе в том отчета, он делал все это, чтобы справиться с сумятицей в мыслях.
Давление по-прежнему было 45 атмосфер, и это, пожалуй, больше, чем солнечный день и безмятежное пение птиц, принесло ему трезвое понимание того, откуда и зачем взялась такая удивительная гостья: это новая форма обслуживания, придуманная промысловым Домом культуры. Артисты внезапно являются на скважину, дают концерт, а сколько народу его смотрят, один человек или сто, им безразлично. Главное, чтобы всех охватить. Впрочем, давать концерт малому числу людей даже легче.
— Культур-рная работа, — проговорил он вслух. — С доставкой на блюдечке.
В вагончик Зубцов вошел уже совершенно успокоившийся, сразу направился к умывальнику, не торопясь и очень старательно, с помощью не только мыла, но и специальной пасты, мгновенно съедавшей самую застарелую грязь, вымыл лицо, руки, шею.
Он отплевывался, сморкался, фыркал — словом, вообще вел себя так, будто в том, что за его спиной сидит гостья столь изысканной внешности, не находит ничего необычного.
Он снова начал игру в бывалого парня, которого никогда и ничем не удивишь.
Вытершись и причесав кудри, он подошел к столу.
Гостья тотчас поднялась с табуретки, еще раз с самой восторженной улыбкой оглянулась вокруг, провела ладонью по краю стола, явным образом удостоверяясь, что все это ей не кажется и стол действительно существует, и сказала:
— Меня зовут Дарима Тон.
Зубцов без малейшего стеснения протянул руку:
— Федор.
Проговорив это, он еще секунду-другую не отпускал ее узкую с тонкими пальцами и теплой шелковистой кожей руку, проницательно, как считал, думая: «Точненько. Все так и есть. Но когда же ты, голуба, заявилась на скважину? В вертолете, кроме нашей бригады, никого не было. Значит, забросили раньше. Отсиживалась в тайге. Милое дело!»
Он представил себе ее сиротливо приютившейся под елью и не без ехидности рассмеялся.
Дарима Тон глазами указала на лежащий на столе радиоприемник:
— Это связь?
Зубцов, не ответив, насмешливо склонил голову набок.
— Радиосвязь? — повторила Дарима Тон, вдруг посерьезнев. — И она сейчас действует?
Ни слова не говоря, Зубцов нажал кнопку включения. Из динамика вырвался шум атмосферных разрядов.
— Черти горох молотят, — снисходительно скривившись, бросил он. — Ни одной станции.
Она просительно вскинула руки:
— Пожалуйста, не расстраивайтесь. Так сейчас и должно быть в радиусе пятидесяти километров. Побочный эффект. И это, к сожалению, конечно, здесь многим мешает.
— Кому-у? Да тут ближе чем на семьдесят километров ни единой души, вот так-то. — Зубцов отступил от стола и с легким поклоном помахал воображаемой широкополой шляпой. — А что до моего расстройства, уважаемая товарищ гостья, то уж такое обстоятельство как-нибудь, прошу вас, переживите.
Дарима Тон слушала эти слова и следила за его движениями с самым напряженным вниманием.
Он не стал продолжать.
— Но это — нефтяное месторождение?
Она указала в окно, на арматуру скважины.
— Да.
— Нефть качают по трубам?
— Да, вообще-то.
— Если никакого иного средства связи в вашем распоряжении нет, надо этими трубами воспользоваться.
— Но как же, милый мой мотылек? — Зубцову опять стало весело. — Затрубить в них на всю округу?
— Прекратить подачу нефти. Через несколько часов сюда прилетят.
— В том-то и дело, что никакого трубопровода нет, — хмуро ответил он, вовсе не стараясь скрыть своего недовольства этой странной настырностью незваной гостьи. — Скважина разведочная, нефть в ней не ждали. Расположена в стороне. Пробурили и поставили на консервацию.
О том, что начались чудеса с давлением и скважину, возможно, вообще не будут эксплуатировать, говорить он не стал.
Дарима Тон встревоженно взглянула на Зубцова:
— И значит, контакт с кем-либо за пределами этой местности в продолжение всех предстоящих суток невозможен?
Он не смог не съязвить:
— Это уж точненько. Будем сидеть как в коробочке… Кругленькая такая, жестяная, в цветочках. Из-под конфет под названием «монпансье».
— И не потому ли потом никто не смог узнать, что я здесь когда-то была? — не обращая внимания на издевательские нотки в его голосе, требовательно спросила она.
Зубцов хмыкнул. Подумаешь, потеря! Да и как это понять? Что она сюда уже прилетала?
— Через сутки я должна вас покинуть, — продолжала Дарима Тон. — За такое время можно слетать на Марс.
— Ну это знаешь когда еще будет! — Зубцов решительно перешел на «ты». — Думаешь, не читал?
— Да-да, — согласилась она, вовсе его не слушая. — Это очень тревожное обстоятельство.
— Ушами не надо было хлопать, когда в дорогу собиралась. — Зубцов по-прежнему ничего не понимал и говорил тем более раздраженно, с досадой: хочешь не хочешь, а придется нянчиться с этой девицей, утешать, устраивать на ночлег, а удобств тут всех — с гулькин нос. — Передатчик надо было захватить с собой, — сердито закончил он.
— Какой? — спросила Дарима Тон и теперь уже сама включила «Меридиан».
Знакомый треск разрядов послышался из него. Она выключила приемник.
— В этом районе любой ваш радиоаппарат сейчас бесполезен. А других у вас нет. Их вы еще не изобрели.
Зубцов едва удержался, чтобы не выругаться. Плетет ерунду, и еще с таким умным видом!
— А если просто идти? — спросила Дарима Тон.
Зубцов махнул рукой.
— По болотам? Ты что? Кто тебя одну пустит? И не думай. Заблудишься — на меня потом всех собак повесят. А я от скважины — никуда.
— Значит, с кем-либо за пределами этого места связаться нельзя?
Она спросила это, с такой болью и с такой мольбой глядя на Зубцова, что тот, не найдя ничего лучшего, привлек ее к себе, и она доверчиво припала к его плечу. И тогда он взял ее голову обеими руками и неожиданно для самого себя поцеловал в губы.
Она попыталась оттолкнуть его.
— Чудачка, — сказал он. — Чего расстраиваешься? Денька через три будет вертолет. Это точно.
— Только через три дня? — спросила Дарима Тон, и Зубцов почувствовал, что какой-то невидимый, но очень плотный слой уже отделяет ее от его рук.
Он попытался прикоснуться губами к ее волосам. Но и их защищал теперь невидимый плотный слой.
Зубцов изо всех сил обнял Дариму Тон.
И в ту же секунду оказался на полу вагончика.
Он поднялся с пола и, не глядя на Дариму Тон (она с прежней своей самой приветливой улыбкой стояла, держась рукой за спинку койки), повернулся к ведру с водой, взял ковшик, напился, подошел к окну.
Солнце уже скрылось за стеной леса, на поляну легла тень, в вагончике стало сумеречно.
Зубцов сел на табуретку, оперся локтем о стол, положил на ладонь голову и, глядя на странную гостью, спросил:
— Откуда ты?
Дарима Тон ответила не сразу. С ее лица сошла улыбка. В две узкие полоски собрались губы. Белизна разлилась по щекам. Еще помолчав, она наконец очень негромко и грустно сказала:
— Я из две тысячи девятьсот девяносто восьмого года.
— Что-о? — Зубцов медленно, будто в нем туго распрямлялась пружина, поднялся. — Ты… вы… ты…
Теперь, как совсем еще недавно Дарима Тон, он тоже вертел головой, поспешно и жадно оглядываясь: да где же все это происходит? Мир-то не перевернулся ли?..
— И… и — тут? — наконец смог он спросить, почему-то указав пальцем в угол вагончика. — В глу… глухомани?
— Почему?
Она смотрела спокойно-спокойно. Зубцову показалось, глаза ее-совсем не мигали.
— Это сейчас так, в вашем времени. В нашем здесь — Всепланетный исторический институт.
Она подошла к окну. Зубцов приблизился тоже, но стоял, напряженно стараясь не прикоснуться к Дариме Тон, и потому из-за ее плеча ничего не видел.
— Как раз там, где проходит дорожка, — экспериментальная камера.
— И потому-то тебя к нам занесло?
Он все еще не верил тому, что услышал.
— О нет! Но в вашу эпоху именно в этой точке земного шара оказалась, как мы говорим, временна́я площадка.
Зубцов отступил от Даримы Тон, насколько позволяли размеры вагончика, чтобы увидеть ее разом всю, от головы до ног. Мысли его метались. Дивчина красивая, ничего не скажешь. Но тоненькая же! И ростом ему по плечо. А что, если правда? Тогда хорошо хоть, что буровики здесь уже работали: поляна, вагончик… Прилетела бы на пару лет раньше — таежные дебри. Волком вой — никто не услышит.
— И что же? — вырвалось у него. — У вас там, в том институте, никого другого не нашлось, чтобы послать?
— Как это — другого? — Дарима Тон удивленно наморщила лоб. — Я не совсем понимаю.
Зубцов двинул плечами.
— Мужика надо было, покрепче.
— Какая разница!
Он хотел было продолжить: «По силе-то разве сравнишь?», но вспомнил, как летел через весь вагончик, и согласился:
— Верно. И у нас так. Идет в штанах, пиджаке. Как двинет кувалдой — пойди разбери кто: мужик, баба?
Он ворчливо проговорил это и вдруг подумал о том, что ему отчаянно не повезло. Случись такая встреча в поселке, он надел бы черный костюм, московский широкий галстук. Или даже будь на нем сейчас новенький комбинезон, рубашка с кармашком, из которого торчит штангелек, как у того же Тимофея Кращенко, разве Дарима Тон не взглянула бы на него иными глазами?
А теперь получалось к тому же, что то, какие отношения сложатся между нею и им, важно не только лично для него самого. Раз уж ни с кем за пределами скважины невозможно связаться, следовательно, он принимает гостью из будущего от имени всего сегодняшнего человечества!
— Мне нужно тебе объяснить, — сказала Дарима Тон.
Зубцов благодарно улыбнулся на это «тебе». Значит, поняла: тогда он ее всего лишь пытался утешить.
— Ты спросил, почему я здесь?
Дарима Тон отошла к стенке вагончика. В руках у нее была блестящая прозрачная пленка.
Она приложила ее к стенке вагончика прямо поверх плаката «Встретим Новый год трудовыми победами!», и пленка осталась висеть, как приклеенная.
После этого Дарима Тон возвратилась к койке и села на одеяло. На ее губах появилась слабая улыбка, а на месте пленки вдруг словно бы открылось окно в очень солнечный и зеленый мир. Через это «окно» он, Зубцов, с большой-большой высоты глядел на вершины густых, почти вплотную смыкающихся кронами, деревьев.
Но уже через считанные секунды картина стала другой. Теперь Зубцов как бы стоял на балконе одного из многоэтажных домов и отсюда, сверху, смотрел на такие же другие дома, любовался тем, как они своими стенами, крышами прорезают ковер этого сада или леса.
— Наш институт, — услышал он голос Даримы Тон и оглянулся. Она сидела опустив плечи. На «окно», или, как Зубцов сразу стал это называть про себя, на экран, не смотрела. Впрочем, она не взглянула и на него. Пожалуй, впервые за все время их знакомства не ответила на его улыбку улыбкой.
Он опять стал смотреть на экран. Дома были во много этажей, но вместе с тем вовсе не казались громоздкими. Вглядевшись, он понял, в чем дело. Город раскинулся у подножия гор! Их вершины белели от снега. Но что за горы могут быть в этом краю? Уж настолько-то Зубцов географию знал!
Дома приближались. Наконец почти весь экран заполнил угол всего лишь одного здания. Оно было из белого шероховатого камня. От его подножия начиналась травяная полоса, далее переходившая в песчаный пляж. Запах водорослей и грохот прибоя ворвались в вагончик. Он вздрагивал от ударов накатывающихся на берег волн. Черноволосый широкоплечий парень в серых спортивных брюках и голубой рубахе (ее перламутровый воротник был так огромен, что его концы крыльями лежали на плечах) удалялся от берега, как по тверди ступая по водной поверхности. Время от времени он оборачивался и прощально махал рукой.
Стена здания надвинулась на экран. Теперь его занимал простор ярко освещенного зала, стены, потолок и пол которого имели вид исполинских пчелиных сот. Все тот же парень в голубой рубахе и спортивных брюках, свободно раскинув руки, птицей летал вдоль стен. Иногда он вдруг застывал над отдельными ячейками, всматриваясь в них, что-то там делал и вновь продолжал свое легкое, неслышное передвижение.
— Экспериментальная камера, — слышал он между тем голос Даримы Тон. — Летающий парень — Год Вестник, сотрудник института, чемпион мира по самбо и каратэ.
Зубцов почувствовал себя задетым. Кто он ей, этот Год Вестник? Жених? Муж? Самбо и каратэ! Хвастается! Нашла момент!..
Экран погас.
Зубцов обернулся. Дарима Тон продолжала сидеть все с тем же задумчиво-отрешенным выражением на лице. «Может, она и мысли мои читает? — подумал он. — Но я же о ней худого — ни сном ни духом. Наоборот!..»
— Погоди, но откуда здесь горы? — спросил он, указывая на пленку, висящую на стенке вагончика.
— Работа инженерных геологов, — ровно, как-то даже безжизненно отозвалась она, не меняя позы. — Ради улучшения климата. К тому же, если город у гор, жить в нем приятней.
Он продолжал:
— Но почему я тебя-то в этом кино ни разу не видел? Не снимали?
— Это всего лишь то, что я вспоминаю. — Голос ее потеплел. — Ты просил рассказать про институт, про его окрестности. А саму себя мне трудно представить. И всегда это разочаровывает.
Дарима Тон опять улыбнулась, но по всему ее виду Зубцов понимал, что она чем-то очень огорчена и думает совсем не о том, о чем говорит. И он тоже вдруг огорчился, будто был виноват, и, заглушая в себе это чувство, панибратски сказал:
— Спасибо. И привет тому парню. Пусть живет и не кашляет. А если надо что-нибудь сообщить нашим ученым, так что же? Через недельку буду в поселке. Хочешь, специально поеду в Москву. Денег, думаешь, нет? Навалом! Мы же нефтяники! — Он протянул ей свою тетрадь. — Пиши.
Она взяла тетрадь, не раскрыв, положила рядом с собой, благодарно кивнула ему:
— Все гораздо сложнее.
— Эх ты! Не веришь?
— Верю. Но все это гораздо сложнее. Надо подумать.
— Над чем?
Она пожала плечами:
— В первую очередь над тем, почему до моего вылета там, у нас, ничего не было известно об остановке в вашем времени.
— Милая! Как это могло тогда быть известно?
— Но ведь, если такая остановка когда-то случилась, до нашего времени должны были дойти отзвуки этого посещения. Скажем, в виде находок историков науки, не объяснимых ничем другим, как только визитом из будущего. А их, во всяком случае на момент моего отправления, не было. И вот… что из этого следует? Для меня. Но и для тебя тоже.
— Понимаю, — произнес он, хотя на самом деле совершенно не мог взять в толк того, о чем она говорит. — Понимаю… Но если я сумею тебе как-то помочь…
Он замолчал, жадно вглядываясь в нее и все более обнаруживая во всей ее внешности: легкой смуглости кожи лица, трогательно изящном изгибе шеи, плавном овале щек — и в тоне негромкого и все время слегка меняющегося — смеющегося и вместе с тем грустящего — голоса именно то, что всегда наиболее привлекало его, Зубцова, в других девчатах. Однако в Дариме Тон все эти желанные ему черточки были особенно ярки, прекрасны.
Он даже вроде бы вдруг оглох от такого своего открытия, утратил нить разговора, ошеломленный сознанием того, что ему достаточно лишь смотреть на нее и от этого одного он будет чувствовать себя безмерно счастливым. Такое случилось с ним впервые в жизни и пришло (теперь он был уверен в этом) еще в тот миг, когда он увидел ее на тропинке, ведущей к вагончику.
Она же, будто все это разгадав, особенно благодарно улыбнулась ему.
Он сказал:
— Не волнуйся. Останутся отзвуки. Прилетит бригадир — такое грянем!
— Нет. — Она упрямо повела подбородком. — Уже ничего не удастся сделать. Чего не было, того не было.
Зубцов бесцеремонно протянул в ее сторону руку:
— Дай пощупаю. Как это — не было? Да мы в лепешку ради тебя расшибемся!
Дарима Тон еще раз благодарно улыбнулась:
— Спасибо. Но лично со мною-то все обстоит очень просто. Ушла — возвращусь. И так быстро, что в моем времени не пройдет и мгновения. Поверь, гораздо больше загадок в твоей судьбе.
— Та-ак, — протянул он, настораживаясь. — В моей-то моей, но ты здесь уже добрый час. Да еще в прошлом быть собираешься…
— Значит, мой обратный путь окажется короче на несколько суток — оборотов Земли, но и только.
— Та-ак, — повторил Зубцов, тоскливо подумав: «Все же не розыгрыш ли, братцы мои?», и сам, как предательства: «Нет-нет!» — испугался этой мысли.
— Но почему тебя удивляет мгновенность полета? — продолжала она. — Ведь я никак не могу возвратиться в свое время раньше, чем ушла из него. Это значило бы, что в какой-то момент там стало два одинаковых человека. Главное, впрочем, в другом. Произошло бы удвоение массы. Очень резкое, противоречащее закону сохранения вещества.
— Ну и что?
— Как ну и что?
— Изменить его, что ли, нельзя? Сама показывала: твой друг пошел по воде.
Дарима Тон смотрела на него с веселым изумлением.
— Но это же закон сохранения вещества! Попытайся нарушить — катастрофа, взрыв. Да какой!
Он не сдавался, хотя понял, что попал в достаточно глупое положение.
— Вернись позже.
— Но и это взрыв.
— Все тот же закон?
— Громыхнет Тунгусским метеоритом. Был такой случай в вашей эпохе. Споры о том, чем он вызван, идут и у нас.
— Ого!
— Если смотреть со стороны, то полет по времени выглядит так: человек входит в аппарат, тут же его покидает, но уже обогащенный всем тем, что узнал в полете.
— Это если не грохнуло взрыва.
— О да! Но — не надо. Будем считать, что вышел благополучно.
— И уже с сувенирами, — добавил он, сварливостью тона маскируя растерянность.
— Нет. Передать можно лишь информацию, мысль. Иначе опять же: исчезновение массы в одной эпохе, избыток — в другой. Пыль сапог и та полыхнет ядерной бомбой. Наша аппаратура это сдерживает, но лишь на время полета.
— Та-ак, — еще раз протянул Зубцов. — А временны́е-то площадки зачем?
Дарима Тон устало улыбнулась:
— Все очень просто, Федор. Земля вращается то быстрее, то медленней. Ее центр тяжести идет по орбите волнообразно. Явления эти невелики. Вместе с тем они носят порою настолько случайный характер, что предвычислить их не удается. То же относится к возмущениям в движениях Солнечной системы, Галактики. А в результате очень велика вероятность того, что, перенесясь из эпохи в эпоху, окажешься ввергнут внутрь горного монолита, в поток жидкой лавы, в межпланетную пустоту. Я же, как видишь ты, без скафандра, да и структура сопутствующего мне поля на такие сюрпризы всего чаще отзывается полным разладом.
— Тот же взрыв?
Дарима Тон, подтверждая, кивнула.
— Нет-нет! — воскликнула она вслед за тем. — Временны́е площадки — величайшая редкость. Да еще такие, где можно предполагать пригодную для дыхания атмосферу, сносный климат. К тому же… — Она кивнула на плакат с лыжником. — «Встретим Новый год трудовыми победами!» Это лозунг Советской страны. Твой и наш миры социально едины. В этом еще одна очень большая удача. Окажись я здесь всего лет на семьдесят раньше, что бы меня ожидало?
Он прервал ее:
— Ну а тот мир, куда ты летишь? Секрет? Скажи! Я не болтун. Если это какая-то тайна…
— Смотри, — сказала Дарима Тон, и экран вновь засветился.
Лохматый босой старик в наброшенной на спину изодранной звериной шкуре неумело ковырял палкой землю; тощие негры крались в камышовых зарослях; десяток мужчин, женщин, детей — их бедра были едва прикрыты пучками травы — топтались на месте: месили ногами глину. Один из этих людей вдруг остановился, умными глазами глянул с экрана…
— Мозг первобытного человека, — говорила тем временем Дарима Тон, — был устроен не менее сложно, чем твой или мой. Но даже мы используем его мыслительные возможности всего на три — пять процентов. Вы, в общем, тоже не более. Загадка: почему это так, если по условиям жизни того нашего предка ему еще подобный мозг не требовался и, значит, он не мог сформироваться в результате мутаций и естественного отбора?
Теперь экран показывал улей. По дощечке перед входом в него бегала, выписывая восьмерки, пчела. Упрямо повторяла одни и те же движения.
— Танец пчелы! На таком языке это насекомое сообщает другим обитателям улья, далеко ли цветущее поле, как его отыскать. В организме ее около тысячи нейронов. Жизнь первобытного человека была едва ли так уж намного сложнее пчелиной, однако в его мозгу нейронов в миллионы и миллионы раз больше. Но опять же: зачем? Возникло случайно? Но тогда всплывает новый, и не менее трудный, вопрос: почему эти клетки не атрофировались? Ведь сколько-нибудь полно мозг человека окажется загружен только в грядущем!.. Природа экономна. Если какой-либо орган живого существа излишне велик, чрезмерно сложен, он постепенно начинает слабеть, упрощаться. Так действуют те же мутация и естественный отбор. И вдруг беспримерная расточительность: за миллионы лет до того как потребуется, образовать и упорно сохранять в человеке, в общем-то, очень уязвимую для болезни, удара часть организма, возможности которой еще долго и долго будут использоваться лишь на тридцатую долю.
— И ты летишь, чтобы понять?
— Нет. Это — побочное.
— Тогда зачем же?
— По мнению наших ученых, такой скачок в строении предка человека свершился пять миллионов лет назад. Установлена и та местность земного шара, где это произошло. И возникло предположение: такое изменение — результат вмешательства инопланетян. Прилетели. Какое-то время на Земле нашей побыли. Убедились, что разумной жизни на ней пока еще нет, устанавливать прямой контакт не с кем. Помогли, чем сумели.
— Ну! — Зубцов изумленно отшатнулся от Даримы Тон. — Ну!..
— И опять-таки дело не только в том, чтобы проверить это суждение. Само по себе оно очень ли важно? Но по времени можно путешествовать двумя разными способами. Передвигаясь в пространстве вместе с нашей планетой — так я явилась сюда либо, напротив, обособив себя от нее, от Солнца, Галактики, и тогда перемещение по времени превращается в межзвездный полет. Увы, но в космическом корабле такие полеты практически невозможны. Успех там дается ценой непомерно большого увеличения массы корабля, гигантских затрат энергии, а при передвижении в пространстве человека сопровождает всего лишь невесомое поле.
— Ну даешь! — Таким восклицанием Зубцов всегда выражал свое наибольшее восхищение. — В конце концов, не все ли равно, что от чего отъезжает: пароход от берега или берег от парохода?
— Да, но из-за того, о чем я уже говорила, и в том и в другом случае площадок для перемещения по времени ничтожно мало. И если считать, что это известно и другим космическим цивилизациям, то вполне допустима гипотеза: пять миллионов лет назад именно таким, вторым, способом их представители побывали на нашей планете. И могучий мозг, этот великий аванс человечеству, который они как бы нам тогда подарили, тому доказательство. Но основное — самое основное! — значит, временна́я площадка в той эпохе есть и наши братья по разуму в тот момент на ней были.
— И ты летишь, чтобы встретиться?
— Надо сообщить координаты площадки, которая есть в нашем времени.
— Но и нашей!
— Да. Теперь возможно и это.
— Ну даешь, ну даешь, — повторял Зубцов и вдруг подумал: «Однако коли тебя забросило сюда неожиданно, то не значит ли это, что во всем твоем полете произошло нарушение? Точно! Потому-то ты и волнуешься».
Но спросил он другое:
— А если на тебя там набросятся? Мало ли кто! Людоеды, зверье.
Дарима Тон натянуто рассмеялась:
— Все же гораздо хуже, если далекие предки человека просто обитали в непредставимо для нас трудных условиях. Таких, что выживали из них только те, чей мозг мог работать с многократно большей нагрузкой, чем требует даже наша эпоха.
«И в таком случае никакой временно́й площадки там нет», — про себя договорил за нее Зубцов и поежился. Вот что на самом-то деле ее встревожило. Еще бы! Почти верная гибель. Но и удержаться от полета было нельзя: ведь это возможность отыскать братьев по разуму!
— Возвращаясь, ты опять здесь появишься? — произнес он осторожно, словно ступал по тонкому льду.
— О да! — облегченно вздохнула она. — Завтра уйду. Если все пойдет, как предполагается, послезавтра вернусь.
— И снова на сутки?
— Не знаю. Покажет реальная обстановка. Может, всего на секунды.
— Однако послушай, — заторопился он. — Коли ты будешь тут лишь секунды, как я об этом узнаю? Хотя бы имя свое на земле начерти. На дорожке. — Он кивнул в сторону той стенки вагончика, за которой начиналась тропинка к скважине. — Долго писать? Давай договоримся: твой знак — кружок и в нем точка.
Дарима Тон не отозвалась.
— Какую-то весточку. Я как-никак живой человек.
Она дружески положила ему на плечо руку.
— Не горюй, Федор! Грустные мысли? Зачем?.. Верь, что я еще много раз прилечу сюда.
«Но ты же сказала, — пронеслось у него в голове, — что следов твоего пребывания в нашем времени нет. А если ты станешь здесь еще и еще появляться, неизбежно съедется промысловое начальство. Да что там! Ученые Москвы! Всего мира! Растрезвонят на всю планету!.. Значит, никаких твоих прилетов не будет. Утешаешь».
Уже стемнело. Зубцов снял с гвоздя на стенке фонарь «летучая мышь», поставил на стол, зажег.
Разложил на столе консервы, хлеб, колбасу, яблоки, спросил:
— Есть будешь?
Дарима Тон утвердительно кивнула.
— Подогрею чай, — сказал он.
Щепками растапливая печку, Зубцов продолжал:
— Встреча так встреча!
Он говорил подчеркнуто бодро. Теперь он боялся молчания. Гнал от себя мысль: «Никаких твоих прилетов не будет».
— Но ты же ничего еще не рассказала. А у вас там все по-другому: работа, еда, книги. И телевизоры, наверное, чудо!
— Хочешь прочесть хотя бы одну из наших книг? — отозвалась Дарима Тон, тоже явно обрадованная возможностью переменить разговор.
— Захватила с собой?
— Конечно. Записанные, естественно, особым образом.
— Как же я буду читать?
— Сейчас увидишь.
— Давай! — сообщнически воскликнул он.
Дарима Тон поудобней уселась на койке, указала на место рядом:
— Садись. Возьми меня за руку.
Он послушно опустился на одеяло, прикоснулся плечом к ее плечу, сжал в своей руке ее узкую ладонь. Все это было ему неизъяснимо дорого.
— Чтобы ты проще понял главную особенность искусства моего времени, — сказала она, — я прежде покажу отрывок из фильма, сделанного по такому же способу, каким пишутся наши книги.
Экран на стенке вагончика вспыхнул.
Это снова была экспериментальная камера, стены, потолок, пол которой составляли решетки гигантских сот. И парень в голубой рубашке и серых спортивных брюках птицей парил над ячейками, то замедляя, то убыстряя полет. Вот он застыл на месте, всматриваясь в одну из них, что-то стал в ней делать руками. Все было таким, как совсем недавно в воспоминаниях Даримы Тон, и все же с самого первого своего появления на экране этот парень был странно мил Зубцову — всей фигурой, каждым движением…
Лицо парня заполнило весь экран. Зубцов испуганно оглянулся на Дариму Тон:
— Это же я!
— Да, — тепло улыбнулась она.
Он вопросительно смотрел на нее.
— Да, — повторила она. — Да!.. Зачем вообще люди читают? Чтобы вместе с героями книг прожить еще тысячи жизней. Притом в разных обстоятельствах, облике. Не так ли?.. Примеряй на себя! Сопереживай! Думай!.. Но искусство моего времени делает такую возможность более полной. В наших фильмах, рассказах, романах один из героев — сам читатель, со всем его неповторимым характером и опытом жизни.
Зубцов слушал притихнув. Дарима Тон продолжала:
— Ваших обычных страниц в наших книгах нет. Берешь в руку кристаллическую пластинку — и мгновенно между тобой и записанным на ней произведением возникают взаимосвязи.
— А слова?
— Их читаешь с экрана.
— И ты взяла эти пластинки с собой?
— Нет. Мое снаряжение экспедиционного типа. Оно немного иное.
— И потому-то мне приходится держать твою руку?
— Да.
— А если, прости, этот читатель — ханыга, алкаш? Он себя таким и увидит?
— Все зависит от замысла автора.
— Нашли простачков! Цепью, что ли, читателя там у вас к книге приковывают?
— Почему? Что ты! Яркость сюжета, необычность обстановки, строй слов… Да и само то, что это про тебя ведь написано!.. Чем талантливей автор, тем шире читательский круг.
Экран опять осветился. На нем был все тот же экспериментальный зал Всепланетного исторического института. Но теперь из всех ячеек на полу, в стенах, в потолке вырывался огонь. Его струи вышвыривали черные глыбы, странно измятые, распухавшие на лету, и тот же парень (это был все он, Федор Зубцов!) взмахами правой руки испепелял их, потому что при каждом движении из его ладони вылетал белый луч.
Черных глыб становилось все больше. Они заполняли экран. Уже не было видно парня, и только луч света, сжатый до лепестка, веером разделившийся на несколько стрел, то тут, то там вспыхивал, не уступал всего пространства этой теснящей его темноте.
Экран погас.
У Зубцова на глазах были слезы. От столь непривычного для себя дела он едва не выругался. И суть заключалась вовсе не в том, что это «он» там, на экране, оказался зажат темнотой. С никогда не бывалой прежде яркостью ему вдруг вспомнилось то, как прошлой осенью на 463-й скважине ударил фонтан, и вспыхнул пожар, и вся их бригада ринулась укрощать эту стихию, а сам он получил приказ во что бы то ни стало отстоять нефтехранилища. (Взорвись они — не спасся б никто.) В его распоряжении была только струя воды из пожарной кишки.
Огонь обступал не только с боков, но и сзади. Пришлось почти по грудь войти в ледяную воду. Дело он сделал, но из озера его потом выносили: мускулы ног, рук, спины онемели от холода. Уже не надеялись, что вообще удастся спасти. Боялись, что остановится сердце.
Наконец он сумел проглотить подкатившийся к горлу комок и произнес:
— Здорово. Тяжелая у вас, братцы, работа.
— Ты знаешь… — Дарима Тон прижалась к нему плечом. — Подумать так над своею жизнью — и право, и счастье. Хорошая книга переворачивает судьбу.
— И мою бы тоже?
— Наверно. Если это будет тот автор, та книга.
— Интересное дело. И что бы такое я смог о себе узнать?
— Это мне неизвестно. Я не писатель.
— Интересное дело, — уже с обидой, заносчиво повторил Зубцов. — Ну так давай, режь правду-матку!
— Не могу, — ответила Дарима Тон.
— В кусты? Да? Эх ты! Тоже мне!..
— Ты же знаешь: сейчас я технически не могу оставить тебя с таким произведением наедине.
— Ну и что? — Зубцов любил задавать этот вопрос.
— Но читать о себе в присутствии постороннего? Ко всеобщему сведению выплескивать душу?
Зубцов ответил не сразу. Получалось-то, как ни крути, что мнение о нем этой далекой гостьи было вовсе не самое благоприятное. Куда там! Иначе разве стала бы она опасаться этого «выплескивания» его души? Снисходит. Он же наивным дурачком расстилался.
— Какие тонкости! — презрительно сощурился он.
— Да. — Дарима Тон высвободила из его руки свою ладонь. — Да! На планете нас гораздо больше, чем вас. Взаимное уважение, собственная непритязательность — основы нашей морали. И как же иначе?
Ее, конечно, задел его грубый тон. С извиняющейся улыбкой Зубцов попросил:
— Еще хоть что-нибудь покажи на этом своем экране.
Она, соглашаясь, кивнула. Экран снова вспыхнул. Теперь его заполняли строчки. По мере того как Зубцов прочитывал их, они уплывали под верхний обрез экрана.
«Он был одним из тех людей, чья мысль участвовала во многих крупнейших событиях века.
«…За большие заслуги, достигнутые в развитии науки и техники. Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда группе ведущих конструкторов, ученых, инженеров и рабочих…» — это относилось и к нему, лауреату Государственных премий, академику, руководителю немалого коллектива. Но известности в обычном смысле на его долю не выпало. Глядя на него в театре (он очень любил балет и оперетту), никто не шептал соседу: «Взгляните направо! Узнали? Это такой-то!..»
В служебные разговоры тоже проникла безличная форма. Говорили:
«Вычисления интересовавших вас значений энергии гармонического осциллятора закончены…», «Разрешите доложить! Получена радиограмма с объекта три-а-четыре: герметичность проверена, все в порядке…», «Заря» запрашивает: есть запас мощности, достаточно воздуха, воды. Готовы идти дальше…»
И даже дружеские разговоры о нем среди ближайших его сослуживцев велись без упоминания имени и отчества.
— …Получив такой потрясающий результат, Лешка вломился ночью к Ведущему, переполошил жену и детей, а самого поднял с кровати и повез в вычислительный центр.
— Ох и ворчал по дороге Ведущий!
— Нет. Только ежился да протирал глаза. Когда же приехали, мельком взглянул на расчеты, спросил: «Вечером вы пили оофе?» — и ушел, не сказав «до свидания». Лешка так и остался сидеть с открытым ртом и лишь под утро догадался, что значили эти слова. Составляя программу вычислений, он почему-то в уравнениях побочных условий приравнял все коэффициенты нулю. Их у нас обозначают буквой «К» — вот и вышло «оофе».
— И следовательно, никакого открытия… Наутро, конечно, разнос.
— Утром Ведущий сказал, что непременно построит машину, которая будет объективно судить о призвании каждого из людей. «О-о, берегитесь! — заявил он. — Она всех выведет на чистую воду. Безоговорочно. На молекулярном уровне. Тогда окончательно будет установлено, что вы, Сергей Виталиевич, рождены без промаха бить по воротам и потому в футболе, а не в постижении истин термодинамики окажетесь по-настоящему счастливы. Вам, наша высокоученая Марина Ивановна, надо спешно бросать физику высоких энергий и уходить в химики-кулинары…» — «А… а мне?» — спросил Леша, который после этой ужасной ночи собирался подавать на расчет. «Вам, — ответил Ведущий, — как и прежде, быть математиком. Вы здесь единственный, кому не нужен никакой анализатор генетических возможностей — АНГЕВОЗМ, как я назову его…»
Мысль о создании такой машины действительно увлекла Ведущего конструктора.
«В минувшие эпохи, — рассуждал он, — совпадет ли призвание человека и то, чем придется ему заниматься, почти всегда не зависело от самого человека.
Древний грек, родившийся со стремлением к полету, всю жизнь рвался в горы, на кручи, на скалистые берега, томился в тоске, завидовал птицам. Не потому ли возникла легенда об Икаре и Дедале, которые сделали крылья?
«…Яузской бумажной мельницы работник Ивашка Культыгин, — рассказывает летопись, — задумал сани с парусом, а у тех саней два крыла, а ездить они без лошади могут. Катался Ивашка на них на пустырях ночью. А Варваринской церкви поп Михаила донес в приказ тайных дел, что есть у Ивашки умысел, и, схватив, Ивашку пытали, и под пыткой он покаялся, что хотел выдумать еще телегу с крыльями, да не успел. Сани те сожгли, а Ивашку батогами нещадно били», — это семнадцатый век.
В те эпохи отгадывать свое призвание не было необходимостью. Коли ты родился рабом, тебе не заниматься наукой, даже если ты по уму второй Аристотель. Твою судьбу решили другие: быть тебе гладиатором и в двадцать лет умереть на арене. Если ты крепостной и не угодил барину в роли кухонного мужика, что толку в твоем таланте художника?
Ныне же вместе с истинным равенством к людям приходит наконец подлинная свобода выбора профессии. И каждый человек, вступая в жизнь, вправе знать, в чем бы он смог достичь высшей для себя (если, конечно, захочет последовать этой рекомендации) радости творчества. Создание АНГЕВОЗМа — социальный заказ времени!»
Эти рассуждения были только постановкой вопроса, — дело не такое трудное. Требовалось же отыскать метод специального исследования хромосом человеческой клетки. Ведь в них-то, как известно, уже с первых мгновений бытия каждой личности таится вся «информация врожденности», записанная чередованием групп атомов углерода, водорода, кислорода, азота и фосфора.
Дни Ведущего конструктора были заняты. Он работал над АНГЕВОЗМом ночами. Он завел особый блокнот и в минуты отдыха исписывал его страницы колонками формул и цифр. Он углубился в дебри генетики. Он конструировал микротомы и сверхбыстрые микроцентрифуги (эти устройства, впрочем, тут же пригодились для других разработок). Он искал способы мгновенного замораживания клеток. Он подбирал составы, чтобы одновременно окрашивать в разный цвет молекулы рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот.
Нужно было, наконец, собрать немалый сравнительный материал, потому что в конечном счете задача решалась статистически. На каждого, кто не отказывался уделить ему миллиметровой величины лоскут ткани своего тела, Ведущий конструктор составлял подробнейшую характеристику: достижения, темперамент, наклонности, физиологические особенности — всего почти полтысячи пунктов. Последними шли в этом списке скорость нервных процессов и биотоки действия различных групп мышц.
Все эти сведения он вводил в память счетной машины.
У него был немалый исследовательский опыт. Сотрудники лабораторий, которые он возглавлял, не считались со временем и не задавали недоуменных вопросов. Дирекция научного центра давно освободила его от мелочной опеки. Можно ли представить себе более благоприятные условия? И все-таки лишь через 10 лет наступил наконец тот день, когда Ведущий конструктор посчитал задачу решенной.
…Зал вычислительного центра. Стеклянные стены. Под потолком лампы дневного света. Бессильно опустив руки, Ведущий конструктор сидит у пульта машины и слушает, как генератор звукового контроля упрямо повторяет «Камаринскую». Это значит: введенные данные нелогичны. Машина отказывается их принять.
Снова и снова он перебирает в памяти ход исследования.
Укол в руку ланцетным шприцем. Лоскут ткани ложится на предметный столик. Дальнейшее аппарат делает сам: препарирует клетки, отделяет одну за другой хромосомы, вытягивает спиральные нити составляющих их белковых структур…
И вот уже десятки тысяч восемнадцатизначных чисел вливаются в память машины.
Итак, укол в руку…
Но почему «Камаринская»?
Ответ прост. Память машины набита сведениями о многих выдающихся инженерах, ученых, и теперь, когда последним проверочным тестом он вводит в нее данные о себе, оказывается, что это противоречит всему тому, что машине известно.
Однако он и действительно хороший конструктор! Хотя бы потому, что сумел создать АНГЕВОЗМ!
Надо идти с другого конца. Сведения о себе следует записать первыми, сказав машине: «Я — эталон. У всякого, кто по рождению инженер, ученый, распределение мононуклеотидов должно совпадать с моим. Не совпадает — они неудачники».
Он это и сделал.
Ответ был категоричен: «Да. Неудачники».
«Но кто же в таком случае я? — смятенно подумал Ведущий конструктор. — Спросить и об этом машину!..»
Тянулись минуты. Ведущий конструктор стоял спиной к пульту и по гудению генератора звукового контроля отмечал, что вычисление идет трудно, с возвратами к началу задачи. Наконец, и, как всегда, неожиданно, пришла тишина.
«При значительной общей одаренности, — прочитал он на экране дисплея, — в некоторых разделах человеческой деятельности, переходящей в весьма значительную, имеются врожденные способности величайшего артиста балета. Шапки долой — перед нами гений».
«Шапки долой — перед нами гений». Некогда эту фразу композитор Шуман в одной из своих музыковедческих статей адресовал композитору Брамсу. Он, Ведущий конструктор, ввел ее в машину, характеризуя специалиста в области гравитационных полей. Машина отдала эту фразу ему.
Балетный артист!
Нажатием кнопки он приказал повторить определение. Результат не изменился.
Тогда он изъял из памяти машины слова «артист», «балет», «гений».
Машина ответила так: «Индивидуум, которому свойственно уникальное строение нервной системы, сочленений и мускулатуры, обеспечивающее совершенное чувство ритма, особую чистоту передачи нервных импульсов и высочайшую четкость реализации мышечных усилий».
Это значило то же самое.
С непривычной тяжестью в плечах он перевел глаза на стеклянную плоскость стены и увидел, что уже рассветает.
…Из вычислительного центра он вышел, когда начало всходить солнце. Деревья, крыши зданий, алюминиевые переплеты окон пылали красным холодным золотом.
«Конструктор… экспериментатор, — думал он, идя по дорожке, усыпанной желтым песком и стиснутой пышными клумбами георгинов. — На самом деле ни то и ни другое».
Каждый балетный спектакль и даже любую уличную пляску он всегда принимал как праздник, — это верно. И уже с первых па видел весь рисунок танца: его середину, финал… И ему всегда казалось, что всякую музыку — симфонии, сюиты, сонаты, концерты можно представить в виде движений и получится связная картина, полная глубокого смысла. Верно и то, что, особенно в молодости, он часто во сне видел себя танцующим…
Ведущий конструктор остановился.
Но значит, он самым настоящим образом обокраден? Он, который прожил уже шесть десятков лет и ни разу не почувствовал себя несчастным?
Ему вспомнилась одна из конструкторских работ. Шла война. Фронт подкатывался к сердцу страны. Группа молодых ученых в кратчайший срок создала новый бронебойный снаряд. Чудо техники! Так о нем говорили. А ну, если вычислить, насколько это их изобретение приблизило день победы?
Ведущий конструктор беспомощно оглядывался. Ах да! Он привык думать у пульта машины. Все сразу же проверять числом.
«Вернуться и рассчитать?» — Он улыбнулся. — Но если бы в ту зиму мне стало известно, что мое место на балетной сцене, разве я ушел бы из конструкторского бюро?»
…Ночью Ведущего конструктора вызвали радиограммой. Уже через час самолет уносил его в горы.
Там, на краю земли, он трое суток почти без сна осматривал сооружения, давал советы, подписывал акты и все время с удовлетворением думал о том, как удивительно полно совпали в этой разработке мечта конструктора и ее воплощение. Об АНГЕВОЗМе он вспомнил только во время полета назад: «Да было ли это? Верно ли, что лишь крохи общей одаренности сделали меня инженером и ученым с такими заслугами, за которые мне еще при жизни поставлен на родине бронзовый бюст?»
Его вдруг словно встряхнуло.
«Но все же каков тогда истинный мой талант? — У него занялся дух. — И каких высот самовыражения, а значит, счастья и счастья сумел бы я достичь, следуя этому призванию? Каких же? Каких?..»
Экран погас.
Зубцов усмехнулся уголком губ:
— Фантастика?
— Уже нет.
— Понимаю. — Он снисходительно кивнул. — Хочешь сказать, что могла бы меня проверить на такой машине, да тоже нельзя. Вдруг получится, что я по призванию лапоть. И как тогда быть с этим твоим взаимным уважением? Думаешь, не усек?
Не отвечая, Дарима Тон взяла Зубцова за запястье. Почти тотчас экран осветился. На нем были слова: «Биологически ярчайше выраженная способность к мысленному оперированию понятийными и предметными образами без какого-либо отрыва от физической природы как объектов, так и явлений. Аналоги: Тэн Кемп, Юлиан Василевский, Вери Нгор».
Некоторое время Дарима Тон тоже вчитывалась в эти слова и — вдруг рванулась к экрану, вглядываясь в него так, будто не могла поверить своим глазам.
— Ты!
Она обернулась. Ее лицо восхищенно сияло. От этого она еще более похорошела, расцвела.
— Ты!
Зубцов ничего не понял из того, что прочитал на экране, и отшатнулся, ошеломленный этим ее стремительным поворотом и тем, как она теперь смотрела на него, каким голосом говорила.
— Ты знаешь, кто это? — спросила Дарима Тон.
— Кто?
— Кемп, Вери Нгор.
— Откуда же!
— Величайшие изобретатели! В нашей эпохе с их именами связано все самое удивительное: космические города, новейшие технологии. И они твой аналог! Но почему же ты сейчас здесь, в этом месте, а не в научном центре страны?
Зубцов обиделся:
— В каком таком месте? Бочку-то на меня чего катишь? Считаешь, не ценят? Да если хоть на какой скважине ЧП, ко мне среди ночи: «Федор Иванович! За вами машина…»
Дарима Ток не сводила с него все того же восхищенного, но теперь уже и требовательного взора. Он продолжал:
— Хочешь? Какой угодно агрегат перемонтирую! И пусть он будет не проще, чем эта твоя экспериментальная камера. Я по аварийке раму для газовой турбины устанавливал — махинища! — а ночь, вьюга была. Потом проверяли: микронная точность. Так и на заводском стенде не получается. А что у меня в руках было? Ключ да кувалда.
Она мучительно свела к переносице брови.
— Ключ да кувалда! Но ты понимаешь, что́ это такому человеку, как ты? Свайная баба для пианиста! Твоим рукам работать с прецизионными сервосистемами! Всякую твою техническую мысль должны подхватывать миллионы специалистов! А ты… Ты! И еще не знаешь об этом! Но ты же должен! Ты не имеешь права это в себе потерять.
Все ее отношение к нему стало другим. Сомнений не было. Теперь она смотрела на него не только с восхищением, что случалось и прежде, но и как на человека, суждения которого преисполнены самого высокого смысла.
— Скажи, — попросил он и подивился тому, насколько вдруг тон его собственного голоса тоже переменился, — что я мог бы сейчас для тебя сделать? За то время, которое ты еще будешь здесь?
— Ты все уже делаешь, — покорно ответила она. — Ты понял главное: тому, кто идет по времени, очень нужен душевный покой.
— Покой! — со злостью вырвалось у Зубцова. — Покой! Но это так мало!..
В 2 часа 30 минут следующего дня она улетела. Все было проще простого. Они стояли у вагончика.
— Надо же, — сказал Зубцов, — взять и вот так, налегке, появиться.
— Почему налегке… — Дарима Тон рассмеялась. — Знаешь, как много вмещается в одной голове! — Привстав на цыпочки, она провела по его кудрям ладонью. — Ты хороший человек. Спасибо.
Зубцов улыбался. На самом деле ему было тяжело настолько и такая безысходность владела им, что он едва удерживался, чтобы не закричать от сознания собственной беспомощности.
Воздух начал вздрагивать, как будто друг о друга ударялись листы железа. Сперва едва слышно, потом сильнее, громче, чеканней. День на какие-то мгновения потемнел. На том месте, что и вчера, появился сноп бьющих в небо радужных струй. Дарима Тон приблизилась к этим струям, шагнула в них. Обернулась к Зубцову.
— До свидания, Федор! — услышал он ее звонкий и уже удаляющийся голос.
Все исчезло.
Зубцов посмотрел на лес, на белые облака, неподвижными и плотными клубами висящие в голубом небе, на солнце, на зеленый вагончик. Все это выглядело нестерпимо резким, словно очерченным тонкими ослепительно яркими линиями.
Он подошел к скважине. Манометры показывали свои законные 45 атмосфер.
Зубцов поднялся в вагончик, включил транзистор. Кроме разрядов, в эфире ничего не было.
Почему все же она так и не стала что-либо передавать с ним ученым? Потому ли только, что ее появление в нашем времени не было предусмотрено? Или другое посчитала, будто это лишено смысла. Но тогда опять — почему?
Он сидел, облокотившись о столик, вслушивался в треск разрядов и думал: «Дарил покой!.. А если бы вместо меня был бригадир? Или тот же Тимофей Кращенко в своем комбинезоне с иголочки? Сумел бы сделать кто-нибудь из них для этой гостьи из будущего больше, чем я? И что еще сделать, если она появится снова?.. Или никогда не появится. Атомным взрывом полыхнула где-то в далеком прошлом. Я все равно буду ждать ее. Хоть неделю. Хоть годы. И еще одно. Как же быть теперь с этим новым знанием о себе: величайший изобретатель… Такой, как творцы космических городов!..»
Он поднял глаза на новогодний плакат. Экрана на месте его уже не было. Или был? Да-да! Искрилась прозрачная пленка. Значит, Дарима Тон возвратилась?
По экрану перемещались, уходя под обрез его верхнего края, слова.
«Но что это? — с испугом подумал Зубцов. — Рассказ, написанный по способу две тысячи девятьсот девяносто восьмого года, одним из действующих лиц которого буду я? И каким же предстану я в этом рассказе? Ведущим конструктором? Героическим парнем? А если трепачом? Пьянью?..»
Он стал торопливо читать.
«Трибуны стадиона были полны. Они цвели алыми стягами. От упругих звуков оркестра вздрагивал воздух. И все тысячи восторженных взоров скрещивались в одной-единственной точке там, где на зеленом просторе спортивного поля стояла девушка в белых брюках и белом жакете, отороченном горящим, как золото, кантом.
Он знал, кто это. Знал, в какой путь она отбывает. И он видел ее одновременно как бы с двух расстояний: очень издали, в глубине чаши стадиона, но вместе с тем так, будто стоял совсем рядом с нею, и потому различал малейшие движения губ, бровей, улавливал направление взгляда, грустного и счастливого и обращенного только к нему.
И он сказал:
— Я теперь знаю свои силы, Дарима. Я приду. Прорвусь в ту эпоху, в которой окажешься ты.
— В каждом таится гений… Я верю, — без слов, как-то иначе, прямо от сердца к сердцу, отозвалась она…»
Зубцов открыл глаза. Он сидел в вагончике у стола. Солнце светило в окошко. Счастливо смеялся мальчишка-лыжник на новогоднем плакате. Радиоприемник больше не сыпал разрядами. Из него вырывались слова песни:
Значит, не было ни того, что она возвратилась, ни того, что на стенке вагончика светились слова: «…знаю свои силы… приду…». Приснилось, Но сам-то прилет Даримы Тон было! И то, что «биологически» он великий изобретатель, ему ею сообщено! И значит, одно свидетельство того, что гостья из будущего действительно в нашем времени побывала, есть! Его задача — успеть доказать всем людям, что он как изобретатель, ученый еще в их XX веке стоял в одном ряду с теми, имена которых Дарима Тон называла. Опережал свое время на 1000 лет.
Но какая же это задача!..
Зубцов вышел из вагончика. Следовало что-то немедленно сделать со всей своей жизнью.
«Завтра она прилетит, — подумал он уже не только с надеждой, но и поднявшейся в нем особой решимостью. — Какие слова я скажу ей? Что всегда слышать ее, смотреть ее глазами на мир — счастье? Что я не могу жить без нее?.. Но разве этих одних слов будет достаточно?..»
Все следующие сутки Зубцов работал. Он убрал с территории скважины строительный мусор, обрезки труб, доски. Песочком посыпал дорожку. Вымыл изнутри и снаружи вагончик. Побрился так тщательно, что едва не содрал со щек кожу. Выстирал гимнастерку. Располосовал носовой платок и подшил новый подворотничок. Вышвырнул из вагончика и утопил в болоте картонную коробку с пустой винной посудой. (Она испокон веку стояла в углу, за печкой, и Дарима Тон, хотелось думать ему, ее не заметила.) Он собрал на окрестных опушках букетик ромашек. Он горел, как в лихорадке, не мог ни есть, ни спать и за одни эти сутки похудел не меньше чем на три килограмма.
Но безмятежно сияло солнце. Безмятежно зеленела тайга.