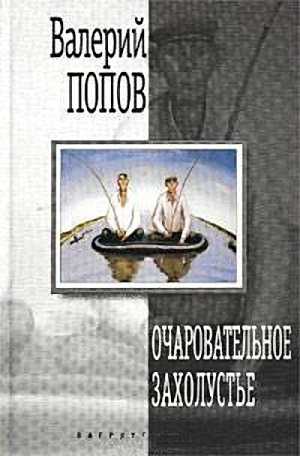
ГЛАВА 1
— Вы знаете, что у Есенина и Зорге был сын?
Я пошатнулся, но устоял. Редактор смотрел на меня пытливо и благожелательно. И это — та работа, которую мне давно таинственно обещали мои друзья, ради которой я сырым летом прогнал свою семью в холодную, дырявую халупу? Работа, которая резко должна была поднять мой имидж, а главное, доход? Не молчи! Какой-то реакции он от тебя явно ждет: если не восторга, то, во всяком случае, признательности. Главное — не сглупить, не задать мелкий, недостойный серьезного специалиста вопрос типа: «А как же у них?..» Сексуальный интерес отметаем сразу: это не тот масштаб. Редактор явно ждет от меня реакции более зрелой. А такие мелочи… Рихард Зорге, насколько я помню, был гением конспирации, так что вполне мог оказаться и женщиной.
— Но это же в корне меняет… многие страницы нашей истории! — изумленно произнес я.
И это была правильная реакция: редактор расцвел. Если уж они приоткрыли некоторые тайны своих архивов, то наверняка не для того, чтобы подогревать в ком-то чахлый нездоровый огонек, а для того, чтобы по-новому осветить нашу историю. Я гордо выпрямился — гордый тем, что мне доверили такое задание.
Но душа скулила где-то в углу. Меня больше волновала сейчас не судьба сына Есенина и Зорге (даже если он существовал в действительности), а моя собственная судьба. Как же я сюда докатился? Ведь когда-то писал все, что мне хочется! Молодость! Дерзость! Жадность! Из этих качеств осталось только последнее, только жадность и удерживает меня пока на ногах, низкий ей поклон.
Но друзья, мои друзья, направившие меня сюда с мудрыми и проницательными улыбками, считают, что я как раз до этого дозрел и больше уже ни на что не способен? Так, видимо. Это конец. И надо принять его мужественно, с улыбкой.
— Мы настояли, — сообщил мне радостно Андре, — и они согласились пустить тебя — именно тебя — в их гнездо!
Но яички тут оказались тухлые.
— Вы даете эту папку мне? — спросил я дрогнувшим от счастья голосом.
— Увы, нет, — после долгой паузы вздохнул он. — Пока еще не имеем права. Слишком многие из перечисленных здесь еще в строю.
Это плохо.
— Пока могу вам дать одну лишь фамилию… — Редактор вздохнул. — Полковник Етишин. Он задействован в этом весьма непосредственно.
— …Я могу его видеть?
— …Увы, нет.
Да. Небогато. А как в смысле аванса?
Чужие мысли он читал без труда.
— Насчет финансов вам все скажут в бухгалтерии. Я в этом не разбираюсь! Он благодушно отмахнулся ладонями: мол, и без этого хватает забот! — Ну, — он приподнялся, — мы надеемся на вас! На вашу добросовестность, принципиальность, а если понадобится, — он сделал паузу, — и смелость!
Вот это зря. Смелость бы мне не хотелось сюда вкладывать. Да и вообще… Но что делать? Другой работы мне не светит в ближайшие годы. Мое место — тут. Печально это понимать. Улыбайся, прощайся.
Рукопожатие у него оказалось довольно вялым. Не поверил в мои возможности?.. Правильно сделал.
Ну, Андре, гад, который непосредственно направил меня сюда!.. «Твоя книга перевернет все!» Как бы она меня не перевернула, мой утлый корабль! Друг мой Андре, с его необыкновенной доброжелательностью и простодушием, не способный хитрить и лукавить, и зачитал мне со светлой улыбкой смертный приговор.
Никогда не видать мне полковника Етишина, а если даже я с риском для моей и его жизни найду его, то полковник, разумеется, ничего не напишет и не расскажет. В хорошую иллюзию я ухожу… похожую на иллюзию вечной жизни.
Осталось только поблагодарить Андре, заглянуть в его добрые глаза. Как деликатно и красиво проводил он меня в последний путь! К сожалению — не долгий. Выданного аванса хватит не более чем на месяц, а если поделиться им с семьей, что неизбежно, то на неделю. Спасибо, Андре!
Я вскарабкался к нему на мансарду по крутой лестнице… Как он по нескольку раз в день сюда забирается с больной ногой? И никогда не жалуется! Светлая душа.
Владелец «светлой души» встретил меня с некоторым испугом.
— Если будешь еще и благодарить — я обижусь! — воскликнул он, но зато сам вместо меня заговорил взволнованно: — Ну и что они там? Крутились небось, как угри на сковороде? Пытались наверняка вырвать самые важные страницы?!
Да. И это им удалось. Вырвали самые важные страницы. То есть все. Но говорить это Андре я не стал. Человек хотел мне добра. И его сделал. То самое добро, которого я сейчас, видимо, достоин.
— Что там с нашим «Ландышем»? — спросил я, повернув разговор в желанную для меня сторону. — Фунциклирует? Что на этот год?
Андре ласково улыбнулся, подмигнул.
— Понятно. Хочется размяться перед серьезной работой? Узнаю обязательно Любе позвоню.
«Давно, усталый раб, замыслил я побег». Всю зиму я только и мечтал что об этом «Ландыше».
Образовался он абсолютно неожиданно. Это на первый взгляд. Год назад мы чудесной компанией поехали в Спиртозаводск: Лунь, совесть нашего поколения и всех предыдущих, Сысой, как бы его «сменщик», но не обладающий, на мой взгляд, ни одним из требуемых для этого качеств, Марьев, главный редактор журнала «Марево», историк Ушоцкий, социолог Сутрыгин, молодая поэтесса Любовь Козырева, введенная в группу (лично мной) для молодого задора, скульптор-формалист Булыга, кинооператор Андрей Геесен (Андре) и я, летописец тех дней. Принимало нас, как это было тогда положено, местное начальство, кормило, поило, обувало, возило на разные водопады и рыбалки и на встречи с трудящимися, при этом мы абсолютно на всех встречах (так было принято в те странные годы) поносили это начальство почем зря: и экономику края они разрушили, и древнее деревянное зодчество (дома, превращенные в коммуналки) сгнило на их глазах. Самое странное то, что начальству полагалось сидеть при том с покаянным видом. Я старался хоть как-то их похвалить (водопады тут, в общем, неплохие), но мои спутники глянули на меня с яростью (ренегат!), и даже Лунь, который с его совестью вписывался во все эпохи, посмотрел на меня с грустью и покачал головой: эх! мы были другими!
Когда мы шли уже на вокзал, я чуть приотстал, как отщепенец, и вдруг увидал, что подошла какая-то якобы пьяная компания, и после недолгих дебатов: «Позорите наш город!» — наших стали лупить. Наши почти не оказывали сопротивления, их сильной стороной было слово, только Любка, хулиганка с детства, отбивалась неплохо. Я кинулся к ним, но был отброшен крайним из нападавших: «А ты вали!» Так я и чувствовал, что защищенные мною водопады отольются мне горькой слезой! Однако мне все же удалось пробиться в эпицентр драки и получить несколько весомых плюх (одну, кажется, от Сысоя). Но это не спасло мою моральную репутацию: когда мы все вместе (правда, почему-то без нападавших) оказались в милиции, Сысой, достигающий небывалой своей моральной высоты в основном унижением других, рявкнул: «И ты смеешь после всего садиться с нами? Отойди!» Андре глянул на меня сочувственно, хотя поднять голос в такой момент в мою защиту не решился.
Неожиданно вошел генерал. Он был в довольно элегантном штатском, но то, что это был генерал, не вызывало сомнений. Лишь генерал может держаться в милиции столь непринужденно.
— Зорин Митрофан Сергеич! — запросто отрекомендовался он и сразу же сделал доброе дело: легким движением руки присоединил меня к общей группе задержанных. И даже Сысой-горлопан не подал голоса, он, в общем-то, неплохо представлял, где можно горланить и когда.
— Что же вы, братцы-новобранцы, натворили? — ласково заговорил Зорин. Народ наш вами не доволен. А?
— Во-первых, мы не новобранцы, а во-вторых, не ваши! — дерзко ответил Андре. — И народ, с которым мы имели контакты, — он тронул желвак под глазом, — не наш, а ваш!
— Я думаю, — улыбался Зорин, — нам нет смысла с вами ссориться. Не те времена. Я думаю, сейчас мы должны прилагать совместные усилия на благо общества!
Одним из таких «совместных усилий» и оказалась моя командировка в архивы, где мне был преподнесен уже упомянутый сюрприз.
После беседы мы были мгновенно тогда выпущены, более того, на перроне нас уже ждало телевидение (кажется, это Любка-партизанка сумела выбраться из окна туалета и все организовать). Уже героями, окруженные прессой, шли мы к вагону, и тут к седоглавому Луню, нашему бесспорному моральному лидеру, кинулась какая-то беззубая бомжиха в опорках и поднесла ему букетик ландышей, тугих, скрипучих, с прохладными белыми шариками меж листьев. И это сняли — и вскоре та фотография обошла мир. Бывают такие счастливые стечения обстоятельств!.. Или не бывает их? Вскоре после того, как Любке пришла мысль зарегистрировать наше сообщество официально (сопливого названия «Ландыш» я ей никогда не прощу), нас стали пускать в компании лучших людей, которых оказалось в нашей стране довольно вдруг много. И даже, благодаря энергии Любки, нас узнали за рубежом — и мы получили приглашение в международный круиз разных прогрессивных сообществ со всего мира по Балтике. Мы плыли в шикарных каютах, чудесно харчились, и все радостно приветствовали нас: ростки нового в пробуждающейся России! Лунь, конечно, был в центре — ясно, что это он нас пробудил.
Потом, правда, как это умел только он, Лунь резко от нас отмежевался и осудил, оставшись одиноким и белоснежным на недоступной простым смертным высоте (отсюда и прозвище). Проплыв с нами (в каюте, кстати, люкс), примерно через неделю он выступил с резким осуждением круиза: оказывается, мы совершенно не общались с представителями народов тех стран, где сходили на берег, предпочитая общество премьер-министров и членов королевских семей, кроме того, как указал Лунь, мы сами провели время довольно праздно, не приняв ни одного крупномасштабного решения и вообще не делая ничего. Что Лунь из любого дела вдруг вылетит, опозорив всех, на недосягаемую моральную высоту, было известно. Все были начеку — но, как всегда, проморгали: момент наиболее эффектный всегда выбирал он сам и никогда не ошибался, даже вдруг с внезапным (но точно рассчитанным) осуждением членов ЦК, что позволило стать ему недосягаемым авторитетом и на следующую, послецековскую, эпоху. Статья его о круизе, перепечатанная всюду, называлась укоризненно «Хоть бы кто-то стукнул молотком!». Мы, молодые циники, после перешучивались: «Что же это ты не стукнул?!» Однако шутки вышли запоздалые: молотком по башке досталось нам. Даже Андре, солнечный мальчик, был несколько обижен, хотя по доброте своей обещал узнать, что будет с «Ландышем» ныне, — у меня лично не было никаких других возможностей как-то отдохнуть, отвязаться от повседневности хотя бы на пару недель.
И если на то пошло — я-то как раз общался с простым народом: помнится, в салоне корабля, при стечении изысканной международной публики, я читал свой рассказ о том, как некрасивая девочка среди веселой молодежи, проносящейся по аллеям, гуляет вдвоем со своим папой, и как оба они этим расстроены, и как папа, чтобы хоть чем-то утешить ее, покупает ей шоколадку, и она разворачивает ее с громким металлическим шелестом фольги. Господа за столиками внимали равнодушно — но тут я вдруг увидал, как в черном проеме двери, ведущем в преисподнюю, в кочегарку, стоит кочегар-китаец с ломом в правой руке, а левой размазывает по щеке чумазые слезы. Все буквально перевернулось во мне! Как он понимал русский язык? (Корабль был датский.) Видимо, настоящее искусство не требует перевода!.. Так что и я в «Ландыше» не чужой, хотя некоторые стараются отчуждить меня от него. Причина ясна: им никогда не написать так, чтобы плакали кочегары! У меня и Есенин с Зорге еще заплачут, хотя я пока не знаю, отчего!
Теперь бы мне хотелось уединиться дома и предаться отчаянию — но и этого скромного наслаждения я был лишен. Отправив семью на дачу, я задумался, как жить дальше, и тут же раздался звонок в дверь, я кинулся навстречу счастью — в дверях стоял чернявый человек с мешком, смутно знакомый. Кузен из Удеревки, с которым мы пару раз якшались в детстве. Теперь, достигнув зрелых лет, он заимел специальность ветеринара и какую-то редкую болезнь, оперируемую только в Питере. Выписался и вот явился — в самый раз к началу получения удовольствий. Их он понимал довольно-таки своеобразно: занимался исключительно мытьем и катаньем меня. В первый же день, еще качаясь от слабости, он пошел прогуляться и купил где-то на развале самое отвратительное, что только мог найти, — раздвижную писательскую голову. Точнее — сразу много голов, вставленных одна в другую по принципу: одна голова хорошо, но чем больше, тем лучше.
— Во, гляди! — Петр поставил этот шедевр деревянного зодчества мне на стол. Зачем? Я с отчаянием смотрел на него: неужели не понимает, что моей головы там нет? Сейчас начнется пытка с откручиванием голов — причем откручиваться будут чужие головы, а страдать буду я! Подарить бы ему такое зеркало, где бы он не отражался! Примерно такие волнения буду сейчас испытывать я. Неужели он не догадывался, что меня в этой расчлененке нет? Догадывался! Еще как догадывался! Это и нравилось ему!
— Верхний — Пушкин, что ль? — простодушно спросил он, оттягивая мучительное вскрытие.
Верхний-то Пушкин. Это завсегда. А дальше — кто ж? Петр стал с жутким скрипом отвинчивать Пушкину голову. Это сам Пушкин жалобно стонал? Наконец с тухловатым чпоком и небольшим количеством опилок поэт раскололся. Следующим, знамо, оказался Толстой, глядящий скорбно и требовательно, словно вылезши из тюрьмы: «Как тут у вас с непротивлением? Блюдите, а то в бараний рог согну!» Хотелось бы поскорее следующего — дабы пытка эта не затягивалась до утра. Но следующий все никак не давался — точней, не давался конечно же сам граф Толстой, скрипучим голосом уверявший: «Да нет там более никого! Один я! А если кто и влез, то так, разная шушера — не стоит зря мозоль натирать, занялись бы лучше чем-то полезным!» Крепкий орешек! Но раскололся и он. На свет божий в умелых руках моего родственника, сельского труженика, появилась какая-то румяная кукла с завитым локоном и такими же усами. «Спи, младенец мой прекрасный…» — скорбно произнес мой родственник, знавший литературу гораздо лучше, чем можно было предположить. Лермонтов с круглыми глазами, казалось, не узнавал своих строк.
— Хватит на сегодня! — взмолился я.
— А что ж Гоголь? — строго спросил гость.
Да, уж без Гоголя никак. Давай крути.
Знатно я тут наслаждаюсь без семьи!
Откуда у этого остроносого человека такая же сила, как у Тараса Бульбы? Тут я имел в виду Гоголя, а не моего родственника, тоже черноглазого и длинноносого, родом из тех же южных степей, но не достигшего, увы, славы Гоголя. А кто, собственно, ее достиг?
Вот так мы весело, за расчленением, проводили вечера.
В Гоголе отыскался какой-то мелкий тип, которого можно было назвать «и другие»: маленькое личико с демократической бородкой и начесом на лоб. Это они поступили широко и гуманно: почти каждый может узнать в нем своего кумира. Чехов? Очень даже может быть. Пенсне, правда, отсутствует. Бунин? У Бунина, правда, нос поострей — но длинный нос сюда не полезет. Вполне Бунин может быть! И Куприн тоже — кто любит Куприна, тоже не промахнется. Даже Чернышевский пойдет, если кто его любит.
Все. Расчленять дальше некуда. Урок литературы окончен. Если он не принесет сегодня с прогулки еще более жуткую матрешку — грозился, что закажет с моим портретом, но, ей-богу, страшновато, когда отвинчивают твою голову!
В этот мой приход с сыном Есенина и Зорге на руках Петр мирно пил чай, за что я его чуть не расцеловал: бывают же приятные родственники!
— Домой-то собираешься? — чтобы еще улучшить впечатление о нем, поинтересовался я. Когда я навещал его в больнице, он просил помочь отправить его домой. Что я и делаю.
— Да уж окрепну когда! — Он прихлебнул чай из блюдечка.
По-моему, ты уже окреп достаточно, подумал я. Вон как писателям головы откручиваешь!
— Слабость какая-то! — отдувался Петр, приканчивая стакан уже, я думаю, пятый. — Тебе Любка звонила! — фамильярно произнес он.
— Что значит — Любка? — грозно спросил я. Еще помимо вскрытия писателей он будет лезть в мои семейные, а тем более — в несемейные дела?!
— Так уж она назвалась! — пояснил Петр.
…С Любкой особый случай был: она, если можно так сказать, пала жертвой моей скромности. Вариант редкий в отношениях между мужчиной и женщиной. Впервые я увидал ее на совещании молодых дарований в городе Пскове, когда еще интересовались такими дарованиями и совещаниями. Веснушчатые коленки довольно уникальный случай. Тем более — для гурмана, каким я был тогда. Впрочем, и проза ее местами радовала: «Николаева догнала его». Согласитесь, звучит как стих. Тут она и пала жертвой моей скромности — о чем, кстати, я не жалею. Поскольку в тот год Союз писателей окончательно терял свой смысл — и экономический, и престижный, — было принято решение: поразить мир хотя бы количеством членов. И на том совещании было объявлено, что каждый мастер, ведущий семинар, может рекомендовать любого семинариста в Союз, и тот будет немедленно принят. Иногда и скромность бывает полезна. Я Любку не рекомендовал: нахально малость будет. На это она откликнулась абсолютно фантастической деятельностью: закончила в городке Кстове под Псковом финансовый техникум, трудилась там старшей учетчицей на фабрике кистеней, потом рванула в Питер, но сразу не стала использовать свой диплом, а поступила работать в ларек. Появилась она у меня в доме внезапно, после кровавой драки со всесильным Ашотом, хозяином ларька, который взял у нее какие-то памперсы, но денег не дал. Если бы я принял ее в Союз писателей раньше, то как бы забота о ее воспитании свалилась бы с моих плеч, а так я вроде бы должен был еще воспитывать ее. Потом пошли еще более феерические приключения — у нее закрутился роман с красавцем начальником охраны пятизвездочной «Пенты», и тот настолько вдруг потерял голову, что стал селить ее в незанятых люксах, и тянулось это почти год, пока его не разоблачили его же товарищи и не выгнали с работы. Сокрушительное очарование Любки этим не ограничилось: в очередной раз в гости ко мне она пришла не только с красавцем охранником, потерявшим работу и семью, но и с каким-то лопоухим стеснительным субъектом, как оказалось, прорабом, чье семейное положение в связи с появлением Любки тоже резко изменилось. Тут даже не было отношений любовных: он стоял на вокзале и пытался сдать пустующую квартиру жены, поскольку та переехала к нему. Подвернулась Любка, как раз изгнанная бдительными товарищами ее охранника из люкса. Они сговорились с прорабом, поехали на Сенную, там унылый прораб открыл дверь и увидел свою жену с любовником. Жена, особа горячая, несмотря на неоднозначность ситуации, кинулась бить Любку, пытаясь перенести вину на лопоухого мужа. Однако Любка все поставила на свои места. Нарушил все юный любовник жены прораба, который признался в том, что они с его женой любят друг друга уже давно и встречаются регулярно: тут уже и терпеливый прораб хлопнул дверью и предложил Любке поселиться у него — естественно, бесплатно. Любка оговорила сразу же, что это ничего не будет значить между ними, и вселила еще и бездомного охранника. Прораб, однако, сохранил право всюду с ними ходить, поскольку личной жизни у него теперь не осталось. Любка, как ни странно, чувствовала себя в этой ситуации прекрасно: «Николай! Подай пепельницу! Сергей, не молчи — это в конце концов бестактно!» Видимо, ей не хватало еще меня, раз она привела всю эту ораву ко мне. Слегка подавленный такой жизненной энергией, я предложил ее для поездки в Спиртозаводск, после чего она стала незаменимым директором престижного «Ландыша», причем отстаивала наши интересы даже в Смольном, где вроде бы у нас не могло быть никаких интересов. Или оказывалось вдруг, что мы накрепко связаны с какими-то предприятиями. Чем? Любка легкомысленно советовала нам не брать это в голову, и мы не брали.
Заверещал аппарат: она.
— Ну все! По морям мы отплавали! Все тут завидуют нам, хода больше не дадут! — прохрипела она (курит много).
Да. Кончилась малина. Не скрыться теперь будет от жизни никуда, даже к королевам, на худой конец. А жизнь моя в тупике, похожем на тот подвал с папками, ни одну из которых не дали мне.
— Придется в луже барахтаться! — бодро продолжила Любка. — Ты как?
— Я уже барахтаюсь.
— Вот и молодец! Они, — (без уточнения личностей), — согласны «Ландыш» теперь только в глубинку послать, чтобы он жизни понюхал, а не с королевами лясы точил! Есть у тебя на примете глубинка?
— Е-есть! — мстительно глядя на родственника, произнес я.
— Где это? — вздрогнул Петр.
— И литературу там, кстати, лю-юбят!
— Ничаво там не любят! — рявкнул Петр.
— Литература — чушь! — рявкнула и Любка. — Теперь они, — (кто это они?), дбела требуют! Болтовней вашей наелись уже! Настаивают, чтобы в составе группы обязательно были бизнеса, чтобы вся эта лабуда каким-нибудь бизнес-планом кончилась! Бизнесмены есть у тебя?
— У меня?.. Да вот — через площадку поселился какой-то очень крутой. Четыре месяца киргизы, как выяснилось, делали ему евроремонт. Все выскребали, до последнего гвоздика, чтобы от старого ничего не осталось. Только новое признает! Такой годится тебе?
— Где, говоришь, живет?
— Да прямо через площадку от меня!
— А-а. Напротив тебя — знаю. Это Крот. Поговорю с ним. Может, заинтересуется, где глубинка-то твоя?
Глубинка-то настоящая, без подделки. Там и отец мой родился, и четверо его братьев и сестер, в частности, мать вот этого гостя… в саманном домике на берегу реки, лениво пихающейся грудью с пыльным морем. Это не там, где все любят отдыхать… но ведь мы и не отдыхать едем?
Глядя во все более изумленные глаза Петра, я продиктовал адрес.
— А что там есть?
— Море. И река. Выход к морю.
— Нет там выхода к морю! — рявкнул Петр.
— Ну, и местное население… которое не знает, что у них есть выход к морю. Пожалуй, все!
— Ясно. Будет им «Ландыш»! — Любка бросила трубку.
Петр буквально задыхался, услыхав об «ответном визите». Вот так. Это тебе не головы писателям отвинчивать — посмотрим, чем действительно вы сильны!
— А на хрена нам ваш «Ландыш»? — ощерился Петр.
— Ну… например, чтобы тебя до дому на халяву довезти. Во жена обрадуется!
— Она не обрадуется! — сухо сказал Петр.
Любка перезвонила.
— Кроту твоему никак не дозвонюсь. Видать, у него там штаб революционного восстания — заняты все шесть телефонов, что на визитке. Не в службу, а в дружбу: позвони ему в дверь, попроси быстро связаться с Любовью Козыревой — он знает. Побыстрей, пожалуйста.
Вот так. Я ее воспитываю — или она меня? «Николаева догнала его».
Я вышел понуро на площадку. Это конец. Когда-то я неформальным лидером лестницы считался, все жильцы с просьбами кидались ко мне: мог и в газете пропечатать, и по телевизору пугануть, а теперь — вот этот тут главный. Поставил железную дверь внизу. Себе — железную. И даже не интересуется, кто здесь живет.
Сверху вдруг донеслось: «Валерий Георгиевич! Валерий Георгиевич! Не уходите!» Судя по модуляциям тона, это бывшая актриса с третьего этажа, Лидия Дмитриевна. Всегда так говорит. Но сейчас, похоже, действительно взволнованна. «Валерий Георгиевич!.. Вы… идете к нему?» — «Да. С дружеским визитом». «Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он поумерил свою аппаратуру, а то после того, как он начал тут жить, у меня ужасно забарахлил телевизор! Сплошные полосы. Не могли бы вы сказать ему? У других, знаете, дела — дача, работа… внуки. А у меня единственная радость в жизни… была. Посмотреть телевизор. Посмотришь и как бы чувствуешь, что ты еще живешь, участвуешь в жизни страны, в политике и в искусстве. А теперь все это кончилось. Представляете, что я ощущаю? Что я никому, абсолютно никому не нужна и ничем абсолютно ни в чем не участвую! Живу одна, все дни в комнате, где не раздается ни звука! Вы понимаете меня?»
Целый трагический монолог.
— Вы-то, надеюсь, не боитесь его? — Она несколько принужденно улыбается. А то все почему-то боятся.
Не боюсь я никакого Крота! У меня в одном моем детективе есть клерк, скромный и неприметный, который еле заметным движением бумажного листа отсекает голову!
Я резко утопил кнопку переговорника. Там слышится долгое сипенье и наконец:
— Слушаю. Что?
Наверняка он еще видит нас сейчас на экранчике, выпукло-вогнутых, с большими вывороченными лицами и маленькими ножками далеко внизу. И существо это открывает рот:
— Извините, но соседка сверху жалуется, что ваши телефоны начисто забивают ей телевизор. Нельзя ли как-то этого избежать?
Пауза. Потом тот же механический голос:
— И вам это тоже мешает?
— Мне? Нет… — Я несколько даже теряюсь, поскольку не помню, мешает или нет.
Некоторое время еще слышится сипенье, потом обрывается.
Вот так. Никого я не боюсь!
— Благодарю вас! — кидается ко мне Лидия Дмитриевна, но я мужественно отстраняю ее — не стоит благодарности — и деловито сбегаю зачем-то по лестнице и только в самом внизу, в темноте у железной двери, спохватываюсь: ч-черт, я же по делу забыл сказать!
Поднимаюсь уже с трудом. Да, это получится глуповато: человек по шести телефонам по делу говорит, а тут лезет и лезет глуповатый сосед. Позвонил. На всякий случай радостно улыбался и махал перед глазком рукой, успокаивая: это я уже по другому делу, это совсем уже не то!
Представляю его гримасу!
— …Что? — произнес наконец усталый голос.
Представляю, как я уже надоел ему за столь короткое время! Год не общались совсем, и вдруг — такой прилив эмоций!
— Извините… Любовь Козырева просила вас позвонить… Срочно, по делу.
Вздох. И отключение.
Продюсер я еще тот — впрочем, как и провайдер, промоутер, да и дистрибьютор я навряд ли хороший!
Через час Любка перезвонила:
— Готов! Теперь еще позвоню в Фонд Дугала, Мишке Берху, но к ним уже под другим соусом…
— Ты знаешь лучше!..Аллё!
Но ее голос говорил уже с кем-то другим по другому аппарату.
— Какая-то Аэлита получается, — сказал начитанный Петр.
ГЛАВА 2
Когда теперь звонит мне Андре, тем более — в радостном возбуждении, я вздрагиваю и настораживаюсь. Его «души прекрасные порывы» не раз уже кидали меня на гвозди, как вышло с сыном Есенина и Зорге, например.
— Привет, — проговорил он, всячески сдерживая ликование, чтобы я опять, не дай господи, не бросился его благодарить. — У тебя завтра часов в одиннадцать будет окно?
— Это смотря куда, — произнес я осторожно.
От восторга он не мог сразу продолжить.
— …Ты не знаешь еще?! Фрол Сапегин снимает «Ландыш» и поездку его! Вчера в три часа ночи мне позвонил, и я все устроил уже!
— Что ты уже устроил?
— Съемку! Завтра в одиннадцать собираемся все на студии, в кочегарке, и снимаемся… как бы перед отъездом.
— А почему в кочегарке-то?
— Не знаю. Так Фрол решил! Я просто сказал ему, что мы уезжаем, и он отрубил: «Только в кочегарке!»
Фрол Сапегин, конечно, великий режиссер, виртуоз запрещенного фильма, прежде его душила советская власть, теперь — вульгарный рынок. Все это поднимает, конечно, авторитет… но почему-то не в моих глазах. Хотя сказать слово против Сапегина… раньше значило — объявиться коммунистом, а теперь просто примитивом, любителем Диснея и боевиков. Сапегин умело загонял нас в угол, как рачительный хозяин загоняет кур, приговоренных к обезглавливанию.
Я уже знал, что в этот год «Ландыш» так легко в руки не дастся, но что его заграбастают лапы Сапегина — этого не ожидал. Виной всему, конечно, восторженность Андре — дозвонился ему куда-нибудь на остров Ё на севере Швеции, где тот снимал какой-нибудь языческий обряд, обязательно на черно-белой пленке без звука… Тоталитаризм, глуша Сапегина, вынуждал его ограничиваться узким руслом кинематографа. На свободе, теперь, Фрол более предпочитал какие-то международные «проекты»… символическое изгнание глистов сразу у всех овец Скандинавии, снимаемое в сто камер… или падение Пизанской башни (эта акция, горячо поддержанная неформалами всего мира, все же была как-то бюрократами всего мира предотвращена). Скандал был всемирный, и в центре его — могучая медвежья фигура Фрола или, точнее, Фро, как называл его Андре и другие поклонники. После того как он бросил копаться в фильмах и занялся лишь всемирными проектами, слава его росла. А после того, как он запустил из Марселя радиоуправляемый буй в виде головы Пушкина в сторону малой родины-Африки… соревноваться с ним стало невозможно, да и не нужно. Чего он ухватился за наш скромный «Ландыш», где тут привычный ему вселенский размах? Наверняка восторженная любовь Андре в какой-то момент его подкосила и он что-то смутно пообещал — а Андре уже загорелся.
— Ему заказали фильм о настоящей ситуации в России! — почему-то шепотом произнес Андре. — И он велел собрать завтра в кочегарку всю элиту нашего города!.. Ты не знаешь, Лунь дома или на даче?
Лунь гордо выпал из «Ландыша», как Дюймовочка из цветка… но теперь мощное сиплое дыхание Фрола нас всех соединит!
— И соседу твоему, Виктору Короткову… Кроту то есть, дозвониться не могу. Ты ему не скажешь?
Скажу. «Растворимая рыба» — так дразнят меня. Плыву даже в кислоте, где полностью растворяюсь, но какое-то, надеюсь, послевкусие оставляю? И запах. «Это ваш надоедливый сосед…»
Только собравшись уезжать, видишь, в каком красивом городе ты живешь! Мойка, изгибаясь, сверкала, хотя у берегов была покрыта накидкой тополиного пуха, причем странно — у того берега пушинки плыли влево, а у этого — вправо. По шершавым береговым плитам, кидая цепкие взгляды, шли бомжи, с утра еще свежие, не мятые, влажно прилизанные прически их блестели. Бодростью веяло от этого утра. Ну куда ты уезжаешь? А на кудыкину гору! Здесь ты все уже исчерпал. А вот так идти, цепко вглядываясь, не мелькнет ли где пустая бутылка, начнешь со следующей весны.
На улице палила жара, и это чувствовалось даже здесь, в чаду кочегарки, среди белых обмотанных труб. Да еще жгли ДИГи, ослепительные дуговые прожектора. За то, чтобы зваться элитой, приходится претерпевать!
— Как в горячем цеху! — утирая лицо, выдохнул Петр, которого я, конечно, тоже взял, не скучать же ему дома. Тем более, что весь этот парад интеллекта предназначен, в сущности, для него.
В угарном чаду котлов непринужденно беседовали Чухнов, Намылис, Еженцев, Гибадан, художница Ида Колодвиженская заодно с ее полотнами, а также и те, кто лежали — или стояли? — у истоков «Ландыша»: Марьев, главный редактор журнала «Марево», историк Ушоцкий, социолог Сутрыгин, формалист-скульптор Булыга… Лунь и его верный Сысой блистали своим отсутствием, как, впрочем, и сам Фрол таких людей полагается нервно ждать. Зато подъехал к кочегарке скромный синий «БМВ», и из-за темных стекол появился Крот — видимо, прямо от кутюрье: большой, с глубоким запбахом темный двубортный костюм (такие раньше называли «партийными»), мятая по моде сорочка, огромный недотянутый узел галстука и неожиданно — почти голая, с пористой кожей на затылке и крохотным чубчиком голова. В движениях, впрочем, чувствовалась власть, так же как и в медленном, тяжелом взгляде. Андре, восторженно хромая, кинулся к нему — против энтузиазма его невозможно было устоять: даже Крот сдержанно улыбнулся, и Андре препроводил его в угар кочегарки.
— …Элита бывает лишь у коров, — услышал я не совсем удачную реплику моего родственника и кинулся туда: не обидел ли кого?
Но за этих можно не бояться — все дружно расхохотались: веселые, тертые ребята, использующие себе во благо буквально все. Я сам где только не растворялся! Не пропадем.
— Ты как здесь? Я слышал, ты в Праге?
— Да ну ее! Уже неделю как здесь!
Веселый, дружеский гул. Снимать надо — где Фрол?
Но что значит — интеллигентные люди: когда к общему угару и духоте знаменитый ленфильмовский фанатик пиротехник Боб Марягин, пройдясь с горящим куском пластмассы, размахивая им, добавил еще ядовитости, никто не дрогнул, не завопил: мол, что такое здесь деется?! — все, наоборот, улыбались сквозь ядовитые слезы и только приговаривали насмешливо: «Ну ты, Боб, даешь!» И даже с некоторой ностальгией — многие имели отношения с «Ленфильмом» когда-то: писали, сочиняли музыку, рисовали, играли… теперь только этот запах напоминает о прошлом. «Что делать? Старая школа!» — вздыхает тот же Боб, которому этот запах тоже напоминает о славном прошлом. Картин не снимается, и кто даст ему вволю подымить? Только среди старых друзей и можно еще отвести душу. Вместе когда-то переживали поправки из обкома, придирки военных, выпивали с горя и с радости… и все знали, что дым в студии — для иллюзии глубины кадра.
Фрол, чьим именем были все собраны — не последний ли раз все вместе? блистал, как водится, своим отсутствием, впрочем, собравшиеся, люди прожженные, эти его знаменитые «неявки» давно уже раскусили и лишь посмеивались: «Да он, видать, в Каннах!» — «Да у себя в Гнилухине запил небось!» Все уже понимали, что Фрол — как дым, придающий происходящему мнимую глубину.
Зато вдруг пронеслось среди присутствующих: «Лунь! Лунь появился!» Где?
И действительно, в тумане прорезался статный двухметровый Лунь с птичьим его профилем, сиплым насмешливым голосом: «Ну вы, братцы, надымили тут! Пожар, что ли?» При этом он цепко поглядывал из-под кустистых бровей: те ли тут, что надо, в ту ли элиту он попал?
Навстречу ему бодро хромал Андре, восторженно вытягивая руки, но, когда он поравнялся со мной, я заметил вдруг у него на щеке юркую, ловко пойманную губами слезу… вовсе не химического, как показалось мне, происхождения… Опять этот великий Фрол бросил его, вдохновил и не приехал… и ясно, что не приедет уже! Позднее Луня никто не приезжает! Все! Ну, надо работать. Фрол гений, и ему позволено все, что не дано обычным людям. Как знать, какой внезапный замысел не дал ему прийти? А может быть, он и не собирался? А кто оплатит эту съемку, неужели снова Андре из последних своих?
Трагедия эта мелькнула и исчезла, и уже через минуту Андре, вцепившись в камеру, как клещ, катился вместе с ней, как пулеметчик на тачанке, и, прищурясь, выкрикивал: «Внимание!.. Камера!.. Мотор!»
Элита умела сниматься толково, как бы непринужденно, а в перерывах между дублями дружно дымили: не хватило им, родимым, угара! Ко мне подошел Сысой, выбрав жертву:
— Ха! А ты с какой стати здесь?
С какой стати Лунь назначил его своим наместником? Ему кажется, что Сысой наиболее совестлив?
— Правильно говорят, — добавил он. — Где водка — там и Попов! — Он еще задорно поглядывал, ища поддержки. Не хотелось бы портить впечатление от элиты дикой дракой!
— А где ты видишь водку-то? — только спросил я.
— Ха! Обещали! — гаркнул Сысой.
В общем, все двигалось нормально, жужжало и крутилось, все чувствовали себя довольно бодро, хотя съемка шла уже третий час. Неожиданно самым уставшим оказался мой родственник, который, по его рассказам, мог десять часов махать косой. Здесь же он неожиданно сломался, хотя сначала участвовал в разговорах активно, но скоро сник, видимо, не понимая, как можно столько времени неконкретно говорить. В его руках вдруг появился журнальчик, который он подобрал в студийном сквере, и Петр попытался насытить познанием и каким-то смыслом бессмысленные часы.
— Город в Финляндии — пять букв? Китайский поэт четвертого века — три буквы?
Никто, однако, не захотел напрягаться, все чувствовали себя самодостаточно и так. И Петр, самостоятельно найдя все ответы и заполнив все клетки, устало сидел, постелив под себя кроссворд, прямо на асфальте. Видимо, он не ждал, что этот день потребует от него такого интеллектуального подвига.
— Эх вы… элита! — полуустало-полудовольно произнес он, когда я приблизился.
Любка, как всегда, все рассчитала до секунды. Уже когда все прощались, расходясь, она подошла ко мне и сказала негромко:
— Так ты, значит, не забыл? «Ландыш» отправляется послезавтра с Витебского, в шесть утра!
И расстояние было рассчитано без ошибки. Уши Сысоя с громким хрустом повернулись на сто восемьдесят градусов. Он гневно глянул на нас, особенно на меня (и тут этот пролез), потом взволнованно (уши наливались все ярче) заговорил что-то Луню. Тут к ним подкатилась и Любка.
— А я думала, вы предали нас анафеме, — защебетала она.
— Я не священник, чтобы анафеме предавать! — проговорил Лунь сурово.
— …Ну что — поедем до дому? — сказал я Петру.
ГЛАВА 3
Электричка в наши дни превратилась в какую-то толкучку. И так все мы стиснуты, к лицу лицом, а еще проталкиваются, подняв клеенчатые сумки вверх, торгаши и вопят самыми неприятными голосами (по голосам, думаю, и производят отбор):
— Еще раз благодарим за внимание и просим извинения за беспокойство, а также желаем счастливого пути и доброго настроения! Предлагаем товары, необходимые каждому дачнику, — причем прямо от производителя и без торговой наценочки. Итак: водо- и теплоизолирующие накидки, защепки для белья, а также лучшее средство для уничтожения насекомых — дихлофос!
Все-таки люди наши — молодцы. Только что стояли, обливаясь горячим липким потом, проклиная все, особенно власти, благодаря которым редкие электрички набиваются так тесно, и тут — все вдруг захохотали, гнусавый продавец оказался той каплей, что превращает страдание в хохот:
— Мне защепку для носа, пожалуйста, и вот ему, а то он очень много воздуха вдыхает.
— А мне накидку, пожалуйста, а то меня что-то знобит!
— И дихлофосом нас, пожалуйста, облейте, чтоб больше не мучиться: я плачу!
Страданье закончилось весельем, как часто случается у нас. И вроде стало ехать полегче, и самый веселый купил дихлофос и орал: «Угощаю!»
Но так приятно тем не менее было выпасть оттуда и вдохнуть настоящего воздуха!
Толпа с платформы разошлась, и я зашагал наискосок среди сосен, на ходу себя взбадривая: «Отлично! Отлично тут, особенно после душистого дождичка! Живут как в раю — чего надо еще?»
Таким способом я настраивал себя на предстоящий разговор, на прощание с моими близкими — в связи с важной поездкой. Прежде я ни сном ни духом не ведал, что скоро отъеду… Хотя сделал для этого, сволочь, все, что мог! Но они-то как раз думают, что я сейчас насовсем приезжаю к ним! А все наоборот: сегодня же надо уехать. Послезавтра — в путь… Шагая, я распалял себя: хватит! Конечно же я — «растворимая рыба», но не до такой же степени, чтобы бесследно раствориться в дачной луже: таскать дровишки из леса, чистить дряблые сыроежки с женой и девяностолетним папой. Должны же они понять (впрочем, лучше им этого не понимать!), что у меня последний шанс мелькнуть чуть-чуть повыше, взлететь, как орленку!
Вот появился наш дряхлый домик и с ним унылые мысли: великая Шахматова жила себе в этом скромном домике Литфонда и не суетилась — все, включая Бродского, струились сюда! Так что не важно, где ты, важно — кто. И именно поэтому, с горечью понял я, я буду особенно яростно биться за свой отъезд, злясь именно из-за его бесполезности, поэтому особенно рьяно буду его защищать! Тупиков ты нарыл достаточно, вот посети быстро этот тупик — и вперед, в следующий! Калитку я открывал уже с яростью, может быть, чрезмерной: для того, чтобы сломить слабое сопротивление моих, и меньшей энергии достаточно…
Ну где же эти счастливцы? В окнах никого не видать. Жена, видимо, прилегла с устатку после тяжелой борьбы с кастрюлями, сковородками и рюмками. Отец, видимо, предпринял очередную философскую прогулку в лес и придет, полный наблюдений и размышлений, сядет вот на эту скамеечку, начнет неторопливый анализ увиденного — не спеша, размеренно, словно у нас вся жизнь еще впереди!
— Здорово! — поравнявшись с террасой, рявкнул я.
Маленькая, аккуратно расчесанная головка жены возникла в окошке. Личико было румяное, но слегка подпухшее… после сна?
— А-а… Венчик! — довольно вяло проговорила она (только она звала меня Венчиком). — А мы тебя ждали еще вчера.
— А что я там, по-твоему, — разогреваясь для главного, я поднял тон, ваньку валяю? Деньги я тебе… из этого вот дупла буду вынимать?
…Начало неплохое.
— Я понимаю. — Она вздохнула. — Но ведь скучно ить.
— Скучно ей! Вон — природа какая!
— Но ведь человек — венец природы. А человеков и нет.
— Как — нет? — гаркнул я. — Вот же я приехал! — Я поднялся на террасу.
— …На сколько ты приехал?
— Потом все же… отец… не слабый типаж, — добавил я.
Жена вздохнула:
— Думаешь, что-то интересует его? Лишь великие открытия… и глобальные свершения, которые — он хитро это понимает — никогда не коснутся его! Вот тут он рассуждает, горячится, эмоции у него… А так…
Вздохнув, она уткнулась головкой мне в грудь. Значит, лишь я могу их соединять, без меня не обойдутся? Трудней всего бороться против беспомощности… сопротивления мне не будет, знаю я… поэтому особенно тяжко! Но все же подожду, пока вернется отец, чтобы объявить про мой отъезд уж обоим сразу: часть сил у них уйдет на борьбу между собой, а мне, может, придется полегче.
— А где отец? Опять в экспедиции? — бодро поинтересовался я.
— Эти его экспедиции! — совсем упавшим голосом проговорила она и даже села. — …Вчера долго ходил… так же, как и сегодня. И возвращается — глаза задорно поблескивают, искоса поглядывает на меня. Сейчас, чувствую, выложит и наверняка что-то подковыристое, без этого не может он. Так он свою боевитость поддерживает, а значит, молодость.
«Ну, что ты видел на этот раз?!» — сама же его спрашиваю, чтобы уж скорей.
«А? — задорно на меня поглядывает, словно подготовил какой-то радостный сюрприз. — Да что я теперь вижу? — прибедняется. — Глаз почти нет! Правда, шел возле того вон забора и видел, как мужик — основательный, видать, седобородый — дрова в сарай свой складывает, аккуратно, обстоятельно. Купил или сам наколол. Молодец!» — одобрительно так своим лысым кумполом крутит. И при этом абсолютно же ясно, что наплевать ему на этого мужика вместе с его дровами, главное — нас подколоть, какие бесхозяйственные мы, дров не покупаем, да и вообще.
«Отец! — говорю ему я (хотя мне он как раз не отец). — Если бы ты действительно хотел что-то видеть… и на самом деле переживал бы за кого-то, то мог бы легко понять, что этот мужик, как бы тебе незнакомый, на самом деле наш сосед Валера Воскобойников, который, кстати, неделю назад на своей машине из больницы тебя привез… это я к тому, если бы тебе действительно люди интересны были, а не вымыслы твои! Кроме того, живешь ты не первый уже год тут и мог бы заметить, что дрова — дрова, не заготовкой коих ты нас сейчас попрекаешь, — не имеют ни малейшего отношения к конкретной нашей жизни, поскольку на нашей половине дома нет печки. Не заметил этого? А ведь мог бы… если бы что-то человеческое действительно интересовало тебя!»
«…Ты закончила? — задорно так голову закинул, китайская такая улыбочка приклеилась. — Так вот, вынужден признаться тебе, что не узнал… этого человека, который привез меня из больницы — спасибо ему, — лишь потому, что я уже не вижу вообще ни черта!!! А насчет дров — я изложил лишь объективные факты и более ничего, а что вы уж там на это накручиваете… дело вашей совести — и вашего воображения! Я тут ни сном ни духом!»
Швырнул в угол свой вещий посох, ушел к себе. И весь вечер не разговаривали, спросила только его: «Будешь ужинать?» — и он надменно кивнул. Хорошо, что ты приехал… теперь все будет хорошо!
Горячая едкая ее слеза извилисто побежала по моему запястью… Нет сейчас не скажу. Не смогу. Подожду, пока придет отче, и там, в общем гвалте и запальчивости, само, может, скажется… Подлый план.
— Ну что… готовить жрачку? — довольно уже агрессивно сказала она.
Ну-ну… Ее агрессия мне на руку… Если решусь.
Жена ушла на кухню — и тут из лесу, размеренно ступая и взмахивая посохом, показался отец. Действительно, издалека было видно на его гладко выбритом лице улыбку блаженства — значит, с новым открытием.
Вздохнув — надо сводить воюющие стороны, — я пошел навстречу ему. Сейчас он будет делиться жизненными наблюдениями, которым мы должны будем благостно внимать, но которые доводят жену до белого каления — потому что не имеют к реальным нашим проблемам ни малейшего отношения… а назвать их ерундой на радость жене — значит обидеть батю. Тем более это совсем не ерунда. Так и приходится метаться, удерживая их у черты! Отныне — и всегда? Нет! Специально вышел встречать его вперед, чтобы наиболее восторженная — и наиболее демагогическая на взгляд жены — часть его открытий не коснулась ее ушей. Первый заряд возьму на себя!
— Эй! — окликнул его я.
Чуть не прошагал в глубокой задумчивости мимо и тут резко тормознул, изумленно вытаращился.
— Ты? Оч-чень хорошо! — после долгой прогулки разрумянился, крепок, крепок еще… хоть недавно и из больницы.
— Ну… что ты там видал? — Я поспешно выдаивал из него прогулочные наблюдения, которые могли не понравиться жене. А если будет что-то подходящее — расскажем и ей. Хотя это навряд ли… Специально, что ли, чтобы меня терзать, встали в позиции?
— А? — Он задорно закинул голову, весело глянул. — Представь себе — видал. Удивительную вещь… о приспосабливаемости растений!
И тут продолжает свою почти вековую сельхоздеятельность!
Ну, это еще ничего, подумал я… хотя жена к этому тоже не особо благоволит.
— Представляешь? — Он огляделся, на чем бы это нарисовать, но, не найдя ничего подходящего вокруг, стал изображать своими большими ладонями. — Упала сосна. Был тут ураган… у вас в городе был ураган?
— …кажется, нет. — Одновременно я оглядывался назад: не делает ли там жена что-то предосудительное, готовясь к бою? Наверняка.
Потом я повернулся к отцу… Так всю жизнь и вертеться?
— Так вот, — заговорил он азартно, сверкая очами. — Упала сосна. Задрала корни. И мох, что на них рос — мельчайшие ворсинки, — я разглядел.
А говорит еще, что видит плохо!
— И они сначала росли в прежнем направлении, то есть уже горизонтально. И вот — я сегодня заметил! — Он победно улыбнулся белыми еще зубами. — Концы ворсинок стали загибаться вверх, то есть к солнцу! Видал-миндал? — Он пихнул меня радостно в плечо.
Да-а… Приятно каждый день возвращаться с открытием. Если, правда, оно никому не вредит! А кому, собственно, может вредить открытие? Я оглянулся. Жены на террасе не было. Так голову отвертишь!
Он весело зашагал к дому, прислонил к крыльцу свою палку, продекламировав с пафосом: «…И, верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и вкрив». Знаю, что под настроение он может шпарить «Онегина» час подряд… но сейчас это вряд ли получится. Воинственно подбоченясь, появилась жена:
— Ну что, жрать вам давать?
Видимо, на кухне она усугубила свое настроение.
Отец с улыбкой сел за столик во дворе, всячески демонстрируя: вот — я улыбаюсь. Не отвечаю на вызов. Я мудрый, терпеливый человек. Если дадут что-нибудь поесть — я смиренно покушаю. Нет так нет.
Жена со стуком поставила две тарелки с мясом и села рядом, ничего себе не положив.
— А ты почему не ешь? — кротко спросил я.
— Потому, что я не понимаю — сколько же можно жрать?
Отец, улыбаясь терпеливо и отстраненно, снял шляпу, обнажив мощный лысый свод, подвинул тарелку и стал есть. Ел он страстно и истово, как делал все, что действительно его интересовало. Жена глядела на него в упор и с вызовом. Ну как их оставить одних? К тому же к ограде подкатил автобус, из него вышла праздная толпа и стала слушать четко доносящиеся сюда речи экскурсовода о страданиях великой поэтессы в этом крохотном домике… Она, кстати, одна тут мучилась, а нас тут восемь человек, две семьи — еще одна семья с той стороны! Только зрителей нам сейчас и не хватало. Чувствуешь себя зверем в клетке причем в чужой!
Все! Более подходящего момента не будет! Под это вот угнетенное состояние все пойдет.
— Кстати, — беззаботно обратился я к отцу, — тут Петр появился из больницы — у нас пока живет.
— Да-а?! — радостно воскликнул отец, всегда проявляющий к родичам с родины восторженный, хоть и недолгий интерес. — Ну и как он?!
Жена с грохотом поставила его пустую тарелку на мою. Ее-то реакция была как раз обратной: даже упоминания о родичах — даже о своих — ее утомляли. Теперь, видимо, ей казалось, что именно из-за нашествия родственников в нашу квартиру ей пришлось уехать в этот барак. Момент подходящий — хуже уже не будет.
— С Петром все в порядке, — уверенно сказал я. — Более того, завтра мы с ним и с группой писателей, философов, социологов, экономистов, бизнесменов отправляемся в Удеревку, чтобы разобраться с непростой ситуацией там, чем-то помочь!
— Это ты устроил?! — восторженно воскликнул батя.
Я скромно кивнул.
— Молодец! — сказал он.
Жена со звоном швырнула вилку, вскочила и ушла. Так. Теперь бежать за ней? Но тут заговорил отец, размеренно и благожелательно:
— Я очень рад, что ты не забываешь свою родину, и вдвойне буду рад, если вам в чем-то удастся всем вместе разобраться…
Хрена два мы в чем-то там разберемся!
— …и чем-то помочь! — договорил он торжественно.
Мысль закончена? Теперь надо бежать к жене.
Я побежал. Она плакала в углу кухни.
— Ну что? — обнял я ее тощие, дрожащие плечи. — Должен же я куда-то ездить? Не могу же я все время один твой портрет писать? Еще кто-то мне нужен?
— Да-а! — всхлипывая, произносила она. — Этот все время про Удеревку свою говорит! Как хорошо он там жил!.. Зачем, спрашивается, сюда приехал? Как мать там вкусно кормила его… Все время хочет сказать, что здесь мерзко и что я плохо его кормлю! А теперь ты туда уезжаешь? Плохо здесь, да?
— Ну почему ты думаешь? — чувствуя, что она успокаивается, залопотал я. Он просто так, вспоминает… детство всегда кажется самой лучшей порой…
— Да? — Она, всхлипывая, но уже успокаиваясь, повернулась ко мне.
Кажется, я сумел ее провести — с ней это так легко, что даже стыдно… перевел весь разговор на батю. А что делать? Все должно пригождаться, даже вражда, хоть и недолгая.
— Раз так, — проговорила она решительно, — веди его сейчас в Дом творчества мыться, грязного его нельзя оставлять!
— Конечно, конечно! — целуя ее, лепетал я… Как легко!
Еще хмурясь и вытирая кулачком слезы, она стала собирать ему в пакет чистое белье.
— Только плохо… что ты с ним тоже уйдешь, — значит, долго не будет тебя… Ты сегодня уезжаешь?
Я кивнул. И она кивнула.
— Ну хорошо. А я пойду тогда посплю. А то я очень устала, — и, махнув тощей рукой, ушла во тьму узкой комнаты.
— Ну что, пойдем помоемся? — бодро сказал я отцу. Теперь, когда один фронт чуть-чуть успокоен, можно на другой.
— С пр-ревеликим моим удовольствием! — проговорил отец. — Мечтал об этом с самой больницы! Ты сможешь меня сопровождать?
— С пр-ревеликим моим удовольствием! — пр-роговорил я.
И вот настала минута, когда все было хорошо. Жена спала, набираясь сил. Мы с отцом неторопливо шли мыться по красивой аллее. И даже солнце вдруг выглянуло, разобравшись с тучками.
— Да-а! — Предчувствуя блаженство и сладострастно почесываясь, отец смотрел в небеса. — Помню, однажды точно такая же была погодка… лет восемьдесят пять назад. Так же вот — то солнце, то тучки. А мы, помню, с матерью ехали в поле, снопы скирдовать. Я спиной на телеге лежал… и в то же время как будто летел… вместе с тучками. И только выехали за околицу, сразу закапало. «Ну, — мать говорит, — скирдовать нельзя, снопы будут мокрые, давай поворачивать». И только повернули — солнышко, как вот сейчас, вылезло. До дома задумчиво так доехали — мать говорит: «Да, наверное, все просохло, дождик-то небольшой был. Едем, Егорка, скирдовать…» И только за околицу — закапало опять! — Отец засмеялся. — Уж и не помню, чем кончилось тогда!
— Но мы с тобой — точно помоемся! Если урагана не будет, — пообещал я.
Отец шел со скоростью пешего голубя, но за какие-нибудь полчаса мы добрались. Мы прошли через холл Дома творчества. Там в косых лучах солнца наслаждались негой (писатели здесь уже почти не жили) пышные женщины из обслуги. Мы поздоровались и прошли в душ.
— А мочалку, мочалку положила она? — разволновался батя. Горяч! — А вешать все куда? Ни ч-черта тут нет — некуда вешать!
Я вышел в холл, под лениво-удивленными взглядами женщин взял стул, отнес отцу.
— Вешай сюда.
Я пошел в соседний отсек, вяло поплескался, вытерся. Глянул к бате… Да, темперамент другой! Он натирался, сморщив лицо — не столько от мыла, сколько от страсти. Один лишь азарт жизни владеет им… а то, что он не соответствует уже его возрасту, — об этом забыл впопыхах. И как я его потащу, после этого самоистязания, он тоже не думает. Должен думать я — обо всем и обо всех. Но не всегда, черт возьми! Уезжаю!
— Ты скоро? — устав от ожидания в холле, заглянул я к нему.
— Я еще только намылился! — яростно отвечал он.
Изменить ничего невозможно — это все равно, что остановить ладонью летящий снаряд. Может, это последнее физическое наслаждение человека, страстного во всем и всегда! Завидую его страсти! Я вышел к клумбе, смотрел, как удлиняются тени от цветов.
— Азартно моется ваш дедулька! — проходя мимо, сказала уборщица. — Не чересчур ли?
В ответ я только развел руками: не удержишь.
И наконец он выпал из душа — с алой, глянцевой, блестящей, чуть не прозрачной кожей, с отвисшей челюстью и мутным взглядом, шел зигзагами, не видя меня. Я подхватил его, усадил на скамейку. Долго он отдыхивался, наконец глаза его обрели какой-то смысл.
— С легким паром! — поздравил я.
Опираясь мне на плечо, он шел довольно твердо, но, когда мы перешли рельсы, глаза его снова помутнели, и он стал, шагая, падать левым боком все сильней, ближе к земле, и на окрик: «Эй!» — никак не отреагировал. К счастью, тут рядом оказался приятель, Феликс Лурье, ловко поднырнул под левую руку, и втроем мы пошли.
— Что будем делать? — за спиной отца спросил меня Феликс, но отец это услышал.
— Ничего… дойдем понемножку! — медленно, но твердо произнес он.
— Я ж говорил тебе: силы береги! — проговорил я с отчаянием, но он лишь ощерился в ответ… как можно объяснить тигру, что он не сможет уже догнать козу?
Он улыбался уже блаженно — показалась родная изгородь. Потом мы рухнули на стулья перед столиком. Потом медленно пили чай.
— Да-а-а, — в блаженстве потирая майку на груди, произнес отец. Хор-рошо! Как заново народился!.. Да-а. — Он повернулся ко мне: — Завидую я твоей поездке: там сейчас могут быть ба-альшие дела!
…Как всегда, он горячился и преувеличивал.
Стукнула дверь из темной комнаты и, улыбаясь и позевывая, появилась жена.
— Ну все, — сообщила она радостно. — Я поспала, и теперь все хорошо!
Она развесила мокрое белье отца на веревке — как раз снова выглянуло солнышко.
— Ну… вы будете жить хорошо?
— Ка-нышна! — бодро ответил отец.
— Теперь тебя собирать в дорогу? — дрожащим голосом проговорила она.
Я по возможности равнодушно кивнул.
В процессе сбора узла настроение ее снова переменилось и она, появившись передо мной, провозгласила:
— Все? Больше ничего не прикажете? Может, что-то помыть? Подтереть?! — Ее слегка покачивало. Видимо, от усталости. Отец, глядя в себя, стоически улыбался.
Уходя, я оглянулся. Они стояли на крыльце и махали.
О господи! Что такое невероятное я должен сделать в этой поездке, чтобы оправдать свой отъезд?
Солнышко кончилось, и пошел дождь.
ГЛАВА 4
Последняя моя ночь здесь была бурная: я просыпался то от дрожи, то в поту. То неоправданный оптимизм вдруг охватывал меня, то отчаяние. Ну а правда — что еще делать мне, как не примыкать к разным бессмысленным поездкам, где еще кто-то видит меня? Остальное все исчезло, рассосалось, как дружба моих друзей, с которыми, как когда-то казалось, мы сделаем все. Сделали мало. Гораздо больше выпили. А из оставшихся конкретных дел?.. Полковник Етишин молчит, не подает никаких признаков жизни. Остросоциальный роман «Печень президента», который я весь год писал, ушел вместе с президентом и его печенью. За детектив «Пропавший дворник» получил аж пятьдесят долларов — и это все! Долгое время у меня жил, вселяя надежды, чешский переводчик Ежи Елпил, но, так ничего и не переведя, вернулся в Злату Прагу. В свое время, как я говорил, Любка пала жертвой моей скромности — зато потом много раз я становился жертвою ее наглости: в ее газетку «Загар», предназначенную для чтения на пляже, она заставляла писать гороскопы! Свою честь махрового материалиста продал буквально за гроши! Прям перед высшими силами неудобно. «Стрельцам на этой неделе следует всерьез задуматься об установлении натяжных потолков». То жадностью, то бедностью томим, я писал эти штуки полгода, но ни разу не получил денег — расплачивалась она в основном товарами, рекламируемыми в ее газетке: до натяжного потолка я не допрыгнул, типичной ее валютой были, например, веселенькие зажимы для белья — однажды она, расчувствовавшись, выдала их мне двести штук, даже если я все наше белье развешу, зажимов истрачу одну треть. Теперь и это кончается. И дальше — что? Пишу заказное произведение — «Песнь кладовщика», — но заказчик, кладовщик, исчез куда-то. Не на что опереться. В связи с исчезновением демократии в нашем отечестве рухнул последний устой. Теперь — только езди и езди, не останавливайся. Остановишься — смерть.
Свой настоящий рейтинг я понял на днях. Позвали на презентацию сборника «Истоки глубин» — но что-то не социальное, а мистическое. Оделся изысканно, как всегда: карман для закусок, карман для горячего, карман для дыма дорогих сигарет, — и только вошел в банкетный зал, надкусил бутерброд с сыром, как вдруг распорядитель вырывает из зубов бутерброд. «У вас какой жетон? Белый! А с белым даже в здание велено не пускать! Как вы просочились?» — «Как дым».
Теперь только с Петром-родственником о литературе поговорить, но и того дома нет! Решил, что в нашем городе недобрал самого главного: пошел в ночной клуб с казино. Пройдет ли фейс-контроль, а если пройдет, то выйдет ли, особенно если выиграет, что с его нахальством вполне возможно? Еще поездка не началась, а заботы и тревоги о простом труженике уже нахлынули. Подойдет ли хоть к поезду-то? Без него поездка вся будет вообще бессмысленной! Впрочем, нам не привыкать! Чего только не было за последний год!
Пытался погрузиться в пучины религии, нашел одного пастыря, на Малой Охте, он долго куда-то меня вел, говорил, что успешно, но потом вдруг бросил, сказав: «Нет. До монастыря я вас доводить не буду!» И сам резко ушел — кстати, в игорный бизнес.
Куда ж нынче податься? Сделаться этаким суперпатриотом, как Сысой? Этакий сказочный русский богатырь, а вокруг всяческая накипь? Увы, бессовестности не хватит, чтобы стать таким громогласно-благородным, как он! Нет. Пусть все как раньше… Сижу уже много лет над романом «Мгла», символом свободы и неопределенности… мгла никак не рассеивается.
Только — ездить и ездить, чтобы все время мелькать, чтобы толком не разглядели.
Тут недавно предложили суперпроект: Вронский доживает до наших дней, каким-то образом сохраняет, прямо у нас, богатство и знатность и — о, месть богов! — влюбляется в хищную пэтэушницу, которая, обвенчав себя с ним, сталкивает его на рельсы метро… Нет, мой Етишин благороднее. Хотя скрывается, собака, в тени.
Господи! Но почему такой дождь? Чтобы я специально сейчас не спал, думал как они там?
А где этот чертов родственник-ветеринар? Забыл, что завтра с ранья ему на малую родину ехать? Поглядел на окна впритык к моим — Крота, миллионера нашего, тоже нет. И он забыл? А может, они как раз и рубятся сейчас в казино, пиджаки скинули, в одних жилетках, миллион туда, миллион сюда? Вот выиграет Петр его квартиру… тогда начнется настоящий кошмар. Тогда к быкам его уже силой не затащишь, будет тут кутить, а с таким соседом, тем более родственником, я точно пропаду. Нет уж, лучше поработать с прежним соседом-миллионером, показать ему в дырочку царство истины, справедливости и добра за небольшие деньги.
Да. Неспокойная ночь! Спят ли они там? В такой дождь — навряд ли! Засыпая, я почему-то вспоминал рассказ отца, как зимой у них в избе ночевал теленок. «Потопчется, потопчется, словно что-то ищет, потом уляжется, свернется — и обязательно вздохнет. „Мам, — я спрашиваю. — А почему он обязательно вздыхает?“ — „А это он одеяльце на себя натягивает, сынок!“ И я тоже вздыхаю натягиваю одеяльце!»
Некоторое время я просто спал, потом пошли короткие сны, требующие обязательного действия: куда-то идти, кому-то объяснять. Знаю уже их: мочевой цикл. Переполненный пузырь зовет в дорогу: Фрейд тут и не ночевал. Фрейд тут вообще давно не ночевал. Но надо подниматься.
Покачиваясь, пришел в туалет, широко распахнул дверь, врубил свет. Там, застегнутый, строгий, прямой, сидел етишинский редактор, держа руки на коленях.
— Погасите свет, — произнес он тихо, сквозь зубы. — За нами могут следить.
— …Здесь?
— Всюду. И, кстати, уберите это — у нас серьезный разговор.
— А, да… Слушаю.
— Я могу передать вам те бумаги.
— Насчет Есенина и Зорге?!
— Не кричите так громко… Нет. Пока что — насчет полковника Етишина.
— А. Слушаюсь!.. Ну?
— Но не здесь же!
— А. Да.
— Знаете Военно-морской музей?
— Обожаю.
— Зал торпед. Четвертая торпеда от входа. Послезавтра, в два часа дня.
Послезавтра я, надеюсь, буду отсюда далеко.
— Только не вздумайте уезжать!
— Есть!
То есть — нет. Бежать, скорее бежать до самого Лишай-города, где человек, говорят, лишается памяти навсегда.
— До свидания. Я уйду тут. Через трубу.
— Это разумно.
— Все.
— Всего вам доброго.
Я закрыл дверь, задвинул защелку. Потом смотрел на себя в зеленоватое зеркало в прихожей.
— Все! Больше твои галлюцинации я обслуживать не намерен! Спи.
Улегся. Но никак не заснуть. Гулко рушились миры, айсберги и торосы краем сознания я понимал, что это размораживается отключенный холодильник, но сознание утопало в чем-то глобальном, межгалактическом! Да, такой бурной ночи я давно не проводил!
Проснулся я от какой-то странной тишины. И свет из окна был необыкновенный — мертвенный, хотя очень яркий. Что-то он мне напоминал. Какое-то дальнее время года. Я подошел к окну. Подоконники на всех этажах, кроме самого верхнего, и сам двор, и крыши машин были покрыты белым пушистым снегом. Я стоял не двигаясь. Резко затрезвонил звонок. Я испуганно схватил трубку. Голос Любки:
— Это ты все устроил?
— Что? — Я еще не верил своим глазам.
— Все это безобразие. Весь город в снегу. Твои страдания? В смысле старания?
— Н-не знаю. Нет.
Господи! Как они там?
— Может, лыжи тебе прислать? — сдерзила Любка.
— Доберусь.
— А где комбайнер? — Любка встретила меня на платформе в короткой шубке.
Редкие снежинки еще сверкали под фонарем над платформой, но под ногами уже была черная грязь. Все растопчем! Народ пер, причем, что удивительно, на наш поезд, состоявший всего из двух вагонов, примерно как царский: купейный и, что приятно, вагон-ресторан. Народу оказалось полно — «Ландыш» разбух удивительно: вот уверенно катит свой чемодан известный балетный критик Щелянский. Неужто и балеты будем там ставить? Впрочем, Любка всех радостно приветствовала.
— Вагон уже натоплен, надеюсь? — капризно проговорил Щелянский.
Выйдя из оцепенения, я вспомнил Любкин вопрос.
— Комбайнер? Какой комбайнер? Ветеринар он.
— Ну, ветеринар… Где он?
— Понятия не имею. Видимо, в казино. Но обещал появиться.
— Ветеринары в казино ходят! Хорошо живем! — усмехнулась Любка.
Рядом с ней, ни с кем, наоборот, не здороваясь, стоял Миша Берх, представитель Фонда Мак-Дугала, частично, как понял я, финансировавшего наш проект. Берх каким-то хитрым, а впрочем, самым банальным образом — немножко в оппозиции, немножко в эмиграции — сделал где-то там бешеную карьеру и стоял теперь у кормила, размышляя, кормить — не кормить? Впрочем, этих бы не кормил — на прущую, гогочущую толпу смотрел с ненавистью. Опять эти непотопляемые шестидесятники, уже которое десятилетие бузят, не смолкают, и как каждый конкретно ни называется: реформатор, писатель, экономист, социолог, — у всех одно на уме: сейчас сядут, раскинут нехитрый скарб и напьются! Причем умело напьются! Статью в номер? Эссе? Интервью? От зубов отскакивает, без малейшего промедления! А где же его любимый слой, андеграунд, с которым он столько выстрадал (не столько уж он и выстрадал)… Исчез? Казалось, такие глыбы ворочаются — пусть только коммунисты уйдут. И — никаких глыб. Вот плетется только, почему-то лысый уже, молодой композитор-модернист Урлыгаев, пишущий музыку однообразную, как кафель… Вот такая как раз Берху по душе, про такое диссертации хорошо пишутся! Урлыгаев прошел. Скульптор Булыга? Того не разберешь — и нашим, и вашим!
А где же эта совесть ходячая, всех мягко поучающая, среброликий Лунь? Как всегда, задерживается… Без него не уйдут!
Снежинки таяли у Берха на лысине, человек даже здоровьем специально рисковал, хотя имел сзади косичку и мог при желании сделать начес.
Но раз такая проклятая жизнь — пусть голова простужается! Все равно идеалы, вымечтанные в подполье, не сбылись!
Опять у дел это хищное племя, которое везде — на всех презентациях и во всех декларациях (в смысле — воззваниях), но без них — никуда. Они все держат, и держат действительно крепче всех.
— Надень шапочку… или уйди в вагон! — сказал Берху я, но он не ответил.
— Лунь… Лунь… — пронеслось, но как-то вяло.
Берх сухо ему кивнул и злобно прокаркал:
— Через десять минут после отъезда собрание рабочей группы в вагоне-ресторане!
Поскольку — в вагоне-ресторане, то рабочей группой посчитали себя все, ответив радостным гулом.
— Ветеринар где? — стонала Любка. — Без него поездка бессмысленна!
Вместо ветеринара зато прибыл миллионер, в темном «БМВ» подкатил прямо к платформе, вышел с небольшой сумочкой, кивнул кому-то внутрь, и машина отъехала. Не с ним ли сражался в казино ветеринар? Узнать бы итог! Но миллионер, ни на кого не реагируя, прошел в вагон.
Ну вот наконец и мой! Подъехал в семиметровой машине, на которой согласно легендам — из казино вывозят то ли сказочно выигравших, то ли в пух проигравшихся. Петро — тот, похоже, все успел. Выпал в каком-то дивном полушубке, под ним светился крахмальный пластрон, бабочка в горошек, из одной — правой — руки плескал на всех шампанским, другой обнимал почти обнаженную женщину — видимо, звезду стриптиза. Хорошо отдохнул, культурно. Я почувствовал к нему острую зависть. Такой же горячий, как мой отец. Один корень!
— Вот, — представил я Любке. — Ветеринар. Кстати, после полостной операции.
— Похож на ветеринара, — оценила Любка.
— Тебе бы застенчивости немного, — заметил ему я.
— Да. А застенчивый, думаешь, с быком справится? — нагло заявил он.
— Девушка с вами? — Любка приготовилась сделать пометку в блокноте.
— Н-нет! Налажу там кое-что у себя — тогда выпишу! — сказал Петр, мягко отпихивая ее. Рыдая, она пошла в золотых туфельках (другой одежды не было) по платформе и скрылась в недрах семиметрового лимузина.
— У меня там отел скоро пойдет! — проговорил Петр. — Едем — чего ждем?
Поезд наконец тронулся.
— Все! — сказал я Петру, когда мы с ним уселись в купе. — Постепенно превращайся в ветеринара.
— Успею ишшо!
Сунулся было Сысой, пытаясь согнать меня с нижней полки, коря, что я тут раскинулся с родственниками, но Петр показал ему кулак, которым валил, рассерчавши, быка, — и Сысой оскорбленно удалился. В общем, все распределились по справедливости. Самым справедливым — отдельные купе.
А Петр долго еще не мог угомониться, ходил, резко отодвигая двери купе, звал всех «иттить кутить», но лучше других тормознул его Марьев, главный редактор «Марева», сказав, что надо «иттить заседать».
Представитель Фонда Дугала Берх, сам ничего, в сущности, не создавший, но умеющий направлять, как ему казалось, сидел в дальнем конце вагона-ресторана, как бы обозначив президиум, с ним рядом Любка в строгом деловом костюме — и, знамо, Лунь, который, войдя в вагон, как бы растерялся — куды же ему сесть? Ни одного свободного места!.. Тильки в президиуме. Перекошенным от ненависти ртом (а что делать?) Берх выговорил, что первое слово предоставляется… старейшему… чей голос звучал еще тогда… когда. И в общем-то, действительно, как Горький, говорят, смягчал Ленина, так Лунь взял под свою опеку всех остальных.
Слегка покачиваясь, что объяснялось, разумеется, качкой вагона, Лунь глухим голосом произнес, что в эту лихую годину, когда наша страна стонет от нищеты, бесправия, чудовищной коррупции, тихий голос совести непременно должен звучать, только он остается ниточкой в хаосе, цепляясь за которую можно выбраться к справедливости, свету, а потом уже — что, в сущности, и не важно к благополучию. Впрочем, добавил он, для людей духовной жизни материальное благополучие и удобства никогда решающей роли не играли. Но раз уж попросили его (поворот к Любке) поблагодарить тех, кто материально помог этой поездке (поклон Берху и Кроту), то он от имени всей группы делает это… Но проскочив это неприятное место, Лунь воспарил снова — если надо, он пошел бы по Руси и пешком — сеять разумное, доброе, вечное…
В разумных пределах.
Все понимали, что никогда никуда он пешком не пойдет, но тем не менее он пробрал всех до слез. Андре, снимавший все это, открыто плакал — как он плачущим глазом в кинокамеру смотрел? Кстати, Фрол, чей гений реял над нами, так и не появился, чем Андре был очень расстроен — потому, может, и плакал так шибко?
Впрочем, и Любка, и даже Крот, сидевший абсолютно до того неподвижно, смахнули слезу.
Берх давно уже нетерпеливо скрипел стулом, рвался в бой: сколько можно терпеть эти стариковские сопли, этот кисель, когда весь мир уже живет по другим канонам?
Не дождавшись конца всхлипов (видимо, тут были уже крепко выпившие), он заговорил жестко и отрывисто:
— Фонд Мак-Дугала согласился оплачивать эту поездку частично только потому, что…
Резкий обрыв речи, ненавидящий взгляд: да прекратятся ли наконец эти рыдания?
— …Только потому, что поездка эта ни в малейшей степени не будет напоминать прежние мероприятия, к каким большинство из вас (ненавидящий взгляд), видимо, привыкли.
Пауза. Рыдания прекратились.
— Поездка эта будет носить исключительно рабочий, исследовательский характер, и фонд надеется, что каждый вложенный цент, — (зал взволнованно загудел: где эти центы?), — окупится. Поездка эта ни в коей мере не будет напоминать недоброй памяти выезды советских письменников, — (тут максимум ненависти), — в подшефный колхоз для знакомства с жизнью свинооткормочного комплекса с последующим поеданием лучших образцов.
— А чего ж тут плохого? — Неполиткорректная реплика Петра, оставленная без ответа, но залом принятая сочувственно.
Берх заговорил еще жестче:
— Исследования, проведенные западными учеными, гласят, что наилучшим методом для изучения окружающей действительности является метод провокаций: мы нарушаем обычное течение жизни какой-нибудь провокацией и наблюдаем результат!
Лунь поднял седую бровь и слегка отстранился.
— Так нам же харю начистят! — воскликнул Марьев.
— Да, прежними мы не вернемся! — жестко проговорил Берх. — Трение с жизнью предполагает… некоторое стирание черт лица!
— И так уж их почти не осталось! — выкрикнул кто-то, и зал засмеялся. Жесткая политика Берха не проходила. Пока. Скромный капустный салат, стоявший перед каждым, к провокациям как-то не располагал.
— Круто берешь! — крикнул Марьев.
— Желающие могут сойти!
Господи — куда же несемся мы?
Крот в своей речи поведал нам, что его увлекли наши гуманные идеи, поэтому он участвует. Его конкретный план — тендер, то есть конкурс, заявленный правительством на строительство нефтяного терминала. Проект обязан быть не только экономически выгодным, но и духовно насыщенным. И тут он надеется на нас.
— Проект может в себя включать экономические, социальные и даже, не скрою, политические изменения в жизни края. Незыблемость «красного пояса» может быть нарушена!
Ждал восторга! Жидкие аплодисменты. Не тот уже накал!
— Понятно. Трест «Шантажмонтаж»! — бестактно произнес Петр.
— Кстати, — явно обидевшись, сухо добавил Крот, — за реализацию этого проекта взял с меня немалые деньги известный режиссер Фрол Сапегин… которого я здесь почему-то не вижу.
Все вежливо поозирались… Да, Фрола нет. Как и всегда, впрочем. Это птица дальнего полета: где-нибудь над Австралией машет крылами.
Видя, что бури или даже волны сообщение его не вызвало, Крот наддал:
— Еще могу добавить, что уже осуществленные мною проекты все имеют мировой сертификат и всегда безупречны. Жизнь возле наших терминалов, как правило, значительно улучшается. И по поводу экологии (взгляд на Берха) можете не беспокоиться. Возле таллинского моего терминала плавают лебеди.
Максимальный эмоциональный взлет, который позволял ему его образ, был омыт жидкими аплодисментами. Совещание заканчивалось (как и капустный салат).
— А что мы будем иметь? — выкрикнул Петр.
— Вы уже имеете обратный билет домой, — сухо пошутил Крот. Всех, оказывается, различает! Желающие посмеялись. В общем, его сообщение мне понравилось больше других.
— А горячее будет? — выкрикнул кто-то, вызвав смех.
Крот сделал сдержанный жест в сторону Любки. Любка, комиссар бронепоезда, соревнуясь в сухости с предыдущими ораторами, сказала, что дисциплина должна быть железной, обстановка рабочей…
— А как же! — выкрикнул кто-то.
— И главное — никаких отставаний от поезда. А если кто-то все же отстанет и не сможет добраться до цели — пусть сеет разумное, доброе, вечное там, где окажется, — на обратном пути его заберут! Горячее будет, но в четыре часа. Все! — Она поднялась.
— …Лебедь, рак и сука! — так кто-то вполголоса охарактеризовал президиум, но обиделся — причем явно — только Берх, который как раз и не вошел в список.
И все разбрелись по углам. Как ни странно, общественной жизни не хватило лишь Петру, который пошел после этого по купе, бурно полемизируя. Проходя в туалет, я услыхал его голосок из купе аж самого Луня (начал с головы), и главное — знал, что нужно:
— …Чудовищная коррупция, чудовищная!.. И бездуховность!
Лунь, растрогавшись от такого слияния с народом, щедро подливал.
Через полчаса я слышал уже из другого купе:
— …Экономику просрали — так? А идеологию?
Это уже — елей на душу Сысоя. Интересно, что они пьют?
Утомившись, я только что прилег, как дверь в купе резко отъехала, и появилась Любка… как частное, надеюсь, лицо? Но здесь, оказывается, теперь все дела были общими.
— Пошли, — сказала она.
Я с трудом приподнялся — что за команды? Ее слово вовсе для меня не приказ! Вот слово Етишина — для меня приказ.
Тем не менее я поднялся.
— Жаждет ласки.
— Кто это?
— Твой.
— Кто это — мой?
Она молча пошла передо мной по коридору.
И мы оказались в купе Крота. Это ему — ласка?
Я сел рядом с ним, Любка — напротив, слегка приоткрыв веснушчатые свои коленки, на которые Крот даже не глянул.
— Вы говорите, что уж такая я… ради денег крикнутая. Так вот вам, пожалуйста: абсолютно бескорыстный человек!
Я заерзал. Представать перед миллионером таким совсем уж бескорыстным мне бы не хотелось.
Тот досмотрел наконец свои узоры на экранчике и, чуть дернувшись, слегка подвинулся — но не ко мне, естественно, а от меня, как бы освобождая место.
— Да, дорого вы свою совесть цените! — Он насмешливо глянул на меня.
— …Дорого? — удивился я.
— Десять тысяч баксов взяли с меня.
— Десять тыщ? — Я изумленно уставился на Любку. Она, вильнув бедрами, вышла.
— Может, вам лучше подмять под себя шоу-бизнес? — посоветовал я.
— Уже, — ответил он сухо. — Но меня больше интересуют духовные ценности.
— Так где же их взять?
— А вы не знаете?
— Н-нет.
— А разве это не вы тогда заходили ко мне по поводу просьбы старушки сверху? Просили умерить мою аппаратуру, которая мешает ей… наслаждаться телевизором?
— А, да… и как вы — умерили?
— И, кстати, — продолжил он, — это единственное проявление духовности, которое я здесь встретил. Пока. И не скрою: если бы не тот ваш визит, я бы и не подумал к вам присоединиться.
…Значит, я теперь отвечаю тут за духовность? И при таком-то начальстве? Во влип!
— А я как раз хотел тут расслабиться, — признался я.
— …Тогда давайте выпьем, — улыбнулся он, доставая виски.
— Да я буду вам Иваном Сусаниным по нашим местам! — радостно кричал Петр за стенкой.
Впрочем, когда я вернулся в купе, то уже увидел его на месте. Петр, перехитривший тут, кажется, всех и выпивший все, стонал на полке.
— Хорош, — сказал я ему. — Постепенно превращайся в ветеринара.
— В ветеринара я превращусь лишь тогда, когда вы окончательно станете скотами! — произнес он запальчиво. Браво, Петр!
За стенкой Андре, свято верящий в пришествие Фрола, монотонно повторял:
— …ему заказали фильм о настоящей жизни в России!
У меня, впрочем, тоже есть дела! Я задвинулся в уголок, зажег лампочку, достал тетрадку и написал: «Етишин ходил по кабинету».
ГЛАВА 5
Эта же фраза украшала мою тетрадь и через неделю, когда я, проснувшись, увидел ее прямо перед моим лицом. Видимо, накануне, измученный борьбой с молчаливым полковником, я так и уснул. Рассмотрев фразу внимательно и ничего больше не придумав, я стал делать зарядку.
Присев, я видел лишь лазурное небо, привстав, видел раздольный пейзаж. Из складки горы, плавно поднимающейся на горизонте, торчало белое облачко, похожее на растрепанную ватку. Во что это выльется? Надеюсь, ни во что. Все было рыжим — и травы, и злаки. Зелень была лишь вдоль реки.
В одном месте она приподнималась. Туда трудно было спокойно смотреть — это была огромная, может быть, столетняя груша. Под ней спрятался маленький саманный домик, из которого вышла вся наша семья: и мой отец, и его братья и сестры, а от них уже все мы. Теперь там жил Петр с семейством. Зина, его мать, не вышла, единственная, в столичные знаменитости, не стала (хотя могла бы) профессором, как мой отец, а вышла замуж за местного ухаря — красавца Петра Листохвата, который во время войны тут и скрывался в партизанах — в лесах и катакомбах. Кстати, насколько я знаю, нередко скрывался он из дома и после войны, но в катакомбах ли — точно неизвестно. Зина родила двух сыновей старшего, Юру, который был весь в нее, умный и спокойный, и стал-таки теперь профессором медицины в Москве (Зина, выходя замуж, была фельдшерицей). Младший, Петр, весь уродился в тезку-отца, и слишком бурный его нрав не позволял ему плавно идти по карьерной лестнице, благодаря чему он и остался здесь ветеринаром. Еще заимел редкую болезнь, которую по протекции брата-профессора прооперировал в Питере (почему-то не в Москве), и таким образом оказался на некоторое время у меня на шее. Теперь я надеялся сесть на его шею, но все было как-то некогда. Впрочем, я уже приезжал сюда в детстве и юности — тогда родственные связи были гораздо крепче. Брат Юра учился уже в Саратовском мединституте, а мой ровесник Петя устроил мне красивую жизнь. Сначала он с его уличными друзьями втянул меня в эпопею азартных игр (от орлянки до секи), мгновенно выиграв все мои деньги, которыми снабдили меня заботливые родители. После чего я перешел в его рабы, исполнял его приказы и капризы, бегал в сельпо за папиросами (на мои же собственные бывшие деньги). Вот когда еще у него зародилась страсть к казино! Старший брат Юра, приехав после экзаменов, попытался все ввести в приличное русло (хотя денег моих, конечно, было уже не вернуть). Юра взял в клубе шахматы и перевел бурную стихию азарта в мудрую древнюю игру. Тут я почти взял реванш и долго лидировал — за мной шел Юра, дальше — Петр, дальше тащились его уличные друзья. Победа уже была близка. Петр, правда, откладывал решающие схватки со мной и Юрой, и, как выяснилось, не просто так. Однажды на заре, когда тетя Зина выгоняла скотину в стадо, Петр резко разбудил нас с Юрой — но не до конца, — усадил нас, спящих красавцев, перед собой и выиграл у каждого по две партии, ходя, кажется, и за нас тоже. И стал победителем. Вот такой жук.
Теперь его бурная натура реализовалась вся здесь, за редкими (к счастью) выездами в столицы.
Впрочем, я приезжал сюда и еще, уже в юношеском возрасте, когда карты и шахматы интересовали меня уже меньше. Было другое на уме — и тут Петр тоже оказал колоссальное содействие моему развитию. Тетя Зина, кстати, тогда процветала, что было вполне естественно с ее талантами и красотой, и во второй мой, юношеский, приезд была уже главным врачом обосновавшегося здесь, на лечебных грязях, всеколхозного санатория «Колос». И жили они уже не в мазанке, а в уютном служебном домике. Санаторий, помню, был опорно-двигательный, что позволяло нам с Петром блистать всюду — и на волейбольной, и на футбольной площадке, — больные с неисправными руками и ногами не могли с нами соперничать, хотя азартно пытались это делать. Тут же, на танцплощадке, мы сделали с ним циничное наблюдение, что у женщин, имеющих пусть даже небольшие недостатки, резко снижена обороноспособность: не имея, видимо, больших успехов в той жизни, они активно добивались успехов здесь. Что вполне разумно. Помню, как мы с Петром сидели на меловой горке над танцплощадкой и с пресыщенностью восточных шахов взирали на танцовщиц: «Эта!.. Нет — лучше эта!»
Впрочем, только сейчас с волнением вспомнил, что конкретное мое «падение» произошло не в санатории, а как раз в родной Удеревке (мы порой с Петром наведывались и туда). Помню тесную толпу в каком-то дворе, окруженном плетнем, таз с бурой, сладкой бражкой на табурете, которую все зачерпывали кружками. Потом торопливые объятия у неосвещенной части плетня, прерывистый шепот, чьи-то торопливые руки и ударившая вдруг снизу нестерпимая сладость. Там я и обронил свою честь. Потом я шел по теплой ночной улице, слегка ударяясь о плетни. Время от времени я падал в канаву, катался в полыни, вдыхая ее горький божественный запах, посылал воздушные поцелуи огромной луне.
Потом мы с Петром, уже пресытившись обычными радостями, доступными простым смертным, углядели домик-пряник за холмом (сейчас мне, с балкона третьего этажа, видна лишь его черепичная крыша). Однажды мы сидели с ним на холме над танцплощадкой и вдруг увидели, как в наступающих сумерках по краю санатория куда-то тихо крадется вереница черных «Волг», и мы, следя за ними, и надыбали тот припрятанный домик. Его тетя Зина держала специально для услад районного начальства — а куда ей было деться в тот номенклатурный век? Потом мы проникли туда с лучшими из наложниц (а точнее, с теми, кто мог пролезть в форточку, оставленную открытой). Помню, как мы были потрясены бездарностью этой роскоши, скрываемой от народа: диван и кресла в темно-бордовых, цвета знамени, чехлах из плюша с кистями, стол, накрытый таким же знаменем, с граненым графином желтоватой воды. Впрочем, наложниц наших, так же, как и нас, возбуждала не роскошь, а запретность. Наверное, тетя Зина все узнала сразу же — сплетни были в санатории главной забавой. Только теперь понимаю, чем она рисковала! Но не сказала нам ничего, улыбалась так же безмятежно: отдых ее любимого племянника, твердо решила она, должен быть безоблачным… Да, не бывает больше такой любви!
В заключение мы с Петром совершили главный наш подвиг — обнаружили в холодильнике домика-пряника шесть бутылок «Жигулевского», оставленного начальством после своих (надо отдать должное) довольно тихих гулянок. Пиво мы это выпили и, шалея от лихости и уверенные в безнаказанности, наполнили бутылки этим пивом, но уже льющимся из нас, заткнули бутылки пробками и поставили в холодильник. И потом, сидя на холме, давились хохотом, видя, как тянется вереница «Волг», и представляя, как чубатый секретарь по идеологии, расслабляясь после трудного пленума, задумчиво говорит: «Да-а. Странное нынче пиво!» Петр, человек хвастливый, вспоминает часто: «Мы с тобой с коммунизмом боролись еще когда!» Но я, человек более подавленный, вспоминаю это с трудом: представляю, что пережила тогда тетя Зина! Ее уже не спросишь, а Петр отвечает на все однозначно бодро. Но неужели это главное, что я сделал в этих местах?
Еще тут были глиняные, лечебной глины, скаты к мутному морю и маленькие семейные пляжики под каждым прибрежным домом, которые так и назывались: «под-Самохиными», «под-Булановыми». Не бывал еще там в этот приезд: события тут развернулись довольно бурные — еще одна причина того, что Етишин так мало ходит по кабинету.
Когда мы приехали сюда, Петр сказал: «Да, слабый „поезд совести“ наш даже ни одна Анна Каренина не бросилась». Лунь гневно посмотрел на него. Я предупреждал Петра, что начитанность в сочетании с развязностью не доведет его до добра.
Семиэтажный дом этот, гигант по нынешним местам, был построен в санатории «Колос» в виде колоса — говорят, по личной прихоти Хрущева — для ударников труда и председателей. Теперь мы тут, выходит, ударники? Я бы этого не сказал. Семинар, который образовался здесь, назывался, по предложению Сысоя, захватившего там полную власть, «Бизнес и совесть». Совесть тут, видимо, присутствовала в лице Сысоя, но бизнес, представленный Кротом, после первого же заседания исчез. Совесть-то и так хороша, а вот бизнес — праведно ли жил? Хотя и совесть, на мой взгляд, в отрыве от конкретного дела тоже представляла мало ценности. Да, честно говоря, никто из докладчиков и не стремился к этой узкой теме, все копали шире и глубже. Выслушав абсолютно непонятный доклад балетного критика Щелянского, Петр верно подметил: «Тенденцией берет». Некоторое время он еще это слушал, завороженный заклинаниями и страшными предсказаниями, и бормотал убито: «Нет сил умотать!» Но «умотал» после второго заседания. Крот — после первого.
У Крота и так хватало забот. Я повернулся к морю: оно стало серым, вороненым, как сталь. Над ним висела перекрученная туча, словно отжимающая из себя воду. Вдали, где темный длинный мыс закрывал блеск моря, в поселке Притык бурлила жизнь. Пели — отсюда было слышно — эстрадные звезды, лазеры кололи ночное небо. Так главные наши конкуренты, москвичи, боролись за победу в нефтяном тендере, предлагая строить перегрузочные терминалы там. Чувствую, по общественной значимости они давно уже обогнали нас. Впрочем, у Крота была и еще одна проблема — в полусотне метров от нас был берег Ржавой бухты, отгороженной (чуть ли не с Первой мировой войны) забором с проволокой. Туда даже Петр с лихими друзьями не мог попасть: там моряки охраняли какой-то склад боевых веществ. С такой дрянью на руках трудно было победить в конкурсе — и именно там, за забором, в основном Крот и пропадал.
Интеллектуалы блистали отдельно, на пятом этаже, в конференц-зале со скелетом в углу, бывшим тут от времен заседаний научного опорно-двигательного центра. Расставшись с Етишиным, я поднялся туда и некоторое время слушал, что они говорят. Все было на высшем научном уровне, как и на всех подобных семинарах от Омска до Нью-Йорка, — пересказ модных философских учений, посвященных в основном скорому концу света. С такой угрозой на носу как-то смешно даже было думать о мелких местных делах. Не состыковывалось. Поначалу планировалось, что к нам будут постепенно присасываться представители местных элит, будет стекаться местная интеллигенция, стыдливо играя на тальянках. Но она почему-то не стекалась — стесняясь, видимо, своего низкого уровня подготовки: «ботать по Дерриде» могли далеко не все, в основном только наши, из поезда, — давно уже мотались по белу свету, дело свое знали, но с народом как-то не смешивались, даже, скажем, с немецким или французским. Так что с местной элитой всегда были перебои. Как барственно пошутил тут Лунь: «Элита едет, когда-то будет». Петр, который сперва поселился здесь, сидел на заседаниях, обхватив голову, бормоча: «У меня же отелы на носу!»
— Вот и сделай про это сообщение, — предложил я.
— А поймут, думаешь? — Он с сомнением осмотрел зал.
— Напрягутся, — сказал я.
Мы послали записку в президиум, и доклад Петра после недолгой полемики был назначен и состоялся на другой день. Он назывался просто и, на мой взгляд, актуально: «Как сохранить новорожденных телят». Петр рассказал, что в связи с ухудшившимся экономическим положением, с плохим кормлением стельных коров, ухудшением их зоогигиенического и санитарного содержания, отсутствием денег на приобретение медикаментов и биопрепаратов телята в основном рождаются слабые и болезненные, с острым иммунодефицитом (в зале кто-то хохотнул), а корова, родившая его, сейчас обычно так слаба, что даже не может облизать новорожденного теленка, что абсолютно необходимо для его выживания. Плюс к тому она не может дать ему полноценных молока и молозива, совершенно необходимых для того, чтобы теленок окреп. И с первым же вздохом новорожденный вдыхает в себя уйму микробов, заболевает и, как правило, околевает в первые же дни. Из срочных и необходимых мер Петр назвал улучшение кормления стельных коров, введение им необходимых биопрепаратов, что, к сожалению, при нынешней сложившейся ситуации невозможно. Все.
Петр, насквозь пропотевший (надел для доклада черную тройку), уселся рядом со мной, нервно тиская листочки.
— Ну как? — взволнованно спросил он.
— Нормально! — ответил я.
Реакция зала была не слишком внятной. С одной стороны, все поняли, что хихикать тут особенно не над чем, с другой стороны, как-то уж больно в стороне стояло это сообщение от столбовой дороги нашего семинара. Ничего о том, как в трудной экономической обстановке спасать новорожденных телят, модный философ Деррида не сообщал. Похлопали сдержанно. Каждый рвался в бой со своей темой. Выслушав следующий доклад, Петр виновато шепнул мне, что дальше жить тут ему не с руки и он «пойдет до хаты». Удерживать его было нечем (кормили весьма скромно) — и он ушел. Посидев минут пять, я ушел тоже, чувствуя себя не совсем спокойно… Ведь это ж я все затеял!
ГЛАВА 6
Единственный, кто мог что-то сделать, — это Крот. Но его, видать, мало волновала выживаемость новорожденных телят и, видимо, еще меньше — модные теории про конец света. Из всех семинаров он посетил только первый, на прочих — блистал своим отсутствием. Но раз он назначил меня своей совестью — надо идти к нему. Я постучал в его номер.
— Йес! — послышалось оттуда.
Видимо, он немножко подзабыл, в какой конкретно стране находится. Стол был заставлен какой-то космической аппаратурой с экранами, торчали усики антенн. Вот так вот он, видимо, телевизоры и мутит.
— Отлично! — заговорил я по возможности развязно. — Семинар «Совесть и бизнес» в разгаре, а бизнес блистательно отсутствует!
— А совесть, вы считаете, там присутствует? — усмехнулся он. — По-моему, даже и не проглядывает!
— Ну… так чего мы… тогда? — проговорил я, смущенно почесываясь. Собирались вроде улучшать экономическую и аж политическую обстановку.
— Конкретные ваши предложения?
Я пересказал ему вкратце доклад Петра.
— Ясно, — усмехнулся он.
— Что вам ясно? — обиделся я.
— Что ни с кем, кроме вашего брата-ветеринара, вы тут общаться не собираетесь.
— Ну почему?
— Я не знаю почему, — сказал он.
— Ну, я могу с кем-то еще…
— Замечательно конкретное предложение! С мэром вы можете мне устроить встречу… или как тут называется глава администрации?
— Попробую.
— Попробуйте, — проговорил он нетерпеливо и уставился на экран.
Вышел я от него полностью опозоренным. Впрочем, если человек еще может чувствовать себя полностью опозоренным, значит, он еще не погиб окончательно!.. Вот так ловко я все повернул.
Я побрел по поселку. Когда-то я здесь потерял свою честь… теперь неплохо бы ее тут найти. Но как? Начнем с того, что все изменилось: прежней деревни и не видать… маленький городок — вон сколько блочных пятиэтажек. Дошел до моста, где река растекается по камушкам.
— О, вот и закусочка идет! — донеслось вдруг оттуда.
Пригляделся — из воды головы торчат. Какой-то трехглавый змей. На камушках — бутылки, огурчики. По такой пыли и жаре — лучшее времяпрепровождение. Но мэр вряд ли тут. Какая голова ко мне обратилась, почему закусочкой обозвала?
— Примешь? — спросила голова бровастая.
Может, это путь к успеху?
— Ну что ж — рюмаху приму с размаху! — рассудительно сказал я.
— Тады спускайся.
Повесил одежду на парапет, спустился. Глубина была… повыше колена. Чтобы не возвышаться, тоже сел в воду. Для начала — бр-р-р!! Впрочем, дрожь эта, может быть, и нервная. Чего тут схлопочу? Но, слава богу, что хоть с места сдвинулся и куда-то пришел.
— Вон — швыряло бери, наливай! — командовал бровастый. — …Вот так вот тут и сидим: снаружи — вода, внутри — водка.
Видимо, это был тост, и мы выпили. Так, может, дело куда-то и двинется? Водка и огурец — отличный бизнес-ланч!
— Давай хапай огурчики, — сказала вторая голова, показавшаяся женской. Ведь вы затем сюда приехали — все захапать?
Дальше бизнес-ланч пошел несколько необычно. Все вдруг мощно встали из воды. И я — тоже. Идиллия разлетелась брызгами. Один из предметов на камушке обернулся рацией и оказался в мощной лапе бровастого.
— Ваня, подъезжай-ка на мост. Непорядок! — рявкнул он.
Я огляделся. Наверно, у них и форма тут где-то в кустах, но видно не было. Ребята на посту, со всеми удобствами. Лучше сбежать, если получится: ничего такого позорного в этом нет. Но, может, выйду на мэра таким вот сложным путем, не даром буду хлеб исть?
Пыля издалека, на мост въехал «газик». Открылась дверца, и высунулся белобрысый пацан в выцветшей форме.
— Вот, Ваня, — сказал дядя с рацией. — Пристал, мешает культурно отдыхать. Видать, из этих, приезжих. Разобраться надо.
— Сделаем, дядя Коля, — сказал белобрысый «племянник».
Из «газика» с другой стороны вылез второй, накачанный и обритый наголо, тоже в форме, но без фурани. Может, вдариться бечь? Гологоловый взял с перил мои шмотки, поднял тапки.
— Ну, едешь? — произнес он. — Или помочь?
Бечь? Ну а с чем я прибегу? Даже без шмоток. Как-то слишком интенсивно я вхожу в местную жизнь.
— Может, вы меня с кем-то путаете? — поинтересовался я.
— Милиция не путает, милиция ищет, — произнес Ваня, видимо, их рабочую присказку, и все одобрительно хохотнули.
— А если она ошибается, то извиняется. Иногда — посмертно, — усмехнулся бровастый.
Помню, Жихарка в сказке не лез в печку, упирался. Но мне — надо лезть! Я вскарабкался по скату.
— А Петра Листохвата знаете? — на всякий случай сказал я. — Мой родственник.
— Нет, этого уважаемого коновала мы не знаем, а если бы знали, то ни на что б не повлияло, — усмехнулся гололобый. — Прошу!
— Ну, раз так уговариваете — сяду. Расскажу потом нашим, как вы работаете.
Эта фраза, видимо, поддала им огонька — пихнули меня в заднюю дверь «газика» довольно сильно.
— Учти, за него вы головой отвечаете! — куражился главный. Что интересно в воде была еще одна голова, причем вполне интеллигентная, даже в пенсне, — но почему-то безмолвствовала, находясь в какой-то прострации.
— Его головой отвечаем! — удачно пошутил Иван, указав на меня, и все головы, кроме интеллигентной, утробно хохотнули. Вот что значит интеллигентность — корректно себя ведет. Впрочем, дальнейшего поведения его не знаю, поскольку оказался в тесной нагретой коробке, обитой жестью, и меня пошло кидать.
— Вылазь! — Дверка наконец отпахнулась. Удастся ли раскрючиться?
Скрюченный, как какой-то Верлиока, я вылез. Огляделся. Ого! Городской центр, выстроенный со скромной брежневской роскошью — все как положено, тильки чуть поменьше. Мэрия (ясное дело, бывший обком), под прямым углом к ней (но я не сказал бы «перпендикулярно») работает отделение МВД, куда меня, скрюченного, и ташшут. Увидел я и местного Ленина, небольшого, пропорционального, видимо, количеству населения и, к моему глубокому сожалению, свежепокрашенного.
— Мне бы к мэру надо! — метнулся я в сторону Ильича.
— Мэр сейчас, к сожалению, занят! — вежливо произнес бритоголовый (он казался все опасней). — Придется вам некоторое время провести с нами. Прошу!
Мы вошли в их шикарное здание, но в маленькую боковую дверку, назначенную, видимо, не для самых важных особ. Мы прошли по узкому коридору с учебными плакатами (формы одежды, чистка оружия) и зашли в дежурную комнату, перегороженную барьером.
— Вот, из-за вас пришлось покинуть пост! — сокрушенно признался бритоголовый.
— Зря! — произнес я вполне искренне.
Ваня открыл железную дверь в камеру и выгнал оттуда бомжа в морском кителе на голое тело.
— Геть отсюда! И чтоб больше мы тебя не видели!
Бомж радостно убрался. Кому-то я все же счастье принес!
— Прошу! — повел рукой Ваня.
Я вошел, и они за мной, что мне не понравилось.
По возможности быстро, но и не теряя достоинства я повернулся к ним лицом.
— Ты мэра видеть хотел? — как-то резко отбросив приличия, заговорил бритоголовый. — Так вот знай: здесь все решаем мы! Ячейка правящей партии это к нам. И местное отделение мафии — тоже мы. Понял, нет?
И не успел я выразить восхищение, как резко получил в глаз, даже не успев понять, от кого. Умельцы! Неплохой получается бизнес-ланч! Разведка боем… разведка боем меня. И неплохая провокация, кстати, — надо будет с Берха денег слупить.
— Он, кажется, не все понял, — произнес Иван.
— Нет-нет! Все отлично. Могу повторить.
— И скажи… муравьеду своему, — (Крота, оказывается, знают!), — если он хочет жить — чтобы сюда приполз!
— Сюда?
— Нет. Туда. В разлив — где мы тебя брали.
— В Разлив? Прямо как к Ленину! — восхитился я.
— Ты Ленина не трожь! — окаменел бритоголовый… в честь вождя, видимо, и обрился. — Все запомнил?
— А почему вы мне доверили это сообщение? — поинтересовался я.
— А как самому понятливому! — произнес Иван, и они дружно рассмеялись. Озорные ребята!
— Так я могу идти?
— Да нет, — усмехнулся гладкоглавый. — Посиди тут, подумай немножко. Выпускать пока нельзя тебя — а то ты выходишь вроде невиновный!
— Признаю свою вину… но хочу выйти!
— Дать, что ли, ему еще?
— Нет-нет! Вся информация вылетит. Все! — торопливо сказал я.
— Бывай тогда.
Ну что ж, первый контакт с общественностью прошел хорошо!
И заскрипели запоры. В камере, кстати, совесть успокаивается — можешь смело сказать себе, что живешь не лучше других. Пару раз в жизни удалось так воспарить — к счастью, ненадолго. Но и сейчас вроде я правильно иду?
Не ведаю, сколько прошло времени, — не ношу часов. Запоры наконец заскрипели. Заглянул средних лет лейтенант — само обаяние. Вот как жизнь бросает — то туда, то сюда.
— Извините, но не могу понять… как вы здесь оказались?
— А что — протокола разве никакого нет? — Я посмотрел на стол, покрытый бумагами.
— Нет. — Он развел руками. — Такая уж смена идет нам!
— Да… смена не особо казистая.
— Но вы уж должны их извинить…
— Только лично.
— Ребята новенькие, неопытные. Зарплаты мизерные.
— Но денег я им дать не могу. Самому мало!
— Да-да, — кивнул он даже сочувственно, но сочувствуя то ли им, то ли мне. — Ой, у вас, кажется, кожа рассечена? Сейчас мы что-нибудь придумаем! У нас тут аптечка есть, но заперта, к сожалению: Марья Ивановна ушла. Кто-то может за вас поручиться, я имею в виду — из живущих здесь?
— Так у меня двоюродный брат тут! Петр Листохват!
— Вы брат нашего уважаемого ветеринара? Так боже мой, мы сейчас же за ним пошлем!
Какая-то мучительно знакомая интонация! Каких-то книг начитался, сука!.. Достоевский, что ли?
Петр появился, как раз когда материально ответственная Мария Ивановна открыла аптечку и прижигала мне рану под глазом, и я, перенося жжение, сипел сквозь зубы.
— Бо-бо? — равнодушно проговорил Петр. — Во-во. Давно пытаете?
ГЛАВА 7
— Что ж ты прямо ко мне не обратился? — бушевал Петр. — Я бы сам тебе все это дал!
— В смысле — по харе?
— …В смысле инфраструктуры!
Мы сидели с Петром в чайной, обвешанной липучками с мухами, как елочными гирляндами.
— Да как-то я стеснялся к тебе… после твоего доклада. А потом помнишь в первый же день? Галя шо-то неласково нас приняла?
— А-а. Это ж она думает, что это ты к казино меня приучил!
— Ну спасибо, Петр!
— Нравится тебе здесь? — Петр, откинувшись на стуле, огляделся.
— Хорошо, но душно, — вежливо сказал я.
— Дерьма куча! — заявил Петр безапелляционно. — Разве ж это клуб? Я хочу настоящий клуб сделать — с казино, стриптизом. И знаешь где? Вон там, на Пень-хаузе небоскреба нашего! — Петр кивнул в окошко на «Колос».
— Мне кажется, Галя этого не одобрит.
— Мне Галя не указ! Хочешь знать — я ее до этого года узлом вязал! До поездки, в смысле, к тебе.
Опять я виноват!
— А вы все оттяпать хотите!.. Так что ребят наших понимаю, — признался Петр.
— А я что?.. Я как раз думал спонсора на опорно-двигательный наш направить! — признался я. — Помнишь, как мы здесь?
— «Странное нынче пиво»? — Петр усмехнулся. — Да, было дело! Особенно когда мать тут была!
— Ну а теперь все делось куда?
— А куда все! — отвечал Петр. — А было — да! Заранее уже знали, когда ехали сюда: бабы тут лечат опорный аппарат, а мужики — двигательный. Я ж и с Галей тут познакомился! Вот говорят — «красный пояс» у нас. Так любой пояс покраснеет, коли все отнимать!
— А кто отнял-то?
— Санаторий-то?.. Да сами и отняли! Главврач там профессор Мыцин… укушенный капитализмом! Да еще к брату в США съездил, набрался там. Приватизировали, акционировали. Теперь сидят на бобах. Колхозы, профсоюзы теперь не шлют, а сам никто не едет: расценки выставили адекватные США. С вас сколько берут за номер?
— Не знаю.
— Вот то-то и оно. Сам Мыцин в подвале сидит, где у них прежде научный центр был. Персонал — на станции торгует, кто побойчей. А зданием командует любовница его, бывшая сестра-хозяйка. Мыцин как бы фершалом там. А какие операции делал, по голеностопу! Мать гордилась им, пока жива была. При ней-то порядок был!
— «Странное нынче пиво»! — напомнил я. — Помнишь — домик-пряник!
— Ну, это-то как раз осталось — там теперь своя охрана! — сказал Петр. Кто-то там и сейчас из Москвы гужуется.
— Да?.. ну а чего нам-то делать?
— Прежде всего — с нами согласовывать! — отчеканил Петр.
— С теми, которые там… в луже сидят?
— А чего? Ключевая позиция! Я, кстати, тоже в группировку вхожу.
— Так это я тебя тоже должен за плюху благодарить?
— Это не тебе. — Петр усмехнулся. — Это для передачи… муравьеду твоему.
— А он, думаешь, примет?
— А ты уж расстарайся! — усмехнулся Петр.
Мы взяли еще по стакану.
— А чего-то они непочтительно о тебе отзывались! — вдруг обида захлестнула меня.
— Кто? Наши? Так это у нас стиль такой.
С некоторым усилием я добрался до номера, рухнул в койку. Потом все же поднялся. Надо Кроту позвонить, отчитаться о проделанной мною работе. При этом — спьяну, наверное, — почему-то рыдал. Еще классная воспитательница говорила, Марья Сергеевна, в первом классе: «Нет добросовестнее этого Попова!» Таким и остался! Рыдал приблизительно минут пять, потом резко оборвал, набрал номер. Гудки… гудки… Глухо. Не желает! Потом все же — «нет добросовестнее» рыдания подавил, нашел записанный номер его мобильника, набрал целую кучу цифр. Запищало страшно далеко — словно на Марс дозвонился.
— Да… — Вроде бы голос Крота, но какой-то придушенный. И так-то он чуть слышно гутарит, а тут — как сквозь резину говорит. Может, кто-то там душит его, не дает разговаривать?
— Аллё! — закричал я. — Это Попов. Вы слышите меня? Что с вами?
— Выйдите на балкон.
— Что?
— На балкон выйдите!
А! Видно, для лучшей слышимости! Вышел. Ни фига не лучше! Еле расслышал:
— В сторону Ржавой бухты посмотрите!
Перегнулся через перила, заглянул туда — и обомлел! Какая-то марсианская хроника! Там, за военным забором из сетки, серебристые емкости с их отравой въезжали по трапу в какой-то огромный плавучий сундук. Предпоследняя там исчезла. Последняя. За ними ехала цистерна на машине, и по бокам от нее шли человечки в оранжевых комбинезонах и поливали из гофрированных шлангов землю какой-то пеной. Группка, тоже в комбинезонах, стояла сбоку и, видимо, командовала.
— Вижу! — заорал я. Так лучше, наверное, перекликаться, чем по их технике?
— …Хорошо, — просипело в трубке. — Идите сюда, не бойтесь!
Одна из фигурок в группе, повернувшись в мою сторону, замахала рукой. Работодатель! Почему это именно я, из всего «поезда совести», должен «не бояться»? Вон как обуты они — а я в тапочках! Тем не менее, подавив рыдания, спустился, пошел. Приблизился к оцеплению из матросиков во фланелевых робах, тут Крот (самый маленький в группе) сказал что-то начальнику (начальника и в комбинезоне видно), и тот махнул оцеплению рукой: «Пропустите!» Большая радость. Шел по пузырящейся пене. Надеюсь, не ядовитая? Крот по ней шел навстречу мне. К нему подъехала как бы «слепая машина» с крохотными окошечками, он содрал с себя и сдал им скафандр и шел ко мне уже в элегантной «пуме».
— Не бойтесь, все уже обеззаражено! — Повернувшись, он оглядел широкое, словно заснеженное поле.
Все рассаживались по машинам и разъезжались. «Сундук» с явным усилием, но все же отплывал.
— Представляете? — Крот сиял. — Вот здесь емкости для нефти будут возвышаться — огромных размеров. А знаете, как емкость разворачивается? Как обычный рулон! Так и привозят их в виде рулонов! В емкостях и анализ будет производиться, и отмер. А вот там, где сейчас УКПР отплывает, — терминал будет, танкеры станут подходить. И уверяю вас — полная чистота! Даже дождевая вода с терминала не будет в море попадать — сразу на флотацию, на очистку. Лебеди будут плавать — уверяю вас! У меня на таллинском терминале — плавают! Кстати, в единственном месте во всем Таллине и его окрестностях! Воспеть сумеете? — Он улыбнулся.
— Да я… — Снова душили рыдания. — Саяно-Шушенскую ГЭС смог воспеть. А она! — Я взмахнул руками, частично охватывая и небо. Наверное, излишняя моя эмоциональность и подвела меня, вызвала подозрения.
— Так, — снова сухо заговорил он. — Что нового? Связь с мэром удалось установить?
— Нет… Но зато с местной мафией установил!
— Это чувствуется. — Он приблизился. — Что пили? Виски? Джин? Текилу?
— Почему? Обычную водку. Отличную, кстати! — Я вдруг вступился за отечественного производителя.
— Ф-фу! Зря я противогаз снял!
Ах, не нравится? Фингал, мой алый знак доблести, он даже не замечал… или толковал превратно.
— Ждут там, в разливе, вас!
— И Ленин там же? — усмехнулся он, но уже как-то жестко. — Извините, но на подобную ерунду у меня нет времени!
На народ у него нет времени! — снова рыдания подступили к горлу.
— Простите, но в ваших услугах я больше не нуждаюсь! Вот вам за труды! протянул мне бумажку — двадцать долларов — и побежал трусцой.
С плохо скрываемым омерзением я взял деньги. Вот так! Уделал. За весь мой самоотверженный труд!
Взлетел в номер к себе как птица, взял из сумки последнюю бутыль коньяку, к Любке поднялся. Обида, говорят, хорошо стимулирует секс. Спорный тезис.
Открыла. Но очков не сняла — как бы показывая, что не оторвется от дела ради такой чепухи.
— Ну что, опять наксерился? — проговорила она.
— Странная терминология. — Я стал вдруг очень обидчив.
— А что же с тобой?
— Вот. Подарок. От чистого сердца оторвал! — Я протянул ей бутылку.
— …Попозже, ладно? — тронула за локоть меня.
Всюду бумаги разложены — даже на койке. Правильно она называет себя: ради денег крикнутая! Бумаги оглядел.
— Нулей-то, нулей-то! Что икры!
— …Хочешь икры?
— Нет! — ответил я гордо.
— Тогда давай работать! Садись.
Посмотрел на экранчике у нее… наполняет, видимо, свой журнальчик «Загар» — уже по всем пляжам раскинутый.
— Как лучше, — спрашивает, — магазин «Шило и мыло» или «Хоз-Мари»?
— Оба лучше.
— Да. Ты сегодня не в форме… А это как: «Подарки любимым по разумным ценам»?
— Гениально!
— Тогда садись за компьютер, пиши: «Овнам сейчас… рекомендуется получение взятки в особо крупных размерах»… Есть тут один такой. Ну что?
— Не буду!
— Тогда раздевайся.
— Это другой разговор.
— Стоп! Не надо.
— Пач-чему?
— Да так. Не стоит. Гляжу я на тучные поля за окном и думаю: что от тебя тут будет? Град? Ураган? У тебя ж так потрясения отмечаются?
— Да ну… ты преувеличиваешь!
— Я — нет. Ты — да. Одевайся!
Потом выпили с ней просто так и валялись, отдельно.
И солнце, в море садясь, руками разводило: а что делать?
— Семинар — дрянь, — с горечью сказал ей я. — Какое он отношение к этой жизни имеет?
— А давай скажем все, что о них думаем, — но через недельку?
— А не забудем?
— А забудем — совсем хорошо! — снова уселась за компьютер.
— На тебя заглядевшись учтиво, застрелился проезжий корнет! — проговорил я и вышел.
Вошел в лифт. Хотел поехать наверх — еще малость семинар послушать. Но тут увидал, вглядевшись, что верхняя кнопка залеплена чем-то белым вроде жвачки. Это она всюду жвачку свою разбрасывает. Во, и у меня на локте! Злобно оторвал — от локтя сначала, потом — от кнопки. Вдарил в кнопку — и полетел! Долго что-то летел. Двери наконец разъехались. И я шагнул — в полную тьму! Обернулся — и сзади уже тьма, двери захлопнулись. Стал руками ловить — и никакой опоры вокруг: ни двери, ни стенки! Где это я? Чье-то сиплое дыхание рядом. Мое? Куда это я взлетел-то? Смерть, что ли, матушка выглядит так? А как же дыхание?.. Прервется сейчас? И точно — получил вдруг из тьмы зверский удар, прямо в лицо. Ах вот как здесь принимают? Махнул во тьму — ну и, естественно, в пустоту — и тут же получил зверский удар в затылок. И упал — видимо, на пол, хотя какая тут терминология, в точности неизвестно.
Недавно же били меня? Но там мне больше понравилось: был какой-то видеоряд, какой-то был смысл, хоть и минимальный! А здесь? Страшно — и все. Но и этого им (кому?) мало показалось, вздрючили на ноги меня, куда-то поволокли. Этот странный бой с невидимками кончился вдруг — передо мною расширился свет… Тоннель, что ли, тот пресловутый? Лифт! Кабина лифта! Что-то родное хоть!
Вбили меня в него, размазали об стенку. Стал я кнопки искать, гляжу — все стенки в крови! Я, что ли, успел так намазать? Или это такой спецлифт? Кнопки вот. Нажал для контраста на самую нижнюю — и по стенке сполз. И вниз рухнул. Разъехалась дверь. Надо подниматься на ноги. Немножко поднялся — и выпал на чью-то белую грудь, в медицинском халате.
Опять я — «самый понятливый»? Но что тут можно понять?
ГЛАВА 8
Открыв глаза, я увидел над собой светящийся череп. Смутно вспомнив происшедшее, я понял, что нахожусь скорей всего в какой-то амбулатории, а светящийся надо мной череп — скорей всего мой, снятый на пленку и подсвеченный изнутри. Некоторое время любовался им и даже восхищался, но потом тревога посетила меня: если его тут повесили — значит, изучали, значит, не все в порядке с ним? После полученных мной в темноте ударов это немудрено. Кстати, кто же мне их нанес? И за какие заслуги? Видно, я вторгся в какую-то область тьмы, в которую не положено вторгаться? Но я же на обыкновенном лифте туда доехал! Отчаяние заполняло меня все больше. Дурак и на лифте заедет на эшафот — был про это фильм, кажется, французский.
И так я лежал в свете своего черепа, довольно мерзкого на просвет, и предавался отчаянию. Больше ничего не разглядывалось в полутьме — мерцал, кажется, какой-то стеклянный шкафчик. Вдруг скрипнула дверь, и я различил приближающийся белый халат, холодные руки на моем лице, потом, тоже холодный, блеск пенсне.
— Кто вы? — поинтересовался я.
— Профессор Мыцин.
— А!
— А вы…
Как бы половчее сказать:
— Я… племяш Зинаиды Ивановны!
— Я так и понял. — Довольно холодный ответ на мое восклицание.
— Вы знаете ее?
— Разумеется. Я ее ученик.
Тут бы и раскрыть всю душу — но он молчал.
— Ну… и как он? — Не утерпев, я кивнул на свой череп.
— Да на удивление хорошо. Никаких существенных изменений. Всего лишь несколько поверхностных гематом. Опорно-двигательный аппарат не поврежден.
— Так это, значит, большая удача? Странные эксперименты тут проводятся у вас!
— Это не у нас.
— Но в вашем же здании!
— Наше здание разнородно, — глухо произнес он весьма загадочную фразу.
— Вот хотелось бы это понять.
— Вот этого как раз не надо вам понимать! Вы что, решили уже все загадки жизни? Тайну человеческой речи? Возможность бесконечной Вселенной? Думайте над этим! И не отвлекайтесь на пустяки.
— Думаете, пора уже… о Вечном?
— Об этом — всегда пора.
— Во всем мне хочется дойти до самой жути!
— Считайте, что вы там уже побывали.
— А где же признание?
— У вас на лице.
— Но за что это мне?
— За наблюдательность.
— Но я даже не знаю, что я… наблюл.
— Думайте о чем-то приятном! А эту загадку оставьте… на конец.
— И как он… близок?
— Все зависит от вас. Второй раз в таком же виде я вас не приму. Там будут недовольны! Почему вы на семинаре не сидите, как все?
Да, умные люди — на семинарах. А я лезу куда-то. Но тем не менее не удержался, спросил:
— А что там у вас наверху? Секция слепых боксеров?
— Ну, угадали примерно. Что в стране есть у нас?
— …Народ.
— А еще что?
— Руководство? — спросил я.
Он многозначительно молчал.
— Странно они нами руководят!
— Ну почему странно? Как всегда — немножко ограничивают. Лишают кое-каких прав.
— А каких прав там лишают?
— Права видеть.
— Что?
— …Далее я умолкаю.
— Что там можно увидеть-то?
— Лучше вам этого не видеть. Второй раз, повторяю, я вас уже не приму.
Профессор вышел, но тут же снова заглянул:
— К вам посетитель.
Вошел Крот. Пригляделся в полутьме.
— О! — обрадовался я. — Значит, я не уволен? На больничном?
— Больничные платят тем, кто приносит пользу! — Крот проскрипел. — А вы только проблемы создаете!
— Кому?
— В основном себе.
— А не в основном?
— Мне.
— А еще? Тем? — Я показал вверх. — Повредили свой опорно-двигательный аппарат об меня?
— Вы, наверное, часто через стеклянные стены проходили — с большими потерями для себя?
— Почему? Для стен тоже.
— Луч света в темном царстве? — усмехнулся Крот. — Это Катерина, кажется, из «Грозы»? В Волге утопилась.
— Не, лучом света никогда не был!
— Однако проникли куда не надо! — произнес он.
— Но я абсолютно там ничего не видал. Ей-богу… Только осязал.
— Что осязали — это я вижу. Но больше осязать не хотите?
— А надо? Могу!
Крот покачал головой.
— Оптимизм ваш меня поражает.
— Это не оптимизм. Это мстительность!
— Хотите там… разобраться?
— Может, мне железную маску надеть?
— Плавки тоже железные наденьте. Я вижу, вы добросовестный человек.
— Но раз заплачено — то надо, наверное.
При слове «заплачено» Крот даже смутился — впервые видел его таким. Пришлось выводить его из неловкости.
— Да, заплачено, я имею в виду — здоровьем моим.
— Ну, я надеюсь, — Крот твердо сказал, — что это будет не единственная форма оплаты!
— Да? А что надо делать? — Теперь немножко смутился я.
— Пока — не потерять уже наработанного! — сурово произнес Крот, и мы торжественно посмотрели на череп. — Да-а-а… Наверное, вас там за снайпера приняли.
— …За снайпера? А в кого там можно стрелять?
— Оттуда много в кого можно стрелять. Потому и окна забиты!
— А-а! Понял наконец! Домик-пряник! «Странное нынче пиво»!
— О чем это вы? — изумленно проговорил Крот.
— Да так. Сложно. Поток ассоциаций. Я, конечно, не снайпер, но сволочь порядочная! Хоть и с некоторым опозданием, но правильно дали мне! Виноват я там.
— Вы, я вижу, одобряете побои? — усмехнулся Крот.
Мы снова посмотрели на череп.
— Сложный вопрос. Побои — да. Но «побойщиков» скорее нет! Боюсь, они точно не понимали, за что бьют!
— А за что?
— Однажды я в домике том… в бутылки вместо пива напбисал!
Крот слегка качнулся на стуле.
— Когда это вы успели?
— А, да еще давно.
— Как давно?
— Лет тридцать назад.
Крот снова качнулся.
— Ну у вас и память! За такой срок давности и убийство прощают.
— Смотря кто. Так что: может, еще разок поднимусь, пожму их честные руки, если, конечно, не повредили их они об меня?
— Боюсь, что если они еще раз вас встретят, то повредят.
— Что?
— …Руки. И еще кое-что. Исчезните пока.
— Так что, мне так тут и лежать?
— Да. Пока я эту тему не разработаю. Но за тему — спасибо.
— Рады стараться!
— Все! — Крот шлепнул ладонью в мою ладонь и вышел.
Сразу же вслед за ним вошел профессор.
— Это ваш друг?
— М-м-м… Типа да.
— А скажите, он не хочет вложиться в наш опорно-двигательный центр? По-моему, ему в связи с конкурсом на нефтяной терминал нужны рекламные акции?
— М-м-м… Да.
— По-моему, нет более благородного дела! — Мыцин проговорил. — А то, видите, — он почему-то с презрением показал на мой череп, — чем приходится заниматься!
А что здесь такого позорного? — я чуть было не обиделся за мой череп.
— Мы ж делали великолепнейшие операции! — воскликнул он.
Так сам же все под откос пустил! — я вспомнил рассказ Петра о реформе, которую Мыцин тут провел, из-за которой все специалисты слиняли.
Ч-черт! Важное дело мне поручил! А череп мой — я глянул на фотоснимок варит не ахти.
— К вам гость! — торжественно Мыцин объявил.
Надо же — сплошные гости! Раньше такого не было. Большой успех!
Петр вошел. Был уже в курсе всего.
— Они этот этаж ржавым железом заделали давно. Еще при Умельцыне. А там люксы для передовиков были, на крыше солярий, бассейн. Да вот беда: оттуда, оказывается, их домик за горкой видать, все его внутренности. Разве ж они могут такое допустить? Мать с этого дела уволилась и слегла. Ну суки! Значит не моги?!
— Знаешь, — сказал я, — мне лучше, когда я думаю, что это не просто так, а наказание. За то… помнишь, что мы там у них с пивом сделали?
— «Странное нынче пиво»? — усмехнулся Петр.
— Тебе, кстати, тоже причитается.
— Ну нет уж! — сказал Петр. — Да и откуда эти могут помнить про то?
— Главное — я помню.
— Ну и лежи, отдыхай тут. А я за мать им отомщу! А этаж тот, как и весь дом, на Мыцине числится — да он трухает туда ходить!
— Я его понимаю.
— Если муравьед твой их оттуда не скинет… значит, ежик он, а не бизнесмен! Ты скажи ему это!
— Попробую…
Что-то много поручений у меня!
Потом вдруг Любка пришла. Я слегка напрягся. Эта не ходит просто так.
— Да-а, ты не подарок! — бодро заговорила она. — Когда там лупили тебя как раз от меня ушел, — колоссальный смерч на море возник, всосал несколько тысяч тонн воды и в ущелье закинул!
— Думаешь — это я устроил?
— Похоже на тебя. Снегопад помнишь? Видно, эркгрегор твой — мысленный столб — до небес достает. Так что ты больше не волнуйся — а то, говорят, много птичек погибло.
— Такая трактовка моего образа мне нравится.
Что еще? Наверняка это лишь прелюдия.
— Как — работает у тебя? — вроде бы взволнованно на череп кивнула.
— А ты что — хочешь проверить?
Я же говорил!
— Да так. Ерунда. Одну вещь надо, но не к спеху, — отмахнулась как бы беззаботно.
Значит, к спеху, если к раненому пришла, не смогла дождаться выздоровления.
— Ну говори.
Мне самому интересно было проверить, работает ли мой мыслительный аппарат.
— Да тут… надо рекламу для презерватива придумать. Можешь, нет?
— …Желательная резинка!
Да, работает аппарат. Но не шибко.
— Все! — Она поцеловала меня прямо в рану и унеслась.
Эта и умирающего поднимет! Но ненадолго.
Истратив все свои умственные силы, я уснул. И не знаю, сколько спал. Может, сутки?
ГЛАВА 9
Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо, и, открыв глаза, увидал над собой Андре. Был он абсолютно счастливый! Что же за радость такая у него?
— Фрол объявился! — заметив, что я его вижу, выпалил он.
— Ух ты, — равнодушно сказал я.
— Он ведь из-за тебя приехал! — гордо сообщил он.
— …Ух ты, — почему-то повторил я.
Все «ух ты» да «ух ты»! Забыл другие слова?
— А что я могу-то? — растерялся я.
— Ты уже смог! Ты… подвиг совершил. Теперь за тобой другие пойдут!
Фрол, что ли, их поведет?
— Фрол такую акцию уже проводит! На весь мир! «Срывание последних шор тоталитаризма» с окон последнего этажа!
— А эти-то согласны? Из домика-то?
— Ну ясно — нет. Он там объединенный центр религий хочет сделать! Представляешь?
— …Нет.
Может, голова плохо варит у меня?
— Уже зороастрийцы приехали с ним!
— …Кто?
— Зороастрийцы… Представители древнейшей религии! Огнепоклонники.
— …Странное начало.
— Так это ж его штучки! — с восторгом сказал. — Уже зороастрийцев на штурм повел! И я с ним ходил!.. Одного зороастрийца уже убили там… говорят… где тебя.
— Что значит — говорят? — Я еще больше удивился.
— Ну… сам я этого не видел, — Андре, как честный человек, немного смутился, — но реакционная пресса пишет…
Уже и реакционная пишет!
— …что Фрол уже мертвого зороастрийца подкинул!
— Этот может!
— …Но я этому, естественно, не верю! — произнес он с новой вспышкой энтузиазма.
Ну что ж… не верь, подумал я, раз ты такой. Такие люди тоже нужны. Без них как-то… холодно.
— Ну, тогда… — Я приподнялся.
— Лежи, лежи! — взволнованно произнес он.
Ладно. Может, я как раз красиво лежу, может, для Фрола — чем больше полегло, тем лучше? Наверняка! Моя работа — лежать.
— Уже и Москва гудит об этом! — продолжил радостно Андре и вдруг снова смутился: — Там как раз, в том домике маленьком, из-за которого закрутилось все, как раз один из Москвы отдыхает… причем из наших, из демократов… вроде.
Может, вроде он и демократ, но защищают его тоже крепко! — я на череп свой посмотрел. И Андре взгляд мой понял. Вздохнул.
— Не-не… ничего! — пробормотал я. Что будет вообще, ежели и его энтузиазм вдруг улетучится?! Надо поддерживать.
— В общем… живем! — радостно воскликнул он, но, поглядев на меня, снова смутился: я вроде не очень так живу?
— Нормально! — сказал я.
После его ухода я поднялся — хоть и большое дело делаю, но лежать устал. Надо идти миллионера воспитывать. Встал, пару раз качнулся взад-вперед, потом все же пошел. Мыцина не видать. Через маленькую комнатку, где грудой медицинское оборудование свалено, а также части скелета — надеюсь, не настоящего, — вышел на воздух.
Хотел пойти раздышаться. Пляж. Серая галька. Прибой цвета морской волны. И сразу же почти Крота встретил, как назло — не успел даже с духом собраться: нелегкое это дело — миллионеров воспитывать. А он как раз из воды выскочил, полотенцем растирался.
— Плавали? — для начала задал ему легкий вопрос.
— До буя и дальше, — довольно мрачно ответил он.
Да, нелегко будет!
— Что-то не так? — поинтересовался я.
Видно, он посредством купания успокоиться хотел — но не удалось ему это! С болью на самый верх нашего небоскреба смотрел. И там уже дымок какой-то струился. Что-то уже горит?
— Вы знаете, какой счет он мне выкатил? — проговорил он злобно.
— Больших цифр стараюсь не запоминать. Ни к чему мне это! — попытался пошутить я.
— Я тоже их не всегда люблю! — продолжил он тем не менее еще мрачней. Я-то чем виноват? Хотя конечно… Кто туда первый влез?
Я вздохнул как бы сочувственно.
— И что он там, спрашивается, творит? Говорит — зороастрийцев этих в горах Индии отлавливал поштучно — десять тысяч якобы долларов за каждого! Я их заказывал?
— Большой художник, — уклончиво сказал я.
— Авантюрист он, а не художник! — в сердцах воскликнул Крот. — Что он там вытворяет?
— Что?
— Вон… зороастрийца жжет! А с вертолета вон Си-эн-эн это снимает, как большой праздник! И это еще начало только!.. Не забыть бы мне, что я проплачиваю… «Срывание последних шор тоталитаризма»! — на глухие верхние окна показал.
— Так на месте вроде бы шоры? — неуверенно сказал я.
— Так то отдельный будет праздник! Снова им выкатывай! — Он почти орал.
Да-а… Встретились два гиганта! Момент для воспитания не очень уютный возник… особенно для выклянчивания денег. А я Мыцину обещал… Выждем!
— Большой мастер! — уже слегка успокаиваясь, произнес он. Я развел руками… да, мол, бывают большие мастера! Начать про Мыцина?
Но момент неподходящий все же: дым еще гуще повалил!
— Что он там у них… пластмассовый, что ли? — снова Крот заорал.
Не могут начальники эти не вмешиваться в художественный процесс!
— Может, мировое телевидение меня и раскрутит, — сказал он, — но зато местные точно… в банку закрутят, как помидор! Может, я и выхожу с этим, (дым все усиливался), — веротерпимым деятелем, любителем разных религий… но уроют меня просто, по-христиански!
— Так надо с местными больше контачить! — ввернул я.
— Вы уже… поконтачили! — Он впервые на меня поглядел.
— Так еще надо! — воскликнул я.
— …Спасибо, — сказал он, — но больше всего меня волнует тот домик за холмом.
— И на него выйдем! — пообещал я.
— Вы уже вышли! — Теперь по-доброму на меня поглядел.
— Еще с народом бы надо пообщаться.
— С народом? — дико удивился.
— Говорят, это облагораживает.
— Нет. Со мной это безнадежно. В смысле облагораживания.
— Но все же. — Я сделал приглашающий жест, рекомендуя прогулку.
— Ну… попробуем, — произнес он. — На фоне этого, — снова глянул на дым, — все более-менее нормальным кажется!
Дым уже полнеба чернил!
— Да скольких он там сжигает?! — снова сорвался он.
— …Давайте пройдемся… — успокаивающе сказал ему я и вдруг закашлялся от дыма… Да, Фрол дело знает свое!
По ходу прогулки я мягко втюхивал Кроту, какой тут замечательный опорно-двигательный санаторий был и как люди счастливы были.
— А кто вам сказал, что людское счастье меня волнует?.. Потом этот Фрол, (снова нервно оглянулся), — хоть и сука, но дело знает свое!
Словно подслушал мою мысль.
— Есть в округе хоть один, кто дым этот не видит? То-то. И весь мир это увидит! Точно. У Фрола не заржавеет. А санатории для колгоспников… усмехнулся он. — Даже Москва это теперь не покажет! Как там было у них? «Пальцы и яйцы в солонку не макать». Абзац! Прошло все это.
Некоторое время мы шли молча. Но не бессмысленно: многоглавый змей на месте оказался, в воде, — от жары там спасался. Может, что удумаем вместе? Одна голова — хорошо, а много — лучше! Тем более — там еще добавилось несколько голов. Петр, что было приятно, и те двое — «новеньких», что в милиции привечали меня… что было неприятно, и еще одна — коровья — голова. Видно, с совещательным голосом. Солнце словно плавилось в реке, и они как бы сидели в расплавленном солнце.
— Вода теплая! — прокаркала бровастая голова. — Купайтесь!
И те «новенькие» как-то дружелюбно глядели на нас. Не при исполнении?
Крот, кстати, так в трусах купальных и шел. Все продумано у меня!
— Ну что ж… — произнес Крот и слез в воду. Я за ним. Пока все неплохо.
— Виски? Коньяк? — предложил бровастый, хотя не наблюдалось ни того, ни другого.
— Предпочел бы минеральной, — ответил Крот.
— А это ты из реки пей! — рявкнула крайняя голова, вроде как женская, давая сигнал к атаке.
— Ну что? Продал уже? — кивнув на дымящийся небоскреб, произнес бровастый.
— Приехал тут телевизоры мутить! — подъелдыкнул и Петр, и это почему-то как раз и задело Крота: глянул на меня гневно… В плане предательства моего? Что это я про телевизоры выдал? Ей-богу, нет! Это Петр сам подслушал, когда гостил у меня: Лидия Дмитриевна с третьего этажа приходила жаловаться… сейчас, впрочем, не в этом суть — с Кротом сейчас нет смысла ругаться… Да он неплохой вроде мужик.
Мои друзья, «новенькие» из милиции, проявили вдруг повышенный интерес к моим ранам, окружили меня и почтительно разглядывали.
— Да-а! Профессионалы работали! — говорил Иван восхищенно, нежно прикасаясь к моему лицу.
— А вы что же — любители? — удивился я.
— Нам до них далеко! — самокритично сказал гологоловый.
— Молчать! — рявкнул бровастый. — Хватит херню тут молоть! Будем разговаривать? — Он обернулся к Кроту.
— Давайте, — спокойно ответил Крот. — Впрочем, кого не интересуют нефтедоллары — могут выйти!
Таковых не оказалось — наоборот, все головы проявили интерес, и даже интеллигентная голова, в пенсне, подвинулась поближе. Женская голова заулыбалась кокетливо. Бровастая зашевелила бровями, усиленно соображая. Петр и корова погрузились в задумчивость.
— Знаешь, сколько оператор-сливщик получает у меня? — обратился Крот прямо к гололобому, видно чуя в нем наиболее опасного.
— Откуда ж, — сглотнув слюну, выговорил тот.
— Так вот. Нисколько, — жестко проговорил Крот. — Если терминал тут не будет построен. Кто-то что-то имеет против меня? — Он обвел всех взглядом.
Все помалкивали. Только бровастый открыл рот и, подержав его в этом положении, снова закрыл.
— Так вам охрана, наверное, будет нужна? — ревнуя к успеху друга, уже фактически сделавшему карьеру, встрял Иван.
Крот перевел на него тяжелый взгляд.
— Нужна, — сказал он. — Но дисциплинированная. Которая приказы мои выполняет беспрекословно!
Ваня всеми немногочисленными выразительными средствами своей физиономии изобразил беспрекословность.
— Давай я тебя к мэру сведу! — наверстывая гигантским броском вырвавшуюся вперед шушеру, предложил Кроту бровастый.
Крот долго насмешливо смотрел на него.
— А к мэру мы не с тобой пойдем! — торжествуя, разделяя и властвуя, проговорил Крот. — Мы вот с молодежью к нему пойдем! И потребуем все, что нам положено. Правильно, молодежь?
Молодежь стеснительно кивнула. Бровастый, не в силах подавить раскол в своей армии, начал икать.
— Замерз? Выйди, — усмехнулся Крот, и молодые подобострастно хохотнули.
Победа. Те, кто не молодежь, просто улыбались, глядя на Крота. Держались только Петр с коровой. Корова (совещательный голос) задумчиво смотрела на Петра.
— А что с крупным рогатым скотом будет? — мужественно произнес Петр.
Тут Крот решил прибегнуть к моим (кстати, совершенно неоплаченным) услугам.
— Это твой родственник, что ли? — спросил он у меня.
Я вынужден был кивнуть: с какой стати отказываться?
— Так вот, скажи своему родственнику, — проговорил Крот, — если он не обеспечит молоком и мясом две тысячи человек, что будут у меня работать, а также экипажи танкеров, что будут сюда приходить, то он тебе больше не родственник.
Вечно через меня норовят неприятное передать!
Такой текст я, естественно, не собирался произносить, но этого и не требовалось — все было сказано и так.
Корова, начав с какого-то продолжительного утробного сипенья, вдруг оглушительно замычала — видимо, выражая одобренье, — и стадо, разлегшееся вдоль берега, поддержало ее.
Полная победа, но… победа не бывает без проигравших — об этом я забыл. Все тоже слегка расслабились.
— А наверху «Колоса», — Петр, разнежившись, указал заскорузлым пальцем на верхушку нашего небоскреба, доминирующего в пейзаже, — Пень-хауз сделаем, как в Америке! Казино там заведем, стриптиз!
Женская голова вдруг зарделась, как будто это некоторым образом касалось ее.
— Есть у меня в Питере один кадр на примете… — размечтался и разоткровенничался Петр. — Ну что, по рукам? — повернулся он к нашему миллионеру.
— А это уж как молодежь скажет! — Продолжая разделять и властвовать, Крот опять обратился к молодежи, к нашему будущему.
Те застенчиво потупились, не выражая, в общем, против стриптиза решительного протеста.
— …А как же санаторий опорно-двигательный? — был вынужден произнести я. — Одним стриптизом марку не сделаешь!
Лучше, конечно бы, мне сказать это Кроту в качестве переводчика, переводя как бы с местного, с голоса народа. Но поскольку народ безмолвствовал, пришлось мне — раз никто этого не сказал. Даже сын тети Зины.
— …Опорно-двигательный? — Крот насмешливо посмотрел на меня. — А что — у тебя плохо двигается?
Почему-то от него такого удара в спину я не ожидал. Общий хохот — в том числе и визгливый, женский — обозначал полную его победу и мое поражение… непонятно, правда, в качестве кого? Я вылез, оделся.
И никто — даже Петр! — не сказал мне ни слова: я лишь услышал за спиной звяканье стаканов.
ГЛАВА 10
Любка встретила меня в холле.
— Уезжаешь? Может, зайдешь проститься?
— Да я расписание не знаю еще… — Это я бормотал уже в лифте. Обиды, говорят, хорошо трансформируются в сексуальную сферу… говорят.
Мы вошли в ее полулюкс… Однажды — первая попытка была — мы пытались на море сблизиться с ней, в круизе: почему-то осенило нас в дикий шторм. Каюта была громадная у нее, качка высокая — и мы с протянутыми руками все время мимо друг друга пробегали. Кстати, и сейчас расштормливалось — я через окошко подглядел. Неспокойно синее море — словно на него уголовное дело завели. Но Любка пресекла мой взгляд — мол, штормит опять что-то…
— Это мы отметаем! — просто сказала она, задергивая штору.
Но тут зазвонил ее мобильник. Она кинула яростный взгляд на меня — будто это я мог звонить, отвлекая.
— Да! — резко сказала она, потом несколько сбавила тон, но разговаривала все равно агрессивно. — Доход? Вам нужен доход? А зачем, позвольте вас спросить? Чтобы налога больше платить?!
Она явно была зла: сбили с интересного дела. Неужто такое из-за страсти ко мне? Не хотел бы встревать между ними, третьим лишним.
— Поэтому я прячу его. Вам интересно — куда? — в том же стиле она продолжила. — В землю закапываю!.. Абсолютно серьезно! Расходы на экологию, на зачистку почвы после военных! Устраивает вас?.. Хорошо, — трубкой брякнула. Еще проверять меня вздумал! Ноликов на конце мало!
— Круто ты с ним!
— А это пусть тебя не волнует!
Досталось и мне.
— …тебя пусть другое волнует, — уже помягче сказала она.
— Что? — уточнил я.
— «Кто», я бы сказала, — плечом повела.
— Ч-черт! Мне же работать надо, — вспомнил я. — Полковник Етишин… А я, как назло, номер уже сдал… Не возражаешь, если я в гладильную пойду? Видел я тут гладильную, на углу коридора… Пойду… Можешь иногда заходить меня погладить.
— Ага. Утюжком. Чтобы выведать, где ты валютку прячешь.
Остаюсь!
Примерно через час Любка, нервно вздохнув, вышла на балкон. Грохот моря донесся. Ого!
— Твоя работа? — Любка спросила, указывая в шумную бездну.
— Ну почему — моя?!
— Да-а, — размышлял я во тьме, под грохот моря. — А с сексом, видимо, в моей жизни покончено навсегда… так же, как и с самой жизнью, видать. Но с сексом уж точно! И поделом ему! У меня с ним свои счеты. Издательство, которое вроде бы мои книги собиралось выпускать, целиком вдруг на сексуальные альбомы перешло. Так что к сексу я не испытываю ничего хорошего. И вот то, что сейчас происходит, — это месть ему. Страшная месть!
На этом я успокоился. Все. Хватит. До двух часов ночи — мучительный самоанализ, дальше — сон.
Крот на утренней заре ворвался. Я в ужасе открыл глаза: красный шар среди абсолютно черных туч! Где я?
— Ага. Вы снова вместе? Это хорошо! — злорадно Крот проговорил.
— А что еще хорошего? — холодно поинтересовалась Любка, запахивая халат.
— А больше ничего-о-о! — Крот, присев, руками развел. — Остальное все пло-охо!
— Что именно? — деловито вставая, спросил я.
— А что ни возьми! Например — гений наш отвалил!
— …Фрол?
— И Берха увел с его фондом! Так что вы теперь полностью на моей шее!
— Фрол ушел? — тупо повторил я.
— Он самый! Придрался к какому-то пункту сто девять нашего договора — о том, что, оказывается, запрещены всякие контакты с общественностью помимо него. А мы вчера общнулись благодаря вам. — Он поклонился мне. — Спасибочки! И кто, интересно, донес? — Взгляд его скользнул по мне, но отмел меня как предполагаемого доносчика — мало извилин. Он уставился на Любку: она?
— Теперь он к москвичам сбежал, к конкурентам! — прорычал он.
Да, тяжелая жизнь в мире бизнеса!
— Но мы же… с пользой вчера пообщались, — промямлил я.
— А, пользы от вас!.. Скоро тендер решается — а он, между прочим, международный, — и где она, гуманитарная крыша нашего проекта? Что такого замечательного мы собираемся совершить?
Я вздохнул. Да, совещание с участием коровы шикарным не назовешь.
— Что делать будем? — спросил он. Неожиданно вдруг коллегиальным стал. Бухта тут хорошая, глубокая, любые танкера могут подходить. Неужто вам не жалко такое терять?
Нам-то, в общем, не жалко. Но раз уж…
— Сделаем! — сказал я.
— Я лично, как и всегда, буду делать баланс, — дерзко произнесла Любка и в ванную ушла. Крот уставился на меня. Последний остался друг! Хоть он меня давеча кинул… Так ведь то было вчера!
— Перво-наперво надо к народу податься, — рассудительно произнес я.
— Что вас так к народу все тянет? — вспылил Крот. — Что вы там такое видите в нем?
— …Так ничего больше у нас с вами и нет. Остальное все слишком дорого. И — увы! — как видите, ненадежно.
— Только давайте — не со всем народом сразу, а с отдельными его представителями, — нервно сказал Крот.
— Ну, знамо дело, — сказал я.
Мы вышли на воздух. Утро расцветало. Пели птички.
— Природу ненавижу! — вдруг снова сорвался Крот. — Тут одна птичка наладилась звонку моего мобильника подражать! Все ночи не сплю!
— А вы смените мелодию сигнала.
— Уже!
Да, природа умнее нас.
Мы вошли во двор к Петру. И — к моему отцу. И всем, кто здесь родился или сюда приезжал когда-то, как я. Вот старая, огромная груша посреди двора. Давно уже, сколько я помню, она была чем-то вроде уличного шкафа: на мощные сучки ее вешали серпы, грабли, кружки. Садясь обедать за стол во дворе, вешали на нее кепки и шляпы.
Галя, тучная брюнетка, жена Петра, задавала корм темным мохнатым козочкам, совала им шумную охапку веток. Козочки вставали, стуча по перегородке копытцами, пытаясь ухватить листья как можно быстрей.
— А где Петр?
— На лугу. Сено валкует, — хмуро ответила она.
По пологому лугу у реки тащился маленький трактор — «шассик» с розовым кузовом впереди. Сбоку, как огромная клешня краба, тащились, сгребая сено, тракторные грабли. Иногда Петр поднимал их, оставляя ровный валок сена, потом, брякая, опускал их и греб дальше.
— Отойди! — рявкнул он. — …Счас!
Потом он отцепил грабли, усадил нас в жесткую тесную кабину, и мы, глотая пыль и раскачиваясь, помчались вдоль кукурузного поля, догнали комбайн, плывущий над высокими стеблями, как динозавр, и он срыгнул нам в кузов с верхом силосную массу, пережеванные им кукурузные стебли и листья. Ударяясь о железные стенки и друг о друга, мы тем не менее бурно общались и за несколько ездок от поля до силосной ямы обрешали все.
— Фрол, рекламщик наш, москвичами перекуплен, — слегка шепелявя (прикусил в качке кончик языка), сообщил Крот.
— И мир отвернулся от нас! — добавил я.
— Да я тебе, — Петр повернулся к Кроту, — буквально за копейки такую акцию сделаю! Могу с крыши Пень-хауза упасть. А Мыцин, профессор, меня потом соберет. А Андре это снимет. И все телеканалы это купят — обогатится Андре!
— А откуда ты знаешь, что он с Фролом не отвалил? — удивился я его проницательности.
— Так я ж знаю его! — Петр в свою очередь удивился.
— Боюсь, что если вы упадете с крыши, то нечего будет собирать и снимать, — усмехнулся Крот.
— Ха! А где я в армии служил? В ВДВ — войсках дяди Васи. И там на полгода мы прикомандированы были к Одесской студии — фильм снимали про Малую землю. Да-а… пожили! С чего я только не падал тогда! С самолета без парашюта! А уж с домов!.. Способ этот называется «яйца всмятку».
— И вам нравится он?
— А чего? Нормально. Ты, наверное, недопонял! Просто берется гофрированная тара из-под яиц, укладывается слоев в двадцать, и слои эти, поочередно разрушаясь, растягивают удар на двадцать этапов. Вообще могу ничего не ломать! Но раз надо!
— Веселый у вас брат! — сквозь грохот и лязганье проговорил Крот. — Но хотелось бы сперва с этим Мыциным проконсультироваться.
— Запросто, — уверенно сказал Петр. — Он уважает меня. Сейчас — только на конюшню заскочим!
Мы заскочили на конюшню, прошли по скользкому от навоза, разбитому копытами полу.
— Поможете тут мне, — проговорил Петр деловито. — Тут старухе одной надо зубы подпилить. Расщеперились — есть больше не может.
Петр сначала зашел в пустое стойло, заваленное дугами, хомутами и прочим, и вышел с огромным рашпилем в руках.
— У вас тут колхоз, что ли? — спросил Крот, якобы интересуясь, на самом же деле, похоже, борясь со страхом: уж больно мощные зады и ноги начинали нервно дергаться при нашем приближении.
— У нас тут АО с ограниченной безответственностью, — сказал Петр. — Ну, входим. Я иду нежно к голове, а вы с боков ее побудьте, чтоб не брыкалась.
Я вдруг заметил, что Крот побелел. Да, не везде гиганты равны себе! Тем не менее он вошел за Петром, и я тоже. Огромная седая кобыла сильно дрожала, прижав нас боками к стенкам, — и ее можно было понять. Петр взял ее за морду, резко повернул, прижав к себе, и задрал ее верхнюю губу.
— Н-ну… Прими!.. Прими! — орал он. И с громким шорохом стал пилить. Дрожь кобылы передавалась нам. Явственно завоняло жженой костью. Крот, кажется мне, не упал лишь потому, что был прижат кобылой.
Петр наконец скомандовал:
— Ну все! Выходь!
Мы, продолжая дрожать уже отдельно от кобылы, вырвались из живых тисков. Петр вышел. В правой руке свисал рашпиль, левой он утирал пот. Мы, хотя всего лишь ассистировали, тоже были вспотевши.
Кобыла, тяжело вздыхая, сразу же улеглась. Кожа на ее крупе дрожала. Петр похлопал ее ладонью.
— Ишь устала! Ну ничего, теперь еще пожуем! Так поехали?
Под грохот и лязганье он рассказал нам историю Мыцина, столь обычную в наши дни: приватизация, акционирование, разорение.
— В общем — звериный оскал капитализма! — подытожил Петр.
— Звериный оскал, — произнес Крот холодно (похоже, уже стал приходить в себя), — это когда поджигают ларек Ашоту. Или Акопу. К современному цивилизованному бизнесу это не имеет ни малейшего отношения. Сейчас дела имеют только с тем, кто вызывает безусловное доверие. И желательно — симпатию!
Вот этого я не замечал.
— Если хотите знать, — Крот даже слегка завелся, — кроме всего я имею еще сеть сотовой связи — и вот недавно, когда мой главный конкурент вежливо попросил установить свою антенну на моей башне, рядом с моей антенной, я сразу же разрешил ему это, причем — с радостной улыбкой.
С радостной улыбкой не представляю его.
— Ныне только так! — Крот закончил.
— Так вот зачем Пень-хауз тебе! — проговорил проницательный Петр.
Крот как бы легкомысленно отмахнулся.
— И что этот Мыцин? Действительно — звезда? — вскользь поинтересовался он.
— Ну! Такие тут операции делал! На весь мир гремел!
— Так почему не уехал? — поинтересовался Крот.
— Так сын тут у него. Тоже неслабые операции делал.
— Умер? — испугался Крот.
— Хуже, — сказал Петр. — Для еврейского папы-профессора — даже хуже. Спилса.
— Как? — удивился я.
— Да почти как другие. С небольшой только разницей. Папа зачем-то в Америку послал учиться его — тому дико не понравилось там, со всеми разругался. Характер батин у него… местами. Приехал сюда — а и тут уже все прикрылось. Разругался с батей — и пошел бомжевать. На станции ошивается в основном. Тот пару раз приводил его — бесполезно. Сбегает. Вот где у профессора болит-то! Каково перед коллегами-то ему? Впрочем, сейчас почти весь его персонал на станции торгует: жить-то надо — нет?
— Да-а… бизнес у вас еще тот! — Крот усмехнулся. — Такого оскала мир еще не видал!
Мыцин держался надменно, словно он по-прежнему главный врач крупного медицинского центра… которого давным-давно нет. Впрочем, кто кем себя ощущает…
— Расскажите о ваших условиях! — высокомерно произнес он, обращаясь к Кроту.
— У вас есть имя? — довольно резко спросил Крот.
— Да… у меня есть имя, — проскрипел тот.
— Мировое?
— …Да.
— Попробуем тогда возобновить ваш центр, — пообещал Крот. — Не только у вас, — (он посмотрел на Петра), — у меня тоже люди падают. И на буровых… а чаще всего — на ровном месте. Вы способны наладить работу?
— У меня несколько условий! — произнес Мыцин.
Еще условия он собирается диктовать! Да, есть железные люди!
— Условия? — несколько удивился Крот. Капиталистам тяжко нынче: и за комсомол приходится быть, и за профсоюз!
— Да. К нам будут поступать сюда не только… ваши кандидаты, но и все случаи, которые заинтересуют нас! Сын мой должен закончить кандидатскую диссертацию!
«Закончить»?! Петр изумленно потряс головой.
— Но у вас приличная репутация? — поинтересовался Мыцин.
Да, за этим Мыциным нужен глаз да глаз, ухо да ухо.
Потом я сбегал за Андре, поманив, вызвал его с семинара, откуда доносилось лишь тягучее жужжание мух, и он, взяв застоявшуюся камеру, радостно хромал со мной.
— Я думал, ты уж забыл меня со своим миллионером! — произнес он.
Мы подошли к живописной нашей группе. Мыцин приветствовал мастера кинокамеры сухим поклоном.
— Ну вот, — обратился Петр к Мыцину и Андре. — Хочу с крыши упасть, на коробки из-под яиц. Коробки, ясно, не покажем. Рекламный трюк.
— И что же это рекламирует? — поинтересовался Мыцин.
— Вас.
— Меня?
— И его! — Петр ткнул в сторону Крота. — Я что-нибудь поврежу маленько, а вы почините. А он тут же подсуетится, оплатит.
— Вы уже падали с крыш? — поинтересовался Мыцин.
— Сколько раз! Запросто. Скажите только, что ломать.
— Ну давайте поднимемся, посмотрим, — хладнокровно пригласил хозяин.
По-моему, нам заранее все переломают! — испуганно думал я в лифте. И вот мы шагнули в темноту — я вежливо пропустил всех вперед. Ничего! Тишина! Даже обидно. Без меня, видать, вообще никакой жизни бы не было! Уважали Мыцина? Боялись Крота? А может, утомленная нудной борьбой с зороастрийцами, охрана отдыхала? Враги ведь тоже устают.
Мы спокойно прошли через тьму и под предводительством Мыцина поднялись на крышу. Да, неплохо тут когда-то отдыхали колхозники! Точнее, председатели, думаю я. Даже бассейн тут имелся — сейчас, ясно, без воды. На облупившемся дне видна была длинная кучка пепла. Крот покачнулся и зажал рот. Мыцин смотрел абсолютно равнодушно. А вот Крот стал зеленоватым. Супермен тоже не всегда адекватен себе.
— Здесь должен быть солярий, — бубнил профессор. — При лечении некоторых болезней суставов солнечные ванны крайне необходимы.
— А как зайдет солнышко, — воскликнул Петр радостно, — казино!
— Так обдумаем ваше падение, — хладнокровно произнес Мыцин. — Прошу!
Они приблизились к краю. Крот, покачнувшись, остался на прежнем месте. Я подошел к ним трясясь. Писателю, говорят, надо все — и потрястись тоже.
— Мотивы вашего прыжка? — допытывался методичный профессор. Тоже в законах шоу-бизнеса понимает!
— Любовь! Несчастная любовь! Жена меня не любит! — бодро чеканил Петр. Тоже — соображает!
— Только не ломайте ступню — это самое сложное, там слишком много косточек! — поучал добрый профессор.
В сочетании с высотой это действовало как-то неприятно — и я отошел по краю. Да, вид отсюда силен! Море, уходя, меняло цвет: у берега нежно-зеленое, дальше — ярко-синее, потом, к горизонту, — сверкающее, слепящее. Но до него будет не долететь.
— Ладно… Не прыгайте. Я согласен и так, — слабым голосом проговорил Крот, но прожектеры к нему не обернулись, оживленно беседуя.
— Только из уважения к вашей матери, Зинаиде Ивановне! — долетел голос Мыцина.
Отсюда домик за горкой был виден насквозь! Петр даже не смотрел туда, на место наших юношеских преступлений… Интересно, холодильник там тот же еще куда мы ставили «странное пиво»? Да нет, тот же навряд ли. Но сердце жмет хотя того уже не исправить!
Душевные мои терзания были прерваны резко.
— Позор! — вдруг прогремело сзади.
Я повернулся, удержав равновесие. На нас грозно, как тень отца Гамлета, надвигался Нуль… то есть, извините, — Лунь! Спутался от волнения.
Держась как бы в тени, за ним скромно двигался другой человек, и скромность его можно было понять: и так его показывали по телевизору почти ежедневно. Как же было не узнать: Арсений Фалько, последнее лицо нашей демократии (наверху), последний наш человек в Кремле, последняя наша надежда… Так это он в домике-прянике живет?.. Это за него так меня помолотили?.. Но он ведь не знал, наверное?
Хотя за ним следовал тот, кто, наверное, знал!
Зорин, Митрофан Сергеич, который у истоков нашего «Ландыша» стоял, который в Спиртозаводске нас из кутузки выручал… генерал. Да, крепко охраняет устои! Рожа у меня сразу зачесалась. И кулаки.
Но не в такой же компании? Сам Фалько… последняя наша надежда. Безобразной сценой встречать его? И — при Луне, полном праведного гнева?
— Стыдно! — прогрохотал Лунь. — Стыдно видеть прежде уважаемых мною людей за столь неприглядным занятием! — Седыми бровями он указал направление нескромных взглядов: мы явно, увлеченно (и извращенно) подглядывали отсюда за тем, что творится в том домике. Иной цели у нас и быть не могло! Это было ясно, судя по Луню. Он видит глубже нас! Хотя в домике том абсолютно ничего сейчас не творилось и вообще не было ни души. Все души были тут. И какие души! Все творилось как раз тут: может быть, даже сама История?
Камера Андре стрекотала непрерывно, фиксируя все: и, конечно, появление этой величественной процессии, и то, как Лунь приосанился перед камерой, бросая возмущенный взгляд вниз, в сторону домика. Снят был и домик. Луня явно пьянило это стрекотанье, без него, можно сказать, он и не мог по-настоящему опьяняться жизнью. Реакция Фалько была прямо противоположной — он, наоборот, всячески старался не выглядеть никак, сутулился, кукожился, говорил глухим голосом, так непохожим на его громогласный публичный.
— Понимаете, — услышали мы. — Мою морду и так уже размазали по всем экранам. Могу я хотя бы на отдыхе приватно пожить, чтобы никто не заглядывал в мою спальню?
А не то… мы знаем, что будет.
Но главное — надо было моральную оценку этому дать. И Лунь давал, от всей души, которая особенно широко раскрывалась почему-то лишь на самом высоком уровне — как сейчас, давно он не смотрелся так праведно — видно, силы берег.
Крот посмотрел на Фалько. На Луня он боялся смотреть: это все равно что видеть в подлиннике какого-нибудь святого Иоанна!
— Поскольку рынок сейчас, — обратился Крот к Фалько, — даже перенасыщен порнографической продукцией, то в спальню к вам вряд ли кто будет смотреть!
Крот снова был боец. Фалько, в отчаянии махнув рукой, засеменил к выходу.
— Да! — произнес Крот. — Эти никогда не допустят, чтобы кто-то над ними жил. Безнадега! — Он сделал знак Андре, Мыцину и Петру: уходим отсюда.
— Стыдно! — повторил Лунь. То был раскат уже удаляющегося грома. Ему всегда становилось мучительно стыдно в абсолютно точно выбранный момент, в самом нужном месте. Этим и велик.
У Крота закурлыкал телефончик. Крот отошел в сторону, послушал и сказал лишь одно слово: нет.
Потом подошел к нам (великие уже удалились).
— Фрол звонит, — усмехнулся он. — Предлагает за энную сумму тело Ленина сюда положить. Гарантирует дикую раскрутку.
— Тогда я сам отсюда спрыгну! — произнес Мыцин.
— Охо-хо! Тошнехонько! — завопил Крот.
ГЛАВА 11
Все! Мучительный самоанализ — и глубокий, освежающий сон!
Следующий день я встретил работой. У меня тоже есть свои дела! Полковник Етишин ходил по кабинету. Но с огромным трудом. И тут в дверь забарабанили, и вошел Крот.
— Все! — Он сел на стул у входа. — Хана!
— Какая именно?
— Полная!
А я думал, что уже была полная хана. Нет, оказывается? Это хорошо!
— Лунь заявление делает. Хочет придушить нас в своих объятьях. Весь народ сбегается: такое разве пропустят — когда мудрый старец разоблачает нынешнюю коррупцию: народ от этого шалеет. Так что он опять попадает в десятку!
Как всегда!
Действительно — клубился народ! И даже ликовал. Пьянел почему-то от омерзительных новостей. Толпа! В конце конференц-зала нам пришлось подниматься на цыпочки. На сцене на простом стуле сидел Лунь, в посконной рубахе, растрепанный… как бы вышедший к народу на покаяние — один за всех! Даже за тех, кто его об этом не просил. За ним бычился Сысой: мол, если надо, то мы добавим. Вела все эти дела почему-то Любка — видно, переметнувшаяся от Крота из-за какого-нибудь лишнего (или недостающего) нуля. Всем своим скромным видом она как бы подчеркивала, что духовное ей тоже гораздо важней материального.
— …Наш глубокоуважаемый расскажет о… — Она вопросительно уставилась на Луня.
— Да что ж тут расскажешь? — скорбно начал Лунь. — Просто — наболело… где-то вот здесь.
Потом он молчал довольно долго (сильный эффект!). Потом глухо заговорил. Суть его речи была известна — и обречена на успех. В эту лихую годину, когда народ стонет от нищеты, бесправия, чудовищной коррупции, он (Лунь) выбрал время, которого Бог ему уже не так много отвел, чтобы принять участие…
— Возглавить! — выкрикнул Сысой, но Лунь лишь горестно отмахнулся.
— Возглавлять мне что-нибудь уже поздно, — умудренно улыбнулся он. — Я просто поехал сюда, потому что надеялся в меру моих слабых уже сил как-то помочь людям в их нужде.
Одному он помог точно — Фалько.
— Но оказалось, — голос его вдруг окреп, — что здесь, под прикрытием высоких словес, творится… торжище! Совершаются сделки!
Народ зааплодировал. Он, как и всякий народ, обожал безумно, когда его чудовищные подозрения наконец оправдываются и кто-то режет наконец правду-матку. Особенно — такой вот!.. Кстати — какой?
— Да ну… — произнес мужик с нами рядом. — Он, говорят, еще в ЦК был!
— Ну и что? — горячо возразила ему его жена. — А где ж такому человеку тогда было быть? В Париже — или в ЦК!
— Поэтому, — скорбно закончил Лунь, — я покидаю… это торжище!
Отличное, кстати, слово нашел. Лунь спустился со сцены, поддержанный на ступеньках Фалько.
— Во, — загудели в зале, — тот самый с ним! Который все тоже насквозь видит!
Народ шумно расступался. Лунь шел, благодаря кивками всех тех, кто освобождал ему путь, шел, как и обещал когда-то, — пешком. Правда, судя по спутнику — недалеко.
Прием этот — «полет Луня» — знали все опытные люди: внезапно вылететь, чисто и светло, из какого-нибудь крупного дела, обдав его белоснежным своим пометом… Что может быть краше? Остается лишь гордиться тем, что есть еще у нас такие люди… пока.
— Это конец! — сказал мне Крот. Нас обтекала толпа, устремившаяся за пророком. — После такой плюхи нам уже не встать!
— Встанем! — сказал я.
Настоящих плюх не видал. Молодой ишшо.
В следующие дни мы с Кротом пытались как-то восстановить хозяйство. Потерпев полное поражение наверху, взяли пониже, снова подались в народ, пришли на разлив у моста, где нежился многоглавый змей, явно торжествуя.
— Ну что? Вмазали вам? Не любите правду-то?! — проговорила его главная, бровастая голова.
Судя по его голосу, лицу, стилю поведения, он сам был не чужд восприятию сумм «в особо крупных размерах»… но при торжестве правды ликуют все особенно если эта правда к тебе не относится.
— Ну что? За помощью пришли? — торжествовал он.
— Да хотелось бы через вас выйти хотя бы на мэра, — скромно произнес Крот.
— Ящик коньяка-то хоть будет? — пренебрежительно поинтересовался тот. Мол, на такое хоть вы способны?
Так куда ж мы денемся-то, с погубленной репутацией?
Ящик коньяка мы лично тащили с Кротом.
Ничего более безобразного, чем эта тайная встреча с мэром, я не видел давно. Мы долго поднимались в машинах по ущелью и наконец вылезли в условленном месте.
Распоряжался всем бровастый. По сигналу его бровей Ваня и его друг с хрустом полезли в кустарник, в гору, и, пошебаршив там в наступившей уже тьме, выкинули на площадку что-то тяжелое, мертвое и голое. Тело тяжело шлепнулось. Отряхивая ладони от растительного мусора, ребята, отдуваясь, слезли на дорожку.
— Вы что мне сбросили? — зашептал бровастый. — Я ж осетра заказывал! А это человек!
Я, оказавшись рядом, невольно тоже пригляделся. Человек. Голый, в одних лишь плавках, и, похоже, бездыханный.
— Так то егерь! — приглядевшись, сказал бритоголовый.
— А осетр где?
Растерянно переглянувшись, орлята снова полезли в кусты, долго там ползали в наступившей уже полной тьме, матерясь все более и более безнадежно. Ломая с треском кусты, на тропу вылетело еще одно длинное голое тело — в этот раз, похоже, осетр.
— Ну вот, — удовлетворенно произнес бровастый. Осетра стали торопливо, как бы испуганно, рубить топорами, швырять куски в котел на костре. Огромные тени метались по горам. Нарастало манящее бряканье бутылок. Крот и мэр, по фамилии Мурцовкин, как бы не замечая всей этой презренной суеты, галантно беседовали в сторонке. Несмотря на то что ночь наступила, мэр почему-то оставался в черных очках.
— Да-а… Дыр у нас много! — говорил он. — И опорно-двигательный — это наша боль. Так что… — Он развел руками, как бы принимая дорогого гостя в объятья.
— Ну… некоторые инвестиции возможны, — рокотал Крот.
Успокоенный — тут все ладится, — я отошел.
— У вас есть связи в Минприроды? — протаскивал свое Крот.
— Да, многие бывали здесь. А благодарность? — гнул свое мэр.
Голоса их затихли. Я подошел к Петру. Петр, который тоже, как член местной мафии, был здесь, поначалу чурался меня, как соучастника опозоренного всеми «торжища» (и его чуть не втянул!). Но, размачивая себя вином, постепенно отмяк.
— Мой прыжок, значит, похерен? — горестно произнес он.
— Подожди! Еще не вечер! — подбодрил его я.
Меня по-прежнему смущал безжизненный егерь, которого тоже, как осетра, подтащили к бурлящему котлу. Но, поглядев на него в очередной раз, я увидел, что глаза его открыты, весело бегают по сторонам, — и я успокоился.
Метнувшееся пламя костра высветило вдруг Ваню и его бритоголового друга, оказавшихся в непосредственной близости от нас и поглядывающих неадекватно.
— Все! — шепнул Петр. — У этих уже кулаки чешутся! Валим отсюда!
Свою работу пресс-секретаря я, в общем, считал исполненной, и мы съехали в душный, пахучий овраг. В мешке у Петра что-то брякало — и я, кажется, догадывался — что.
— Есть тут одно местечко, — прошептал Петр. — Ухайцы держат. Только примем сначала — на ход ноги.
Мы приняли и поползли по оврагу.
— С Мурцовкиным бесполезно о крупном разговаривать! — шептал Петр. — Им Джемал Дваждыхиреев командует, с кошар. Сами позвали их, от своей же лени, наших овец на кошарах пасти все лето. Теперь тут сила у их!
Ухайцы же, по словам Петра, — наоборот, мирное племя, которое было тут еще до мусульман и христиан, их обычаи совсем древние.
— Не огнепоклонники? — с опаской спросил я.
— Да не-ет! — успокоил меня Петр.
Какая-то горькая травка замечательно пахла. Дивная ночь!
— У них свои обычаи! Похороны, например… еще живого человека замуровывают сверху в такой глиняный столб: какие-то особые сигналы с небес он тогда получает, пока жив.
— Так на хрена мы туда идем? — Я остановился у каких-то свисающих на длинных ветках, щекочущих щеки цветов.
— …Так теперь не замуровывают вроде живых-то. Там у них вроде кабак, а для культурного отдыха — музей.
Культурный отдых я помню плохо…
Резная терраса, наполовину затемненная моей гигантской тенью от костра. Быстрый, холодный ручей с сетью… но сеть не для рыбы, а для того, чтоб не унесло течением бутылки, охлаждаемые для гостей. Они, собственно, и не успели бы далеко уплыть.
Помню широкую утоптанную площадку за оградой: музей их древнего быта. Бубны с колокольчиками и ленточками, такие же шляпы, детская люлька-качалка, тоже вся обвешанная. Изделия эти продавались любознательным и, как правило, пьяным туристам. Одно, кстати, изделие, уходящее корнями в седую древность, пришлось очень кстати и в наши дни: древнее приспособление для ходьбы в пьяном виде. Дуга на колесиках по концам: продеваешь шею в хомут, руки в кожаные петли — и идешь. Дуга, упираясь в землю, не дает окончательно упасть, колокольчики звенят, ленточки развеваются! Еще ухайцы предложили нас замуровать, незадорого, но мы отказались.
Мы вылезли на шоссе. Я шел, бренча и развеваясь, Петр держал меня за пояс, не отставал. Водители, принимая нас за представителей древней цивилизации, бодро сигналили.
— Ты, можно сказать, в родном доме и не был еще, — прошептал Петр. — Ну… Войдем тихо, как два кота.
Мы, обогнув плетень, тихо вошли во двор. Родной дом был высотой метра в два длины и в ширину такой же. Как только могучее племя братьев и сестер, давшее жизни и нам, тут размещалось? Теперь он имел, правда, лишь мемориальную ценность: Петр уже всего понастроил кругом.
— Стоит, как домик Ильича среди современности, — пояснил Петр. — А вот для Славки хитрый дом строю. В одну ендову три крыши свожу!
— Да, ендова сложная! — согласился я.
Мы сели в беседке на крутом берегу, унизанном мелкими белыми розами. Капли росы на них, наливаясь солнцем, желтели.
Все еще спало вокруг, лишь скотина, ворочаясь, сладко вздыхала во сне, готовясь к пробуждению.
— Тут у меня козы сейчас шерстяные. Свиней прежде держал. В горы их гонял, с кабанами скрещиваться. Шикарное мясо выходило, с дымком, с ягодным запахом. Гурманы приезжали за ним. Однажды свинка моя на спаривание мчалась и сбила с ног Мурцовкина, мэра нашего, что по шоссе вниз от бабы возвращался. Упал в пропасть Мурцовкин, три дня на лианах над бездной висел. С тех пор запретил это скрещивание как антинаучное. Пришлось запереть моих наглухо. Так к ним Ромео пришел!
— Ромео? — ошарашенно спросил я.
— Ну да, — спокойно ответил Петр. — А кто же он?
Петр открыл дверь нового дома, ведущую, как понял я, в их гостиную, — и я отшатнулся, увидав прямо напротив двери жуткую мохнатую, клыкастую морду со стеклянными, розовыми от зари глазами.
— Вот любовь! — Петр указал на кабанью морду. — Ведь на верную смерть пришел! А свинюшки, красавицы мои, прикрывали его от моей пули! Но все же настигла она его, я плакал! Неравнодушен к животным — от деда у меня. Тот вообще верблюда держал. Уверял, что верблюд — лучшее животное для нашего пояса! С самим Мичуриным переписывался… тот, правда, не отвечал. А дед на верблюде даже пахал, пока тот не разнес на хрен ворота и не убежал. А ближайшая самка отсюда — пятьсот км!
Я молчал, пораженный столь щедрой генетической информацией.
— А батя, тот охотник был, да. Тот пропадал все время — в партизанах привык к лесной жизни, остановиться не мог. Так что изредка его видели. Однажды мать с утра, пока он не очухался, не ушел, говорит ему: возьми крючок, иди хоть сена из стога в кошелку надергай, да бери не верхнее, мерзлое, а из глубины! Тот оделся, пошел. Подходит к стогу — глядь: совсем свежие по пороше заячьи следы — только что приходили кормиться. Зашел тихо в избу, схватил ружье и — по следам: вдоль речки, на холмы. И весь день так прошастал, никого не убил. Вернулся ночью — все уже снова спят. Жрать охота, рассказывал. В печку залез, пощупал — какая-то кастрюля теплая, в ней что-то жидкое, но попадаются и куски. Покушал и спать рухнул. Просыпается — мать ругается: «Куда болтушка для свиней делась — вечером заготовила? Ты, что ль, схлебал?»
Мы некоторое время сидели, тихо улыбаясь. Потом Петр поднялся:
— Все, пойду сдаваться властям. А ты сиди: может, еще покормят!
Он зашел в летнюю выгородку, где спала жена.
— Галя! Я животное? — послышалось оттуда.
Ответа нет.
— Галя! Я животное?
Потом, на пятый уже запрос, послышалось долгожданное:
— Да! Да!
Петр вышел оттуда довольный.
— Ну… сейчас маленько покурим — потом повторный заход предприму!!
Мы посидели молча, пока Петр набирался духу на второй заход. К беседке был прислонен черный мотоцикл, еще пахнущий разогретым мотором.
— Славки моего, — не без гордости сообщил он. — Скотиной совсем не интересуется. Одна техника на уме. Гоняет все ночи с дружками своими! — (Как же, слышал их грохот!) — А теперь вот дрыхнет…
Не то что мы!
ГЛАВА 12
Все! По рюмочке — и спать!
По дороге в гостиницу я выгреб на старый центр: буквою «П» три красно-белых кирпичных домика — прежде, видимо, тут самых главных. Управа? Полиция? Почта? Сейчас все здесь подзаросло лебедой, но жизнь, несмотря на ранний час, бурлила. Результаты ночного бдения бизнеса и власти были налицо: Крот получил в свое распоряжение дом, один из трех.
Мебель прежних обитателей, выкинутая решительными «секьюрити», валялась под окнами. Рядом стоял народ. Многие почему-то оказались слепыми, с какими-то бандурами, висящими на груди. Да, динамично тут работают: выселили не просто общество слепых, а филармонию слепых бандуристов! И вот они, сойдясь к дому и навострив свои бандуры, грянули «Интернационал»!
Вспомнился Петр: «„Красный пояс“, говорят! Так любой пояс покраснеет, коли все отнимать!»
Потом начался ор. Мэр все же вышел к народу. Постоял перед ним, слегка покачиваясь, почему-то с закрытыми глазами и вдруг как подкошенный рухнул в мягкую пыль. Застрелили?.. Через секунду раздался храп.
Я вошел внутрь. Крот, гулко стуча каблуками, ходил по комнатам. Подошел ко мне — бледный, невыспавшийся, похмельный.
— Ну что? Не нравится? Ну так и иди!
И я пошел.
В гостинице я вошел в лифт. Все как раз, свежие, побритые, благоухая лосьонами, струились на семинар. Вот как люди живут! Побрились, позавтракали и теперь будут говорить о высоком, наполняясь значимостью. А ты все где-то мечешься, как раненый скунс! Может, еще не поздно? Я пошел с толпой.
Но — поздно оказалось. Сысой, не находящий применения своей праведности, увидев меня, просто беркутом вылетел на трибуну. Счастью не верил своему — и торопливо, пока я не ушел, обвинил меня в чудовищной коррупции, безнравственности и пропихивании (спихивании с крыши?) ближайших родственников.
Это я удачно зашел! Быстро отделался. Я встал. Только честный Андре вышел за мной, но, как выяснилось, не с целью утешения, а, наоборот, для того, чтобы растравить мне душу еще больше.
— Явился? — спросил он гневно.
— В общем, да.
— Ну что, — спросил почему-то именно у меня. — Будет когда-нибудь справедливость или нет?
Трудно быть справедливым с похмелья. Но надо постараться.
— Слушаю тебя.
Мы спустились с ним на первый этаж. Он провел меня в комнату, оборудованную под монтажную. Стал прокручивать пленку вперед и назад, и на маленьком экранчике, торопливо размахивая руками, забегали фигурки.
— Вот! — дал нормальную скорость. — Вот Фалько говорит… А вот Лунь. А вот я забитые окна подснял, и здесь будет мой текст: «Любимец нашей демократии Фалько не хочет срывать последние шоры тоталитаризма, когда это касается лично его!» А вот опять Лунь вещает…
Голова моя сонно падала, но я мужественно ее поднимал.
— Ну как же ты? — проговорил я. — Хочешь последние наши устои порушить? Если не Лунь, если не Фалько — тогда кто же? Идеалы не бывают идеальными.
— А мне наплевать!
И я заметил, что он дрожит. Да. После того, как его земной бог — Фрол покинул его, лишь отчаяние руководило им.
В холле встретил меня генерал Зорин, весь в белом. В петлице у него был тюльпан.
— Вы были у него?
— От вас ничего не скроешь.
— Вы видели это безумие?
— От вас ничего не скроешь.
— Что вы все повторяете одно и то же? — вдруг вспылил он. Потом взял себя в руки и даже пошутил: — Мы не для того вам дали свободу слова, чтобы вы все время одно и то же повторяли!
— …Извините.
— Вы знаете, как я люблю вас.
…Возможно.
— И я ценю вашу дружбу с Андре. И слишком люблю этого чистого, светлого человека для того, чтобы жертвовать им. Поймите — не все же зависит от меня! Однажды он уже оказался под автомобилем, но — к счастью! — отделался ногой. Поговорите с ним. Сейчас, когда ростки демократии и справедливости только-только укрепляются в нашей почве, не следует выдирать их с корнями, чтобы посмотреть, правильно ли они растут.
Не выдернем… Конечно, ничего этого я Андре не передам. Гнусно — сбивать ангела с полета!.. Ну так другие его собьют… машиной. И все при этом благородно стоят ничего не делая! Принципы — не тронь! И так же — и даже еще благороднее — будут стоять на похоронах: погиб за идеи — и это хорошо!.. Только такой суетливый тип, как я, может еще что-то спасти.
У Зорина зазвонил телефончик, он послушал и стал вдруг белей ослепительного своего костюма, а нос, что удивительно, — алей тюльпана в петлице.
— Ваш Крот тоже сошел с ума! Все буквально обезумели!
И Крот, получается, у меня на руках? И этого вот, с тюльпаном, тоже жалко.
— Так что произошло?
— Он купил это здание!
— Это?
— Да! В котором мы с вами находимся!
У спящего мэра купил!
— Объясните хоть вы ему, — (довольно-таки обидная формулировка!), — что здесь ему все равно не жить!
— Уточните, — пробормотал я.
— Никогда не будет того, чтобы кто-то взирал на тот домик сверху. Поймите — никогда! Ни при какой власти! Эту ошибку архитекторов уже не исправить. И поймите: я начальник охраны Фалько, самого гуманного из политических лидеров! А ведь туда могут и другие приехать!
Думаю, хватит и тебя! Однако я пытался еще защищать позиции частной собственности, чуждые мне:
— Но ведь он это здание купил!!
— Да. Но у него нет наследников! — жестко произнес он. — А в действенности наших методов вы уже убедились!
Убедился…
— Попробую. — Я побрел к лифту.
Двери его разъехались — и оттуда выпорхнула почти обнаженная Любовь. Неуместность ее наряда бросалась в глаза, во всяком случае, в мои глаза — это точно.
— Отличная погода! — пропела она.
Не до погоды! У меня два кандидата в трупы на руках.
Я поспал у себя минут двадцать и пошел к Кроту. Он был уже на месте — что значит деловой человек.
— Аг-га! — произнес он яростно, увидев меня.
Опять достанется все мне! Ну что ж — такая работа. К сожалению, неоплачиваемая. Перешел уже на «ты» — видно, крепко мы за это время сблизились:
— Ты все хотел звериного оскала капитализма — так получи его.
Почему же все мне?
— Так что — все! Твои разорившиеся ортопеды, падающие братья, надоели мне. Выметайся! И кстати, этот свой дурдом на колесах — тоже забирай! Надоела мне их бессмысленная болтовня: только о себе и думают, исключительно — как поширше сказать! Вагон уже заказан, тот же самый, на четыре часа! И если кто-то тут задержится — пусть пеняет на себя! Крепость Ваниных кулаков ты уже испытал не делай так, чтобы другие их попробовали!
Ну ясно. Как «самый понятливый» и тут всех опередил! Набрал столько авансов, что прямо разбегаются глаза.
— Понял, нет?
Понял. Но его угроза на меня действовала как-то меньше: другая опередит!
— Осторожнее будь — ты в опасности! — предупредил его я и вышел.
В холле подбежал ко мне Зорин, в том же безукоризненном костюме. В петлице у него был огурец. Судя по встревоженным глазам — уже в курсе.
— Все будет о'кей! — бодро произнес я. — Могу я видеть Великого Старца?
В глазах у Зорина появились слезы, и, несомненно, то были слезы счастья.
— Я думаю, вы просто обязаны! — улыбнулся он.
И мы пошли к домику-прянику. Сердце прыгало. Давно я в нем не бывал. С самой юности!
Зорин отпер калитку. Ничего тут почти не переменилось! Лишь копию Шишкина убрали со стены да скатерти-знамена со столов. Неужто холодильник тот же? Этого сердце может не выдержать.
Перед террасой два титана пилили дрова, и опилки сыпались в паутину на козлах. Я поглядел на их снующие бицепсы, кулаки на ручках пилы. Не их ли я осязал тогда, в темноте?.. Да нет! То, наверное, другая смена.
Лунь с Фалько скорбно сидели на покосившейся террасе и, увидев меня, еще больше понурились: вот так вот и живем, без затей! Все вокруг было какое-то скрипучее, ветхое… какое-то тургеневское, я бы сказал. Не хватало только стройной девушки с косой… насчет косы не поймите меня превратно: тьфу-тьфу-тьфу!
Вот, говорил их вид, столько пережито, стольким пожертвовано, столько сделано… и где она, человеческая благодарность?.. Да вот же она!
— Без вас как-то худо! — Я тяжко вздохнул.
Они подняли головы: ну? ну?
— Тут вообще оркестр слепых музыкантов из помещения выгнали!
— Как? — воскликнул Лунь. При нем такого быть не могло! — …Слепых?!
— Слепых! Без приюта остались!.. А тут вон какой Пень-хауз пустует!
Лунь и Фалько поняли друг друга без слов: есть вещи, которые в словах выглядят грубовато — лучше их оставить в сфере эмоций.
— Я что-то могу сделать? — приподнялся Лунь. Старый Дон Кихот снова в бою!
— Да, кстати, неправильно меня поняли! — улыбнулся Фалько, кивая вверх. Срывайте эти шоры к черту! Отдайте помещение… хотя бы вот этим несчастным, о которых вы говорили сейчас!
— Слепым?
— Да хотя бы слепым! — взволнованно произнес Фалько. — Они что, не люди?
Лунь гордо выпрямился: люди! да какие еще!
…Самые как раз подходящие!
Меня как бы уже и не было — они радостно переглядывались поверх меня. Безусловно, благородная эта идея зародилась в глубине их сердец!
— К кому я должен идти? — растерянно произнес Лунь.
Он беспомощно огляделся: да, я чувствую боль… но я должен почувствовать ее всенародно! Где же пресса?
Вот оно все и уладилось!
— Ладно, идемте! — Лунь вдруг решительно двинулся. — Старый Дон Кихот еще поскрипит!
— …Спасибо, что не забыли старика! — вдруг произнес он, пока мы шли.
Такого забудешь!
Потом мы добрый час уламывали упрямого и злого Крота.
— …Если уж на то пошло, — говорил Фалько, — наша партия купит бандуристам новые красочные наряды — я видел такие в Албании.
Через ту бандуру бандуристом стал.
— Не будет никаких бандуристов! — цедил Крот. — Тем более в Пень-хаузе!
— Но у вас есть совесть! — ворковал Лунь. — Тому хорошему, что есть в вас, надо помочь!
— Вашу помощь я уже видел. Спасибо.
— Надеюсь, что она пошла вам на пользу! — произнес Лунь.
— Короче, нужен красивый акт справедливости, — резюмировал я. — Без него пропадем!
К концу часа Крот, все понимая, сломался:
— Ну ладно. Давайте ваших слепцов!
Тут же на столике зазвонил телефон. Крот с тяжелым вздохом снял трубку.
— Извините, что я вмешиваюсь, — послышался на всю комнату взволнованный голос Зорина. — Но я поздравляю вас! Я считаю, что вы приняли продуманное и прежде всего — гуманное решение! Гуманное прежде всего по отношению к вашей жизни! — добавил он.
Уж не мог без этого!
— Охо-хо! Тошнехонько! — завопил Крот, кинув трубку.
На этой пресс-конференции Луня народу было мало. Разоблачения больше любят. Добро трудно пролагает дорогу! Это я уже как Лунь заговорил. Но и сам он неплохо справлялся:
— Я рад, что после моих трагических переживаний я встретил вдруг человека новой формации, бизнесмена с душой и сердцем!
Крот, «бизнесмен с душой и сердцем», сидел потупясь. Фалько задумчиво кивал. После пресс-конференции на меня вдруг накинулся Андре: «Ты продал наши идеалы! Шоры срываете — и запускаете слепых!» Ну а как же иначе? Кстати первый раз я видел Андре пьяным, но, к счастью, не последний раз живым.
Лунь, Крот, Зорин, Фалько, бодро беседуя, вышли на воздух… Друзья!
Дай только людям совершить добро. Не загоняй их в угол. И вот как складненько все!
Но не все еще, оказывается!
В Ржавой бухте клубилась толпа. Табор телевизионщиков. Приплясывали в длинных балахонах толпы зороастрийцев (или это буддисты уже?). Они трясли в руках высокие палки с плакатами, на которых были намалеваны скелеты рыб. Броско! Да, этот Фрол мастер постановок! Самого бы его когда увидать! Не этот ли — маленький, бородатый, в полотняном креслице на холме?
Группа техников в оранжевых комбинезонах спихнула, испуганно отпрянув от воды, что-то большое и белое — и по воде (действительно не совсем чистой на данный момент) поплыл, лязгая челюстью, огромный радиоуправляемый череп (оставшийся, видимо, от головы Пушкина, которую Фрол к Африке запускал)… Крепко!
Крот, забыв о нашей размолвке в луже под мостом, кинулся ко мне. Ну что же, забудем! Не впервой!
— Что творят, а? — проговорил Крот. — Уже в газете «Диверсант» статья вышла. Называется — «Бухта яда»!
— Подержи-ка костюм!
Я разделся. И нырнул. И море уташшыло меня. Хышшно!
Потом, со всех сторон обснимаемые, мы шли с ним, и Крот говорил растроганно:
— Я понял, что только благородство может победить!
Главное — что я не растворился в этой воде.
— Не волнуйся! — Я похлопал его мокрой рукой по плечу. — Со мной не пропадешь!
ГЛАВА 13
Срывание шор было приурочено к прилету министра, который и конкурс, кстати, судил — кому отдать предстоящее строительство.
Пока что он пребывал на дальнем мысе, у москвичей. Там грохотала эстрада, лазеры кололи небо. Размах!
У нас зато — все скромно и достойно. Публика собиралась на крыше Пень-хауза. Самой элегантной парой я бы назвал пару нежно-желтых бабочек. Как они залетели на эту высоту? Он гнался за ней, она от него увиливала среди гостей. Ее полет был непредсказуем, прерывист, она меняла то направление, то ритм — и он с ленивой, уверенной грацией, с чуть заметным элегантным отставанием повторял все ее движения. Наверное, это и называется — волочиться.
Кроме них присутствовали: Лунь в мятом выцветшем пиджаке и черных тяжелых брюках, весь такой абсолютно неприспособленный к светской суете. А ведь он действительно материально беден! — вдруг пронзило меня. Как вторая бабочка, за ним неотступно следовал Фалько.
Мрачный Сысой, тяжело переживавший опалу, рвался к столам, пытаясь досрочно напиться, но официанты отгоняли его.
Были: и тучный местный контр-адмирал с женой, и мэр с супругой, благожелательно внимающие наигрыванию бандуристов, — как-никак, мэр тоже приложил руку к судьбе артистов!
Бандуристы были строгие, седые, их длинные волосы были прижаты ленточками из лыка. Костюмы из Албании молодили их.
Крот, бледный на лицо (на высоте его крепко подташнивало), шептал мне:
— Влетели мне эти бандуристы в копеечку!
От мафии были — бровастый, его заместитель в интеллигентном пенсне и взволнованный Петр, еще надеющийся исполнить свой смертельный номер — прыжок с крыши.
Были Мыцин и его сын, пока еще поглядывающие друг на друга враждебно.
Ваня и его лысый друг — теперь уже не просто мильтоны, а секьюрити стояли в черных костюмах, флегматично застыв, сложив руки с мобильниками на причинном месте, как их голливудские коллеги.
Берх, с тугой косичкой на лысой голове, снова с его фондом оказавшийся здесь, пытался воротить башку от Луня и Фалько: долго еще эти будут тут всем командовать? Долго. Долго еще. И голову, как ни старайся, на сто восемьдесят градусов не отвернешь: шея сломается. Вот так. Справедливость у нас всегда будет вершиться!.. кто бы ее ни вершил.
Тут же был и Фрол, с заросшим маленьким личиком, в натянутой до бровей бейсбольной кепочке — как бы отсутствующий на этом позорном акте, — но ставил-то его он! А куда денешься? Наших слепых бандуристов ничем не перекрыть. Супротив нашего благородства не попрешь! И телевидение толклось тут в сладком ожидании. Фрол наверняка что-то отмочит!
Фалько, хоть и был тут первый человек, держался скромно — успел, правда, в телевизор сказать, что партия его оплатила красочные костюмы для бандуристов. Скромный-то он скромный, но недавно, напирая на общность наших убеждений, требовал, чтобы я плыл туда, на дальний мыс, во вражеский стан с чемоданом листовок.
— Нет! Только с чемоданом колготок! — твердо ответил я.
Любка была в преступном, на мой взгляд, мини: могла бы одеться и поскромней.
Андре, осунувшийся от слишком бурных переживаний последних дней, пока снимал только бабочек, порхающих средь гостей.
С дальнего мыса вспорхнул скромный вертолет министра в сопровождении двух «барракуд». Кортеж приближался… и вот — с пушечным грохотом вылетели из окон ржавые щиты!.. Узнаю эти крепкие руки! Слепые грянули «Встало солнышко» в переводе с «Битлз».
Вертолет опустился прямо на нашу крышу. «Барракуды» кругами сновали в небесах. Сутулясь под замедляющимися лопастями, к трапу кинулся Крот. По ступеням молодцевато сбежал, с черными бровями и в белом костюме, министр ресурсов Шпандырин, и они с Кротом обнялись.
— Ну, этого вы знаете — наша общая совесть! — Крот подвел его к нам.
Шпандырин взмахнул руками:
— Ну как же! И моя тоже! — и обнял Луня.
— С Фалько вы, я думаю, сталкивались?
— Сталкивались! И еще будем сталкиваться! — боевито сказал министр.
Похоже, наш моральный климат нравился ему.
— Упаду для верности? — взволнованно шептал мне Петр.
— …Погодь.
— Эх, погощу я у вас, пожалуй, недельку! — сладострастно почесываясь под костюмом, сказал министр.
— И этот сюда! Что там у них — медом намазано? — Я с изумлением глядел на домик-пряник.
Тут у Вани заверещал телефончик, он поднес его к уху, и было слышно не только ему: «Проверить, все ли слепые слепые!» Он кинулся к бандуристам.
— А это наш замгенерального по экологии, контр-адмирал Дыбец!
— Очищаем бухту! — отрапортовал тот.
— А это замгенерального по связям с общественностью, писатель Попов.
— Тот самый? Что написал «Ой, не кори меня, мати»? — Министр буквально расцвел. Пришлось сознаться: за деньги, обещанные Кротом, и не в том сознаешься… Вот я и зам!
— По голосу совести нашего уважаемого, — забубнил я, указывая на Луня, решили отдать Пень-хауз оркестру слепых…
Моей бы совести точно не хватило на это! Ход Лунем.
Министр благосклонно кивал… Недолго длилось это блаженство — секунд приблизительно двадцать, но какой-то «терем справедливости» я тут воздвиг.
У Любки заверещал телефончик, и она, поднеся его к уху, с отвращением, как лягушку, передала мне.
— Что там? — испуганно произнес я.
— Не знаю. Видимо, землетрясение, — проговорила она.
…Я медленно поднес трубку к уху. Голос жены:
— Приезжай в темпе — отец в больнице!
Вот я и не зам. Связь неожиданно оборвалась, и в трубке захрипел Зорин: «Проверить — все ли слепые слепые?» Я вернул аппарат.
Прощай, море! Прощай, Ярило! Прощайте, бабочки! Вечно меня кидает почему-то сверху вниз!
…Ярило, впрочем, я видел еще раз, когда самолет пробил облачность и ухо сидящего далеко впереди, в бизнес-классе, японца вдруг налилось солнцем и стало алым, как тюльпан.
И вот — снижение. И спинки пустых кресел (кто же улетает с югов в такую благодать?) с легким стуком попадали вперед друг на друга, как костяшки домино.
ГЛАВА 14
— В реанимацию входить запрещается. Но вы можете поговорить с ним — у него мобильный телефон.
— Откуда?
— …Принесли.
Спасибо, ребята!
Я набрал нарисованный на бумажке номер. Гулкий, очень далекий (не через Пень-хауз ли связываемся?), но вполне внятный и яростный голос отца:
— Одну руку отвязали, слава богу! Ты скажи — почему они меня тут привязанным держат? И голым, абсолютно?!
— Почему он привязан? — обратился я к медсестре.
— Чтобы не вырывал капельницу.
— А почему голый?
— Так положено в реанимации. Чтобы любая точка на теле была мгновенно доступна.
— …Слышишь? — спрашиваю я у отца.
— …Слышу, — недовольно хрипит он.
Потом он лежит уже в палате. Я сижу рядом. У другой стены — такая же трогательная пара: отец и сын. Их любовь — в отличие от нашей, сдержанной, бурлит, не вызывая никаких сомнений в ее существовании:
— Отец! Ну почему ты так пьешь?
— А ты почему так пьешь, сын?
Обуреваемые этой нежной заботой, они приканчивают бутылку. И это — после инфаркта! Палата лишь на две койки, и не общаться тут нельзя. Тот отец наливает остатки и протягивает моему отцу:
— На, выпей!.. Ты что — не русский человек?
— Я русский человек. — Отец усмехается. — Но предпочитаю следовать указаниям врача.
Вдруг у него под подушкой что-то крякает. Отец изумляется, подняв брови, потом, вспомнив, достает мобильник. Недоуменно слушает, потом тыкает телефончиком в мою сторону:
— Тебя.
— Слушаю, — солидно говорю я.
Некоторое время там тишина — потом голос Любки:
— Поскольку замгенерального по связям с общественностью теперь я, а общественность теперь — это ты, то я связываюсь с тобой и сообщаю, что тендер мы выиграли.
— Ура, — произношу я.
— Но чуть было не проиграли.
— Почему?
— Сразу после твоего ухода Андре с крыши кинулся.
— …Погиб?!
— Нет, слава богу! Зорин спас.
— Зорин?.. За ним кинулся? С парашютом?
— Нет. Это уж ты преувеличиваешь! Просто заранее Андре за ногу привязал.
— Внимательны вы к нему.
— Так он же сын Есенина и Зорге!
И вот отец уже, упрямо шаркая тапками, идет по длинным больничным коридорам, пристально — и как бы недоуменно — разглядывая то одно, то другое. Подходит к залитому солнцем окну, сморщившись, разглядывает цветы в горшках. И, продолжая свою почти столетнюю сельхоздеятельность, цепко хватает какой-то лист и с яростью разглядывает его, вывернув, как ухо провинившегося.
— Не может быть такого растения! — отпихивает лист.
И он, видимо, прав! Потом вдруг, повернувшись, смотрит на меня:
— Ну а как ты — сделал там, что намечал?
— Ничего я не сделал!
— …Турок ты, а не казак, — ласково говорит папа.
Мы привозим его из больницы домой, кормим, и он укладывается отдохнуть. Я заглядываю в светящуюся щель: читает, почти вплотную поднеся книжку к глазам. Молодец.
Потом мы на кухне ругаемся с женой.
— У тебя после этого юга морда… как красный таз!
— А у тебя… как губка!
— Значит, мы созданы друг для друга?
На радостях мы дарим одному таракану жизнь.
СЕКОНД-ЭНД
Думал, когда вернулся сюда: на берегу Невы всю душу распахну! Однако дело не бойко идет. Етишин погиб: отсек-таки клерк-злодей ему голову листом писчей бумаги — и на этом все кончилось. Из вещей написал только «Песнь кладовщика», но кладовщик почему-то за ней не явился. Хотелось бы написать что-то более накипевшее, да слова не идут.
Однажды забрел на заседание «Ландыша», но Сысой, сильно за это время заскучавший, накинулся с воплем:
— И ты смеешь к нам приходить?! После всей той коррупции?
Да, я коррумпировался. Но как-то мало.
И я вышел. Лунем ему не стать никогда. Специально прошел мимо дома Луня на Крюковом канале. Думаю, встреться мы сейчас с ним, нашли бы друг для друга немного доброты. Все-таки душа у него есть, хотя и хитрая. И вспоминается он почему-то тепло: может быть, по сравнению с нынешними?..
Что еще? Был тут в доме культуры моряков на встрече общественности с Фалько. Говорил-то он горячо и потом, пожимая со сцены руки, пожал и мою, но явно не узнал при этом. Кто я ему? Пересекались однажды… Таких у него полно. Да и невозможно, наверно, различить отдельные лица в толпе? Конечно, хотелось бы это проверить — но где ж я возьму толпу? Только старина Зорин меня узнал, помахал. Есть и удачи. В ГНИИ чумы, где я вел литературный кружок, с нового года возобновилось финансирование. Так что я теперь снова на коне. К сожалению, на зачумленном.
Написал басню «Мышь и батон», где батон все-таки побеждает.
Крот здоровается со мной на лестнице бегло: забыл, видимо, своего замгенерального!
Однажды только погутарили с ним. Я вышел из дома очень рано: чумовики почему-то любят литературой заниматься до начала рабочего дня. И у парадной стоял Крот, ждал машину. Было еще темно, но на тонком снегу кто-то уже отпечатал черные следы через двор наискосок.
— Знаете, — Крот сладко потянулся, — а я часто вспоминаю те дни. Очаровательное захолустье! Ветеринары, коровы…
Это же мой проект! Я еще могу! — я обрадовался. Тут подъехал «БМВ», оставляя два темных следа.
— Но предпочитаю работать более скучно, — сухо закончил он и уехал…
Любка вышла замуж за Андре, и теперь у Есенина и Зорге есть внук. В кого-то удастся?
Однажды вдруг позвонил мне Фрол и замогильным голосом спросил: не могу ли я написать ему речь на открытие берлинской выставки русских икон и пиломатериалов? Свести их, так сказать, вместе с присущей мне… Я отказался. О чем жалею. Может, все-таки можно было свести, за большие деньги?
По телевизору я гляжу, как он гуляет по странам и континентам, но не завидую ему: на него порой смотреть страшно.
Приехал вдруг Петр со своим сыном-красавцем Славкой, показывать нам его (явно гордится), а ему — Петербург. Петербург ему вроде нравится, а мы нет.
— Господи! Ну и родственнички! — читается в его взгляде. Точно так в юности я глядел на родственников там.
Петр, видя, что от сынка не дождешься ни слов, ни эмоций, взволнованно рассказывал все сам.
Упорный Мыцин восстановил-таки опорно-двигательный, но размещается он не в небоскребе, а в «жалких таких» домиках, построенных для санатория еще до тети Зины. Так что история порой движется и вспять.
В небоскребе, как и мечтал когда-то Петр, теперь развлекательный центр, но на фейс-контроле стоит Ванька с дружком и местных пускает «под настроение».
— Но я там свой, понял? — подмигивает Петр.
Хотя, конечно, не все так, как мечталось: бандуристов перекупило рекламное агентство, а в Пень-хаузе теперь океанарий: поднимаешься в то помещение — и видишь там за стеклом скатов и мурен и ничего больше. А сколько было надежд!
— Зато коровы, — мысль Петра делает внезапный, но точный зигзаг, поздоровей нынче, добываем корм. Рожают телят и, как положено, облизывают. А это значит — будет жить. Со слезами гляжу!
Судя по красным его глазам, это бывает нередко.
— Но главное ж, — восклицает он, — терминал построен, подходят танкера! А этот, — влюбленный взгляд на сына, — там оператором-сливщиком у них. По триста номеров цистерн, бывает, сливает за раз!
Славка его кривится:
— Ну что ты, батя, несешь?
— Ревнует в отношении производства, — гордо поясняет Петр и, не сдержав радости за карьеру сына, восклицает: — Ну а что ж, коли хорошо? Чистота ж абсолютная! Даже дождевая вода с терминала в море не попадает, сразу на очистку идет! Представь: лебеди плавают! Но не белые, а наши, южные. Черные.
…Кстати, первым лебедем там когда-то был я. Но племяша это вряд ли заинтересует. Зато кое-чем радует Петр.
— Тут как-то померла королева Бурунди, небольшая пьянка была. Так тебя вспоминали с теплом.
— Кто ж вспоминал меня с теплом? — не верю я.
— Ну, этот бровастый… Зыкин наш. Говорит: «Тут твой брат приезжал большой чудак. По-прежнему умывается из портфеля?» — «Это почему же?» говорю… В общем, вспоминали с теплом. Ну, я до туалету! — исчерпав все самое главное, с облегчением произносит Петр.
Он удаляется, а я иду с кухни в комнату и погружаюсь в мой роман «Мгла», вечный символ свободы и неопределенности.
Но недолго длится эта идиллия: дребезжит звонок, и я по ритму его узнаю Лидия Дмитриевна, соседка с третьего этажа! Я открываю. В ней нет уже прежнего кокетства, а лишь отчаяние:
— Этот ваш визави совсем распоясался — по телевизору одни помехи опять! Хотя бы вы…
Спасибо за комплимент!
— …сказали ему!
И я иду.