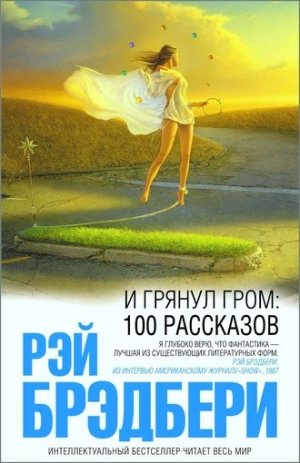
Она нравится очень многим. Тут двойная метафора. Прежде всего — знакомство с трудом фермеров, которым случается пользоваться косой, а во-вторых — очевидная связь с войной и смертью, почерпнутая из комиксов. Жатва. Должно быть, я видел такой комикс и решил развить сюжет.
Совершенно неожиданно дорога оборвалась. Вначале она была как все прочие: шла вдоль долины, между голыми каменистыми откосами, рядами виргинских дубов, потом мимо большого пшеничного поля, расположенного на отшибе. У белого домика при поле следовал подъем, а дальше дорога просто сходила на нет, словно в ней больше не было нужды.
Но это было не важно, потому что как раз тут в машине кончился бензин. Дрю Эриксон притормозил старый драндулет и молча уставился на свои большие, грубые, как у фермера, руки.
Молли, лежавшая сзади, в углу, сказала:
— Должно быть, мы не там свернули.
Дрю кивнул.
Губы у нее были почти такие же бледные, как лицо. Только они были сухие, а по лицу струился пот. Голос звучал вяло и невыразительно.
— Дрю, — сказала она. — Дрю, и что нам теперь делать?
Дрю разглядывал свои руки. Руки фермера, но ферму выдул из-под них голодный суховей, ненасытный до хорошей почвы.
На заднем сиденье проснулись дети и выбрались из пыльной кучи тюков и постельных принадлежностей. Высунув головы из-за спинки сиденья, они стали спрашивать:
— Зачем мы остановились, па? Нам что, пора перекусить? Па, мы голодные. Можно, мы сейчас поедим, а, папа?
Дрю закрыл глаза. Ему был ненавистен вид собственных рук.
Его запястья коснулись пальцы Молли. Коснусь легко и очень осторожно.
— Дрю… не зайти ли в тот дом? Может, нам дадут какой-нибудь еды.
Кожа у него вокруг рта побелела.
— Побираться, — грубо сказал он. — Мы в жизни не побирались, проживем без этого и дальше.
Пальцы Молли крепче обхватили его запястье. Он обернулся и увидел ее глаза. А также глаза Сьюзи и маленького Дрю, устремленные на него.
Постепенно его затылок и спина обмякли. Лицо обвисло и сделалось невыразительным, словно его уже долго дубасили почем зря. Дрю вышел из машины и двинулся по дорожке к дому. Шаги его были неуверенными, как у больного или подслеповатого.
Дверь дома стояла открытой. Дрю трижды постучал. Внутри было тихо, только шевелилась под жарким ленивым ветром белая оконная занавеска.
Дрю понял это прежде, чем вошел. Дом посетила смерть. Он понял это по особой тишине.
Дрю прошел через маленькую опрятную гостиную, короткий коридор. Мыслей в голове не было. Мысли его покинули. Он шел в кухню как животное, не рассуждая.
Потом он бросил взгляд через открытую дверь и увидел мертвеца.
Это был старик, лежавший в чистой белой постели. Умер он недавно: с лица не сошло умиротворенное выражение. Должно быть, он знал, что умирает, потому что на нем была одежда, в какой кладут в гроб: аккуратно вычищенный старый черный костюм, свежая белая рубашка, черный галстук.
Рядом с кроватью стояла прислоненная к стене коса. В руке у старика был зажат стебель пшеницы, который не успел еще увянуть. Стебель зрелый, золотистый, с тяжелым колосом.
Неслышными шагами Дрю вступил в спальню. Стащил с головы мятую пыльную шляпу и остановился у постели, опустив взгляд.
На подушке, рядом с головой старика, лежал развернутый лист бумаги. Он был явно оставлен для того, чтобы кто-нибудь прочитал. Распоряжения относительно похорон или просьба известить родных. Дрю, хмурясь и шевеля сухими бледными губами, стал читать.
«Тому, кто стоит у моего смертного одра. Будучи в здравом уме и волею судеб оставшись одиноким, я, Джон Бер, дарую и завещаю эту ферму и все принадлежащее к ней имущество тому человеку, который первый сюда явится. Каково его имя и происхождение — не важно. Отныне ему принадлежит ферма и пшеница; коса и предначертание, с нею связанное. Пусть примет их по свободной воле и без вопросов, и пусть помнит, что от меня, Джона Бера, он получает только дар, но не предначертание. Скрепляю сие своей подписью и печатью апреля третьего дня 1938 года. (Подписано) Джон Бер. Kyrie eleison!» [Господи помилуй (гр.).]
Дрю вернулся к входной двери.
— Молли, — сказал он, — войди. А вы, ребята, оставайтесь в машине.
Молли вошла. Дрю отвел ее в спальню. Она осмотрела завещание, косу, пшеничное поле за окном, колеблемое жарким ветром. Бледное лицо ее вытянулось, и она, закусив губу, прижалась к мужу.
— Это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тут какая-то хитрость.
— Просто нам наконец улыбнулась удача, — отозвался Дрю. — У нас будет работа, еда и крыша над головой.
Дрю тронул косу. Она блеснула, как серп луны. На лезвии была выцарапана надпись. «Кто владеет мною — владеет миром». Тогда эти слова ничего ему не сказали.
— Дрю. — Молли разглядывала стиснутые пальцы старика. — Почему он так крепко ухватил этот стебелек?
Напряженную тишину нарушил топот: на переднюю веранду взобрались дети. Молли вздохнула.
Они остались жить в доме. Похоронили старика на холме, произнесли надгробное слово, вернулись, подмели в доме, разгрузили автомобиль и поели, потому что в кухне нашлась провизия, масса провизии, и они три дня ничем не занимались, только наводили порядок в комнатах, осматривали землю, нежились в удобных постелях и, встречаясь взглядом, удивленно поднимали брови: как необычно все сложилось, и еды вдоволь, и нашлись даже сигары для Дрю — затянуться вечерком.
За домом имелся небольшой коровник с быком и тремя коровами, под раскидистыми деревьями, в тени, располагались колодезный домик и родник. В колодезном домике хранились говяжьи бока, бекон, свинина, баранина — запасы, которых хватило бы на два, а то и три года пяти таким семьям, как их. Там же нашлись маслобойка, коробки с сырами, большие металлические бидоны для молока.
На четвертое утро Дрю Эриксон, лежа в кровати и рассматривая косу, понял, что приспело время браться за работу: зерно в поле созрело — это ясно, хватит уже лодыря гонять. Три дня просидел сложа руки, ну и будет. Он поднялся, едва в окна пахнуло свежестью рассвета, взял косу и вышел в поле. Перехватил косу поудобней и начал косить.
Поле было большое. Одному такое не обработать, и, однако, его предшественник справлялся в одиночку.
Закончив работу, Дрю вернулся в дом с косой, мирно покоившейся у него на плече. В глазах его, однако, стоял недоуменный вопрос. Такое странное пшеничное поле попалось ему впервые в жизни. Оно созревало отдельными, расположенными то там, то сям, участками. Пшеница так себя не ведет. Но Молли он об этом не сказал. Как не сказал и другого. К примеру, того, что скосишь пшеницу, пройдет час-другой, и она начинает гнить. И так тоже пшеница себя не ведет. Впрочем, тревожиться было не о чем. В конце концов, без еды они в любом случае не останутся.
На следующее утро оказалось, что подгнившее зерно возродилось к жизни, выпустив новые зеленые всходы с крохотными корешками.
Дрю Эриксон, потирая себе подбородок, задумался о том, в чем тут дело, и почему, и как оно так получается, и что в том хорошего, но ни до чего не додумался. Раза два за день он отправлялся на дальние холмы, к могиле старика: просто убедиться, что тот остался на месте, а также, вероятно, не без надежды получить хоть какую-нибудь подсказку относительно поля. С холма была видна вся унаследованная им земля.
Пшеничное поле, шириной в два акра, простиралось на три мили в направлении гор и состояло сплошь из заплат: где проростки, где золото, где зелень, а где недавние его покосы. Старик, однако, ничего не поведал: его лицо было придавлено толщей земли и камней. Могила была отдана солнцу, ветру и тишине. Дрю Эриксон поворачивал назад и снова брался за косу, сам себе удивляясь и радуясь работе, потому что она казалась ему важной. Почему — он сам не знал, важной, и все тут. Важнее не бывает.
Он просто не мог оставить пшеницу на корню. Пшеница созревала то на одном, то на другом участке, и Дрю замечал в пустоту: «Если косить здесь еще десять лет только то, что поспеет, второй раз на то же место вернуться не успеешь. Такое уж поле — конца-краю нет. — Он тряс головой. — Уж так она поспевает, эта пшеница. За день ровно столько, чтобы я успел убрать. Остается одна зелень. А на следующее утро, глядь, пора браться за новый участок…»
Дурацкое это было занятие: жать зерно, которое сей же миг сгнивает. К концу недели Дрю решил, что в ближайшие дни в поле не выйдет.
Залежавшись в постели, он прислушивался к тишине в доме. Тишина говорила не о смерти, а о жизни и благополучии.
Дрю встал, оделся и не спеша позавтракал. Работать он не думал. Выйдя подоить корову, он выкурил на веранде самокрутку, послонялся немного по заднему двору, вернулся в дом и спросил Молли, куда и зачем собирался.
— Подоить коров, — отвечала жена.
— А, ну да.
Дрю снова вышел. Коровы ждали с полным выменем, он надоил молока и отнес бидоны в колодезный домик, но мысли его были не об этом. Мысли были о пшенице. И косе.
Весь остаток утра он сидел на задней веранде и крутил самокрутки. Смастерил для младшего Дрю игрушечную лодочку и еще одну для Сьюзи, сбил немного масла, сцедил пахту, но все время его не отпускала головная боль. Солнечный жар жег голову изнутри. Приближался ланч, но есть не хотелось. Дрю следил за пшеницей, как она ходила волнами под ветром. Руки, сложенные на коленях, непроизвольно сгибались, в пальцах свербило, и они хватали воздух. Ладони горели. Дрю встал, отер руки о штаны, снова сел, начал сворачивать самокрутку, но, озлившись, с ругательством отшвырнул ее прочь. Чувство было такое, словно у него отрезали руку — не одну из двух, а третью — или он потерял часть себя. Что-то было неладное с ладонями, руками.
Он услышал шепот ветра в поле.
До часу дня он мотался по дому и около, мешал домашним, раздумывал, не прорыть ли оросительную канаву, но на самом деле у него из головы не шла пшеница, такая красивая и спелая, ждущая косы.
— К черту!
Он шагнул в спальню и сорвал со стены косу, висевшую на крючке. Постоял на месте. Ему полегчало. Руки еще больше зачесались. Голова не болела. Третья рука вернулась на место. Он полностью обрел себя.
Это был инстинкт. Нелепый, как молния, что бьет, но не обжигает. Пшеницу нужно жать каждый день. Жатва необходима. Почему? Да просто необходима, и все тут. Глядя на косу в своих крупных руках, он рассмеялся. Вышел, насвистывая, в зрелое, полное ожидания поле и принялся за работу. Чуток тронулся, думал он. Черт, ведь поле как поле, ничего в нем особенного? Почти ничего.
Дни бежали резво, как бойкие лошадки.
Свою тягу к работе Дрю Эриксон начал сравнивать с болезненной жаждой или голодом. С самыми привычными жизненными потребностями.
Однажды в полдень дети принялись играть с косой. Отец, за ланчем в кухне, услышал их хихиканье и вышел забрать косу. Он не кричал на них, но выглядел очень встревоженным. С тех пор он каждый раз после работы убирал косу под замок.
Не было дня, чтобы он не выходил в поле.
И вверх, и вниз. И вверх, и вниз, и наискось. И вверх, и вниз, и наискось. Вжик-вжик. И вверх, и вниз.
И вверх.
Подумай о старике, как он умер со стеблем пшеницы в руках.
И вниз.
Подумай об этой мертвой земле, земле, населенной пшеницей.
И вверх.
Подумай о том, как чудно, заплатами, она растет.
И вниз.
Подумай…
Желтая волна пшеницы захлестнула его лодыжки. Небо потемнело. Дрю Эриксон согнулся, схватившись за живот и бессмысленно вращая глазами. Мир заколебался.
— Я убил человека! — задыхаясь, прохрипел Дрю, схватился за грудь и упал на колени рядом со скошенным стеблем. — Я убил незнамо сколько…
Небо пошло кругом, как голубая карусель на деревенской ярмарке в Канзасе. Только музыки не было. Один лишь звон в ушах.
Когда Дрю, волоча за собой косу, ввалился в кухню, Молли сидела за голубым кухонным столом и чистила картошку.
— Молли!
В глазах у него стояли слезы, и он едва видел жену.
Она сидела, уронив руки, и ждала, что он скажет.
— Собирай-ка вещи. — Дрю глядел в пол.
— Почему?
— Мы уезжаем, — глухо проговорил он.
— Уезжаем?
— Этот старик. Знаешь, чем он здесь занимался? Я говорю о пшенице, Молли, и о косе. Стоит взмахнуть косой на пшеничном поле, и умирает множество народу. Ты их подкашиваешь, и…
Молли поднялась на ноги, положила нож, сгребла в сторону картошку и мягко, сочувственно проговорила:
— Ты вымотался. Здесь мы живем месяц, а прежде проделали большой путь, недоедали. А ты еще работаешь как проклятый, не пропуская ни дня, вот и вымотался…
— Я слышу в поле голоса, печальные голоса. Просят меня остановиться. Просят не убивать их!
— Дрю!
Он ее не слышал.
— Пшеница растет не так, как надо, не по-людски. Я тебе не говорил. Она какая-то ненормальная.
Жена глядела на Дрю бессмысленными, похожими на голубые стекляшки, глазами.
— Думаешь, я спятил? Но погоди, это еще не все. О боже, помоги мне, Молли, я ведь только что убил свою мать!
— Прекрати! — возмутилась Молли.
— Я срезал стебель и убил ее, я почувствовал, что она умирает, потому-то я и понял…
— Дрю! — Ее злой, испуганный голос прозвучал хлестко, как пощечина. — Заткнись!
— Ох… Молли… — бормотал он.
Коса выпала из его рук и грохнулась на пол. Молли раздраженно ее схватила и поставила в угол.
— Десять лет мы прожили вместе, — сказала она. — Порой во рту маковой росинки не бывало — одна только пыль да молитвы. А теперь, когда нам вдруг посчастливилось, ты взял и не выдержал!
Она принесла из гостиной Библию.
Зашуршала страницами. Так же шуршала пшеница при слабом ветерке.
— Сядь и слушай, — распорядилась Молли.
С улицы донеслись голоса. Это дети смеялись рядом с домом в тени большого виргинского дуба.
Молли стала читать из Библии, то и дело поднимая глаза, чтобы проследить за выражением лица Дрю.
Она стала читать ему из Библии каждый день. На следующей неделе в среду Дрю отправился пешком на почту в соседний город, и там его ждало письмо.
Когда он вернулся домой, его было не узнать. Он протянул письмо Молли и слабым дрожащим голосом пересказал его содержание.
— Мать умерла… во вторник в час дня… сердце…
К этому Дрю Эриксон добавил одно:
— Посади детей в машину, погрузи продукты. Мы едем в Калифорнию.
— Дрю. — Жена не выпускала из рук письмо.
— Ты знаешь сама, на здешних землях плохо родятся зерновые. А теперь посмотри, как у нас вызревает пшеница. Я тебе еще не все рассказал. Она вызревает участками, каждый день понемногу. А сжатая сразу гниет. А на следующее утро сама по себе прорастает и растет дальше. Во вторник на той неделе, когда я срезал этот колос, мне показалось, что коса вонзилась в меня. Я слышал чей-то крик. Голос был точь-в-точь… голос моей матери. И вот это письмо.
— Мы остаемся, — сказала Молли.
— Молли.
— Мы остаемся здесь, где нам обеспечены еда, постели, безбедная и долгая жизнь. Я не хочу, чтобы от моих детей опять остались кожа да кости.
За окнами виднелось голубое небо. На спокойное лицо Молли падал с одной стороны косой луч, зажигая в глазу голубые искры. Под кухонным краном одна за другой медленно набухали сверкающие капли. Их упало четыре или пять, и только тут Дрю хрипло вздохнул. В этом вздохе слышались усталость и отчаяние. Он кивнул, глядя в сторону.
— Ладно. Мы остаемся.
Слабой рукой он поднял косу. Ярко сверкнули процарапанные на металле слова:
КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ — ВЛАДЕЕТ МИРОМ!
— Мы остаемся…
На следующее утро он отправился к могиле старика. В самом ее центре показался из земли молодой побег пшеницы. Это возродился тот колос, прежний стебель, бывший у старика в руке, но только возродившийся.
Дрю заговорил, не получая ответа.
— Ты всю жизнь проработал на этом поле, потому что не мог иначе, и вот пришел день, когда тебе попалась среди стеблей твоя собственная жизнь. Ты знал, что она твоя. Ты ее срезал. Пошел домой, надел костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно было, правда? Ты передал землю мне, а когда я умру, она должна будет перейти к кому-нибудь другому.
Голос Дрю дрожал от благоговейного страха.
— Сколько же времени длится эта история? И никто не знает, что такое поле существует, кроме человека с косой?..
Вдруг он ощутил себя глубоким старцем. От долины, как от сухой скрюченной мумии, повеяло древностью, тайной, мощью. Когда по прерии сновали пляшущими шагами индейцы, это поле уже здесь было. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Тогда, небось, сквозь стену живой пшеницы пробирался с примитивной деревянной косой какой-нибудь кроманьонец, грубый и лохматый…
Дрю вернулся к работе. И вверх, и вниз. Его зачаровывала мысль, что он владеет не какой-нибудь, а этой косой. Он, он сам! Безумный, неистовый прилив силы и ужаса захлестнул Дрю.
И вверх! КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ! И вниз! ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ!
Чтобы смириться с этой работой, требовалась определенная философия. Просто таким образом он обеспечивает своей семье еду и кров. После стольких лет мытарств они заслужили приличный дом и кормежку, рассуждал он.
И вверх, и вниз. Каждое зернышко — это жизнь, и ее он аккуратно разрезал пополам. Если подойти с умом (Дрю окинул пшеницу пытливым взглядом) — они с Молли и ребята смогут жить вечно!
Найду участок с колосьями Молли, Сьюзи и маленького Дрю и не буду их трогать. Они станут бессмертными!
И тут, словно по сигналу, он понял.
Молли, и маленький Дрю, и Сьюзи.
Здесь, перед ним. Колосья пшеницы.
Еще один взмах косы, и он бы их срезал.
Молли, Дрю, Сьюзи. Он знал это точно. Задрожав, он опустился на колени и стал рассматривать колоски. Они запылали жаром под его пальцами.
Дрю застонал от облегчения. Что, если бы он, ни о чем не подозревая, их скосил? Он выдохнул, поднялся на ноги, взял косу и отошел от трех тоненьких колосков.
Молли очень удивилась, когда он ни с того ни с сего вернулся домой раньше обычного и поцеловал ее в щеку.
За обедом Молли сказала:
— Ты сегодня ушел пораньше? А… как пшеница: все так же гниет, едва ее скосишь?
Дрю кивнул и взял еще мяса.
— Тебе бы написать в министерство земледелия, пусть приедут посмотрят.
— Нет.
— Я предложила, только и всего.
Дрю широко раскрыл глаза.
— Я должен оставаться здесь до конца жизни. Нельзя допускать к этой пшенице посторонних, они не знают, где жать, а где нет. Могут скосить не в том месте.
— В каком это — не в том?
— Не важно. — Он медленно жевал. — Ерунда. — Он со стуком опустил на стол вилку. — Кто знает, что им взбредет в голову. Этим, из правительства! Может, даже… может, даже перепахать целиком все поле!
Молли кивнула.
— Это было бы самое правильное, — сказала она. — И засеять снова, новыми семенами.
Дрю встал, не закончив обед.
— Не собираюсь я писать в министерство и отдавать поле чужакам, чтобы они его выкосили, тоже не собираюсь, так и знай!
За ним захлопнулась входная дверь.
Дрю обошел участок, где зрели под солнцем колосья его детей и жены, и занялся косьбой на дальнем участке, где уж точно не погубишь по ошибке свое семейство.
Но работа больше его не радовала. К концу часа он отправил на тот свет троих своих давних и любимых друзей, живших в Миссури. Джо Спанглер, Билл Марч, Оле Джонсон — их имена он прочел на срезанных колосьях и не смог работать дальше.
Дрю запер косу в подвале и выбросил ключ. Все, поработал Смертью с косой, и будет. Зарекся навеки!
В тот же вечер он курил трубку на передней веранде и рассказывал детям смешные истории. Но они не особенно веселились. Они выглядели усталыми, отсутствующими и вообще непохожими на его детей.
Молли жаловалась на головную боль, послонялась, волоча ноги, вокруг дома, рано отправилась в постель и заснула. Это тоже было непривычно. Молли всегда ложилась поздно и не знала устали.
При лунном свете по пшеничному полю пробегала рябь, похожая на морские волны.
Оно жаждало жатвы. Не терпело, чтобы его запускали. Иные колосья просто необходимо было срезать сейчас. Дрю Эриксон сидел, стараясь на него не глядеть, и спокойно курил.
Что станет с миром, если Дрю никогда больше не выйдет в поле? Что случится с людьми, которые созрели для смерти, которые ждут прихода косы?
Поживем — увидим.
Задув масляную лампу, Дрю забрался в постель. Молли тихонько посапывала. Дрю не спалось. В поле шумел ветер, руки ныли от желания взяться за работу.
Среди ночи он очнулся: держа в руках косу, он шагал в поле. Шагал как ненормальный, шагал и боялся, шагал наполовину во сне. Дрю не помнил, как открыл дверь подвала и достал косу, но вот он здесь, шагает при луне к пшеничному полю.
Среди колосьев много старых, усталых, им так хочется заснуть. Заснуть долгим, спокойным, безлунным сном.
Коса держала его, врастала в его ладони, заставляла идти.
Напрягая силы, он как-то сумел освободиться. Отшвырнул косу, забежал в пшеницу, остановился и рухнул на колени.
— Не хочу больше убивать, — сказал он. — Если я буду и дальше махать косой, мне придется убить Молли и ребят. Не требуйте от меня этого!
Звезды не двигались и только сияли.
Сзади послышался глухой стук.
Поверх холма в небо метнулось зарево. Оно было похоже на живое существо с красными руками, тянущееся языком к звездам. В лицо Дрю полетели искры. В ноздри хлынул густой горячий дух огня.
Дом!
Взвыв, Дрю медленно, без надежды, поднялся с колен и уставился на пожар.
Неистовое пламя с гулом поглощало маленький белый домик и виргинские дубы. Волна жара, накатившись на холм, достигла Дрю, и тот, спотыкаясь, двинулся вниз, чтобы погрузиться в нее с головой.
К тому времени, как он добрался до подножия холма, пылало уже все: гонт на крыше, замок в двери, порог. Огонь гудел, трещал и фыркал.
Внутри не слышалось голосов. Никто не бегал вокруг и не вопил.
Во дворе Дрю крикнул:
— Молли! Сьюзи! Дрю!
Ответа не было. Он подбежал так близко, что опалило брови; еще немного — и раскаленная кожа свернулась бы, как горящая бумага, в тугие чешуйки, колечки, завитки.
— Молли! Сьюзи!
Крыша рухнула. Дом оделся облаком блестящих искр.
Огонь удовлетворенно осел вниз, чтобы продолжить пиршество. Дрю раз десять обежал дом крутом, надеясь найти путь внутрь. Потом сел у самого пекла и дождался, пока не осыпались, задрожав, стены, пока не выгнулись остатки перекрытий, завалив пол штукатуркой и горелой дранкой. Пока не затихло пламя, не пыхнул последний дымок, не приблизился неспешно новый день, а на пожарище не остались одни лишь тлеющие угли да зола.
От сгоревшего остова веяло жаром, но Дрю вошел внутрь. Еще не совсем рассвело и видно было плохо. В каплях пота на шее Дрю играли красные огоньки. Он стоял, как чужак, прибывший в незнакомую землю. Вот — кухня. Обугленные столы, стулья, железная плита, буфет, шкафы. Вот — прихожая. Вот общая комната, а вот спальня, где…
Где оставалась все еще живая Молли.
Она спала среди обвалившихся балок, почерневшего металла, пружин.
Спала как ни в чем не бывало. На изящных белых ручках, вытянутых по бокам, тлели искорки. Лицо было спокойно, веки сомкнуты, а на щеке лежала горящая деревяшка.
Дрю замер, не веря собственным глазам. Вокруг — дымящиеся руины спальни, постель полна искр, а кожа жены нетронута, грудь вздымается и опадает.
— Молли!
Жива и спит себе — а ведь недавно вокруг бушевал пожар, рушились с грохотом стены, обвалился потолок, все пылало адским пламенем.
Когда Дрю ступил на кучу тлеющих обломков, его подошвы задымились. Но он этого не замечал, не заметил бы даже, если бы ноги обожгло до самых лодыжек.
— Молли!
Он склонился над женой. Она не двигалась, не слышала, не говорила. Она не была мертва. Она не была жива. Просто лежала среди огня, который ее не касался, не причинял ей никакого вреда. Хлопчатобумажная ночная рубашка была запачкана золой, но не сгорела. Темноволосую голову подпирала груда раскаленных углей.
Дрю коснулся щеки Молли. Она была холодная. Среди пекла — и холодная. Чуть улыбающиеся губы едва заметно трепетали в такт дыханию.
— Молли, что с тобой? Как ты?..
Сьюзи с братом тоже были тут. Сквозь завесу дыма Дрю различил две фигуры — они спали на обломках штукатурки.
Он вынес всех троих на край пшеничного поля и попытался оживить. Не получилось.
— Молли! Молли, проснись! Ребята! Ребята, проснитесь!
Они дышали, не двигались и спали дальше.
— Ребята, проснитесь! Ваша мама…
Умерла? Нет, не умерла. Но…
Он стал тормошить детей, словно они были виноваты. Они, не обращая внимания, смотрели свои сны. Дрю опустил их на землю и выпрямился. Его лицо прорезала сеть морщин. Он понял.
Он понял, почему они проспали пожар и почему не просыпались теперь. Понял, почему Молли лежала пластом и не собиралась улыбаться.
Власть пшеницы и косы.
Их жизням было назначено окончиться вчера, 30 мая 1938 года, но они не умерли, потому что он отказался сжать колосья. Они должны были погибнуть в огне. Именно так было определено. Но он не сжал колоски, и вот они целы. Дом сгорел и обрушился, а они по-прежнему живы. Но им здесь больше нечего делать. Они застряли на полпути, не мертвые и не живые. Просто — в ожидании. И по всему миру таких тысячи; жертвы несчастных случаев, пожаров, болезней, самоубийцы ждут и спят, как Молли с ее детьми. Неспособные умереть и неспособные жить. И все потому, что кто-то побоялся сжать созревшую пшеницу. Все потому, что кто-то решил забросить косу и никогда больше не брать ее в руки.
Дрю перевел взгляд на детей. Работу нужно делать каждый день, каждый день, без остановки, работать и работать, не останавливаться, косить, косить и косить.
Ладно, подумал он. Ей-богу, я им покажу. Скошу к чертовой матери все треклятые колосья!
Дрю не простился со своей семьей. Все больше злясь, он отвернулся, нашел косу, припустил быстрым шагом, перешел на рысь, понесся вприпрыжку в поле; в голове крутились безумные мысли, руки жаждали работы, и он со всем неистовством стремился дать им волю! Пшеница хлестала его по ногам. Он шел напролом и кричал. Остановился.
— Молли! — крикнул он и махнул косой.
— Сьюзи! — крикнул он снова. — Дрю! — И снова махнул косой.
Кто-то вскрикнул. Вроде бы трое. Дрю не обернулся, чтобы посмотреть на сгоревший дом.
Истерически всхлипывая, каждым мускулом ощущая безумное, яростное желание поквитаться с судьбой, он вновь подступился к пшенице. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда — ходила коса. Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик! Под ругань, божбу и смех гигантские шрамы множились без разбору на спелых и зеленых участках, на фоне встающего солнца сверкало со свистом лезвие! И вниз!
И Гитлер вторгся в Австрию.
Неистовый взмах.
И Гитлер вторгся в Чехословакию.
Лезвие пело, влажно алея.
Пала Польша.
Зерна так и летели, зеленые, направо и налево.
Бомбы рушили Лондон, рушили Москву, рушили Токио.
А лезвие все вздымалось, резало, крушило с яростью человека, кто имел и потерял близких и кому все равно, как поступить с этим миром.
В каких-то нескольких милях от магистрали, по ухабистой проселочной дороге, ведущей в никуда; в каких-нибудь нескольких милях от забитого транспортом калифорнийского шоссе.
Раз в кои-то веки с автомагистрали съезжает ветхий драндулет и тормозит в конце грунтовой дороги у обгорелых руин белого домика, чтобы спросить дорогу у фермера, который день и ночь, безумно, неистово, нескончаемо трудится на пшеничном поле.
Ни помощи, ни ответа они не получают. Прошли годы, но фермер все еще по горло занят; он все еще режет и крошит пшеницу, зеленую вместо спелой.
И Дрю Эриксон идет с косой все дальше, и в глазах его горит безумный огонек. Все дальше, дальше и дальше.