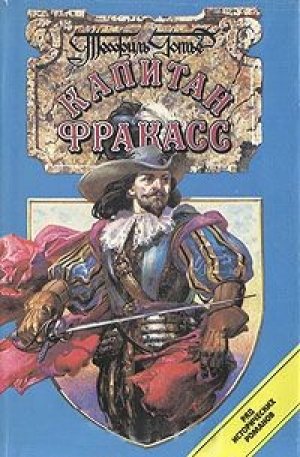
Глава I
ВЫСАДКА
Ночь. Индийская ночь, сверкающая звездами. Море, обрызганное искрами, словно переливается пламенем, перевязанным огненными лентами. Линейные корабли быстро скользят на всех парусах, безмолвные, как привидения. Они кажутся гигантскими в полусвете, с их гордыми мачтами, высокими корпусами и распущенными парусами, которые образуют широкие беззвездные пятна на небе. Вид судов загадочный, мрачный, далеко не миролюбивый. Огни скрыты. Пушечные отверстия в три ряда пронизывают могучие бока; и при мерцании звезд виднеются готовые к действию орудия. Это действительно восемь военных кораблей, — целая эскадра, которая подвигается в ряд, подгоняемая попутным ветром. Суда идут довольно близко одно от другого, чтобы не потерять друг друга из виду в полумраке.
На борту адмиральского корабля, более высокого, чем остальные, и особенно окутанного темнотой, два молодых офицера тихо разговаривали, облокотившись на боковые сетки.
Работа команды происходила вокруг них почти неслышно. Хлопанье паруса, когда ослабевал ветер, легкий скрип снастей да треск подводной части судна были единственными звуками, которые примешивались к нескончаемому ропоту волн, рассекаемых носом корабля.
Иногда только раздавался визг блока, похожий на крик.
На краю горизонта, по-видимому, недалекого, появились огоньки. Они казались желтыми и мутными, в сравнении с голубым мерцанием звезд, и были разбросаны на разных высотах.
— Мадрас! — сказал один из офицеров своему товарищу.
— Мы далеко еще от него?
— Может быть, в миле. — И молодой человек тихо прибавил, смеясь: — Эти добряки-англичане спят себе крепким сном, и почти все уже задули огонь. А между тем, держу пари, это их последняя спокойная ночь. Триста жерл наших пушек пропоют им завтра утреннюю серенаду.
— Вам известен план нападения, господин де Кержан?
— Столько же, сколько и вам, мой дорогой Бюсси. Но его не трудно угадать: бросить якорь на некотором расстоянии от Мадраса, свезти на берег артиллерию и захватить пост. А мы поворачиваем на другой галс, — прибавил он, прислушиваясь к команде, отданной в рупор.
— Приближаемся к берегу, — сказал Бюсси.
Действительно, все суда совершали одно и то же движение: сделали галс к земле, потом, приняв первоначальное направление, поплыли ближе к берегу. Огни Мадраса удалялись от левого борта, бледнели и исчезали. А между тем именно к Мадрасу-то и подкрадываются эти грозные морские бродяги. Они прошли незамеченными: ни одно неприятельское судно не подозревало об их замыслах, ни одно не забило тревоги. Вскоре появились шлюпки: они пошли на разведку берега. Место для высадки оказалось благоприятное.
На кораблях замечается безмолвное движение теней. Разматывают якорную цепь. Матросы влезают на ванты. Паруса мало-помалу спускаются, свертываются и обнажают величественные, стройные мачты и снасти.
Адмирал, окруженный своим штабом, выступает на мостике и делает последние распоряжения, не понижая голоса, резкого и повелительного. Бюсси и Кержан получают приказание высадиться первыми, со стапятьюдесятью солдатами, и, отыскав находящиеся там развалины пагоды, занять их. Эта пагода послужит передовым постом, чтобы в случае нужды охранять трудную переправу артиллерии. Исполнив это, можно будет проспать там остальную часть ночи.
Тут бесчисленное множество шеренг стали как бы выходить из боков огромных судов. Эти шлюпки были сделаны из кокосовой коры и обшиты кожей, для легкости и упругости, чтобы противостоять ужасному буруну последнего вала. Они беспорядочно прыгали на воде, как пустые стручки; но вскоре тяжесть людей дала им некоторую устойчивость, и они направились к невидимому берегу. Оба офицера спустились последними; но их гребцы были самыми сильными, и вскоре они очутились во главе флотилии.
Послышался продолжительный шум, подобный отдаленному грому. Он рос, раскатывался, становился все величественнее. Это был несмолкаемый гул, торжественные звуки которого напоминали величественные аккорды исполинского органа.
— Мы приближаемся, — сказал Кержан.
— Что это? — спросил Бюсси.
— Этот шум? Это — страшный прибой на протяжении ста миль вдоль берега.
Вскоре они очутились среди оглушительного шума бушующей, кипящей пены: им казалось, что шлюпки прыгают по снежным сугробам.
— Берегитесь! — крикнул Кержан.
Да, это был прибой: величественный вал падал водопадом на песок. Лодки пронеслись с головокружительной быстрой среди оглушительного шума и водяных брызг. Но черные гребцы были так ловки, что не успели переправляющиеся прийти в себя, как очутились на берегу, здравы и невредимы, лишь слегка вымокшие.
Кержан встряхнулся, смеясь. Бюсси вдыхал полной грудью приятный запах земли и, казалось, был охвачен безумной радостью.
— Наконец-то я ступаю по тебе, таинственная страна! — воскликнул он. — Да, моя нога попирает именно твою почву! Наконец-то мечты сбываются! Дженнат-Нишан! — прибавил он, подняв глаза к звездам.
— Это что за китайщина? — спросил Кержан.
— Да ведь это одно из названий Индии, — отвечал Бюсси. — Оно означает: Картина рая. Неправда ли, как это название подходит к этой стране?
— Рай — иногда, ад — очень часто, — заметил Кержан. — Но теперь не время обсуждать этот вопрос. Нашим людям удалось беспрепятственно высадиться, пора собрать их и выполнить данные нам приказания.
Вскоре все отправились в путь в сопровождении сипая[1], который знал развалины пагоды.
— Сомкнись! — крикнул Кержан. — И пусть передовые подвигаются осторожно, ударяя по кустам.
— Чего вы боитесь? — спросил Бюсси. — Берег кажется совсем пустынным.
— Индия столько же принадлежит людям, сколько зверям. В этом отношении она похожа на тот рай, за который вы ее принимаете. Разница только в том, что там, как говорят, звери кротки, здесь же они очень опасны и свирепы. Слышите их музыку?
Среди ночи, действительно, раздавались непрерывные завывания и глухие крики. Но голодные звери обращались в бегство при приближении этого многочисленного отряда; и он, пробравшись через высокую траву кустарника, достиг разрушенной пагоды, не увидав ни одного хищника. Оставалось очистить путь от стаи шакалов и коршунов. Эти враги уступали дорогу, выражая свое неудовольствие ужасными криками. Сначала обошли развалившиеся памятники и сады без ограды. Потом, расставив часовых и дав знать эскадре об успехе предприятия, разомкнули ряды и расположились лагерем на месте, которое завоевали так легко. Большинство поместилось в обширной, открытой зале, наиболее сохранившейся из всего здания. Оба офицера растянулись там же на своих шинелях, чтоб отдохнуть несколько часов.
— Вам хочется спать, Бюсси? — вскоре спросил Кержан.
— Спать! Когда битва на носу, и на этой земле, которую я горю нетерпением увидеть и которую ночь скрывает от меня? Конечно нет: я жду с нетерпением зари.
— В таком случае, если вы не хотите спать, позвольте мне задать вам один вопрос.
— Говорите, де Кержан, я буду рад ответить вам.
— Что вы думаете об адмирале?
— Это щекотливый вопрос, — сказал Бюсси, улыбаясь. — Но я отвечу на него откровенно. Адмирал производит на меня впечатление героя, наполовину белого, наполовину черного — света и тени, архангела и дьявола. Я, который уже столько месяцев нахожусь под его начальством и видел, как он творил чудеса, не узнаю его больше. Вся эта медлительность, этот отказ сразиться с английской эскадрой, когда у нас были все преимущества, — это совсем непонятно.
— Но я-то понимаю. На этого героя легла какая-то тень, как вы говорите. Да. И мне кажется, я угадываю, какая соломинка заставит сломиться эту чистую сталь.
— Что же это такое?
— Зависть!
— Что вы сказали? — воскликнул Бюсси, пододвигаясь к товарищу. — Говорите тише.
— Вы увидите, — продолжал Кержан, понизив голос. — Адмирала терзает зависть. Он не терпит ни приказаний, ни советов, хотя бы они вполне согласовались с его взглядами. Могущество моего дяди Дюплэ в этой стране смущает его: он не хочет делить победы.
— Вы пугаете меня… Но я не могу поверить подобным чувствам.
— Дай Бог, чтоб я оказался клеветником, — сказал Кержан, вздыхая.
Он собирался заснуть. Снова воцарилась тишина. Но вскоре молодой человек опять нарушил ее:
— Вот уже много времени прошло с тех пор, как я покинул Францию, — сказал он. — Расскажите мне что-нибудь о ней. О чем говорят при дворе? Что делают в Версале?
Бюсси любезно передал своему товарищу все происшествия, скандалы, которые занимали двор после отъезда Кержана, любовные похождения герцога Ришелье; рассказал о восходящей звезде г-же де Помпадур, новой возлюбленной короля. Но через некоторое время легкое храпение дало ему знать, что его не слушают. Он тихо засмеялся и, положив руки под голову, стал созерцать мерцание звезд через широкие отверстия в зале, которые, подобно зубчикам из черного бархата, выделялись на относительно светлом небе. Дыхание всех этих спящих людей одно нарушало тишину. Но если бы кто-нибудь проснулся, то услышал бы, как Бюсси пробормотал еще раз, словно произносил имя своей возлюбленной: «Дженнат-Нишан!»
На другой день, на рассвете, Николай Морс, губернатор Мадраса, был разбужен неприятным образом: первый пушечный выстрел заставил его вздрогнуть в постели. Сначала он повернулся на другой бок, бормоча: «Гром гремит!» Но выстрелы, которые посыпались теперь без перерыва, не дали ему ни заснуть, ни приписать небу этот грохот. Морс вскочил с кровати. Босиком, в волнении, побежал он к окну и выскочил на веранду.
Его взоры вопрошали окрестности. Но большие деревья сада ничего не говорили так же, как и птицы, распевавшие на ветках. А между тем гром продолжал грохотать и раскатываться, заставляя дрожать стекла в доме. Но вот песок на твердой дорожке аллеи заскрипел под торопливыми шагами. Это был солдат. Из-за кустов жасмина показалась его красная одежда.
— Что случилось? — спросил губернатор, покидая веранду и наскоро натягивая панталоны.
Посланный показался в дверях комнаты.
— Ну, что?
— Французы, ваша милость! Они высадились этой ночью и бомбардируют город.
— Французы!
Эта новость так ошеломила Морса, что он упал в кресло. А солдат докладывал:
— Восемь неприятельских кораблей бросили якорь на расстоянии пушечного выстрела. Около двух тысяч человек высадились недалеко от устья Монторона[2] и уже устроили там батарею с шестью мортирами.
— Скажите, что я тотчас же буду в городе.
Солдат кланяется и уходит, а губернатор бросается к звонкам. Являются слуги, одевают, причесывают и пудрят своего господина; и он принимает вид, полный достоинства. Дом сверху до низу объят волнением. Напуганные люди бегают взад и вперед; раздаются крики, зов. Все угадывают опасность: этот дом вне стен города и ничем не защищен; его нужно покинуть как можно скорей. Леди Морс уже укладывает драгоценности. Ее сын и молоденькая дочь поспешно помогают ей: негритянки, когда они празднуют труса, неспособны ни к какой службе. В конюшнях запрягают лошадей во все, что могло служить экипажем.
В городе не меньшее смятение: все бегают, закидывают друг друга вопросами, повторяют ужасную новость. Но вскоре улицы пустеют: на них разрываются бомбы; уже унесли нескольких раненых.
Тем не менее жители не теряют надежды: туземцы в особенности верят в неприступность города. Но генеральный штаб, собранный на чрезвычайный совет внутри крепости, далеко не так спокоен. Он-то отлично знает, что стены города в неважном состоянии; что даже форт Св. Георгия, продолговатое строение в сто метров ширины и четыреста длины, не особенно страшен; что окружающая его стена недостаточно толста и что его четыре батареи и четыре бастиона плохо построены и непрочны.
Штаб также знает, что гарнизон там самый жалкий. В нем всего триста человек, среди которых много бродяг, португальских перебежчиков и чернокожих. Офицерство состоит из трех лейтенантов и семи прапорщиков. На индийские же войска плохая надежда. Совет, собранный в темной зале, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, походит на сонмище немых. Разговаривает только грохот батареи, отвечающей совсем близко на пушки осаждающих. Он заглушает голоса, которые время от времени бросают незначительные фразы вроде:
— Какой выработать план обороны?.. Нужно бы узнать план атаки.
Председатель, губернатор Николай Морс, не обладает никакими военными способностями и не думает о себе много: это купец. Его единственная забота в политическом отношении — точно исполнять предписания высшей власти. И он повинуется им, вопреки всему, даже если непредвиденные обстоятельства делают прежние распоряжения безусловно гибельными. Так как, в данном случае, он не имел особых предписаний, то и удовольствовался качанием головы. Ах, если б это касалось торговой сделки или хотя бы переговоров с врагом: тогда он обнаружил бы свои способности! Но в деле войны он ничего не смыслит. Между тем ему приходит в голову мысль. Грохот пушек тянет его наружу; он встает и рукой приглашает собравшихся офицеров последовать за ним.
— Пойдем, посмотрим собственными глазами, — говорит он.
И вот они на залитой солнцем площадке одного бастиона, откуда открывается вид на море и на окрестности, насколько хватает глаз.
Три французских судна приблизились к насыпи, насколько позволяла вода. Один из прапорщиков называет их: «Лилия», «Нептун» и самый задний, который стреляет без перерыва, «Ахилл», прекрасный корабль, на котором семьдесят орудий и четыреста пятьдесят человек экипажа. С западной стороны, на берегу, заметно движение: то батарея из шести мортир, устроенная ночью, направляет довольно сильный огонь на ворота Сент-Онорэ.
— Эта батарея, нападая на нас, должна вместе с тем прикрывать наступление врага и помогать его движению, — сказал лейтенант Гаррис.
Стали обозревать даль в подзорные трубы. Увидели укрепленную пагоду; и между рощами действительно заметили двигающуюся колонну.
— Замысел ясен! — воскликнул уже говоривший лейтенант. — Они хотят обойти город, описав полукруг, потом переправиться через оба рукава реки и напасть на нас с противоположного берега. Это — действительно наше самое слабое место. Дом вашей милости в большой опасности: он находится на расстоянии полувыстрела от городских стен. Он должен быть мишенью для осаждающих. Они хотят овладеть им и укрепиться там. Между тем мы решили на военном совете разрушить Резиденцию Парка и уничтожить пороховой погреб. В самом деле, мы сделали большое упущение, не исполнив этого. Если враг овладеет этим местом, город не устоит.
— Разрушить мой дом! — пробормотал Морс.
— Нужно приготовить туземные войска к выступлению через Королевские Ворота, — объявил лейтенант, положительно самый ревностный из всего собрания.
Морс все еще толковал о переговорах; но выступление было решено и приказания разосланы. Проходили мучительные часы, отсчитываемые неприятельскими выстрелами. Нападающую колонну вели Бюсси и его новый друг, Кержан. Действительно, было отдано приказание овладеть губернаторским домом, стоящим вне стен, и построить в самом саду две батареи мортир, направив их на ту часть города, где не было орудий. Когда осажденные попытались выйти из Королевских Ворот, французы уже переправились через оба рукава реки Монторона. Они подвигались в полном порядке и, казалось, решили не останавливаться ни перед какими препятствиями. Тощие, с коричневой кожей сипаи старались преградить им дорогу. Довольно забавные в своем полу-английском наряде, они вызвали улыбку у французов, которые даже не замедлили шага, не торопясь стрелять, в ожидании неприятельского выстрела.
Но вот он раздался. Он был направлен робкой неверной рукой и потому никого не задел. Но едва последовал ответный залп, как ряды сипаев расстроились и отступили в беспорядке в город. Губернаторский дом был захвачен французами. Тотчас принялись работать киркой, разрывать весь сад, не обращая внимания на кусты жасмина. Красивые китайские утки, которые уже легли спать, быстро высунули головы из-под крыльев, стараясь дать себе отчет в происходившем. Но после долгого раздумья, не будучи в состоянии ничего объяснить себе, они с легкой дрожью снова засунули свои носы в мягкий пух и заснули.
На другой день, видя, что невозможно дольше держаться, губернатор Морс отправил посольство во французский лагерь. Главнокомандующий Магэ де ла Бурдоннэ принял его в своей палатке. Один из посланцев, Гэли-Бэртон, держал речь: он предложил выкупить город, но с тем, чтобы английское знамя не переставало развеваться над крепостью.
— Я не торгую честью города, — ответил ла Бурдоннэ несколько напыщенным тоном. — Флаг моего короля взовьется над Мадрасом, или я умру под его стенами! — Потом, переменив тон, он добродушно прибавил: — Что касается выкупа города и вообще всяких денежных вопросов, то вы будете довольны мною.
Он взял у одного из посланцев шляпу с золотым галуном.
— Эта шляпа стоит шесть рупий, — сказал он. — Вы дадите мне из них три или четыре. И так во всем.
Посланцы поклонились и вышли.
После полудня новые батареи открыли огонь и разгромили незащищенный угол стены, между тем как с рейда корабли давали залпы по крепости.
Приведенный в ужас город даже ночью не имел покоя. На следующий день у англичан была минута радости и надежды: распространилась молва, будто показалась эскадра под начальством командора Пейтона, которая только что так странно покинула их. Французы, услыхав эту весть, торопили осаду. Но слух не подтвердился: на всем пространстве не видно было ни одного паруса.
Наконец 21 сентября 1746 года город безусловно сдался. Губернатор Морс с печальным и важным видом торжественно вручил ла Бурдоннэ ключи.
Ворота Валрегэт отворились; подъемные мосты опустились; французы вступили в Мадрас. Часовых сменили. Вскоре белое знамя взвилось над фортом Св. Георгия; и оно везде заменило английское. Гарнизон и все британские жители были объявлены военнопленными. Они обязались выдать французам все товарные склады, счетные книги, арсеналы, корабли, все военные запасы, провиант, а также все поместья, принадлежавшие Компании, наконец, все золотые и серебряные вещи, товары и разные другие ценности, находящиеся в городе и форту. На этих условиях французский главнокомандующий только из любезности и великодушия освободил город от грабежа. Пушки умолкли. Бомбы перестали падать на улицах и площадях, только что пустынных, а теперь наполненных оживленной толпой, которая толковала о событиях.
Эта полная победа была одержана без особенного кровопролития: французам она стоила только одного человека; осажденные же, у которых было довольно много раненых, потеряли только пятерых. В то время как черное население радовалось безопасности, англичане сильно роптали. Некоторые громко говорили, что «губернатор Морс и члены совета будут повешены за небрежное отношение к средствам защиты и за то, что с постыдной поспешностью сдали крепость». Что ни час, то новые слухи и вести, подобно морской волне, проносились над побежденными. Ла Бурдоннэ тайно совещался с губернатором. Знали, что Морс привык к сделкам: может быть, он изобретет способ сколько-нибудь смягчить бедствие?
Кругом говорили, волновались. А французские солдаты и матросы, вытянувшись на своем посту, смотрели на эту чуждую им толпу и слушали непонятный говор со спокойным и равнодушным видом.
Глава II
МАРКИЗ ШАРЛЬ ДЕ БЮССИ
Маркизу де Бюсси было тогда двадцать пять лет. Это был дворянин знатного рода, но не имевший ничего, кроме славных предков. Он родился в старом, уже обветшалом замке в Бюсси, недалеко от Суассона. Его отец, Жозеф Патисье, маркиз де Бюсси-Кастельно, умер в 1724 году, оставив двух малолетних детей и молодую вдову. За неимением средств она была вынуждена прозябать в провинции. После долгих слез маркиза покорилась своей участи и, жертвуя молодостью, посвятила себя всю двум сыновьям. Благодаря ее заботам они получили достойное их звания воспитание, а скромная жизнь и бережливость позволили матери отправить старшего сына, Шарля, когда он подрос, в Париж, просить у короля службы в армии. Ответ на прошение заставил себя ждать; а когда он был получен с приказанием догнать в Иль-де-Франсе ла Бурдоннэ и следовать за ним в Индию, маленькое состояние юноши почти растаяло среди соблазнов Парижа.
Слово «Индия» всегда заключало в себе что-то магическое для молодого маркиза. Эта страна казалась ему загадочной землей, высшим творением, чудом природы, первобытным раем, из которого размножившееся человечество полилось через край, как из переполненной чаши. Он любил ее, как родину, еще не зная ее; и в этой любви, быть может, заключалось предчувствие, говорившее ему, что его судьба свершится там. Обладая любознательным, пылким умом, Шарль употребил долгие месяцы, когда море переносило его с волны на волну, на изучение языка индусов. Среди однообразия затишья и палящего зноя, среди завываний ветра и треска бури, он ревностно изучал чудовищные сказания о богах и упивался великолепием священных поэм. Но эта избранная страна ускользала от его желания; и трагические приключения его путешествия, казалось, явились для того, чтобы преградить ему дорогу, подобно чудовищам, защищающим доступ к сокровищу.
Наконец, вот уже несколько дней, как Бюсси попирает ногами священную почву Индии, а ему все еще казалось, что она уходит от него. В самом деле, что он видел до сих пор? Довольно жалкий европейский город, который англичане называли «индийским Лондоном», да британские мундиры и лица. Он слышал выстрелы пушек и наносил сабельные удары. Тем не менее Бюсси продолжал верить в свои мечты. Необычайный блеск неба и величественные звезды подтверждали ему, что они были не напрасны. Как только взяли город и кончились переговоры, обещавшие отдых победителям, Шарль поспешил взять отпуск на несколько дней: ведь он имел на него полное право после целого года опасного плавания. Получив его, он выехал на рассвете из Мадраса, торопясь в неведомое поле, как будто оно убегало от него. И как он был счастлив, что остался один и едет делать открытия!
Бюсси быстро миновал предместья Мадраса и пустил коня наудачу по прелестным светло-зеленым бархатным лужайкам, на которых темными пятнами выделялись купы кустарников, придававшие стране вид прекрасного парка.
Вид не менялся. Шарль пустил коня галопом. Освеженный ветерком, упоенный несравненной чистотой воздуха, он погрузился в какую-то лихорадочную дремоту: ему казалось, что мысли в его мозгу проносятся так же быстро, как кусты по правую и левую сторону его пути. Он мечтал о приключениях, необыкновенных встречах, о чудесных дворцах, о прекрасной женщине, которая бы воспылала любовью к нему, увлекая его в жизнь, полную упоений и опасностей. Ему мерещились ужасные сражения, приступы, разграбленные гаремы. Минуту спустя, он думал о Нур-Джигане, знаменитой султанше, «Светиле Мира», с историей которой был знаком. Он старался представить себе эту несравненную красавицу, воспоминание о которой еще не померкло. Он любил ее через века.
Бюсси все ехал, рассекая горячий, душистый воздух. Но лошадь устала, пошла тише. Молодой человек, как бы очнувшись, посмотрел вокруг себя. Местность изменилась. На горизонте синели холмы и леса, и невдалеке возвышались огромные деревья, прямые, как мачты, голые, без листвы; только верхушки их были украшены роскошным зонтиком. Бюсси направился к великанам, которые так поразили его. У их подножия было расположено несколько хижин. Показались черные люди с лоскутком материи вокруг бедер. У котла, под которым горели три сухих полена, сидела на корточках старуха. Она с веселым любопытством рассматривала остановившегося юношу. Улыбка озаряла ее черное лицо.
— Победа молодому прохожему чужестранцу! — сказала она.
В первый раз в ушах маркиза Бюсси прозвучал индийский язык. Сердце его забилось от радости, что он понял его.
— Не скажешь ли ты мне, женщина, далеко ли до того леса, который я там вижу? — спросил он с некоторой застенчивостью, немного подыскивая слова.
— По пылу твоей лошади довольно получаса, чтобы доехать до него. Но не езди в этот лес: сегодня там охотятся могущественные раджи.
Он с улыбкой поклонился старухе и уехал по направлению к лесу, который тянулся на горизонте. Если б ему удалось встретить охоту, увидеть раджей! Он поскакал быстрее, скоро достиг леса и с наслаждением углубился в его прохладную, освежающую тень. Он поехал наугад, между рядами деревьев проложенной дороги не было. Цветущий, густой мох заглушал шаги лошади. А конь выказывал беспокойство в этом незнакомом месте: он поводил ушами, втягивал насыщенный подозрительными испарениями воздух и нехотя подвигался вперед.
Но его хозяин не обращал никакого внимания на эти неодобрительные признаки: он был очарован необыкновенным величием этого уединения, где звуки, раздававшиеся среди тишины, казались какой-то смутной музыкой. Несколько времени спустя дорога стала хуже: земля была усеяна колючками, странными растениями с остроконечными листьями; тут же переплетались лианы. Бюсси сошел с лошади и, обернув уздечку вокруг руки, осторожно подвигался вперед. Он долго шел; наконец достиг неглубокой лощины, по которой протекал ручей, как вдруг конь дернул за узду и остановился как вкопанный, выказывая все признаки страшного испуга.
Молодой человек посмотрел вокруг себя: ничто не оправдывало ужаса животного. Он нагнулся надо рвом и в свою очередь замер так же, как и лошадь. Внизу, по ту сторону рва, у входа в логовище он увидел тигрицу с детенышами. Она спокойно валялась на спине в высокой траве, играя с тигрятами. Можно было видеть атласную белизну ее груди и живота, ее мягкие, розовые, налитые молоком сосцы и подошвы ее ужасных лап, снабженные волосатыми подушками. Она тщательно прятала свои острые, изогнутые, как палаш, когти в их ножны. С полузакрытыми глазами, прижимая уши, она открывала свою ужасную пасть, эту розовую пропасть, снабженную острыми зубами; и можно было рассмотреть даже впадинки на ее шероховатом языке. Маркиз стоял, как околдованный, затаив дыхание, и бессознательно искал за поясом пистолет.
Так вот его первое приключение! Вместо прекрасной принцессы, о которой он так часто мечтал, пред ним явилась царица джунглей, великолепная и страшная. Встреча могла быть смертельной, а может быть — как знать! — и менее опасной, чем та, которой он так желал. Несмотря на опасность, молодой человек не мог не восхищаться дикой красотой и изворотливостью животного. Детки весело резвились; один из них кусал тигрицу за живот, и она томно запрокинула голову в его сторону. Пробиваясь сквозь листву, солнце играло на рыжих полосах ее шкуры, переливалось на белом брюхе, бросало серебристый отблеск на ее жесткие усы. Бюсси еще думал о рае, о кротких, ручных тигрицах: созерцание этой сцены, полной материнской ласки, привело его в умиление.
Масса насекомых, блестящих, как драгоценные камни, жужжа, прорезывали воздух.
Вдруг раздался выстрел и прожужжала пуля. Тигрица вскочила на ноги и, испуская хриплое рычанье, одним прыжком скрылась из виду. Молодой человек видел в полосе солнечного луча спину и налитые кровью глаза; затем все исчезло. Детеныши спрятались в логовище с жалобным мяуканьем. Тигрица была ранена; капли крови орошали тростник на пути ее бегства. Бюсси ощупал пистолеты, чтобы убедиться, что это не он стрелял. В ту же минуту человеческий крик, раздавшийся совсем близко, заставил его вздрогнуть. Он бросился вперед, перепрыгивая через препятствия, продираясь через низкий кустарник. Через несколько шагов он очутился перед ужасным зрелищем, которое тотчас вернуло ему хладнокровие и быстрое соображение солдата, стоящего лицом к лицу с опасностью.
Перед ним с безумными глазами и растрепанной гривой стояла на дыбах белая лошадь; в горло ее вцепилась тигрица. А на лошади, едва держась, сидела женщина, вся увешанная золотыми украшениями. Бюсси на ходу выхватил шпагу. Еще прыжок — и метким, верным движением он погружает оружие по рукоять между лопатками тигрицы. Смертельно раненное животное запрокинулось назад, изогнув свою гибкую спину; но у него еще хватило сил достать молодого человека и разорвать ему плечо ударом лапы. Несмотря на ужасную боль, Бюсси успел подхватить женщину, которую только что спас; смертельно раненная лошадь чуть не задавила ее при своем падении. Потом у победителя зашумело в ушах, по лицу и по членам пробежала дрожь, и он свалился без чувств на траву, сжимая незнакомку в своих нервных объятиях.
Прошло много часов, прежде чем Шарль очнулся. Но его сознание было смутно: его била сильная лихорадка. За обмороком последовала сонливость. Он еще не открывал глаз, и из тумана, окутывавшего его мысль, выступила лучезарная женщина, которую он едва видел, но образ которой врезался в его память, как оттиск печати на горячем сургуче. Тогда Бюсси вспомнил свое приключение; и оно показалось ему до того романтическим, что он принял его за создание своего воображения. В полудреме он продолжал произвольно развивать события. Герой видел себя бледным, раненым, быть может, умирающим на глазах у той, которую он только что спас. Он представлял себе ужас незнакомки, такой красавицы, какой ему не приходилось видеть.
Он представлял себе ее горе, ее волнение при виде бездыханного юноши, жизнь которого уходила у ее ног красными волнами. Она с отчаянием звала свиту, от которой так неблагоразумно ускакала вперед. Он видел, с какими предосторожностями переносили раненого. Потом, по прибытии во дворец (это была, конечно, принцесса), с какой поспешностью она звала брамина, привычного в искусстве лечения! Ему сделали перевязку, а она, с замирающим от тоски сердцем, ждала, чтобы тот, кто ради ее спасения, может быть, умрет, издал слабый вздох и пришел в себя. Без сомнения, она здесь в зале с прекрасным, сводчатым потолком из порфира и золота; она стоит на коленях среди подушек и подстерегает его возвращение к жизни. Ему стоит только открыть глаза — и он увидит ее.
И он их открыл. Он увидел что-то вроде сарая, слабо освещенного дымным факелом. Этот мрак был для него тяжелым ударом после его светлых мечтаний. Он с трудом поднял отяжелевшую голову, чтобы немного лучше рассмотреть окружающее. На галерее, куда выходили двери сарая, открывая перед ним звездное небо, подобно занавесу, он заметил двух людей. Сидя на корточках, они занимались едой. Он был удивлен, что эти существа как будто чуждаются друг друга и избегают встречаться взглядами. Оба они сидели на разных концах галереи, спиной друг к другу, прижимая к груди чашку, из которой ели как бы украдкой. Но то, что он видел, так мало занимало его, что он не делал никакого усилия, чтобы понять явление, и снова со вздохом уронил голову на подушку.
Тотчас один из людей бросил свою чашку, поднялся и тихими шагами приблизился к Шарлю. Увидя его с открытыми глазами, он сказал одно слово своему товарищу, который встал и бегом бросился вон. Бюсси с некоторым беспокойством смотрел на человека, стоявшего перед ним. Нагой, даже без лоскутка вокруг бедер, страшно худой, с высохшей кожей, темной, как дубовое дерево, с длинными ляжками и острыми локтями, индус имел странное сходство с огромной саранчой. Между тем он был молод. В его исхудалых чертах, в его растрепанных волосах выражалась такая покорность и такая печаль, словно над ним тяготело какое-то непоправимое несчастье. Глаза, слишком большие для этого худого лица, светились умом. Индус молчал и, казалось, ждал, когда заговорит раненый; но маркиз продолжал безмолвно рассматривать его. Тогда человек быстро обернул правую руку белым полотенцем, открыл стоявший на земле сундук и вынул оттуда серебряный кубок.
— Господин! — сказал он. — Соблаговолишь ли ты выпить этот напиток?
Но прежде чем начал говорить, он поднес ко рту дощечку, привязанную на веревочке у пояса, так что образовалось нечто вроде заслона между молодым человеком и якобы отравленным дыханием индуса. Мысль о питье объяснила раненому причину его страданий, которой он не мог понять: то была страшная жажда.
— Да, да! — сказал он.
Человек, у которого виднелись только глаза из-за грязной дощечки, протянул ему издали кубок.
— Помоги же мне! — воскликнул Бюсси, которому трудно было подняться.
Тогда глаза, смотревшие на него, приняли необыкновенное выражение: в них как будто пронесся вихрь, в котором радость смешивалась с удивлением и ужасом. Но то была только искра, которую погасила тупая покорность. Человек бросился поддерживать раненого с нежностью кормилицы. Тем не менее, пока последний пил, он отвернул от него голову, насколько мог, и даже закрыл глаза. Этот напиток показался Шарлю божественной амброзией. То была смесь снега, меда и сока незнакомых плодов, — душистое прохладительное питье, которое облегчило изжогу в горле. Глотнув его, раненый со вздохом облегчения опустился на подушки.
Бюсси хотел расспросить это странное существо, поведение которого в высшей степени удивляло его, как вдруг оно распростерлось на земле. Вошли два новых лица: один большой, полный величия, с проседью, в белой одежде, стянутой у пояса серебряным шнурком; другой бледный, с чалмой на голове, с густыми черными усами, одетый в богатую пару, затканную узорами, в которых преобладал зеленый цвет. Первый был брамин, второй — могольский доктор. Оба подошли к раненому. Брамин сел у него в ногах, на кучу ковров и подушек, из которых была сделана постель; а доктор развязывал рану.
— Попробуй поднять руку, — сказал последний.
Бюсси повиновался; но рука снова тяжело упала.
— Пошевели пальцами. Да, мускулы помяты, но не разорваны, — заметил доктор, обращаясь к своему спутнику. — К счастью, шитье мундира смягчило удар лапы и остановило когти, которые иначе могли бы проникнуть в сердце.
— Значит, рана неопасна? — спросил брамин.
— Я надеюсь, что через несколько дней все пройдет, благодаря этому бальзаму, который обладает чудесным свойством; останется разве некоторая неловкость в движениях.
Он взболтал пузырек с зеленой жидкостью, которой смочил бинты.
— Может он говорить?
— Может. Приступ лихорадки начнется позже, если мне не удастся совсем ее пресечь.
Маркиз с живым любопытством следил за этим разговором; взор его переходил с одной личности на другую. Лицо брамина ему очень нравилось: оно выражало высокое благородство и большой ум.
— Я готов говорить, сколько вам будет угодно! — воскликнул он, улыбаясь. — Ведь мне кажется, что я молчу уж Бог знает сколько времени.
— Где ты научился нашему языку, сын мой? — спросил брамин.
— Главным образом в открытом море, отец мой, во время переезда, который длился более года. Я работал без учителя: ты это должен заметить по моему отвратительному выговору. Сегодня я в первый раз наслаждаюсь музыкой этого языка.
— Почему тебе так захотелось узнать язык индусов?
— Чтобы лучше служить моему королю, который посылает меня в их страну защитить нашу торговлю от заносчивых англичан.
Брамин опустил голову, как бы для того, чтобы собраться с мыслями; потом быстро поднял блестящий взор на молодого человека, которому эти расспросы начинали надоедать.
— Имеют ли в твоей, как говорят, варварской стране понятие о кастах?
Бюсси не мог удержаться от насмешливой улыбки.
— Моя страна не такая варварская, как вы думаете, — ответил он. — И наше благородство, по крайней мере, равняется вашему.
— Так скажи мне, к какой ты принадлежишь касте, сын мой? — спросил брамин с кротким величием.
Раненый приподнялся на правой руке и гордо ответил, уже с оттенком гнева:
— Я маркиз во Франции, что соответствует, если уж вы так желаете это знать, вашей касте кшатриев. Но мне кажется, я уже достаточно ответил вам на ваши вопросы; теперь ваша очередь отвечать на мои. Прежде всего, где я? Затем, скоро ли увижу женщину, которую я имел счастье спасти? Не ранена ли она? Кто она, и как ее зовут?
Брамин переглянулся с доктором, который приготовлял питье, пока молодой человек говорил. Несколько минут длилось молчание.
Наконец брамин сказал:
— Я не могу исполнить твоего желания и ответить на твои вопросы. Я не имею на это права; но я могу уверить тебя, что ты здесь в безопасности и что тотчас по выздоровлении можешь идти, куда тебе вздумается.
— Где моя шпага? — воскликнул Бюсси, который спохватился, что он безоружен и находится во власти незнакомцев.
— Гость, кто бы он ни был, священен для индуса, — сказал брамин, — с оружием он или без оружия. Тебе нечего нас бояться.
— Твоя шпага, бесстрашный юноша, осталась в теле тигрицы, — сказал доктор. — Может быть, ее вытащили, уже зазубренную, и оружейный мастер исправляет ее. Если же она испорчена, тебе остается только радоваться, так как ты получишь еще лучшую.
Раненый хотел было ответить, но доктор не дал ему, поднеся напиток.
— Выпей это, чтобы избежать лихорадки, если это возможно, и постарайся заснуть. Если ты проведешь ночь спокойно, завтра я позволю тебе кушать. Раджа Ругунат-Дат! — прибавил он, обращаясь к своему спутнику. — Я готов следовать за тобой.
— Мир тебе, сын мой, — сказал брамин.
И оба незнакомца величаво удалились.
Бюсси, слегка приподнявшись, проводил их глазами. Он видел, как они с отвращением посмотрели на существа, которые он принял за слуг и которые лежали распростертыми на земле. Потом, переглянувшись и пожав плечами — в знак чего, он не мог понять — они исчезли за углом галереи.
Молодой маркиз, сам не зная почему, чувствовал смутную досаду, разочарование и беспокойство. Он искал глазами странного худощавого человека; он хотел расспросить его и узнать от него то, чего ему не хотели сказать. Бюсси увидел, что тот ползет по земле, целуя с необыкновенным жаром следы брамина.
— Господи, что он, сумасшедший? — спрашивал себя маркиз, видя, что индус пришел в какое-то исступление и бормочет непонятные слова.
Но существо поднялось и снова приняло спокойный вид.
— Подойди поближе! — сказал тогда Бюсси. — Поболтаем немножко.
Человек снова выразил изумление, потом устремил на раненого взгляд, в котором выражалась глубокая грусть.
— Господин! — сказал он, поднося к губам дощечку. — Я слышал, что ты сейчас сказал. Ты кшатрий в своей стране, а я — хуже дорожной грязи. Ты не можешь, не осквернив себя навсегда, спуститься до того, чтобы заметить мое существование.
— Разве ты совершил какие-нибудь ужасные преступления? Прокаженный ты, что ли? — с некоторым беспокойством спросил Бюсси.
— Я не тронул ни одной самой крошечной мошки. Мое тело здорово и совесть моя чиста. Но для меня, как и для всех подобных мне, нет места на земле. Нас проклинают и отвергают с нашим первым криком: мы — пугала на этом свете.
— Ты пария? — спросил с состраданием Бюсси.
— Пария! — повторил человек, опустив голову. После минутного молчания молодой человек сказал:
— В моей стране, конечно, существует огромная разница между благородным и простолюдином; но если последний честный и умный, если он верно служит нам, он такой же человек, как и всякий другой, и заслуживает уважения и любви. Ваши индийские предрассудки не существуют для меня. Поэтому будь покоен; и если твое дыхание не вредно, оставь эту дощечку, которая раздражает меня, и отвечай прямо на мои вопросы.
— Ах, господин мой! — воскликнул пария, падая на колени. — Неужели ты можешь обращаться ко мне с такими речами, зная, кто я? Они для меня точно свежий источник для окаянного. Ах, за то, что ты их произнес, если даже ты и отречешься от них потом, делай со мной, что хочешь. И если моя жалкая жизнь может тебе пригодиться, возьми ее, я тебя благословлю!
— Мне не нужно так много, — сказал Бюсси, тронутый безумной радостью, которую вызвали у этого человека его слова. И он мягко прибавил:
— Как тебя зовут?
— Подобные мне называют меня Наиком. Для других у меня нет имени.
— Итак, Наик, скажи мне, где я?
Пария с беспокойством оглянулся вокруг. Он увидел, что его товарищ, бесшумно вернувшийся после ухода брамина и доктора, спал, растянувшись в углу. Тогда он тихо ответил.
— Ты, господин, находишься в ограде дворца бангалорской[3] царицы.
— Бангалорской царицы? Так это ей я имел счастье оказать помощь сегодня? — живо спросил Бюсси.
— Я ничего не знаю.
— Не охотилась ли она?
— Это возможно.
— Скажи же, скажи мне, что ты знаешь о ней?
Бюсси жадно склонился к парии, продолжавшему стоять на коленях.
— От нее до меня может дойти очень немного, — сказал Наик. — Тем не менее дождь падает и для последнего насекомого: и мне удалось уловить несколько капель ее славы. Говорят, что она храбра, как воин, и образованна, как брамин. Ее отец и оба брата были убиты в сражении против одного маратского вождя; она — единственная дочь и наследница отца. Но корона, конечно, тяготит ее, и она помолвлена с одним могольским принцем.
— Помолвлена?
У Бюсси сжалось сердце и он впал в раздумье. Минуту спустя Наик продолжал:
— Если ты ее спас, господин, если ты ради нее рисковал жизнью, то каким образом ты находишься здесь, в невольничьем квартале? Это убежище — заброшенное гумно.
— Отчего же это? — воскликнул Бюсси. — Разве так обращаются с гостем?
— Нет, совсем нет, если бы это даже был смертельный враг. Сюда поспешно принесли подушки, чтобы сделать эту постель. Для услуг твоих позвали двух презренных парий, исполняющих самые нечистые работы, которыми гнушаются даже низшие касты. Тем не менее сюда пришел брамин, божественный Ругунат-Дат, знаменитый из знаменитейших, и доктор, который тебя лечит, один из ученых при дворе. Мой слабый ум тщетно старается понять, что все это значит?
— Царица, конечно, не знает, как со мной обращаются. Пойдем же, уйдем отсюда: постараемся добраться до нее и расскажем обо всем, что здесь происходит.
— Дойти до царицы! — воскликнул с ужасом Наик. — Но нас разорвут на части, прежде чем мы увидим ее.
— Ну, ну, так попробуем проскользнуть незаметно; может быть, нам удастся хоть издали увидеть ее, когда она будет проходить по веранде, чтоб подышать свежим воздухом. Одного взгляда достаточно для меня, чтобы узнать ту, которую я спас, будь это царица или нет.
— Господин! Господин! Твоя рана!.. — вскричал Наик, задрожав от страха при виде, как Бюсси вскочил с постели.
— Ах! Ты не понимаешь, что я испытываю, — сказал молодой человек. — Я больше не могу оставаться здесь; мне кажется, что я лежу на одре из горячих угольев. Да ты сам-то видел ли когда царицу?
— Один раз, господин. Это было в лесу. Я бросился в кустарник, и мимо меня проехала царская охота.
— И ты ее видел?
— Увы, господин! Ты слишком много думаешь о ней. Это — смерть в образе молодой девушки. У нее огромные глаза, которые мечут молнии.
— Помоги мне одеться, Наик! — сказал маркиз. — И, если ты действительно хочешь доказать мне свою преданность, проводи меня к тому месту, где она живет.
— Я слышал, как брамин сказал сейчас, что царица покинула дворец, чтобы совершить святое паломничество.
— Покинула! — пробормотал Бюсси.
И, ослабев, он дал довести себя до постели, на которую упал, разочарованный, и погрузился в мрачное молчание.
Глава III
ЦЕНА КРОВИ
Бюсси еще не совсем оправился, но рана уже не представляла больше опасности; и он не хотел дольше оставаться в незнакомом месте, где чувствовал, что его окружает вражда. Брамин Ругунат-Дат больше не приходил, Бюсси видел только могольского доктора, который почти безмолвно ухаживал за ним.
Так как царица покинула дворец, то ничто не удерживало больше маркиза. К тому же его отпуск кончился уже много дней тому назад; и он стал скучать по службе. Итак, несмотря на сильную слабость, он объявил о своем намерении уехать на рассвете, до жары.
В ожидании наступления утра, он прилег, совсем одетый, на подушки. Наик стоял на коленях у его постели, подперев руками подбородок, и молча бодрствовал.
— Итак, Наик, нам пригодится расстаться? — сказал маркиз, открывая глаза.
— Ненадолго, господин, — ответил Наик. — Скоро ты снова увидишь меня, как собаку, слишком преданную для того, чтобы ее можно было потерять. Ничто больше не может оторвать меня от тебя.
— Как странно! Разве ты никого не любишь? Разве у тебя нет ни жены, ни родителей? Значит, на тебя обрушились все несчастья?
Наик покачал головой:
— Самое большое несчастье для человека, обреченного на отверженную жизнь, это — сознание этой жизни, — сказал он. — Чтобы страдать от позора, нужно понять его; и самый слабый луч знания, который освещает мрак нашей жизни, есть самое большое несчастье для нас. Увы! Эта роковая искра загорелась во мне. В то время, как подобные мне попрятались в своем унижении, я поднялся и плакал.
— То, что ты мне говоришь, до крайности трогает меня! — воскликнул Бюсси. — С тех пор, как я тебя знаю, ты кажешься мне удивительным существом. Ты говоришь, что ты самое низкое и презренное создание, а я нахожу в тебе только нежные и возвышенные чувства. Тебе суждено жить в невежестве, а ты выражаешься с каким-то изяществом и даже с поэзией. И, не отрицай, я застал тебя за чтением книги. Что это значит? Разве ты меня обманываешь?
— Я валувер, господин.
— Валувер! Что это такое?
— Валуверы — это ученые нашей касты. Их называют также в насмешку браминами парий. Это — правители и наставники несчастных, которые не заслуживают даже названия человека. Но чаще всего они только увеличивают их бедствия и притесняют их, отнимая и то немногое, что они имеют, чтобы жить на их счет в пьянстве и праздности. Несмотря на это, среди них встречаются и добрые, имеющие некоторое подобие образования. У одного из них я научился тому немногому, что знаю. Умирая, он указал на меня, как на своего заместителя, и завещал мне свое единственное имущество, книгу, которая составляет все мое богатство.
— Ту, которую ты читал? — спросил Бюсси.
— Да, господин. Эта книга — мой отец и моя мать; это — моя возлюбленная, моя родина. Она же научила меня страдать.
— Что же это за книга?
— Это — сочинение одного пария. Но этот пария, единственно в силу своего ума, поднялся на такую высоту, что даже те, которые нас так жестоко ненавидят, прозвали его «божественный пария». Но я боюсь утомить тебя, господин, — прибавил Наик.
— Нет, нет, ты говоришь очень хорошо, а я люблю поучиться. Кто был этот пария?
— Валувер. Он удалился со своей сестрой в глубь леса, недалеко от города Мадуры. Они питались дикими плодами и кореньями. Он с таким жаром отдался учению, что ничто не могло отвлечь его. В то время коллегия Мадуры славилась во всем Индостане. Это было страшное святилище, которое принимало в свои недра только избранных студентов. По существу, все касты без исключения имели туда доступ, но ни у одного пария не возникло безумного желания переступить священный порог. «Божественный» Тиру-Валувер однако думал об этом. Испуганная сестра не могла убедить его оставить эту мысль, но заставила его отложить ее осуществление. «Поучись еще, — говорила она, — ведь к тебе будут вдвое строже». Тем не менее он решился. Однажды утром он вышел из лесу, где жил, достиг Мадуры и уверенным шагом углубился под своды храма науки. Экзаменаторы приняли его холодно и строго спросили его, откуда он и кто он такой? «Я пария, — ответил он, — но боги одарили меня умом, который поставил меня наряду с его лучшими созданиями. Я не могу жить как пленник, в оковах предрассудков, сдерживающих ум человека, чтобы унизить и поработить его; я сознаю свое достоинство и чувствую, что имею право занять место среди ученых и мудрецов». Его допустили к экзаменам. Но, желая исключить из своего сословия пария, экзаменаторы подвергли его самому мелочному испытанию в течение сорока дней. Он был неуязвим. Пария не только отвечал на все вопросы, но даже осветил их с разных сторон и открывал новые точки зрения. Судьи были поражены, что им приходится слушать с любопытством, смешанным с восхищением. Экзамен был для них поучением; и они в конце концов признали, что новоприбывший превосходит их в знании. Пария был единодушно принят и, год спустя, стал честью сословия, к которому он принадлежал. Его удостоили звания президента, которое он сохранил за собой до конца жизни. Вот, господин, история парии Тиру-Валувера. Его книга нравственных поучений, которую я постоянно перечитываю, сделала из меня человека; но в то же время она открыла мне вполне мое жалкое положение.
— Подумай лучше, Наик, о примере, который он тебе подает, как о способе выйти из этого жалкого состояния.
— Я не обладаю его гением, господин; и до сих пор никогда даже самая слабая надежда не озаряла моего печального существования. Но теперь я больше не несчастен: благодаря тебе, я могу прервать безмолвие, в котором умирал мой ум; счастливая встреча с тобой спасает меня.
— Ну, так я рад, что выручил тебя, сам того не подозревая! — сказал Бюсси. — Но, заговорившись с тобой, я совсем забыл о времени: вот уже наступает день и приглашает нас в путь.
Наик выбежал и доложил маркизу, что ведут его лошадь, совсем оседланную.
— Так отправимся! — сказал молодой человек, поднимаясь. — Положим конец этому гостеприимству, столь странному, что мне даже не с кем проститься, уезжая.
Пария прицепил Бюсси шпагу, которую ему возвратили накануне, заткнул ему за пояс пистолеты и поправил шарф, который поддерживал еще слабую раненую руку.
Бюсси подошел к лошади, которую паж держал под уздцы. Но в ту минуту, как он собрался вскочить в седло, он с удивлением увидел, что за лошадью следует целый караван навьюченных верблюдов. Каждого из них вел раб; а во главе каравана шел человек простого вида и плотного сложения, с ларцом в руках.
— Что это такое? — воскликнул Бюсси.
— Подарки от царицы, — ответил новоприбывший. — Верблюды нагружены дорогими тканями, оружием и драгоценностями. Верблюды и рабы также принадлежат тебе; но это — драгоценнее всего.
В то же время он поднял крышку ларца, в котором заблестели драгоценные камни.
— Однако, — продолжал он, — если тебе кажется, что это — недостаточная плата, ты можешь сам назначить…
Но он не успел кончить, как Бюсси, красный от гнева, бросился к нему и схватил его за горло.
— Плата! Ты осмелился произнести подобное оскорбление! — воскликнул он. — Но это будет твоим последним словом: ты заплатишь за него жизнью!
При виде смешной физиономии несчастного индуса, выражавшей ужас и мольбу, маркиз повел плечами и сильным движением швырнул беднягу так, что тот покатился на несколько шагов среди разбросанных драгоценностей.
— Ты не прав, сын мой, наказывая слугу, который был только покорным орудием, — произнес голос.
Бюсси оглянулся и увидел брамина Ругуната-Дата, который прокладывал себе дорогу среди толпы верблюдов и испуганных рабов.
— Черт возьми! Я очень рад вас видеть, отец мой! — сказал Бюсси голосом, дрожавшим от гнева. — Вы, который, ничего не зная, считаете мою страну варварской, может быть, объясните мне, почему в вашей стране благодарят за услугу оскорблениями и, провожая гостя, расплачиваются с ним, как с лакеем?
— Во всем этом скрывается тайна, которую я не уполномочен открыть тебе, — сказал Ругунат-Дат. — Но в подарках нет ничего оскорбительного; у нас в обычае принимать щедроты царей.
— В нашей стране от женщины ничего не берут, — возразил гордо Бюсси. — Знайте же, что шпага французского дворянина принадлежит всем слабым; и он был бы обесчещен, если бы не помог им в опасности. Ваша царица ошибается, если думает, что должна мне что-нибудь. Вы можете ей это передать.
Поднялся ропот среди рабов и подошедшей стражи, потому что они никогда не слыхали, чтобы кто-нибудь говорил таким презрительным тоном со священной особой брамина. Но Ругунат-Дат жестом прекратил волнение. Между тем Бюсси вскочил в седло и, не оглядываясь, быстро удалился.
Глава IV
ГОСПОДИН ДЕ ЛА БУРДОННЭ
Кержан вскрикнул от радости, увидя маркиза де Бюсси, возвратившегося в Мадрас.
— Как я о вас беспокоился! — воскликнул он. — Я терялся в догадках относительно вашего продолжительного отсутствия. Но, слава Богу, вы живы; и мне не приходится оплакивать моего нового друга.
Бюсси с чувством протянул руку Кержану.
— Однако вы были в опасности, — сказал последний, заметив руку на перевязи и бледность молодого офицера.
Маркиз рассказал ему о своих приключениях; и Кержан приходил в изумление, следя за рассказом с лихорадочным вниманием.
— Если б я слышал этот рассказ не из собственных ваших уст, — сказал он, когда Бюсси замолчал, — я счел бы его за вымысел: так это приключение походит на роман.
— На роман, слишком скоро кончившийся, — сказал Бюсси со вздохом. — Теперь же, скажите мне, что здесь творится?
— Ах, друг мой, черт его знает! Что касается меня, то я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть: до того я боюсь понять происходящее.
— Вы пугаете меня! Разве наша победа ускользнула от нас?
— Не совсем так; но то, что я предвидел, увы! совершается. Гордость и, я сильно боюсь, что еще что-нибудь худшее, низвергает с пьедестала героя, который привел нас.
— Командира?
— Пойдемте! Я расскажу вам все.
Кержан увлек своего товарища к одному из городских домов, где он жил.
— Я позволил себе, дорогой Бюсси, — говорил он ему дорогой, — распорядиться перенести ваши вещи в это жилище, которое мне отвели на время нашего пребывания здесь. Я рассчитывал поселиться в нем с вами. Если вам такой план не нравится, простите мне, пожалуйста.
— Я вам очень обязан: вы меня смущаете своей заботливостью, которую я так мало заслужил.
Выстроенный по-европейски дом, к которому направлялся Кержан, находился на Казенной площади, почти напротив дворца Николая Морса; в последнем расположился французский командир со своим генеральным штабом.
Когда оба молодых человека удобно уселись в одной из комнат, с прохладительными напитками, и когда «панка», большой веер, привязанный к потолку и приводимый в движение негром, находившимся в соседней комнате, стал освежать воздух, чтобы умерить невыносимую жару, Кержан начал рассказывать:
— Как вам известно, город капитулировал и наша победа была полной. Мой дядя, Дюплэ, поздравляя военачальника с успехом, посоветовал ему главным образом спасти крепость и употребить все средства, чтобы разрушить торговые заведения наших противников. Но адмирал не любит слушаться советов; и вот, после многих тайных совещаний его с губернатором Морсом и английским генеральным штабом, стал распространяться слух о подписании договора насчет капитуляции и выкупа.
— Возможно ли это!
— Это верно. Верховный совет Пондишери, на котором председательствует мой дядя, в качестве губернатора Индии, выставил адмиралу всевозможные доводы, чтоб убедить его, что этот столь пагубный договор о выкупе ничего не стоит, если даже будут выполнены все его обязательства, так как он заключен с военнопленными; и что в таком случае ни одно обязательство не может быть выполнено.
— Это очевидно.
— Это очевидно для всех, кроме г-на де ла Бурдоннэ, так как он остался глух ко всем советам. Для меня ясно, что он получил от англичан миллион, с условием возвратить город за цену призрачного выкупа и что этот миллион уже в верных руках.
Бюсси встал, бледный и дрожащий от негодования.
— Ах, сударь! Возьмите назад ваши слова! Не обвиняйте в такой низости француза, подобного героя, или я буду считать себя оскорбленным вместе с ним.
— Я еще больше люблю вас за ваш великолепный гнев, — сказал невозмутимо Кержан. — Но я ни слова не могу взять назад, потому что говорю не на ветер. Наш герой — корсар, вот и все.
— Но, в конце концов, какие же у вас доказательства?
— Слушайте! — сказал Кержан, глотая замороженный щербет. — Четыре самых богатых банкира из армян были арестованы как заложники; вдруг их отпустили. Англичане говорят открыто, что «их послали за маленьким подарком для генерала».
— Англичане выдумали эту клевету.
— Я знаю еще лучше, или, пожалуй, хуже, — сказал Кержан.
— Так как мой кошелек был почти пуст, — что часто с ним случается, — а меня обуревали тысячи желаний, которые мне хотелось удовлетворить, то мне пришло в голову пойти к одному еврею в Мадрасе, о котором я слышал, и заключить через его посредство один из тех несчастных займов, которые разоряют семейства. К счастью для меня, еврей был в очень дурном расположении духа и вовсе не намерен был открывать мне своей мошны. Мне ужасно было досадно на эту неудачу; но я ничего не мог добиться от жида, кроме признания, что был сделан налог в сто тысяч пагод, чтобы заплатить французскому генералу за его снисхождение, и что на его долю пришлась огромная сумма в семь тысяч пагод — вопиющая несправедливость, которую никогда не осмелились бы совершить, если бы он был христианин или хотя бы армянин. Теперь, мой друг, хотите верьте мне, хотите нет. Если события не убедят вас, вы можете поддерживать обвинение в клевете; и я готов дать вам удовлетворение.
— Простите, — сказал Бюсси, протягивая руку молодому офицеру. — Но это был удар в сердце; я был поражен этим ужасным открытием.
Кержан крепко пожал руку своего товарища.
— Повторяю, — сказал он. — Ваше негодование увеличивает мое уважение к вам.
— Может быть, еще не все потеряно? — сказал Бюсси после долгого молчания. — Опьянение внезапным богатством, конечно, вскружило голову командиру, но он возвратится к своему долгу и образумится.
— Пора бы ему образумиться! Ведь его эскадре угрожает большая опасность на рейде Мадраса в данную минуту: скоро наступит муссон, этот период ужасных бурь, который бывает у нас ежегодно; если адмирал не уберет свои корабли, они погибнут.
— Это правда, — сказал Бюсси. — Они уже давно должны были уйти.
— Это еще не все, — заметил Кержан, — Карнатикский набоб, свирепый Аллах-Верди, приказавший убить своего питомца, чтобы занять его место, скалит зубы на губернатора французской Компании и спрашивает, по какому праву он берет Мадрас? Мой дядя отвечал, что берет его, чтобы отдать ему, собираясь отдать его, разумеется, в том виде, в каком ему будет угодно, т. е. совершенно разрушенным. Но так как он присоединил к своему ответу много редких птиц и персидских кошек с голубыми глазами, то набоб временно успокоился. Однако, если город не будет возвращен в назначенное время, он снова разгневается и может броситься на нас со своей армией, как снег на голову.
Шум торопливых шагов на лестнице прервал беседу двух молодых людей. Вошел негр, в сопровождении ливрейного лакея, который передал Кержану письмо.
— А, это от моей кузины, г-жи Барнваль, — сказал он, поспешно ломая печать. Он громко прочел записку:
«Приходите скорее, мой дорогой кузен: сейчас явилась депутация из Пондишери. Ее прислал Дюплэ и верховный совет».
— В дорогу! — вскричал молодой офицер, надевая шпагу. — Битва начинается. Пойдемте и вы, Бюсси: приглашение касается также и вас.
— Кто это г-жа Барнваль? — спросил последний, следуя за своим товарищем.
— Падчерица моего дяди Дюплэ. Она вышла замуж за английского коммерсанта и живет в Мадрасе. Это очаровательная женщина, истая француженка душой.
Когда они вошли в залу, где собравшиеся депутаты вели оживленную беседу, г-жа Барнваль бросилась навстречу к Кержану.
— Идите скорее, кузен! — сказала она ему тоном, в котором проглядывало сильное беспокойство, несмотря на ее веселый вид. — Мне нужен рыцарь, чтобы защитить меня: вообразите, этот страшный командир хочет овладеть моей особой, чтобы сделать меня заложницей.
Но она остановилась в изумлении, видя, что Кержан был не один.
— Маркиз Шарль Бюсси, капитан волонтеров, — сказал Кержан, представляя новоприбывшего. — Это — драгоценное подкрепление, которое посылает нам Франция; он сделал мне честь стать моим другом.
— От души приветствую господина де Бюсси! — сказала она. — Он столько же наш друг, как и ваш.
И она протянула ему красивую, тонкую, белую руку; Бюсси поцеловал ее. Г-жа Барнваль была очень молода и изящна. Ее красивый костюм дополняла красная роза в волосах, напудренных под цвет инея. В углу ее хорошенького рта красовалась мушка.
— Неправда ли, сударь, какое ужасное дело? — сказала она, обращаясь к Бюсси. — Видано ли когда-нибудь подобное упорство! Но позвольте представить вам наших депутатов.
Все присутствующие подошли поздороваться с молодым офицером. Это были: генерал-майор де Бюри, в голубом костюме с красными отворотами и золотыми нашивками, который привлекал все взоры; генеральный прокурор Брейер; инженер Парадис, храбрый и кроткий солдат, родом из Швейцарии; д’Эспремениль, Бартелеми, Дюлоран — члены верховного совета в Пондишери, де ла Туш, Шанжак и, наконец, Фриэль, переводчик и доверенное лицо Дюплэ.
Г. д’Эспремениль, пылкий и энергичный от природы, был очень взволнован. Он только что сделал предложение, которое не решались принять его более робкие товарищи, а именно, немедленно арестовать этого бунтовщика-командира, который отказывался повиноваться губернатору французской Индии.
— Разве не ему первому пришла в голову мысль покуситься на свободу госпожи Барнваль? — говорил д’Эспремениль. — О, он отлично знал, какой драгоценный залог будет у него в руках! Разве это не объявление войны, не открытый бунт?
— Как! Так это не шутка, то, что вы мне сказали, кузина? — вскричал Кержан. — Но мой дядя не мог же снести подобной вещи?
— Мой добрый отец уже ответил по этому поводу так, как должен был ответить; вы знаете, что он ставит долг выше всех других чувств. И моя мать присоединилась к нему. Они написали адмиралу, что его угроза не может их поколебать и что они сумеют пожертвовать своей привязанностью ради долга.
— Итак, господа, не будем терять ни минуты! — сказал генерал-майор, вставая. — Исполним наше поручение, и дай Бог, чтобы нам удалось окончить его миролюбиво!
Депутаты, вместе с двумя офицерами, покинули г-жу Барнваль, чтобы отправиться к командиру.
Когда они проходили по площади, адмирал смотрел в окно. Он привскочил от удивления и поспешно вошел в приемную.
— Господа! — сказал Бюри товарищам у входа в залу, где их ожидал командир. — Не забудем наставлений нашего возлюбленного губернатора, который предписывал нам прибегнуть сначала к миролюбию и вежливым речам, прежде чем воспользоваться нашими полномочиями.
— Достанется нам за нашу вежливость! — проворчал д’Эспремениль.
Они вошли. Магэ де ла Бурдоннэ, именем его христианнейшего величества губернатор островов Иль-де-Франса и Бурбона, капитан фрегата, главный командир французских кораблей в Индии, стоял, подняв голову и опершись рукой на край стола. На нем были красные панталоны, такие же чулки и голубой сюртук без фижм, с малиновыми отворотами и золотыми галунами, обшитый бургундским галуном.
Знаменитому моряку, заслужившему имя Магэ в одном славном деле, было тогда 47 лет от роду; но злокачественная лихорадка подрывала его здоровье и покрыла желтизной его лицо: оттого он казался старше своих лет. У него был горбатый нос, напоминавший клюв хищной птицы, ясный и острый взгляд, морщинистый, немного вдавленный лоб; углы тонких губ выражали презрение. На груди у него блестел орден св. Людовика.
С минуту продолжалось тяжелое молчание. Ла Бурдоннэ молча, неприязненно смотрел на прибывших, скрывая легкую дрожь смущения. Наконец он заговорил первый:
— Ну, господа, чего вы желаете и что скажете нового?
Фриэль выступил вперед и поклонился.
Командир, мы пришли в последний раз умолять вас, от имени губернатора Индии, отказаться от пагубного решения, противного выгодам нации во всех отношениях.
— A! Дело идет все об этом выкупном договоре! — вскричал ла Бурдоннэ, хмуря брови. — Ведь я уже сказал, что всякие представления по этому поводу бесполезны. Участь Мадраса решена. Хорошо я поступил или дурно, я считал в праве дать английскому губернатору капитуляцию. Неужели я — единственный полководец, который не может заключить условий с защитниками взятых им стен?.. Если бы я мог подумать, что господин Дюплэ и его совет будут ко мне так придираться, то никогда здесь не взвился бы французский флаг. Я вступил бы в местечко, взял бы с англичан дань, оставил им флаг и, пожелав спокойной ночи, уехал бы на мои острова.
— Вы поставили бы себя, сударь, в очень неловкое положение, — возразил Фриэль с некоторым нетерпением. — Ведь не вы взяли город: храбрые подданные короля жертвовали своей жизнью ради его славы, а не ради вас; они заставили бы вас поднять флаг.
Ла Бурдоннэ на минуту опустил голову, затем отыскал на столе королевскую грамоту и подал ее Фриэлю.
— Вы видите, — сказал он. — Здесь написано, что будет одобрено все, что я ни сделаю.
— Это одобрение относится лишь к вашим военным действиям. Министр не может потакать нарушению закона, а вы очень хорошо знаете, что раз французский флаг взвился над городом, он подчиняется генерал-губернатору. Как только вы вступили в город, вы должны были передать ключи от складов и казны, а также торговые книги Компании королевским комиссарам; но вы предпочли вручить их господину вашему брату.
Командир вздрогнул и заскрежетал зубами от ярости.
— Если бы я знал, кто осмеливается заподозрить меня и моего брата, — вскричал он, сжимая кулаки, — я раскроил бы ему рожу, распорол бы ему живот, растоптал бы его ногами!..
И моряк, вне себя, извергнул поток ругательств, с которыми, по грубости и силе, вряд ли мог соперничать последний из матросов.
Г-н Фриэль не смутился и возразил, немного повысив голос:
— Подозревают ли вас, сударь, я не знаю; но ваш брат слишком хорошо известен. Вам лучше было бы отдать ключи последнему офицеру, нежели ему. Книги кассы нигде не могут найти: это уже достаточно сильная улика против него, если не прямое доказательство.
Ла Бурдоннэ сделал движение, как бы желая броситься на Фриэля, но вдруг гнев его остыл: в комнату вошел посланный.
Он принес письмо от Дюплэ. Командир сел за стол и начал читать его.
В этом письме, написанном сплошь его рукой, губернатор Индии еще раз, в самых трогательных выражениях, умолял ла Бурдоннэ отказаться от этого призрачного договора, столь пагубного для интересов Франции. Он говорил с ним как брат с братом — в каждой строчке сквозило его полное бескорыстие, глубокий здравый смысл и чувство долга.
Читая это письмо, столь благородное и убедительное, ла Бурдоннэ испускал глубокие вздохи. Окончив его, он опустил голову на руки и, впав в какое-то расслабление, принялся плакать, как ребенок.
Фриэль, который из скромности отошел на несколько шагов в сторону и стоял неподвижно, скрестив руки, сделал жест изумления; депутаты обменялись взглядами, а Бюри сказал вполголоса:
— Он уступит.
Но д’Эспремениль презрительно пожал плечами.
Командир принялся ходить большими шагами в глубоком раздумье. Потом, приходя снова в какое-то непостижимое волнение, вызванное, очевидно, нервной лихорадкой, он опять принялся плакать.
— Успокойтесь, сударь! — сказал Фриэль. — Не поддавайтесь до такой степени горю; уступите нашим просьбам, и все уладится само собою.
— Нет, нет, я не могу от него отказаться! — вскричал адмирал голосом, прерываемым рыданиями. — Если нужно, пусть меня ведут на виселицу. — Он спохватился, взглянув на свой орден св. Людовика. — Я положу голову на эшафот. Я желал добра. Я думал, что имею власть, и не хотел поступать с англичанами, которых считаю молодцами, со всею строгостью. Я отвезу к подножию трона мою бескорыстную службу и мою невинность.
И слезы снова полились из глаз адмирала.
— Право, — сказал Бюсси на ухо Кержану, — мне ужасно тяжело видеть, как плачет этот неустрашимый моряк.
Но д’Эспремениль, которого эта сцена, видимо, раздражала, подошел к ла Бурдоннэ.
— Сударь, так вы твердо решились не внимать нашим просьбам?
— Ничто не заставит меня изменить решение, — отвечал командир, поднимая голову. — Я дал слово англичанам — и сдержу его.
— В таком случае, сударь, я должен сказать вам с сожалением, что мирное поручение окончено и нам остается только передать вам приказания.
Бюри выступил вперед, ла Бурдоннэ, который не знал его, при виде его красно-голубого мундира с золотыми нашивками, подумал, что он приехал из Франции. Невыразимый ужас изобразился на его лице, которое стало бледно, как его напудренный парик.
Бюри подал ему бумагу верховного совета, которая утверждала его полномочия. Затем он приказал растворить двери, так как все должны были слышать его заявление.
Капитаны кораблей и различные офицерские чины быстро наполнили комнату.
Тогда секретарь начал читать первое постановление верховного совета, объявлявшее, что договор о выкупе, заключенный ла Бурдоннэ без полномочия и к тому же с пленными, не имеющими права вступать в договоры, лишен всякого значения и потому признается несуществующим. Второе постановление учреждало провинциальный совет в форту Сен-Жорж и назначало д’Эспремениля комендантом и губернатором форта и города Мадраса.
Ла Бурдоннэ слушал с величайшим вниманием, и легкое дрожание нижней губы выдавало его страх. Но, когда он увидел, что все эти декреты исходили из Пондишери, а не из Франции, он совершенно ободрился и даже рассмеялся самоуверенно.
— Так вы воображаете, что я приму ваши приказания и подчинюсь им? — вскричал он. — Знайте же, что в Индии я не признаю ничьей власти. Я держусь моего указа и распоряжений министра, которые предоставляют мне полную свободу действий.
— Вы заставляете нас еще раз повторить вам, что всякое завоеванное место подчиняется власти генерал-губернатора. Вы, который состоите также губернатором французской колонии, должны это знать лучше всякого другого.
Адмирал не знал, что ответить, и, чтобы выйти из затруднительного положения, снова поддался порыву гнева, который был далеко не искренен. Среди строгого молчания собрания снова раздались грубые оскорбления и простонародная брань. Ла Бурдоннэ воспламенялся все более и более, и его лицо сделалось красным.
— А, так вы хотите войны! — вскричал он наконец. — Вы пришли меня оскорблять; вы делаете мне вызов, оспаривая мою власть. Хорошо: пусть будет война! Будем сражаться. Посмотрим, чья возьмет.
По временам его речь путалась, потому что зубы его были расшатаны скорбутом, который он схватил во время своих геройских плаваний.
Вдруг он выхватил саблю и воскликнул:
— Ко мне, мои офицеры!
И, обратясь к депутатам, сказал:
— Становитесь вы со своими, господа, по одну сторону, а я со своими стану по другую. Сюда, мои офицеры, сюда!
В собрании поднялся ропот негодования. Ла Бурдоннэ понял, что зашел слишком далеко. На миг у него закружилась голова. Ему представилось видение — Бастилия и тот эшафот, о котором он только что говорил, сам не веря этому. Но он скоро овладел собой: его ум, изобретательный на хитрости, еще не истощился.
— Господа, — сказал он, — дайте мне несколько минут: я соберу свой военный совет и спрошу его мнения. Я обещаю вам подчиниться ему.
Депутаты хранили молчание, которое ла Бурдоннэ принял за знак согласия. Он вышел в соседнюю комнату.
Через несколько минут он вернулся с бумагой в руках, которую и вручил секретарю. Тот прочел:
Г. де ла Бурдоннэ в собрании военного совета:
«Милостивые государи! Вы слышали возражение верховного совета в Пондишери и сделанное им предложение изменить слову, которое я дал господам англичанам; поэтому я собрал вас, чтобы узнать от вас, господа, должен ли я, согласившись на капитуляцию и приняв соответственные условия, сдержать честное слово, независимо от того, правильно я поступил или нет?»
Ответ совета:
«Мы все согласны, что г. де ла Бурдоннэ должен сдержать слово, данное им господам англичанам».
«Составлен на собрании военного совета, состоявшегося 2 октября 1746 года».
Следовали тридцать три подписи членов совета.
Но д’Эспремениль с нетерпением прервал перечень имен.
— Разве ваш военный совет может быть судьей между королем, его властью и вами? К тому же вы ввели его в заблуждение тем способом, каким поставили вопрос. Спросите у храбрых офицеров, нужно ли держать честное слово, хотя бы оно было дано врагам, и они ответят не колеблясь: да, нужно. Но попробуйте поставить вопрос как следует. Скажите им: «Я распоряжаюсь Мадрасом; его участь можно решить тремя способами — захватить город, срыть его или взять выкуп. Верховный совет Пондишери, комендант Коромандельского берега, вся нация просят меня захватить его; я один считаю более подходящим взять с него выкуп. Что вы посоветуете мне?» В ответе ваших офицеров не может быть сомнения.
— Я буду держаться того, который они подписали, — отвечал спокойно ла Бурдоннэ.
— Прекратим эту тяжелую сцену, — сказал Бюри, удерживая знаком д’Эспремениля. — Ничто не победит упрямства этого господина. Нам остается приказать офицерам и войскам этого гарнизона не очищать города Мадраса и не садиться на суда, покуда их не принудят к тому силой оружия. А теперь, господа, удалимся.
Бюри поклонился и вышел в сопровождении всех депутатов.
Очутившись на улице, д’Эспремениль схватил руки генерал-майора и сказал:
— Умоляю вас еще раз, дорогой друг, не теряйте ни минуты; прикажите арестовать этого изменника, если не хотите, чтобы через час мы все стали его пленниками.
Но Бюри колебался:
— Подобные меры немыслимы между французами.
— Ну, так, до свидания, господа, счастливо оставаться! — вскричал д’Эспремениль. — Вы вспомните о моем предсказании, когда будете сидеть под замком. Что касается меня, то я не охотник до плена и удираю.
Он пустился бежать со всех ног и скрылся из виду.
— Он прав, убежим скорее! — сказал Кержан Бюсси. — Я тоже не желаю попасться в клетку.
Действительно, через четверть часа Бюри и депутаты, не поторопившиеся скрыться, были арестованы по приказанию ла Бурдоннэ.
Глава V
ПЯТЬ СТРЕЛ ЛЮБВИ
Пение неслось с пустынной площади, накаленной полуденным солнцем.
Это были томительные часы отдыха. На всех окнах были спущены занавески; город был погружен в дремотную тишину: и из-за вала Мадраса искрилось безмятежно-спокойное море.
Бюсси лежал на тростниковой кушетке в своей комнате, погруженной в полумрак благодаря темным занавескам. Сон бежал от его глаз. Ему казалось, что в его кровати горит огонь, несмотря на то, что он был едва покрыт легкой одеждой из тонкого полотна, а воздух освежался быстрым движением панки.
Дело в том, что к зною воздуха примешивался жар лихорадки, которая превращала укрепляющий отдых в болезненное возбуждение. Молодой человек заметил с досадой, что опять вспомнил об этой индуске, ради которой он мог так глупо умереть, тогда как она даже не осведомилась о его имени; и что несмотря на твердое решение забыть ее, он думал о ней во сне и наяву.
События, которые сначала резко оторвали его от его мыслей, повергали его теперь в роковую праздность, всецело наполненную этими мучительными грезами.
— Почему она поступила со мной, как с врагом? — спрашивал он себя сто раз. — Ах, эта тайна, о которой говорил брамин! Знать ее — вот все, чего я желаю. Тогда я забуду этот сон, или, вернее, этот кошмар.
И он с тоской начал ворочаться на своем длинном скрипучем стуле, между тем как из соседней комнаты доносилось легкое храпение мирно спавшего Кержана.
С улицы послышалось печальное, трогательное пение, но на этот раз совсем близко.
Одним прыжком Бюсси очутился у окна и крикнул:
— Наик!
Сердце его забилось с такой силой, что он даже удивился.
— Уж не сошел ли я с ума? — бормотал он. — Возможно ли, чтобы одна мысль увидеть снова человека, который может мне сказать о ней, привела меня в такое волнение?
Он боролся с желанием поднять занавеску, но борьба была так коротка, что нельзя было бы сосчитать и до десяти, как молодой человек высунул голову и половину туловища и как бы погрузился в раскаленную печь.
На площадке, в нескольких шагах от дома, стоял человек. Его коричневое тело до такой степени взмокло от пота, что солнце отражалось в его струях. Голова его была покрыта широким фиговым листом, завязанным под подбородком.
— Наик! — воскликнул Бюсси.
Человека охватил порыв радости: он сложил руки, как на молитве. Потом он побежал к дому.
— Наконец-то, Наик! — воскликнул Бюсси, когда пария очутился подле него. — А я, по правде сказать, очень виноват перед тобой. Ей-Богу, совсем забыл про тебя. Так я был взбешен… там… уезжая из этого проклятого места. Но потом я вспомнил о тебе и сердился за свою неблагодарность. Черт возьми, как ты нашел меня?
— Ах, господин! — сказал Наик, большие глаза которого блестели от радости. — Это ты нашел меня, ты узнал мой голос, ты вспомнил мое имя! Я ходил из улицы в улицу, с площади на площадь и пел. Пение мое нашло путь к твоему слуху, это была моя надежда — и ты позвал меня.
— Но ты дрожишь, мой бедный Наик, — сказал Бюсси, бросая парии одеяло из мягкой шерсти. — Может быть, воздух панки, который представляется мне дыханием ада, тебе кажется относительно свежим, и ты можешь промерзнуть до мозга костей. Что с тобой случилось? Ты кажешься таким худым и истощенным, как никогда.
— Я счастлив, — сказал Наик.
— Тем лучше! Я бы желал сказать то же самое. Но раз ты решил не отставать от меня, то предупреждаю тебя, я не хочу, чтобы мои слуги умирали с голоду, я желаю, чтоб ты потолстел.
— Я потолстею.
— А пока, мне кажется, ты несколько недель не ел; сделай мне удовольствие, поешь пирожков, которые остались на этом столике.
— Слушаюсь, господин! — сказал Наик. — Но в поле есть корни, я не голодал.
Бюсси снова развалился в бамбуковом кресле и нежно смотрел, как пария медленно ел пирожки, которые возбуждали в нем неиспытанное ощущение. Маркиз старался убедить себя, что сострадательное участие, которое внушал ему Наик, было вполне естественно и бескорыстно; и действительно, в его молодом пламенном сердце было много сострадания к этому отверженному, который с такой пылкой радостью отдавался ему. Но удовольствие, которое он испытал при его внезапном появлении, было вызвано другой причиной, хотя Бюсси не хотел сознаться себе в этом; в то время он даже страшно сердился, что на самом деле это было так. Наик был последним звеном цепи, которую он не мог разорвать; и он почувствовал странное успокоение с тех пор, как снова обрел это слабое звено. Лихорадка внезапно исчезла.
Выпив стакан воды со льдом, Наик, кутаясь в одеяло, сел на корточки, в ногах молодого человека, и молча смотрел на него, как бы в ожидании вопроса. Бюсси медлил, все еще борясь с собой. Он начал издалека.
— Ты, значит, оставил службу при дворце? — спросил он. — Ты убежал?
— Исчезновение одного земляного червя незаметно, — сказал, улыбаясь, пария. — Другой займет мое место и будет получать вместо меня отбросы и оскорбления — наше единственное жалованье. И никто не заметит, что один пария заменил другого.
— Отчего ты ко мне не пришел раньше?
— Для того, чтобы лучше послужить тебе, господин, — сказал Наик, сверкнув глазами. — Я хотел сделать невозможное — и сделал.
Маркиз привстал и устремил пламенный взор на парию.
— Что ты хочешь сказать? — пробормотал он. — Эта тайна, о которой говорил Ругунат-Дат…
Бюсси встал и глубоко и протяжно вздохнул.
— Наконец-то! — воскликнул он. — Ты освободишь, значит, меня от этого бесовского наваждения! Удовлетворишь мое справедливое любопытство, ты поможешь мне забыть то, о чем я слишком много думаю.
Пария грустно поник головой.
— Твои глаза ослеплены ее красотой. Они упоены ее душой, — сказал он. — Ты не забудешь, ее нельзя забыть. То, что ты сейчас узнаешь, должно бы тебя вылечить. Но ты не вылечишься, увы! Ты никогда не забудешь.
— Ты думаешь? — пробормотал Бюсси, который, опустив голову и устремив взор вниз, казалось, ушел в самую глубь своего существа.
Наик вздохнул и молчал.
— Ну, так скажи же, что ты знаешь? — заговорил маркиз после минутного молчания.
Ровное дыхание, доносившееся из соседней комнаты, казалось, беспокоило Наика.
— Там друг, — сказал Бюсси. — Он храпит, да и не понимает по-индусски: ты можешь говорить.
— Я не буду тебе рассказывать, господин, ценой каких хитростей мне удалось узнать то, чего не хотел сказать брамин. Я ничем не рисковал, кроме моей жизни; но потерять ее — значило бы дурно послужить тебе. Так знай же, что я, как пресмыкающееся, проскальзывал в самые священные убежища, не боясь святотатства. Целыми днями, не смея дышать, я сидел, скорчившись где-нибудь за мебелью, или обвивался вокруг резьбы колонны и, сливаясь с ней, видел то, чего не должен был видеть, и слышал то, чего не должен был слышать.
— Ах, благодарю, Наик! Ты мне расскажешь обо всем!
— Да, господин, я знаю, чем облегчить твой недуг и, может быть, не дам тебе погибнуть от него, раз уж ты не можешь вылечиться. Моя верная память хранит сокровище, которое принадлежит тебе; но, несмотря на это, я буду скуп на него, чтобы ты не слишком быстро поглотил его.
— Но, — сказал, улыбаясь, Бюсси, — ты объявляешь меня неизлечимым с такой уверенностью, которая меня забавляет. Как это ты так хорошо разгадал то, чего я сам хорошенько не знаю!
— Твой крик, в бреду, под негостеприимной кровлей сарая, твой шепот во сне — ведь я слышал их. А разве они не открывали твоей души? И даже без этого мое сердце, которое страдает вместе с твоим, все угадало.
— Ты забываешь волю, которая торжествует над слабостями сердца.
— У любви есть пять стрел, по одной на каждое чувство, — торжественно сказал Наик. — Когда все попали в вас, вы не можете удержать рассудок, который исчезает через столько ран.
— Это мы еще увидим. Продолжай.
— После твоего отъезда царица вернулась во дворец, и я начал следить за ней. Я видел и слышал сто вещей, которые не относились к тому, что я хотел знать. Первое открытие я сделал во время ее разговора с Ругунат-Датом. Я тебе передам его: в моей памяти сохранились все слова. Вот они:
— Святой брамин, можешь ли ты предстать передо мной? — спросила царица. — Достаточно ли ты очистился от нечистого прикосновения варвара?
— Брамин очищает все, и его чистота не может быть осквернена, — отвечал Ругунат-Дат. — Тем не менее, чтобы угодить тебе, я исполнил все, что предписывают обряды.
— Варвар избавил нас от своего присутствия. Остался ли он доволен моими щедротами? Вполне ли я расплатилась с ним?
— Варвар чуть не убил твоего посланного. Он разметал по грязи твои драгоценные камни и скрылся, взбешенный от гнева, не приняв ничего от тебя.
— Так он подарил мне жизнь! — с волнением воскликнула царица. — И ты мог стерпеть такое оскорбление? Ты не удержал проклятого?
— Лошадь была быстрая. И в своем негодовании молодой человек не щадил и меня.
— Он оскорбил тебя, брамина! И ты оставил его в живых?
— Конечно! Его гордость и сверкающий взгляд очень понравились мне. Мне казалось, что в этом незнакомце воплотился наш герой, Рама.
— Ругунат-Дат! — воскликнула тогда царица, подымаясь с гневным видом. — Меня, право, пугает твой ум, который отрицает все наши предания. Я недостойна вступать в спор с таким святым, как ты; поэтому, прошу тебя, уйди, чтоб избавить меня от греха святотатственного гнева.
При этих словах брамин поклонился и ушел, скрывая улыбку, к которой примешивалась доля сожаления.
— Знаешь ли, этот брамин — молодец! — воскликнул Бюсси. — Я жалею, что так дурно обошелся с ним; при случае я извинюсь перед ним. Но что же стала делать царица, когда осталась одна?
— Подобно тому, как солнце скрывается в облаках, она закрыла руками свое прекрасное лицо, как бы прячась от стыда или страха. Потом она позвала двух своих любимцев, двух принцесс, которые никогда не оставляли ее. В особенности одной она отдает предпочтение перед другими: ее зовут Лила. Она рассказала ей, как ужасный иностранец отверг все ее подарки и в какой гнев повергла ее эта весть.
— Подумай, Лила, — сказала она, — какое унижение! Он подарил мне жизнь! Могу ли я выносить ее? Ах, меня охватывает ужас, когда я вспоминаю, что он держал меня в своих объятиях, что я покатилась с ним в траву и что на мне была его кровь!
— Свет Мира погас бы без него, — нежно сказала Лила. — Царица, он спас тебя!
— Разве зачумленный, вырывающий нас из пламени и оставляющий нам смертельную заразу, спасает нас?
И, так как глаза царицы наполнились слезами, то, чтобы успокоить ее, позвали баядерок и фокусников, с шумной музыкой.
— Значит, насколько я понимаю, — сказал Бюсси, — я навсегда обесчестил царицу, помешав тигру съесть ее?
— Что-то в этом роде, — ответил Наик. — Царица — раба тех предрассудков, которые отвергает твой ум. Кажется, у вас разные боги: ты ешь коровье мясо — непоправимый грех, который делает тебя в ее глазах таким же нечистым, как пария. Вот почему с тобой обращались с таким невероятным презрением и дали тебе в слуги париев. Все, чем ты пользовался, и сарай, который приютил тебя, было предано пламени.
— Однако недурное положение для влюбленного! Быть предметом отвращения, чумою для той, которую хочешь пленить! Это прелестно! И ты воображаешь, что это милое открытие не изгонит сразу из моего сердца это безумие?
Он расхохотался.
— Возможно ли это, господин? — пробормотал Наик, удивленный такой веселостью. Тем не менее он покачал головой, оставаясь при своем сомнении.
— Ну же! — снова начал Бюсси. — Разве это все, что ты знаешь? Дай же мне выпить противоядие до дна.
— Самое горькое миновало. Но остается много любопытных вещей. У царицы есть еще другой брамин, которого зовут Панх-Анан: это одно из имен Шивы. Он составляет полную противоположность Ругунат-Дату. Он не изучает, как тот, священных книг, чтобы понимать их величие и истинный смысл, он придерживается изречений, и его благочестие доходит до крайнего фанатизма. Панх-Анан — близкий советник царицы; он возбуждает ее набожность и наполняет ужасом ее душу. Если бы не благородная стойкость Ругунат-Дата, нрав которого внушает уважение даже его врагам, может быть, твоя жизнь не была бы в безопасности. Он пришел к тебе, чтобы показать, насколько он осуждает обращение с тобой. Тогда Панх-Анан не смел больше требовать твоей жизни. Он объявил, что царица может очиститься от осквернения посредством торжественной церемонии и что, заплатив тебе за услугу, порывали с тобой всякие связи. Но заклинания, по-видимому, не удались. Один разговор царицы с Панх-Ананом открыл мне их сомнения на этот счет. Очищение не принесло никакого успокоения: царица чувствовала себя по-прежнему оскорбленной, больной, расстроенной и не могла спать. Она даже выказывала гнев относительно брамина, который напрасно истощает свои сокровища, чтобы умилостивить к ней Дургу и Шиву. Панх-Анан утверждает, что, так как он сам исполнил обряд очищения, то дело безукоризненно; что такая торжественная церемония может быть возобновлена только тогда, когда откроется причина, которая помешала успеху; и что он поищет эту причину. Вот на чем остановилось дело. Я решил, что достаточно знаю, и покинул дворец, чтобы нагнать тебя, о мой господин!
— Какое странное приключение! — сказал Бюсси. — В самом деле, разве не прекрасно будет победить все эти предрассудки и покорить эту женщину? Но у меня есть долг относительно моей родины; мне нельзя терять времени на все эти безумства. Следовательно, мы больше не будем говорить об этом.
Кержан только что просунул голову в дверь, потягиваясь и зевая. Он с удивлением посмотрел на тощего Наика, вылезавшего из-под одеяла.
— Что это такое, дорогой друг? — воскликнул он, входя совсем.
— Нечто вроде заблудившейся собаки, которую я беру; преданное сердце, которое отдается мне.
— В самом деле? Но откуда же взялся он, тощий, как факир, смотрящий на меня своими огромными глазами?
— Я должен вас предупредить, мой милый (ведь вы тоже, может быть, верите в осквернение?), что этот человек — пария.
Молодой человек отскочил назад.
— Пария! На что вам понадобился пария? Это — презренные создания, глупее скота. Ваше доброе сердце вводит вас в заблуждение.
— Этот выказал глубокую преданность и высокую степень развития. Уверяю вас, что я его очень люблю, — сказал Бюсси, кладя руку на голову Наика. — Он очень худ, с этим я согласен; но это его единственная болезнь. К тому же я приказал ему потолстеть, а он послушен.
— Это сумасшествие! — воскликнул Кержан, опускаясь на стул. — Вы сделаете огромную ошибку, позвольте мне вам это сказать, если будете таскать за собой существо, которое служит предметом ужаса для последнего лакея. Ни один из них не будет жить у вас.
— Если слуги покинут меня, он будет служить мне лучше их и будет для меня драгоценен, так как я буду иметь возможность усовершенствоваться в индусском языке.
— Полноте! Эти люди едва умеют говорить и выражаются самым грубым образом!
— Друг мой, везде есть поэты. Поэзия не оскверняется тем, что живет в мозгу парии. Его поэзия мне нравится; и он, разумеется, выражается самым приятным образом. К тому же это валувер. Знакомо вам это слово?
— Да, относительно, ученый… — сказал Кержан, надув губы.
— Само собой разумеется, если его присутствие оскорбляет вас, он не будет попадаться вам на глаза.
— Что за шутки! — воскликнул сердито Кержан. — Если вы, действительно, решили поставить себя в неловкое положение ради этого тощего человека, я разделю с вами это положение. У вас должны быть свои основания: я уважаю их.
— Благодарю, — сказал Бюсси, протягивая руку своему другу.
— Здравствуй, валувер! — весело воскликнул молодой офицер, трепля парию по плечу. — Вы видите, я трогаю его, — сказал он, обращаясь к Бюсси. — У меня нет предрассудков.
— Вы самый очаровательный из людей.
Наик слушал или, вернее, смотрел, как они разговаривали на незнакомом ему языке. Он понял кое-что, и когда увидел, что принят вновь пришедшим, поблагодарил его таким выразительным взглядом, что Кержан почувствовал, как под его лучами исчезли все его предубеждения.
Глава VI
МУССОН
Взвился флаг, возвещающий бурю; воздух был смертельно душен. Раздался пушечный выстрел, и неподвижная атмосфера едва отразила звук. Между тем, он взволновал весь Мадрас. Несмотря на гнетущую жару, весь вал и все площади, откуда только можно было видеть море, были покрыты беспокойной толпой, состоявшей из англичан, французов, индусов и армян.
Солнце сияло еще полным блеском, и на горизонте небо было чисто. Но на западе, из моря, как будто бы оно кипело, над волнами поднимался все более и более густой пар, который собирался на горизонте.
Это было время периодических бурь. Подобно сорвавшемуся с цепи чудовищу, надвигается неумолимый ураган и пожирает лазурь. Много храбрых моряков поплатятся, быть может, жизнью за медлительность де да Бурдоннэ, который, несмотря на позднее время года, отсрочивал отъезд эскадры. Теперь было уже слишком поздно.
Командир поспешно отдавал приказания кораблям разрубить канаты и выйти в открытое море, чтобы таким образом избегнуть верной гибели, ради гибели возможной, — словом, броситься навстречу урагану, чтобы не быть им выброшенными на берег и разбитыми.
На рангоуте уже распускаются паруса. Они безжизненно повисли в неподвижном воздухе и наводят на мысль о саване, который готовится для тех, кто со стесненным от тоски сердцем смотрит на них.
Ла Бурдоннэ должен был страдать больше всех. Его страшно терзало угрызение совести. Эти прекрасные корабли — как бы его дети. Он сам снаряжал, вооружал, почти строил их. Он часто проводил величественный флот через моря в битвах, во время победы, а теперь, по своей собственной воле, он поставил его лицом к лицу с опасностью, более ужасной, чем война. Увидит ли он его снова когда-нибудь?
Он стоит там, на берегу, бледный, со сжатыми губами, не отрывая глаз от подзорной трубы и наблюдая за роковым снаряжением.
«Герцог Орлеанский» уже снялся с якоря. Он медленно поворачивает на другой галс, при полном безветрии. Потом паруса его вдруг надуваются. Первый порыв ветра подхватил его, и он начинает лавировать, приближаясь к городу. Тут экипаж с криками «ура!» печально и покорно прощается с землей. Толпа отвечает ему продолжительным, скорбным криком, и корабль поворачивает в страшную тень.
Уходит «Ахилл» в свою очередь, потом «Бурбон», «Нептун», «Феникс», «Принцесса Мария»— вся эскадра! Солнце еще ударяет в паруса; они ослепительно блестят на черном фоне горизонта. Потом они входят в полосу тени, становятся серыми. Вскоре корабли удаляются и исчезают в ночной тьме, которая как бы поглощает их.
На огромную, немую толпу это производит впечатление какого-то чудовищного убийства.
В городе раздается звон колокола, похожий на погребальный: это начинают молиться о спасении моряков в церкви монастыря капуцинов.
Вот солнце заходит. Оно становится бледным, потом кровавым; и темная масса облаков поглощает его. На город спускается почти ночная тьма; толпа быстро рассеивается, преследуемая вихрем песка, который подымают с берега перемежающиеся внезапные порывы ветра.
Вдруг, с ужасным ревом и силой, врывается порыв ветра, несущийся, подобно быстрой реке. Тонкие кокосовые пальмы гнутся, подметая землю своей кудрявой головой. Всевозможные осколки летают и кружатся в воздухе, вместе с морской пеной, подобной снегу.
Буря быстро разражается со всей силой. Небо представляет сплошную молнию; гром раздается со всех сторон разом с оглушительным грохотом.
На море — хаос, который может дать понятие о борьбе стихий в первобытные времена мира. Разверзаются пропасти, вздымаются величественные волны, как бы выбрасываемые вулканом; потом, в страшном смятении, с головокружительной быстротой, падают они искрометным водопадом, бросаются на берег, покрывают пеной набережную и вал. Облака кажутся огненным дымом погасающего пожара и освещают фантастическим светом этот ужасный разгром, над которым раздается такой нечеловеческий гул, что ушам больно слушать.
С часа на час, со дня на день буря то утихает, то бушует с новой силой. В домах горят огни. В них укрылись жители, бледные от ужаса, со стесненными легкими от удушливой жары. Стены дрожат; с крыш течет; комнаты наводнены непрошеными гостями, которых тщетно стараются выгнать. Потоки воды затопляют убежища животных, которые, покинув трещины, погреба и сырые закоулки, разбегаются в беспорядке по человеческим жилищам. Пресмыкающиеся, жабы, бесчисленное множество ящериц бежали, ползли по паркету, между тем как стены исчезали под кишащими тараканами и скорпионами. К ужасу и напряженному состоянию, которое внушает гроза, примешивается отвращение к подобной компании.
Наконец, после второй ночи, буря утихает; раскаты грома прекращаются; потоп кончается. Пресмыкающиеся и насекомые возвращаются к своим пенатам.
Как только можно было высунуть нос на улицу, появилась толпа черных, вооруженная длинными лестницами. Они приставляют их к домам и быстро взбираются по ним. Другие, оскалив свои белые зубы, вылезают из мансард на крыши. Дело идет о самой страшной ловле довольно большой рыбы, которую порывами ветра или какой-нибудь другой силой забрасывает во время бури на крыши и террасы.
Вскоре растворяются окна; на изрытых и разоренных улицах появляется народ; бегут на песчаный берег, усыпанный обломками, среди которых попадаются предметы. служащие дурным предзнаменованием. И снова боязливые взгляды вопрошают пустынное море. С высоты крепости Св. Георгия генерал-майор Бюри с товарищами по заключению с сильным беспокойством смотрели через решетчатое окно своей тюрьмы на океан, еще белый от пены: Неужели он все поглотил, и от французской эскадры осталось одно воспоминание?
Храбрый инженер Парадис не мог подавить своего негодования. Его энергичное, немного красное лицо, со сдвинутыми бровями, выражает гнев; он не перестает браниться сквозь зубы, с легким швейцарским выговором.
— Чтоб главный сатана ада побрал этого злосчастного адмирала! — ворчал он. — Мы и без него превосходно взяли бы Мадрас и не попали в подобную передрягу. Эта дрянная крепость была бы срыта, вместо того, чтобы держать нас здесь, оскорбленных и взбешенных, как крыс в западне.
— Участь этих несчастных морских офицеров и их матросов, которых теперь, по всей вероятности, уже едят рыбы, заставляет меня забывать о нашем печальном положении, — сказал Бюри. — Но чего я не могу понять, так это того, каким образом командир эскадры мог до такой степени пренебречь участью своих кораблей? Если он действительно настолько бесчестен, что продался англичанам, и настолько преступен, что, видя на одной чашке весов жизнь своих людей, а на другой злополучный миллион, дал деньгам перевесить, то он действительно заслуживает кипеть в котле где его желал бы видеть Парадис.
— Отсутствие известий и неуверенность, в которой они нас держат, заставляют кипеть мою кровь! — сказал де ла Туш, ходя большими шагами взад и вперед.
— У меня же без щербета горит глотка! — воскликнул Шанжак. — Раз бретонский Иуда взялся заботиться о нас, он должен был прислать нам чего-нибудь прохладительного.
— Он хочет, чтоб мы околели от жажды! — ворчал Парадис. — Я с ним лучше обходился, когда он гостил у меня в Ульгарете. Ах, если б я тогда знал!
Де ла Туш подошел к окну.
— Посмотрите, господа! — сказал он вдруг. — Ведь это наш враг возится там, на берегу!
— Скажите, где же он, чтоб я мог извергнуть на него все проклятия! — воскликнул Парадис.
— Он, должно быть, не в своей тарелке, — сказал Бюри. — Он взял на себя большую ответственность; и можно сказать, что море возвращает ему его корабли в виде дров.
Головы заключенных теснились у решетки окна, стараясь разглядеть, несмотря на далекое расстояние, что происходит на берегу. Казалось, все шеленги были разбиты, потому что на море спускали «катимароны». Они отправлялись на разведки по бушующим еще волнам, то появляясь на гребнях, то исчезая в пропасти.
На песке возвышалась груда морских отбросов — сломанных мачт, разбитых шлюпок и, как казалось, трупов. На минуту все внимание толпы сосредоточилось на плавающем обломке, буе или корзине, на котором, по всей вероятности, держался потонувший. Горизонт был чист, не видно было ни одного паруса.
К вечеру прибыл катимарон, наполненный людьми. Узники насчитали восемь человек, головы которых обрисовывались в лучах заходящего солнца. Черный, управляющий лодкой, не без труда доставил их на берег, где их приняли зрители.
— Хоть эти-то спасены! — вскричал Бюри, который, как и его товарищи, с живейшим участием следил за этой сценой.
— Они что-нибудь сообщат о других, — сказал де ла Туш. — В самом деле, жестоко оставлять нас в неведении относительно участи наших братьев!
Они продолжали наблюдать, несмотря на усталость глаз. Но вот наступила ночь. Все смешалось; и они видели только, как мелькал свет, по временам останавливаясь вдоль последней волны, белая пена которой еще долго виднелась в темноте.
Когда больше ничего уже нельзя было рассмотреть, Парадис не смог совладать с порывом негодования: он начал потрясать дверь, запертую снаружи, и стучать в нее сжатыми кулаками, крича и взывая. К величайшему изумлению его товарищей, которые пытались успокоить этот бесполезный гнев, дружеский голос ответил Парадису; и вслед за часовым, который нес фонарь, в комнату вбежал Кержан.
— Привет вам, господа! — воскликнул он. — Я думаю, что вы испытали жесточайшие мучения, сидя здесь и не получая никаких известий, когда кругом столько событий. Мне-таки пришлось подкупить тюремщика и силой ворваться сюда, чтобы сообщить вам новости.
Все протянули руки к молодому офицеру; из всех ycт вырвался один и тот же вопрос: Что известно об эскадре?
— Очень печальные вещи, и всего еще не знают. «Герцог Орлеанский» пошел ко дну, и весь экипаж погиб, а также более шестидесяти английских пленных; только восемь человек, вскарабкавшиеся на обломки, были подобраны катимароном. Из наших английских призов одна только «Принцесса Мария» еще на волнах, без мачт, с восемью футами воды в трюме. Два других, «Адвейс» и «Мария-Гертруда», дали течь, не выходя из рейда. «Феникс» пропал целиком. «Бурбона» видели у мыса святого Фомы только с одной фок-мачтой, в страшной, томительной борьбе. Об «Ахилле» и «Нептуне» еще ничего не известно. Одним словом, более тысячи двухсот человек потеряно покуда; вот правда, господа!
— Это ужасно! — воскликнул Бюри, бросаясь на стул.
Последовало долгое, грустное молчание. Храбрый Парадис прятался, чтоб стереть слезы с глаз.
— А что говорит об этом де ла Бурдоннэ? — спросил наконец де ла Туш.
— Адмирал поражен; и я надеюсь, что мы скоро освободимся от него. Но я думаю, что вы ничего не знаете с тех пор, как этот негодяй держит вас под замком? Вот вам новость: из Франции пришли дополнительные предписания, по которым вся власть переходит к моему дяде, Дюплэ, и высшему совету. Ла Бурдоннэ имеет только совещательный голос, но должен подчиняться принятому решению.
— Вот это его доконает! — вскричал Шанжак.
— Адмирал еще упорствует, но после выпивки у него вырвались сокровенные мысли. Он, говорят, воскликнул: «Мое дело нечисто! Я поторопился; но я знаю способ выпутаться из этого». И он сказал имеющим уши слышать, что он отдал бы руку на отсечение, лишь бы его нога никогда не была в Мадрасе.
— Эта рука спасла бы его голову, которая не очень-то прочно сидит на его плечах, — бормотал Парадис.
— Что его убивает, — продолжал Кержан, — так это крушение его эскадры. Теперь он должен уступить и как можно скорей, убраться с остатками своих кораблей. Но, нечего сказать, он оставляет нас в хорошем положении. Если порыв ветра не пощадил Пондишери, где пристали «Лилия», «Святой Людовик» и «Слава», у нас нет больше ни одного судна у Коромандельского берега; английская эскадра, под защитой надежной пристани, вся цела и в один прекрасный день нагрянет на нас.
— А пушки, которые одолжил Дюплэ? — вскричал Бюри. — Они были на кораблях и теперь находятся на дне моря.
— Не считая пятисот человек гарнизона Пондишери, которых ла Бурдоннэ посадил на корабли, чтобы лучше держать нас в руках, — прибавил Кержан.
— Так что французская столица Индии в данную минуту не имеет защитников, — заключил де ла Туш.
— А мы-то на что! — вскричал Парадис, вставая. — Под командой такого губернатора, как Дюплэ, можно сделать невозможное, и мы это сделаем: мы побьем англичан и мавров впридачу.
— Ты храбрец, и ты прав, — сказал Кержан, обнимая Парадиса. — Вот это дело, а уныние никогда ни к чему не приводит. Теперь, господа, я должен распроститься с вами. Я уезжаю сегодня же ночью с Бюсси и его добровольцами в Пондишери. Мы отправимся сухим путем, потому что нет больше кораблей. Если у вас есть поручения в столицу, сообщите мне их через час. Я вам говорю: до свидания. Что бы там ни было, дело должно скоро решиться; и ваше заключение приходит к концу. Ваш недостойный тюремщик должен будет оставить свое место. Так до свидания же, господа, и будьте молодцами!
Пожав руки своим друзьям, молодой офицер быстро удалился.
Глава VII
ПОНДИШЕРИ
По дороге в Валдаур, за стенами Пондишери, стоит хорошенький квадратный домик, весь утопающий в тени деревьев. Над нижним этажом возвышается только бельэтаж, а вместо крыши устроена терраса, окруженная светло-розовыми перилами. Окна выходят на галерею, которая тянется вокруг дома и поддерживается снизу четырехгранными колоннами; ее круглые колонны поддерживают в свою очередь переднюю часть крыши. Все выкрашено в нежный розовый цвет, оттененный светло-зеленым.
Внутреннее убранство дома просто и изящно: в нижнем этаже большая комната служит столовой; по стенам ее стоят диваны с подушками. В бельэтаже — спальня; пол в ней устлан зелеными циновками; большие окна, выходящие на галерею, украшены занавесками. В библиотеке немного книг, но все они потерты от употребления. Уборная вся отражается в зеркале, которое занимает целый простенок. В боковом здании находятся конюшни и людские.
Маркиз де Бюсси поселился в этом домике, устроенном семейством французского коммерсанта, который приехал в Индию искать счастья. Но от этой семьи осталась только одна молодая девушка, Марион. Сирота, ради средств к жизни, отдает дом, единственное наследство, благородным офицерам и, в случае надобности, заведует хозяйством в качестве экономки.
Марион — грациозная сиротка, с кроткими, голубыми, как незабудка, глазами. Наик, одетый в длинную белую рубашку, подпоясанную у талии красным кушаком, с кисейной чалмой на голове, с серебряными браслетами на голых руках, с ожерельями из крупных бус на шее, имеет теперь отличный вид. Марион, Наик, два солдата да несколько черных слуг для кухни и конюшни — вот все домочадцы молодого капитана, принужденного сильно экономить в ожидании осуществления своих надежд, основанных на будущем и составлявших все его достояние.
Несколько дней спустя после прибытия в Пондишери, Бюсси ждал кавалера Кержана, который должен был прийти за ним, чтобы представить его господину Дюплэ. Он был взволнован и немного растроган. Прислонившись к галерее первого этажа, он думал о Франции, покинутой, быть может, навсегда, и видел снова свою добрую мать там, в далеком Суассоне. Ах, если бы действительно исполнились его честолюбивые мечты! С каким восторгом он окружил бы ее, дорогую маркизу, роскошью, соответственной ее сану, и доставил бы ей после печальной молодости счастливую старость! Чтобы достигнуть этого, нужно прежде всего постараться понравиться губернатору Индии, внушить ему доверие, стать под его руководство. Что такое в сущности этот Дюплэ? Прежде всего, простой купец, чиновник компании с самым скромным окладом. А между тем в несколько лет он приобрел не только себе состояние, но и поправил дела компании, которой угрожала гибель, когда он приехал в Индию. Теперь он почти король: он получил дворянскую грамоту и крест св. Людовика, и его известность стала быстро расти. Правда, он был гениален, он делал чудеса и не раз, покинутый всеми, успевал спасать колонию. Но Бюсси также чувствовал себя способным на великие дела, если представится случай выполнить их. Да, быть замеченным Дюплэ — вот первый шаг навстречу счастью.
— В полном параде? Превосходно! — воскликнул только что вошедший Кержан. — Мой дядя строг относительно этикета: я забыл вас предупредить об этом.
И он не без острого чувства зависти восхищался изяществом и грацией своего товарища, в его царственном голубом сюртуке с золотым галуном, из-под которого виднелись жилет и красные панталоны. Он любовался его белой, женственной рукой и красивой ногой, обтянутой шелковым чулком.
— Вы великолепны! — сказал он со вздохом. — Вы похитите сердца всех наших красавиц.
— Не насмехайтесь! — сказал Бюсси. — По-моему, я ужасен в этом военном мундире, состоящем из сочетания кричащих цветов.
— Если мундир нехорош, то вы, несомненно, скрашиваете его. Но, будьте покойны, мы еще успеем выказать всю нашу грацию, в каком нам будет угодно костюме, на ближайшем балу у губернатора.
Марион подала Бюсси шпагу и треуголку; и молодые люди отправились пешком.
Стояла чудная погода. Муссон дул теперь правильно. Принося частые дожди, он освежал воздух: и все расцвело и зеленело. Бюсси восхищался Пондишери, который казался огромным парком.
— Это Версаль, — говорил он, — но Версаль тропический, с гигантской растительностью, великолепие которой не мог себе представить король-Солнце.
— Мы теперь в благородном квартале, — сказал Кержан. — Внутри стен город не так свеж и приятен, хотя и очень разукрашен моим дядей. Все пространство вокруг Пондишери, от моря до реки Арианкопан, шириной в милю, образует полукруг в шесть миль длиною; оно окружено прочной изгородью из кокосовых и других пальм, укрепленной снизу алоэ и огромными кактусами, которые делают ее непроницаемой. Это — очень надежная оборона от кавалерии, а пехота изорвалась бы в клочки, стараясь пробраться сквозь нее. Такая изгородь прежде окружала земли, пожалованные французам местными принцами. Ее называют также пограничной изгородью. Нужно посмотреть ее: это очень интересно.
— Значит, здесь живет избранное общество?
— Избранное и среднее: всякий, кто имеет какой-нибудь доход, считает за честь жить в изящном квартале. Кроме того, так как колония прежде всего торговая, то купцы пользуются некоторым уважением; и общество поневоле очень смешанное.
— Разве Людовик XIV не объявил, что человек благородного происхождения не унижает своего достоинства, занимаясь торговлей с купцами Индии? — сказал Бюсси. — Таким образом, это является для них как бы привилегией.
Хотя и не было толкотни, по аллеям сновали взад и вперед всевозможные экипажи: паланкины, которые несли черные, сопровождаемые тремя рядами телохранителей в белой одежде; роскошно раскрашенные и лакированные носилки, которые несли ливрейные лакеи; колесницы с золоченой крышей, запряженные быками; наконец, большие кареты с ажурной решеткой наверху и с занавесями, расписанными гербами. Иногда, ворча, торопился верблюд с гонцом на спине или слон шел, опустив и изогнув хобот, повинуясь палочке «магу», сидевшего у него на шее и коловшего его в ухо; а на спине у него восседал какой-нибудь индусский вельможа; красный чепрак, вышитый на углах, развевался и хлопал при каждом огромном шаге слона.
Резиденция индусского губернатора была построена в стиле версальского дворца, но с более яркой, пестрой роскошью и с некоторыми приспособлениями к климату страны, вроде веранд и открытых галерей.
Оба офицера вошли на почетный двор, охраняемый гренадерами и сипаями, и, так как Кержан был из придворных, дежурный привратник пропустил их одних в парк.
Этот парк нисколько не походил на подстриженный и правильный парк версальского дворца. Он был, безусловно, фантастичен: самые красивые индусские растения, искусно подобранные и сопоставленные, представляли ряд оттенков, начиная с самого светлого зеленого и кончая почти черно-зеленым, что производило необыкновенное впечатление. Листья, то огромные, металлические и резные, то тонкие, развевающиеся, как волны лент, то жесткие, острые, усеянные шипами, то легкие и прозрачные, подобно перьям или дыму, громоздились одни над другими, стараясь выступать вперед. Над ними вдруг вздымались прямые стволы и высоко-высоко раскидывали свою листву в виде султанов или прозрачных колосьев, выходивших из их разорванной средины, а коричневые волокна висели, как спутанные волосы.
Среди всей этой зелени было разбросано множество незнакомых цветов, которые наполняли воздух своим горячим благоуханием. Тысячи птиц и бабочек летели с криком и пением, напоминая разбросанные повсюду искры пламени.
Восхищенный Бюсси медленно подвигался вперед.
Вдруг, заглушая птичий концерт, раздалась жалобная и нежная музыка: это плакала и дрожала скрипка, и протяжные звуки выливались в печальный, трогательный напев.
— Тише! — сказал Кержан, прикладывая палец к губам. — Это мой дядя.
Они остановились под широко раскрытым окном, откуда неслись звуки.
— Видите, он сочиняет, — тихо продолжал Кержан. — И, судя по напеву, душа его печальна.
Они слушали, притаив дыхание, пока пела скрипка. Вдруг она умолкла после шумной каденцы, окончившейся нервным, сильным аккордом, словно музыкант хотел сказать, что силой души и воли надо победить горе и препятствия.
Несколько времени спустя Дюплэ показался в окне, все еще держа свой инструмент. Он был в рубашке; его кружевное жабо было немного смято.
— Браво, дядя, браво! — воскликнул Кержан.
— А! Вы слушали меня, нескромный господин!
Увидя Бюсси, Дюплэ поклонился.
— Войдите! — прибавил он. — Я к вашим услугам.
И он быстро отошел от окна. Несколько минут спустя их ввели в роскошную гостиную. Вскоре поднялась богатая драпировка и показался Дюплэ. На нем был очень простой, серый полотняный сюртук без шитья.
Увидя вблизи губернатора, — того, которого туземцы, так же как и европейцы, называли «великим губернатором», Бюсси почувствовал как бы сотрясение: так живо он ощутил присутствие человека, стоявшего выше него, повелителя, господина.
Дюплэ не было еще пятидесяти лет, и ни одна морщинка не изменила его энергичных черт. Он предстал перед ними во всей своей красоте, нравственной и физической; благородство мыслей украшало внешнюю форму. У него был большой широкий лоб, прямой нос, маленький серьезный рот, низ лица широкий и твердый — признак непреклонной воли. Его черные большие глаза, обыкновенно очень кроткие, по временам загорались таким пронизывающим блеском, что нельзя было выдержать их пламени.
Прежде всего он молча устремил на Бюсси подобный взгляд, как бы желая заглянуть ему в душу. В этом взгляде было беспокойство и надежда — что-то такое, что, казалось, говорило: «Может быть, это и есть человек, которого я ищу».
Несмотря на волнение, Бюсси не опустил глаз. Он выдержал этот немой допрос без гордости, но и без робости, и дал читать в темной лазури своих глаз. Но Дюплэ быстро смягчил выражение своего взора и, прерывая молчание, которое могло показаться оскорбительным, подошел с любезной улыбкой.
— Капитан! — сказал он. — Я поистине рад видеть вас здесь. Я слышал о вас только одни похвалы и должен даже извиниться перед вами: если мы не испрашиваем для вас креста святого Людовика, так это потому, что другие офицеры дольше служат, и хотя и меньше заслуживают, но нужно иметь некоторое уважение к старшинству.
— Сударь! — сказал Бюсси, кланяясь. — Ваша похвала будет для меня всегда драгоценнее всех крестов в мире.
Дюплэ дружественно расспрашивал молодого офицера о его положении, о его служебных делах и планах. Он слушал его со вниманием и интересом.
— Могли бы вы без отвращения поселиться в Индии на долгие годы? — спросил он его наконец.
— Мне кажется, — ответил Бюсси, — что моя судьба совершится в ней: еще не зная ее вполне, я страстно люблю эту страну.
— Он вам не говорит всего, дядя, — заметил Кержан. — Он бегло говорит по-тамильски и, кажется, также по-персидски.
— В самом деле! — вскричал Дюплэ, бросив еще раз на Бюсси взгляд, полный надежд. — Вот чего я не мог добиться ни от одного офицера, даже от этого лентяя Кержана.
— Ах, дядя! Я буду драться, сколько вам угодно, я с радостью пролью за вас всю свою кровь, но не заставляйте меня учиться чему-нибудь. Я всегда был плохим учеником.
— Да, я знаю. Очень храбрый и преданный, но повеса, гоняющийся за удовольствиями, — сказал Дюплэ со снисходительной улыбкой.
— Что делать! Молодость бывает только раз в жизни, — отвечал, вздохнув, Кержан.
— Ну, я должен вас покинуть, — сказал губернатор, вставая. — Мне предстоит принять сорок человек. Да, трудненько мне будет явиться к ним с веселым лицом.
— Разве вы нездоровы?
— Нет, но беспокоюсь и сильно не в духе.
— Разве колонии угрожает какое-нибудь новое несчастье? — живо спросил Кержан. — Вы нам ничего не говорите о Мадрасе. Свободны ли наконец наши друзья? Усмирили ли ла Бурдоннэ?
— Я возмущен поведением этого господина, — печально сказал Дюплэ. — Почти невероятно, что этот человек, который насчитывает в своей жизни столько славных дел, который основал Бурбонскую колонию, доставляет нам такое печальное зрелище. Я едва осмеливаюсь сказать вам, каким преступлением он заканчивает эту кампанию.
Дюплэ посмотрел вокруг себя, чтобы убедиться, нет ли кого в зале.
— Поверите ли, господа? — продолжал он, понизив голос. — Чтобы вывернуться из этого дела, он совершил настоящий подлог! В договоре о выкупе он позволил себе вставить статью, по которой английский губернатор и его совет, чтобы иметь право заключить договор, перестают быть военнопленными с той минуты, как начнутся переговоры. Сделав это, он удостоверил англичан, будто губернатор Пондишери обязался возвратить Мадрас за миллион сто тысяч пагод и что город должен быть очищен в январе. А в то же время у него в кармане лежало письмо, в котором мы окончательно отвергаем эту сделку.
— Это чудовищно! — воскликнул Кержан.
— Теперь он наскоро собирает остатки своей эскадры и, зная очень хорошо, что обманывает англичан и что мы не исполним его обещаний, уезжает или, вернее, бежит, унося свою добычу, осыпаемый проклятиями, — он, которого мы приняли, как Мессию! Ах! — прибавил он, вздыхая. — Завоевание Мадраса дорого нам обходится и ставит нас лицом к лицу с пропастью. Но, тем не менее, это важная победа, и нам нужно открыто отпраздновать ее. Вот почему я на следующей неделе даю бал. Я думаю, вы сделаете нам удовольствие и честь присутствовать на нем, господин Бюсси, Ну, а теперь я убегаю, — прибавил он, делая прощальный жест. — А то я никак не успею принять всех.
Глава VIII
ТОМЛЕНИЕ
— Урваси! Ее зовут Урваси, — говорил Наик, овевая своего господина метелкой из хвоста яка, чтобы отогнать насекомых.
Бюсси лежал в гамаке между деревьями своего сада, истомленный жарой и благоуханием кустов.
— Урваси! — повторил он. — Какое странное имя! Между тем оно мягко звучит. Что такое значит Урваси?
— Звезда, или, вернее, небесная нимфа, которая навлекла на себя гнев Индры, потому что влюбилась в смертного.
— Ну, так эта история могла бы повториться: царица, влюбленная в варвара! Говорят, что ненависть очень часто переходит в любовь. Но разве ты мне не рассказывал, что она невеста одного мусульманского принца? Как же это? Мавр должен быть ей так же ужасен, как я сам.
— Я не знаю, господин, — отвечал Наик. — Могущественным людям многое прощается. Возможно, что ее маленькое королевство находится в опасности: благодаря этому она принуждена принять защиту и союз, который на самом деле должен быть ей противен.
— А как же Панх-Анан относится ко всему этому?
— Страх потерять богатые доходы, если царица лишится своих владений, должен внушать ему тысячу тонких соображений, чтобы доказать возможность брака и оправдать святотатство. Одно из условий, впрочем, — уважение к религии царицы.
— Кто такой жених?
— Принц из дома старого субоба, Низам-эль-Мулька, то есть царя Декана. В один прекрасный день власть может перейти к принцу, а Декан — это половина Индии!
— Что же я значу, в самом деле, в сравнении с таким могуществом! — сказал Бюсси. — А между тем, я поборолся бы, если бы был богат и независим. Ах, Наик, нет ли среди сказок, которые рассказываются вечером, при лунном свете, в зарослях бамбука, какой-нибудь правдоподобной истории о спрятанном сокровище?
— Если верить сказке, то под каждым деревом, в каждой развалине скрыты сокровища, — сказал Наик, смеясь. — Но те, кто ищет их, умирают от нищеты.
— Ну, так подумаем о чем-нибудь другом, — сказал, вздохнув, Бюсси. — Ах, видишь ли, мне тяжело жить. У меня нет сил противостоять этому безумству, которого я не могу больше скрывать от тебя. Чувствовать себя неподвижным, словно приклеенным, не бывать в состоянии действовать, предпринять что-нибудь, чтобы приблизиться к ней, бродить вокруг тех мест, где она живет, подстеречь ее, застигнуть ее врасплох, — это бездействие, вот что волнует и раздражает меня.
— Ну, так отправимся в путь. Пойдем в Бангалор.
— Ты ничего не понимаешь, славный Наик! — сказал, улыбаясь, маркиз. — Покинуть свой пост, обесчестить себя, заслужить смерть — вот все, что меня ожидает тогда.
— Так отпусти меня. Я постараюсь еще раз пробраться к ней и доставить тебе сведения.
— Нет, нет! Что ты можешь еще узнать. И потом, что со мной станется, если тебя не будет тут, чтобы разговорить мое горе, как ты выражаешься. Ах, подумать только, что я был без сознания, когда держал ее в руках! — продолжал он, закрывая лицо руками.
Наик попробовал успокоить его, тихо качая гамак, как будто он убаюкивал ребенка.
— Есть таинственные травы, — говорил он вполголоса. — Из них составляют всемогущий напиток, при помощи которого все дневные желания осуществляются во сне. Я поищу этих трав, составлю напиток, и божественная Майя посетит тебя.
— Разве ты колдун? — спросил маркиз. — В таком случае, изобрети лучше любовный напиток, который зажег бы в ней страсть ко мне.
— Подобные любовные напитки существуют. Правда, что составлять их и пользоваться ими — грех. Если ты хочешь, я совершу святотатство. Но чтоб иметь успех, нужно подождать того времени, когда саламандры влюбляются.
— С каким ты серьезным видом это говоришь! — воскликнул Бюсси, который не мог удержаться от смеха. — Как ты можешь, обладая таким светлым и свободным от предрассудков умом, верить в подобные глупости?
— Природа полна тайн, — важно сказал Наик. — Мы проходим мимо чудес, не замечая их, потому что они скрыты двойным покровом от наших несовершенных чувств. Но есть мудрецы, которые, в силу добродетели и глубокого размышления, приподняли некоторые покровы и познали тайну чудес.
— Ты убежден, и я не хочу тебе противоречить, — сказал маркиз. — Когда же саламандры влюбляются?
— В начале месяца читара.
— В таком случае нам придется долго ждать! А покамест скажи мне имя этого принца из Декана, который должен жениться на царице, чтобы я мог узнать его, если мне случится встретиться с ним.
— Его зовут Сайе Магамет Хан, Алеф Даула Багадур, Салабет-Синг.
— Так коротко?
— Большинство этих имен — титулы; принца же зовут проще: Салабет-Синг, то есть Страшный Лев.
— Он молод?
— Совсем молоденький: ему едва двадцать лет.
— Он красив?
— Я его никогда не видел, — сказал Наик, — и ничего не знаю о нем.
— Даже где он живет?
— Это неизвестно. Он прячется от двора старого Низам-эль-Мулька, где ему грозят убийцы и яд.
— Почему это? Разве у него есть враги?
— Не больше, чем у других; но это всегда так бывает подле трона. Субобу больше ста лет; и говорят, его наследство будут сильно оспаривать.
— Так, значит, моего соперника зовут Страшным Львом? — сказал Бюсси, помолчав. — Ему двадцать лет; он принц и может надеяться стать владыкой самого прекрасного королевства в мире. Вот так преимущества перед простым капитаном волонтеров!
— Но он, конечно, не любим. Эта свадьба, о которой давно говорят, все откладывается.
— Может быть, Салабет-Синг очень некрасив, безобразен; может быть, он хромоногий, как Тимур? — сказал Бюсси, смеясь. — Покамест мы можем собирать над его головой все неудачи и препятствия нравиться: это не прибавит ни одного козыря к нашей игре. Ах, мой Наик! Я так нуждаюсь в твоем святотатственном любовном напитке! Я заболею в ожидании, когда саламандрам заблагорассудится полюбить!
И Бюсси закрыл глаза, как бы собираясь заснуть; но Наик, склонившись над ним и тихо обмахивая его, услышал вскоре, как он пробормотал:
— В самом деле! Нет ничего восхитительнее этого имени — Урваси!
Глава IX
ПРАЗДНИК У ГУБЕРНАТОРА ИНДИИ
Один из исполинских швейцаров, которые во все горло выкрикивали имена и титулы приезжавших, у входа в огромную залу, залитую золотом и светом, крикнул, покрывая своим голосом шум:
— Маркиз Шарль де Бюсси, капитан волонтеров!
Молодой человек вошел, и ему показалось, что он попал на маскарад: так вокруг него были перемешаны нации и костюмы. Тем не менее, почти все женщины были во французских туалетах, шитых по самой последней версальской моде; они занимали массу места своими кринолинами.
Дюплэ стоял под балдахином, украшенным гербовыми лилиями, у кресла, очень похожего на трон. Он был в камзоле, вышитом золотым галуном, с широкой лентой св. Людовика через плечо. Рядом с ним сидела его жена.
Перед ним оставалось большое пустое пространство. Гости чинно подходили к чете, отвешивали поклон и удалялись. Дюплэ отвечал поклоном, улыбкой или любезным словом. Он делал несколько шагов навстречу важным особам. Потом гости рассыпались по гостиным, галереям, иллюминированным садам, образуя блестящую и веселую толпу.
Когда дошла очередь до Бюсси, Дюплэ протянул ему руку и представил его своей жене.
— Это — мой самый искусный министр, — сказал он, смеясь, — половина меня самого. Это «бегума» Жанна, как ее зовут туземцы, что значит почти царица. Берегитесь ее: она знает все индусские наречия.
Бегума смеялась. Она была очень привлекательна и великолепна: полуиндуска по типу, она была одета в серебряную парчу и обвешана драгоценностями, как идол.
— Не слушайте моего мужа! — сказала она капитану Бюсси по-индостански. — Любовь ко мне ослепляет его.
— Заслужить любовь такого человека, сударыня, это — самое славное торжество, — отвечал он на том же языке. — Видеть вас рядом — все равно, что видеть Раму и Ситу.
— Он очень хорошо говорит, — сказала она Дюплэ вполголоса, пока Бюсси удалялся.
В нескольких шагах стоял Кержан, среди толпы молодых девушек. Он бросился к своему другу.
— Идите сюда, не теряйтесь среди этой чуждой толпы; я хочу вас познакомить с очаровательными особами.
Молодые девушки умолкли и перестали смеяться, рассматривая исподтишка гостя, красота которого обратила на себя их внимание. Действительно, он был очень хорош в своем изящном костюме, привезенном из Парижа, который сидел на нем безукоризненно. Камзол из двуличневой тафты ложился легкими складками на фалдах, образуя фижмы, обшлаги и отвороты сплошь были вышиты синим и золотым шнурком; жилет из светло-голубого шелка и такие же панталоны были тонко расшиты маленькими розами и незабудками; шелковый чулок обрисовывал тонкую ногу, а ботинки с высоким каблуком делали ее еще меньше.
— Господин маркиз де Бюсси, моя сестра Луиза де Кержан.
Молодая девушка, тонкая и грациозная, похожая на Кержана, сделала книксен.
— Мадемуазель д’Отей, мадемуазель де Бюри и моя двоюродная сестра, которую я приберег под конец, мадемуазель Шоншон.
Девица Шоншон опустила глаза, открыла и закрыла веер. Она была немного полна, что было прелестно в ее лета; ей было всего семнадцать лет. У нее были черные глаза с прекрасными ресницами. От ее парижского туалета из светло-розового шелка с белой отделкой и длинным корсажем на костях, отделанным лентами, веяло какой-то восточной негой.
С эстрад, убранных гирляндами цветов, грянули оркестры. Играли гавот.
— У вас есть дама? — спросил Кержан капитана Бюсси.
— Если мадемуазель Шоншон соблаговолит согласиться? — сказал Бюсси, кланяясь.
Шоншон положила кончики пальцев в руку молодого человека.
— Как, кузина соглашается? Но ведь это победа! — воскликнул Кержан. — Она так ленива, что чаще всего говорит, что уже приглашена.
Молодая девушка ударила Кержана веером.
— С какой стати сейчас же рассказывать о моих недостатках?
Кержан отправился с мадемуазель Отей вслед за сестрой, которую уводил один молодой человек.
Танцевали в разных гостиных, галереях, а также в саду, под большим наметом; туда-то Шоншон увлекла своего кавалера, потому что там, как она говорила, было прохладнее. Они исполняли медленный и величественный танец в два приема; Бюсси танцевал несколько машинально, думая о другом. Иногда молодые люди останавливались, чтобы пропустить другие пары.
— Почему вы ничего не говорите? — спросила вдруг Шоншон, поднимая на Бюсси свои большие, удивленные, еще несколько детские глаза.
Молодой человек вздрогнул, как бы пробужденный от сновидения.
— Почему? Потому что боюсь сказать вам обычные пошлости. Мне кажется, что это было бы неуважением к вам.
— Отчего! Я привыкла их слушать. Разве любезно молчать?
— Что же я вам могу сказать? Все, что я знаю о вас, вы знаете так же хорошо, как и я, а именно, что вы очаровательны и что ваш туалет восхитительно идет вам.
— Ну, хорошо, не будем говорить, — сказала молодая девушка, надув губки.
Но маркиз сбросил с себя свою мечтательность. Его испугала мысль показаться глупым и нелюбезным с красавицей, дочерью Дюплэ. Он осмотрелся. Там было много буржуазок и купчих, родившихся в Пондишери и никогда не выезжавших оттуда. Смешные мелочи их манер и туалета бросались в глаза обывателю Версаля. Они послужили ему темой для разговора; он блеснул тонкой насмешкой насчет наивных колонисток и, слегка подсмеиваясь над ними, привел в восторг Шоншон. Не успел кончиться гавот, как она уже простила ему первоначальное молчание; а когда он отвел ее на место, молодая девушка была в восхищении от грации и ума своего кавалера. Бюсси принялся бродить из залы в залу, рассматривая женщин, радуясь, что он был один и никого не знал. Его взор искал преимущественно восточных женщин; но их, конечно, было очень мало, так как мусульманки не выходят из гарема. Здесь было только несколько индусок и армянок, довольно красивых представительниц своего племени, но без особой занимательности. Мавров же, как их еще называют французы, было, наоборот, довольно много. Они с презрительным видом смотрели на танцующих, не понимая хорошенько, зачем благородные люди дают себе труд прыгать, вместо того, чтобы нанять одалисок или баядерок. Они не любили стоять и завладевали креслами и диванами, оспаривая их даже у дам. Они важно восседали на них, поджав под себя одну ногу, ворочая блестящими глазами и крутя между пальцами свои густые усы.
В открытую дверь Бюсси снова увидел Шоншон, которая грациозно танцевала со скучающим видом. Он остановился на минуту, чтоб посмотреть на нее.
— А между тем, если бы я был честолюбив, — пробормотал он, — если бы я мог отказаться от этого бесцельного и безнадежного безумства, которое смущает мою жизнь, как чудесно было бы мечтать сделаться зятем Дюплэ! Но, увы, я чувствую, что вместе с безумством умрет и мое честолюбие…
Он обернулся и очень удивился, встретив устремленный на него пристальный взгляд.
Рассматривавший его таким образом, был высокий мусульманин, с более гордым и благородным видом, чем у всех присутствующих. Сабля, с выложенной драгоценными камнями рукояткой, была заткнута за вышитый золотом кушак, а на чалме его блестела бриллиантовая звездочка.
Бюсси ответил ему сначала удивленным, потом сухим и раздраженным взглядом; но он не опустил глаз.
— Это что еще! Эта личность меня бесит! — пробормотал Бюсси, хватаясь за шпагу.
Но человек отвернулся и стал точно так же рассматривать другую особу.
— Кажется, это просто его манера держать себя, — сказал про себя Бюсси, удаляясь с улыбкой.
Вдруг, среди шума толпы, до слуха маркиза донеслось имя, которое выкрикнули швейцары и которое заставило его подскочить от удивления.
Не ослышался ли он?
«Знатнейший принц Сайе Магамет Хан, Багадур, Салабет-Синг!»
— Он! Он здесь! Жених Урваси, Страшный Лев! Возможно ли это?
Бюсси поспешил в большую залу, расталкивая всех по пути.
Дюплэ шел навстречу совсем молодому человеку, с тонким, грациозным станом, который обнял губернатора и взял его за подбородок, что считалось самым сердечным и почетным приветствием у индусов. Потом принц подошел к г-же Дюплэ и поцеловал у нее руку по-французскому обычаю.
Несмотря на все свои усилия, Бюсси не мог приблизиться и видел только спину.
— Он не хромой и не горбатый; будем надеяться, что он кривой.
Принесли кресло для принца. Он сел рядом с Дюплэ, под балдахином, украшенным гербовыми лилиями.
Теперь молодой принц сидел лицом к Бюсси; капитан мог рассматривать его, сколько ему было угодно.
Даже сопернику невозможно было не признать его безукоризненной красоты!
Юность принца придавала очаровательную бархатистость его цвету лица со светло-бронзовым оттенком. Его продолговатые черные глаза с прекрасными бровями бросали из-под ресниц мягкий и какой-то томный взгляд. Замечательно правильный овал лица и ярко-красный, полуоткрытый, улыбающийся рот с жемчужными зубами поражали женской нежностью; и действительно, в своем богатом восточном костюме, вышитом золотом, с ожерельями, браслетами, серьгами, застежками из драгоценных камней, он имел вид очаровательной женщины.
— Да это совершенство! — сказал Бюсси про себя, сдвинув брови. — В моих мучениях недоставало только ревности. Что значу я сравнительно с этим человеком, которого я так ненавижу и которым так восхищаюсь? Каким образом я могу оскорбить его, вызвать на дуэль, чтобы попытаться убить его? Ха! Он посмеется надо мной и велит своим рабам изменнически умертвить меня. Нужно признать себя побежденным и окончательно отказаться от всякой борьбы, изгнав даже воспоминание об этом безумии, которое, в конце концов, доведет меня до совершенного отупения.
Салабет-Синг разговаривал с г-жой Дюплэ и, по-видимому, был очень внимателен и нежен с ней. Он, казалось, умолял, просил о чем-то, в чем она отказывала ему с кроткой и ласковой улыбкой.
— Что же я тут стою, привороженный, как птичка змеей? — вдруг сказал себе маркиз. Он гневно и резко повернулся и ушел. Проходя через одну галерею, Бюсси снова увидел воина, который так странно рассматривал его. Он стоял, прислонившись к портику, скрестив руки, с холодным и презрительным видом, и продолжал рассматривать всех, кто проходил мимо него.
— Мне хочется завести ссору с этим господином, — сказал про себя маркиз, — и сорвать на нем мое дурное настроение.
Он подошел с насмешливой и дерзкой улыбкой, в то время как незнакомец, не видевший его, бормотал с досадой:
— У этого незаконнорожденного племени всегда белые волосы и безбородые лица; голубые глаза тоже не редкость.
Тогда Бюсси подошел к нему и сложил руки, подражая позе воина.
— Скажи на милость, чего ты ищешь так настойчиво? — спросил он его. — Мне кажется, тебя никто здесь не знает. Не шпион ли ты?
Молодой человек говорил по-французски.
— Я не понимаю языка неверных, — презрительно ответил воин.
— Ну, так «сын этого незаконнорожденного племени» имеет то преимущество перед сыном законного племени, которое происходит от самого дьявола, что он его понимает и говорит на его наречии, — сказал Бюсси, заговорив по-индусски.
— Почему ты стараешься оскорбить меня? Я тебя не знаю.
— Зачем же ты рассматривал меня?
— Потому что у тебя голубые глаза.
Бюсси расхохотался.
— Я не принимаю этого извинения, даже допуская, что ты сумасшедший.
Глаза незнакомца бешено сверкнули.
— Моя сабля жаждет крови! — воскликнул он. — Ты будешь фонтаном, чтоб напоить ее.
— Если ты не изобразишь из себя ванну, куда погрузится моя шпага.
— Решено, бьемся, и рассудит нас Аллах! — сказал воин, хватаясь за саблю.
— Постой! У незаконного племени нет обычая давать зрелища дамам. Если ты хочешь, мы зарежем друг друга на рассвете.
— Как тебе будет угодно. Где я тебя найду?
— У дворца, у подножия статуи французского короля.
— Мне, право, стало легче от несправедливой ссоры с этим подданным Великого Могола, — сказал он, продолжая свой путь.
Он дошел до садов, не замечая, что незнакомец следил за ним издали.
Праздник становился все веселей и веселей; пары танцевали теперь на большой лужайке с большей непринужденностью и живостью. Ужинали на плоской, позолоченной посуде, за маленькими столиками, расставленными повсюду. Молодые виночерпии, одетые по-восточному, без устали разливали шампанское. Головы разгорячались; веселье становилось все более и более шумным.
Бюсси углубился в чащу зелени, ища пустынных аллей. Но не один он искал их: уж, конечно, влюбленные медленно гуляли там, нашептывая друг другу нежные слова. Он повернул назад. Выйдя на ярко освещенную площадку, маркиз увидел собравшуюся в кружок толпу, которая следила за чем-то с напряженным вниманием, а за чем — не было возможности разглядеть. Он спросил, что там такое.
— Нечто вроде скелета, который предсказывает судьбу, — отвечали ему.
Вот идея! Не может ли он узнать чего-нибудь о своей судьбе? Он нисколько не верил во все эти колдовства; но раз это была игра, почему же не попробовать?
Он ловко пробрался вперед и очутился в первом ряду зрителей. Тут он увидел факира, поражавшего действительно фантастической худобой: черная кожа обтягивала его кости и мускулы. Нагой, с одним только куском красной материи вокруг бедер, он сидел на земле, зажав свою острую бороду между колен, на которые он опирался подбородком. Своими пальцами, или, вернее, когтями, он перебирал пластинки из слоновой кости, покрытые таинственными знаками. Эти пластинки лежали на земле, между его растопыренных ног; и он смотрел на них из-за колен со смешной гримасой, скосив глаза. По правую его сторону стоял переводчик, по левую — лакированный персидский ларчик, в котором находились талисманы.
Среди смеха присутствующих странное лицо факира выражало почти зловещую суровость. Он открывал прошлое, а тем, кто не боялся, и будущее. Он также разоблачал пороки, обличал пьяниц и кутил, что вызывало смех. Иногда, когда он возвещал о скорой смерти или несчастье, внезапно водворялась тишина. Колдун был нанят, чтобы забавлять приглашенных; но, несмотря на это, ему бросали серебряные монеты, которые он брал, не поблагодарив, и прятал под ногой.
Подошла Шоншон, нерешительно и немного покраснев.
Что ей скажут? Бюсси насторожился.
Факир перебирал костяные пластинки с большим вниманием, страшно кося глазами. Его приподнятая бровь скрывалась под растрепанными волосами. Он заговорил глубоким и низким голосом:
— Источник, из которого ты хочешь пить, опьянит, тебя на несколько дней, но потом высохнет под твоими губами.
— Какие ужасы он говорит! — воскликнула Шоншон, отступая.
— Вы верите этим глупостям? — спросил ее Бюсси.
Факир поднялся и подошел к молодому человеку, на которого уже с минуту пристально смотрел.
— А ты сам не веришь?
— Конечно нет! — отвечал Бюсси. — Ты можешь предсказывать мне все, что тебе угодно: будущее далеко! Но бьюсь об заклад, что ты не скажешь мне ничего из моего прошлого, что могло бы меня поразить.
Факир пронизал Бюсси пристальным, блестящим взглядом, положил руку на его плечо и, помолчав с минуту, медленно сказал:
— Я сделал тебе больно, опершись на свежую рану, которую тебе нанес тигр?
Маркиз вздрогнул и побледнел.
— Признаюсь, я взволнован, — сказал он. — Возможно ли провидеть неисповедимые судьбы!
— Я вижу через время и пространство так же хорошо, как я видел рубец через материю твоей одежды; и это благодаря особой власти, которой я достиг путем размышления.
— Таинственная власть!
— Разве таинственна подзорная труба, которая приближает к твоим глазам то, что недоступно зрению? — важно сказал факир. — Много земных вещей кажутся невозможными, потому что они неизвестны. Я был погребен в течение шести месяцев в замурованной могиле, засыпанной землей, и лежал в ней в трех запечатанных гробах. Надо мной посеяли и сжали рожь. Когда отрыли могилу и увидали, что я открыл глаза и заговорил, толпа распростерлась передо мной, король бросился к моим ногам и предложил мне свои сокровища. Между тем в этом воскресении не было ничего волшебного. Я лучше других знаю законы природы — вот и все.
— Возможно ли, что у тебя мало гордости, когда ты стоишь так высоко над людьми? Ах, говори, предскажи мне мою судьбу!
— Я тебе не скажу всего будущего, сын мой; к чему заранее открывать книгу, которую тебе придется читать? Ты честолюбив; и ты прав, так как достоин того, к чему стремишься. Сегодня же вечером ты сделаешь первый шаг по дороге, которая приведет тебя к желанному концу. Но если ты хочешь, чтобы исполнились твои самые заветные мечты, слушай, что я тебе скажу, и не забывай моих слов.
— Я слушаю вас с доверием и уважением.
— Не понимая ничего в волшебстве, ты должен быть однако магом. Ты должен победить воображаемое зло мнимой силой. Запомни это. Твоя судьба интересует меня: я тебя еще увижу.
Сказав это, факир быстро удалился и затерялся в толпе.
Маркиз сел на мраморную скамейку; в ушах у него шумело, сердце сильно билось. Он, конечно, не верил в чудеса, и это волнение пройдет; но в данную минуту он взбаламучен.
Он так был поглощен своими думами, что не заметил, как мусульманский воин, не перестававший следить за ним, сел на скамейку недалеко от него. Незнакомец долго молча рассматривал его; и так как Бюсси, уставившись в землю, все еще думал, что он один, тот слегка дотронулся до его руки.
Маркиз подскочил и, узнав человека, которого он вызвал на дуэль, поднял глаза к небу, где еще блестели звезды.
— Еще день не наступил, — сказал он. — Чего ты от меня хочешь?
— Мне кажется, что ты человек, которого я ищу.
— Ну, так ты меня слишком рано ищешь, потому что наша встреча назначена на рассвете.
— Я не должен убивать тебя, если ты тот, за кого я тебя принимаю.
— Как! Ты искал меня раньше, чем я тебя вызвал? Разве ты меня знаешь?
— Я тебя не знаю, а вот уже много дней, как ищу тебя с зари до ночи.
— Вот это любопытно! Знаешь ли ты, как меня зовут?
— Нет.
— А тебя как зовут?
— У меня славное имя, и я не имею ни малейшего основания скрывать его: меня зовут Арслан-Хан.
— Ну так, Арслан, твоя слава не дошла до меня. Твое имя не вызывает во мне никаких воспоминаний. Тебе, наверное, придется еще поискать, так как я не тот, за кого ты меня принимаешь.
— Я слышал слова святейшего факира Сата-Нанды. Ведь он был послан сюда много, чтобы предложить свои услуги оживить праздник губернатора. Неужели ты думаешь, что такой человек, как он, согласился бы обесчестить божественную науку ради забавы этих зевак? Он был здесь единственно для тебя; и мои ожидания не обманули меня. Он через твою одежду увидел рану, нанесенную тебе тигром: именно по этому знаку я и должен был узнать тебя.
— Кто же послал тебя? — спросил маркиз с особенным вниманием.
— Некто, кто тебя ненавидит.
— Женщина?
— Царица!
— Урваси! Так это Урваси! — воскликнул молодой человек, задыхаясь от волнения.
— Не произноси так бесцеремонно имени царицы!
— Зачем она прислала тебя? Чтобы убить меня?
— Если бы для этого, то тебя уже не было бы в живых. Нет, до сих пор мне еще не дано приказания убить тебя.
— Оно будет дано позже: но покамест чего же от меня хотят?
— Благодаря тебе, эта царица, которую ты смертельно оскорбил, доведена до отчаяния; жизнь опостылела ей, потому что ты, не довольствуясь тем, что отверг все ее подарки, мешаешь ей, без сомнения, посредством чародейства очиститься от осквернения.
Бюсси удвоил внимание. Чародейства! Теперь он понял слова факира: в них заключался талисман, благодаря которому он мог восторжествовать. Этот факир был бог; маркиз хотел снова увидеть его, сжать в своих объятиях этот божественный скелет.
Но Арслан продолжал:
— Царица считает тебя чародеем; но я хорошо видел, что ты не маг, потому что ты не сумел скрыться от взоров Сата-Нанды.
— Кто тебе сказал, что я хотел скрываться? — возразил Бюсси.
— Ты отрицал его науку.
— Чтобы испытать его; но он очень скоро узнал во мне равного. Мы обменялись таинственными словами.
— Так, значит, все церемонии очищения, исполненные твоей жертвой, оказались тщетными по твоему желанию?
— Все ли обряды она исполнила? — спросил преважно Бюсси.
— Конечно! Брамин помогал ей и всем распоряжался. Он сам нарвал, при восходе солнца, священной травы, которую он называет Дарбой Вишны; он сам жег благовония и говорил всемогущие слова. Три раза произносили самое торжественное заклинание, и все три раза бесполезно.
— По какому признаку узнали, что священная церемония не была принята богами?
— Потому, что царица не приобрела покоя и чувствует себя более, чем когда-либо, сжигаемой осквернением.
— Этого-то именно я и хотел, — сказал Бюсси. — Знай, что пока они жгли Дарбу Вишны, я очищал мандрагору, сорванную при свете луны, и на их магические изречения отвечал гораздо более могущественными, которые уничтожали силу их изречений и обращали их в ничто. И знай, что так и всегда будет.
— За что такое ожесточение?
— Потому что эта женщина виновата передо мной и заслуживает наказания; и я накажу ее, пока она не расплатится со мной за свой долг благодарности.
— Этот ответ предвидели, — сказал Арслан с видом огорчения. — И царица просит, чтобы ты назначил цену или награду, какую тебе угодно. «Пусть он сам назначит выкуп за мой покой», — сказала она.
— О, какой сон! — прошептал Бюсси с сильно бьющимся сердцем.
— Реши же! — сказал Арслан. — И возврати мир этой смущенной душе.
Бюсси глубоко задумался.
— Прежде, — сказал он после долгого молчания, — одно ее слово, улыбка, цветок, сорванный ее рукой, сделали бы меня ее должником. Но теперь, после того, что я вынес, я буду более требователен.
— Я жду! — сказал мусульманин.
— Ну, так вот чего я хочу от нее: поцелуя! Больше ничего. Но этого я требую и не приму никакого другого выкупа.
— Поцелуя! — воскликнул Арслан, плохо сдерживая свое негодование.
— Я сказал!
— Я только простое орудие повиновения: я передам твой ответ.
— Меня зовут Шарль де Бюсси: ты меня легко найдешь.
— Господь да будет с тобой! — сказал Арслан, приложив руку сначала к сердцу, потом ко лбу.
— Да хранит тебя Бог! — ответил маркиз, кланяясь.
Воин быстро удалился и исчез.
Бюсси торопился домой, чтобы остаться одному, и направился к выходу; но в ту минуту, когда он проходил в почетные ворота, его остановил офицер.
— Капитан! — сказал он. — Губернатор просит вас остаться и подождать его в его кабинете, куда он скоро придет. Он имеет сообщить важные новости генеральному штабу и офицерам.
Бюсси поклонился говорившему и вернулся.
Глава X
НАБОБ СЕРДИТСЯ
Кабинет Дюплэ помещался в обширной высокой зале с широкими окнами; но убранство его было очень простое. Там стояло несколько кресел и большой стол, на котором была разложена карта полушария; на полках лежали книги и списки; на стенах висело много карт.
Г-н Фриэль быстро писал, сидя за столом, тогда как в бесшумно отворявшуюся дверь ежеминутно входили новые лица. Постепенно собирались все члены верховного совета, не задержанные в Мадрасе; офицеры в бальных костюмах, еще разгоряченные последними танцами, быстро входили, вытирая себе лоб тонкими, раздушенными платками.
— Вам что-нибудь известно, Фриэль?
Но советник молчаливым кивком головы дал понять, что он очень торопится писать.
В кабинет доносились глухой шум продолжавшегося праздника и звуки музыки. Бюсси стоял у окна и смотрел на группы гуляющих. Из бутылок шампанского продолжали вылетать пробки; и пары танцующих кружились под наметом, слегка колеблемым ветерком.
Но толпа редела. На почетном дворе слышался стук уезжающих карет. По небу разливался розовый свет.
Дюплэ вошел через потайную дверь.
Только одна прямая складка между бровей указывала на его сильную озабоченность; за исключением этого, выражение лица его было спокойно, а в глазах светился лихорадочный героизм. Он опустился в кресло, усталый после стольких часов, проведенных на ногах.
— Господа! — сказал он. — Я имею сообщить вам важное событие, которое я предвидел, но которое наступило скорее, чем я думал: карнатикский набоб осаждает Мадрас.
Послышалось подавленное восклицание.
— Вы знаете, что я обещал Аллаху-Верди возвратить этот город; но я хотел сперва обезоружить его. Несчастное упорство де ла Бурдоннэ не позволило мне сдержать обещание; и гордый мусульманин сердится.
— Ну, так нужно его сдержать сегодня! — воскликнули самые старые члены совета. — Нужно возвратить Мадрас набобу.
— Нет, господа, нет, я этого не думаю! — живо возразил Дюплэ. — Невозможно разрушить вал на глазах у неприятеля; а отдать город таким, как он есть, — было бы настоящим безумием. К тому же, покориться таким образом было бы недостойно нас и поколебало бы наше влияние. По моему мнению, если набоб нападает на нас, нам нужно защищаться.
— Возможно ли это, при таком положении, в которое нас поставили последние события? Нас горсточка европейцев, что же мы можем сделать с целой армией? Нам угрожает также английская эскадра, а нам нечего выдвинуть против нее на море.
— Эскадра — черное пятно на горизонте, — сказал Дюплэ, — а набоб сейчас грозит нам. Если бы мы, с Божьей помощью, одолели его, наше положение, ввиду будущей опасности, было бы лучше. Если же, наоборот, у нас отнимут Мадрас, то мы очутимся совсем близко к погибели.
— Но, наконец, что же вы думаете выставить против набоба?
— Армия набоба состоит приблизительно из десяти тысяч человек. У нас, в Пондишери, пятьсот европейцев и тысяча пятьсот сипаев; в Мадрасе пятьсот белых и шестьсот солдат-туземцев; в общем тысяча европейцев, — гордо ответил Дюплэ.
— Один против десяти! Не думаете же вы броситься в эту игру?
— Вы хотите худшего: вы хотите видеть Пондишери осажденным с суши и с моря; вы хотите, чтобы индусы стали союзниками англичан!
— Сударь! — воскликнул Бюсси, быстро подходя к губернатору. — Я глубоко верю в вашу гениальность: я готов выступить с уверенностью в победе. Обещаю вам вести мои войска к победе.
Дюплэ, побледневший при виде сопротивления совета, улыбнулся молодому человеку.
— Благодарю, капитан! — сказал он. — Нужно быть именно таким, чтобы победить; уверенность — половина победы.
В эту минуту вошел Парадис. Его тщетно искали на балу, откуда он давно ушел, чтобы лечь спать; а так как он жил в Ульгарэ, на свежем воздухе, в деревне, то он и опоздал. Он явился без парика, наскоро одевшись.
— А, вот мой старый инженер! — воскликнул Дюплэ. — Бесполезно и спрашивать его мнения, стоит ему сказать, чтобы он пошел один против целой армии — и он пойдет.
— И я обращу ее вспять! — сказал Парадис с добродушным смехом.
— Господа, я изложу вкратце положение дела, — сказал губернатор, вставая. — Если мы отказываемся от борьбы, мы, конечно, погибли и обесчещены; если мы вступим в борьбу, несмотря на неравенство наших сил, то можно еще надеяться на успех — и тогда мы еще не в руках англичан. Представьте себе, что мы находимся на море, в бурю; господа, прошу вас, не смущайте кормчего, который хочет вас спасти.
— Ну, хорошо, мы согласны! Действуйте. Мы доверяем вам и не будем мешать вам.
— Я этого и ждал от вас, — сказал Дюплэ, вздохнув с облегчением. — Благодарю вас, господа; вы можете удалиться. Я оставлю только офицеров; время не терпит, а дела у нас много.
Члены совета ушли.
Лампы погасли, так как уже совсем рассвело и во дворце настала тишина.
— Готово, Фриэль? — спросил Дюплэ.
— Вашу подпись и печать.
— Я посылаю приказ д’Эспременилю, новому губернатору Мадраса, ничем не рисковать и ограничиться только защитой, — сказал Дюплэ, подписывая депешу. — Я уполномочиваю его действовать только в крайнем случае, не переставая, однако, энергично вооружаться. Тем временем я еще займу набоба переговорами, чтобы выиграть несколько дней. Вот, господа, что я теперь думаю сделать и чего я жду от вас! Так как невозможно рисковать городом, оставив без войск Пондишери, то я хочу перевернуть небо и землю, чтобы собрать и вооружить двести европейцев и семьсот сипаев, командование которыми вверяю Парадису. Де Бюсси остается здесь со своими волонтерами, готовый выступить в случае крайней необходимости. Как только мои люди будут вооружены, Парадис выступит; и если задуманное мною движение удастся, то я сильно надеюсь на успех. Но нужно будет совершить чудеса, мой старый инженер, а я не могу дать вам ни одной пушки.
— У нас будут ружья и штыки, — сказал Парадис, потрясая своей славной, храброй головой.
— В руках такого храбреца, как вы, этого будет достаточно; а европейская дисциплина, если я не ошибаюсь, должна восторжествовать над беспорядочным сбродом индусской армии. Ну, господа, отдохните теперь! — прибавил губернатор, делая прощальный жест. — После полудня приходите к г-же Дюплэ, я сообщу вам новости.
Офицеры поклонились и вышли.
— Останьтесь, Бюсси! — сказал Дюплэ, удерживая молодого человека. — Вы мне нужны. Дело в том, что нужно сделать своего рода нравственный смотр людям, которых я хочу наскоро вооружить. То, что ко мне посылают из Франции, чтобы составить войска, я должен признаться, способно вселить ужас. Это — воры, проходимцы, мошенники, словом, подонки каторги. Но вообще эти люди храбры и охотно жертвуют своей шкурой. Постарайтесь стать физиономистом: выберите мне самых смелых негодяев, — таких, которые уже дрались и в которых еще сохранилась патриотическая жилка. Но не верьте им на слово: они нагло лгут. Вам вручат их судебные процессы, чтобы вы могли проверить их слова. И еще: когда вы покончите с этим, не пренебрегайте вербовкой в городе, если это будет возможно. Обещайте хорошую плату. Я бегу в магазины за мундирами, тогда как Парадис осмотрит оружие. Останьтесь здесь: наши хвастуны придут сюда. Вы оставите тех, которых выберете; а Парадис через несколько часов придет за ними.
Несколько минут Бюсси оставался один, счастливый тем, что ему дали поручение как доверенному. Он восхищался хладнокровием и спокойствием губернатора в таком, действительно ужасном положении. Его приводила в восторг эта смелость гения, который не задумался выступить против целой армии с горсточкой людей.
Вскоре дверь распахнулась настежь, и, в сопровождении двух гренадеров, стали входить существа со свирепыми лицами, в жалких лохмотьях. Они имели вид обвиняемых, которых ведут на суд. Вид красивого молодого человека в бальном костюме, принимавшего их с улыбкой, смутил их. Шелковая одежда и уверенный взгляд дали им почувствовать, что перед ними какое-то высшее существо. Те, у кого были колпаки или шляпы, обнажили свои головы.
Бюсси обратился к ним дружелюбно, доказывая им, что хорошей службой отечеству можно загладить некоторые проступки молодости, приобрести уважение и быстро достигнуть благосостояния.
Фриэль принес список, в котором заключались краткие биографии каждого поименованного. Он выкрикивал их и указывал маркизу на строчки, достойные внимания.
Многие сознавались в мелких грешках. Бюсси, читая список, не всегда мог сдержать гримасу перед такой массой проступков. Но в особенности он отстранял слабых, больных или явно заклейменных оскотинивающим пороком.
Когда Парадис вошел в кабинет губернатора, он мог подумать, что попал в вертеп разбойников; но это зрелище не возмутило его.
— Боже мой, вот добрые малые! — воскликнул он. — Таких-то мне и надо. Они будут великолепны под уздой.
— Молодцы! — сказал Бюсси этим людям, которые сами выстроились в ряд. — Вот человек, под командой которого вы будете служить. Вы счастливы, так как попали под начальство героя; постарайтесь же быть достойными его.
— Да здравствует командир! — воскликнули новые солдаты, потрясая колпаками.
Парадис потирал руки.
— Отправимтесь в уборную! — сказал он. — Мы выйдем из нее в великолепном виде, как куколки, которые становятся бабочками.
Маленький отряд отправился, под предводительством двух гренадеров, Парадис пошел за ними; но прежде, чем выйти, он подмигнул Бюсси и улыбнулся.
— Дело идет в ход! — сказал он.
Когда на другой день, около трех часов пополудни, Бюсси снова пришел во дворец, его провели во флигель, которого он еще не знал, и ввели в красивую гостиную первого этажа.
Все в этой комнате подходило к светло-зеленым шелковым обоям, с более темными полосами, затканными белыми розами. Легкая деревянная резьба широких квадратных кресел была окрашена в тот же зеленоватый цвет. Над дверьми были изображены водяные сцены, а на высоком камине стояли часы из севрского фарфора с нимфами в тростниках.
Офицеры и чиновники входили в гостиную. Вскоре появился Дюплэ.
— Ну, капитан! — сказал он, увидев Бюсси. — Что новенького? Как наша вербовка?
— Я привел тридцать здоровых и храбрых французов. Но, чтобы получить их, может быть, я был не прав: я обещал от вашего имени простить им один из самых важных проступков.
— Вы хорошо сделали, — сказал Дюплэ. — Я люблю, чтобы в решительных случаях офицер умел действовать.
— Вы меня совершенно успокаиваете, сударь: дело идет о тридцати матросах, спасшихся чудом во время кораблекрушения и до того обезумевших от ужаса последней бури, что они бежали, решив никогда больше не вступать на корабль.
— Ба, так вы их нашли? — весело сказал Дюплэ. — Я много думал об этих несчастных беглецах; но их не могли отыскать.
— Мне помог только случай… Он, так сказать, лег у моей двери в виде пьяного, который и был одним из этих матросов.
— Вот услужливый случай!
— Придя в себя, он рассказал мне свое приключение. Товарищи, которые, со времени своего бегства, прячутся по лесам и зарослям и неизвестно, чем живут, выбившись из сил, выслали его на разведку, чтобы узнать, достаточно ли их забыли и могут ли они скрываться в городе, чтобы найти там какие-нибудь средства к существованию. Разговаривавший со мной был старшим поваром на корабле; и, кажется, он добрался до земли в суповом котле; то, что он вытерпел во время этого необыкновенного путешествия, чуть не свело его с ума.
— Вот забавно: повар, спасшийся в суповом котле! — сказал Дюплэ. — Тем не менее это не первый случай: я слышал что-то в этом роде о матросе с «Венеры». Пришлите мне тех тридцать матросов: я их очень хорошо приму.
— Они там, на площади, перед дворцом.
— Вот это великолепно! Благодарю: вижу, сударь, что вы умеете быстро и ловко действовать.
Дюплэ позвонил и приказал отвести этих людей в обмундировочную.
В эту минуту два пажа, в красивых ливреях, расшитых золотом, открыли двери и молча стали по обе стороны их.
— Господа, — сказал губернатор. — Моя жена ждет нас.
Он вошел первым, а за ним последовали Бюсси и другие офицеры. Комната, куда они вошли, поразила их неожиданным зрелищем. После покинутой ими вполне французской гостиной, перед ними предстал восточный покой, с мраморным бассейном посреди, в котором бил фонтан. Персидский фаянс редкой красоты покрывал стены и пол, местами устланный коврами и подушками. Потолок представлял голубой свод с золотыми звездами, вокруг которого окна с резными рамами пропускали мягкий дневной свет.
Бегума полулежала на диване, в углублении, отделанном золотой мозаикой и роскошно драпированном. Она курила «гуку», как женщины гарема; и одета она была так же, как они. У ее ног сидела Шоншон с Луизой де Кержан.
— Вчера вы видели маркизу, — сказал Дюплэ маркизу Бюсси, — сегодня перед вами султанша.
Пол комнаты представлял неровности, что давало повод к очень красивому убранству колонками, балюстрадами, лесенками, которые вели к мягким диванам, скрывавшимся в углублениях.
Губернатор сел на площадку подле своей жены; другие же, поздоровавшись с бегумой, разместились, где кому вздумалось. Слуги закуривали гуки и предлагали желающим.
Но капитана Бюсси г-жа Дюплэ удерживала подле себя.
— Не хотите ли быть моим секретарем на нынешний день? — спросила она его. — Хаджи Абд Аллах, знающий по крайней мере десять языков, сказался больным.
— Буду ли я достоин чести, которую вы мне оказываете, сударыня? Я не знаю столько языков.
— Вы знаете по-тамильски: это все, что нужно, так как мы только двое говорим по-тамильски. Таким образом, мы с вами можем разговаривать о чем угодно, — сказала она, смеясь.
— Остерегайтесь девицы Шоншон! — сказал Дюплэ. — Она немного понимает по-тамильски.
— Она хвастается, ленивица, и едва знает несколько слов.
— Я умею говорить: «Мама, как я тебя люблю, и как ты прекрасна»! — сказала Шоншон по-тамильски.
Бегума послала ей воздушный поцелуй.
Вошел морской офицер с депешами.
— Из Мадраса! Наконец-то! — воскликнул Дюплэ.
Губернатор поспешно вскрыл письма и прочел сначала про себя, среди глубокого молчания.
— Это от д’Эспремениля, — сказал он вскоре. — Вот что он мне пишет, господа: «Марфиз-Хан, старший сын набоба Аллаха-Верди, находится во главе неприятельской армии. Он стоит лагерем на берегах Монтарона и, кажется, хочет ограничиться неопасной блокадой, так как мы сохраняем сообщение с вами и с суши, и с моря. Мы не открыли ни малейшего признака осадных работ. Мы видели только бесчисленное множество всадников, палаток, которые белеют под бананами и кокосовыми пальмами, и несколько часовых, неподвижно сидящих на корточках. Мы настороже. Настроение гарнизона превосходно».
— В этом бездействии должна скрываться какая-нибудь ловушка, — сказал Дюплэ, складывая письмо. Но мы скоро получим более свежие новости от моих гонцов на верблюдах, которые носятся как ветер и сменяются каждый час.
— Разведчик бегумы! — доложил черный слуга, поднимая драпировку, которая скрывала маленькую потайную дверь.
— Вот вам случай начать вашу службу, господин де Бюсси: вы быстро переведете и запишете то, что скажет этот человек.
Госпожа Дюплэ подвинула к молодому человеку нечто вроде скамейки, выложенной перламутром, на которой стояла золотая чернильница.
Вошедший был индус; одежда его состояла только из белого полотняного передника. Он бросился на колени перед бегумой и коснулся лбом земли.
— Говори! — сказала она. — Что нового?
Индус выпрямился, но остался на коленях.
— Свет мира, — сказал он, — сокровищница милостей, владычица нашей жизни! Пусть твоя тень никогда не уменьшается, пусть твое богатство возрастет до звезд! По твоему повелению я скрылся под одеждой одного из этих низких поклонников Аллаха и мог проскользнуть в середину армии набоба, не возбудив подозрений. Генерал Марфиз-Хан, полный хитрости и коварства, старается отвести течение Монтарона, чтобы высушить источник, который поит Мадрас, и уморить жаждой защитников города. Вот, бегума, что я увидел: солдаты строят плотину на реке и работают так быстро, что через несколько часов после моего ухода осажденные должны были заметить убыль воды в городе.
— Это все, что ты знаешь?
— Все, бегума.
— Хорошо, иди! Ты получишь свое вознаграждение.
Человек снова распростерся, потом встал, скрестил руки на груди, поклонился всем присутствующим и быстро вышел.
Бюсси прочел свой перевод.
— Я подозревал какую-нибудь хитрость, — сказал Дюплэ. — Недостаток воды нестерпим в этом климате; непременно нужно, чтобы д’Эспремениль потребовал сделать вылазку.
— Гонец на верблюде! — доложил лакей, открывая другую дверь.
Полный нетерпения, Дюплэ пошел навстречу посланному. Это был солдат; он вручил ему депешу, отдавая честь по-военному.
Губернатор прочел вслух:
— «…Неприятель отвел Монтарон: вдруг не стало воды, и население в отчаянии. Я послал отряд из четырехсот человек, с двумя полевыми орудиями, чтоб попробовать отогнать осаждающих за реку…» Значит, битва уже началась, — сказал Дюплэ. — В первый раз индусы и французы встречаются лицом к лицу. Четыреста человек и две пушки против целой армии! Это ужасно!.. Да пошлет нам Бог победу!
Его прекрасное лицо побледнело. С минуту Дюплэ стоял неподвижно, нахмурив брови, склонив голову; но вскоре он ее поднял.
— Господин де Бюсси! — сказал он. — Сделайте одолжение, подите разыщите Парадиса и скажите ему, что он, во что бы то ни стало, должен быть готов сегодня вечером. Де Менвиль и Кержан отправятся с вами; и вы все присоединитесь к нему. Сегодня у нас 2 ноября, а 4-го утром Парадис должен нагнать врага.
Трое молодых людей быстро поклонились и вышли. Все присутствующие также разошлись, поняв, что прием окончен.
Оставшись один с женой и молодыми девушками, Дюплэ схватился за голову и опустился на диван рядом с бегумой.
— Жанна, Жанна! — воскликнул он. — Сердце мое разрывается от беспокойства, и тем не менее я полон надежды. Ты одна знаешь, как важна будет для меня эта победа и какая мука ожидает меня, если я потерплю неудачу.
— Я так же, как и ты, дрожу и надеюсь, — сказала Жанна. — Меня трясет лихорадка.
Она положила свои горячие руки в руки мужа.
— Самое ужасное, это томиться в ожидании много часов, бесконечных, как века. Находиться в неизвестности в ту минуту, когда, быть может, все уже потеряно или выиграно — это ужасно. Как бы ветер ни надувал паруса, как бы быстро ни мчались гонцы, все это — долго, долго!
— Успокойся; для ясности ума, управляющего нами, нужно спокойствие.
— Я стараюсь изо всех сил; но борьба так чудовищно неравна, что теперь мне самому кажется дерзостью отважиться на нее.
Он поцеловал руку жены и улыбнулся ей.
— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он. — Де Бюсси хорошо справился со своим переводом?
— Превосходно: то, что он читал вам, было переведено слово в слово.
— Он также отлично исполнил то, что я ему поручил, — сказал Дюплэ. — Мне кажется, он обладает энергией и предприимчивостью. Что ты думаешь о нем, Шоншон? Ты танцевала и разговаривала на балу с этим молодым человеком.
Шоншон покраснела и, казалось, смутилась.
— Я не знаю, — ответила она неуверенным тоном. — Я его слишком мало знаю. Тем не менее мне кажется, что он не похож на других.
— Не похож на других! Это уже много значит. Что же касается меня, то, признаюсь, он мне бесконечно нравится. Ну, до свидания, дети; я должен в последний раз потолковать с Парадисом до его отъезда. Пожелайте мне всего хорошего.
Дюплэ, поцеловав жену и молодых девушек, покинул восточный будуар.
Глава XI
ФРАНЦУЗЫ И ИНДУСЫ
Перед губернаторским дворцом волнуется встревоженная толпа, жаждущая новостей. Неизвестно, каким образом разнеслась весть о битве с индусами. Накануне вечером видели, как двести тридцать французов и семьсот сипаев выступили под предводительством Парадиса. Беспокойство достигло высшей степени, так как все эти купцы дрожали за свое состояние. Что будет, если набоб возвратит свои владения и дарованные привилегии? Что, если он запретит торговлю? Потерпеть поражение, значит потерять колонию, разориться! Драться с англичанами еще куда ни шло, так как французы во вражде с ними и их пиратство и дерзость превосходят всякое вероятие. Но с индусами, не безумие ли это? Вообще находили, что губернатор слишком смел. Ходили слухи, что он слегка нажимал на совет, мудрость которого отвергала этот поход. Предположения, толки, пустая болтовня переходили из уст в уста и наполняли площадь как бы жужжаньем пчел.
Между тем Дюплэ, в глубине своего кабинета, объяснял офицерам свой план действий.
Вот уже вторую ночь он не ложился спать. Его мучит лихорадка ожидания: какая участь постигла вылазку д’Эспремениля? Гонец на верблюде не появляется. Губернатор ежеминутно вскакивает и прислушивается, не идет ли кто-нибудь.
Между тем слышится шум, гул голосов; затем в соседней зале раздаются поспешные шаги.
— Наконец-то!
Письмо в руках Дюплэ; он не решается вскрыть его. Он закрывает глаза, вытирает лоб. Но сила воли приводит его в себя; он успокаивается, готовый ко всему, и сразу ломает печать.
— Победа! — срывается с его уст.
Это слово сияет во главе письма, написанного тотчас после битвы и еще полного трепетного волнения.
«Наш отряд из четырехсот солдат выступил из Мадраса, достиг равнины и выстроился в боевом порядке, скрывая наши две пушки. Едва мы тронулись, как кавалерия набоба скучивается для атаки. Огромный эскадрон приходит в движение и катится на нас, подобно потоку ила, лавин. В ту минуту, когда он, казалось, должен был смять нас, мы резко делаем полуоборот направо и налево, открывая наши пушки, которые тотчас же стреляют. В неприятельской колонне образуются две кровавые полосы. Тем не менее она снова смыкается и продолжает наступать; второй залп не заставил себя ждать, а третий остановил проявившийся было героический пыл. Быстрота наших выстрелов, по-видимому, поразила и ошеломила кавалерию набоба. Она остановилась, не двигаясь ни взад, ни вперед, как будто ожидая конца пушечной пальбы, которая, по их мнению, не может продолжаться долго. Четвертый выстрел рассеял это заблуждение. Тогда, к нашему великому удивлению, наши противники повернули назад, в безумном бегстве, в котором каждый спасался, как мог, они донеслись до квартиры генерала Марфиз-Хана. Мы возвратились в Мадрас, не потеряв ни убитого, ни раненого, опьяненные радостью. 2 ноября 1746».
— Значит, я не ошибся! — воскликнул Дюплэ с блистающими глазами. — Европейская дисциплина, храбрость наших солдат и меткость оружия возместили численность.
Г-жа Дюплэ быстро вошла и бросилась в объятия мужа.
— Я знаю! Я знаю! — сказала она. — Они бежали, покинув палатки и багаж. Они потеряли семьдесят человек; и каким-то чудом не пролилось ни капли французской крови. Один из моих индусов принес мне радостную весть; он рассказал также, что в то время, как к Марфиз-Хану в смятении возвращалась его кавалерия, он получил сведения о плане маленького отряда Парадиса и сам стал во главе своих войск, чтобы отправиться ему навстречу и разбить его, не дав ему соединиться с Мадрасом. Он расположится у святого Фомы и станет лагерем на берегу маленькой речки Адьяр, через которую должен перейти Парадис.
— Если он думает накрыть моего старого инженера, то жестоко ошибается, — сказал Дюплэ. — Он будет предупрежден вовремя. Пусть тотчас пошлют гонца и удвоят подставных лошадей. Д’Эспременилю уже отдан приказ выступить навстречу Парадису и догнать его во что бы то ни стало! Теперь я покоен, господа: если Господь не оставит меня, то гордый набоб, который смотрит на нас, как на горсточку варваров, тут-то и будет побит.
Он поставил палец на карту. Снаружи слышался страшный шум. Толпа хлынула на почетный двор за вестником и галдела, полная нетерпения.
— Не будем эгоистами! — сказал губернатор, раскрывая настежь одно окно.
Он сделал знак, и тотчас воцарилась глубокая тишина. Тогда Кержан прочел громким и ясным голосом письмо д’Эспремениля. Когда он кончил, поднялось страшное ликование; хлопали в ладоши, шляпы летели в воздух. Кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует наш великий губернатор!»
— Да здравствует король! — воскликнул Дюплэ, обнажая голову. Потом он отошел от окна, чтобы принять поздравление членов совета.
Глава XII
МЕЛЬЯПОР
Едва заметная дорожка, местами тропинка, вьется вдоль берега реки, которая блестит сквозь коленчатый индусский тростник и огромные бамбуки с тонкими, светлыми листьями, грациозно колеблющимися, как шелковые полосы. Два всадника едут в прозрачной тени, в сопровождении полусотни стрелков, которые следуют на некотором расстоянии от них.
Их можно принять за двух юношей. Тот, который едет немного впереди, отличается такой поразительной красотой, что каждый встречный безмолвно восторгается им. Его лошадь, цвета персика, в высшей степени грациозна. Седло — красное, бархатное, а удила состоят из цепи чеканного серебра.
Кафтан из золотой парчи охватывает стройный стан молодого человека. На голове у него легкая каска с нашлемником, в виде орла из драгоценных камней; а в руках он держит лук, покрытый испаганским лаком.
Его спутник блистает рядом с ним, как звезда подле луны. На нем одежда из серебряной парчи; вооружен он только кинжалом. С каждой стороны идут рабы и обмахивают лошадей пучками из конского волоса, чтобы отогнать мух.
— Сегодня переход долог, — сказал молодой человек, ехавший впереди. — Солнце уже высоко и льет огненный дождь сквозь листву.
— Мне кажется, я вижу блеск наших шелковых палаток у спуска этого берега, — сказал другой, — там, у самой реки, в тени густого леса.
— Недурно выбрали место. Так поспешим же скорей к цели нашего отдыха.
Лошадей погнали по бархатной, густой траве, которая заглушала топот копыт. Вскоре молодые всадники остановились и соскочили на землю, без всякой посторонней помощи, перед великолепной палаткой из красного шелка, на котором были вышиты сцены из Рамайяны. Внутреннее убранство напоминало залу дворца: ковры, шелковые подушки, гука с инкрустациями из драгоценных камней, рабы, махающие веерами из перьев. На золотых приборах был накрыт ужин.
Путники уже растянулись в прохладной палатке, снимая каски и расстегивая портупеи.
Высоко поднятая занавеска входа открывает вид на картину природы и на светлую, быструю реку.
— Что это за человек сидит там, на камне, к нам спиной, и так пристально смотрит вдаль?
— Без сомнения, такой же путешественник, как и мы.
— Зачем его допустили так близко к нашей стоянке?
— Может быть, это князь. У него на голове блестят бриллианты, а там два пажа держат хорошо взнузданных лошадей. Впрочем, скоро мы узнаем, кто он такой: к нему подходит наш умара.
— С каким почтением он раскланивается с незнакомцем. Это какой-нибудь поклонник Аллаха, как и он.
— Он едва отвечает на поклон. Тем не менее он поворачивается и приближается, как будто хочет идти к нам.
— Кто это может быть, чтобы позволить себе такую дерзость?
— Могущественный господин, так как Арслан-Хан не удерживает его.
Путник, действительно, появляется у входа палатки и прижимает руку к сердцу, затем ко лбу. Это человек в цвете сил, с открытым и благородным видом. Он одет просто, но по его великолепной сабле и султану на его чалме можно угадать, что он высокого сана.
— Божественная царица Бангалора! — сказал он. — Да закроет твоя тень вселенную! Я целую пыль от твоих ног.
— Кто тебе сказал, что я женщина, а не такой же воин, как и ты?
— Ты и то, и другое, на муку человеческого рода. О, вдвойне жестокая царица! Ты хватаешься за меч и копье, как будто тебе недостаточно твоих глаз, чтобы одерживать всякие победы. Не довольствуясь тем, что ты довела до отчаяния мужчин, которые имели роковое счастье видеть тебя, ты еще хочешь похитить у нас сердца всех женщин, явившись перед ними в виде самого прекрасного мужчины.
— Эти похвалы не ответ на мой вопрос.
— Разве знамя Бангалора, которое развевается на верхушке твоей палатки, не выдает твоего величества?
— Кто же ты, что так хорошо знаешь знамена?
— Я твой покорный раб: Шанда-Саиб, зять набоба Сабдера-Али.
— Ах, ты Шанда-Саиб! — сказала царица, несколько смягчая тон. — Ты — тот несчастный принц, которого убийство и измена лишают семьи?
— Да, — сказал он со вздохом. — Набоб карнатикский, мой тесть, умер от кинжала; и брат моей жены также убит во цвете лет. Я, единственный законный наследник, низвержен и теперь боюсь за мою свободу и жизнь.
— Мои предки царствовали над этой страной, которую твои завоевали и которую другие отнимают у тебя, — сказала царица. — Воля богов неисповедима, и нужно покориться судьбе.
— Лучше бороться и восторжествовать над несправедливостью: и на это я надеюсь.
Разговаривая, Шанда-Саиб незаметно подвинулся вперед.
— Ты мой гость, раз ты переступил этот порог, — сказала царица. — Сядь и прими участие в этой трапезе.
— Я тронут такой честью, — сказал принц, садясь и взяв один плод манго.
— Перед тобой кающаяся, — снова начала Урваси, после минутного молчания, — смертная, над которой тяготеет множество грехов и которая в самой скромной обстановке отправляется к старой пагоде Садраспатнам.
— Да будет счастливо твое паломничество! — сказал Шанда-Саиб. — Я рад, что встретился с тобой и что имею возможность сказать тебе, что тебе опасно продолжать путь без предосторожностей.
— Почему же это?
— Потому что война. Битва, которая в высшей степени занимает меня, сейчас начнется в нескольких шагах отсюда.
— А кто же сражающиеся?
— Армия моего смертельного врага, того, кто незаконно владеет моим престолом, изменника Аллаха-Верди, который называет себя карнатикским набобом, и маленький отряд французов.
— Французы? Что это такое? Может быть, это народ с белыми волосами?
— Это солдаты великого губернатора Пондишери, — человека, которого я уважаю настолько, что доверил ему самое дорогое для меня на свете, т. е. мою жену и сына.
Царица презрительно улыбнулась и переглянулась со своим молодым спутником, который был не кто иной, как принцесса Лила.
— Так это на приготовления к этой битве ты так пристально смотрел?
— Именно. И я, в виде милости, прошу тебя, Свет Мира, позволить мне вернуться на мой наблюдательный пост. Желание присутствовать при этой битве и привело меня сюда.
— Не могу ли и я также посмотреть на нее? — живо спросила она. — Избиение этих варваров было бы для меня очень занимательным зрелищем.
— Нет ничего легче: с вершины этого, усеянного цветами, холма видно все поле битвы.
— Идем! — сказала она и поднялась, подстрекаемая сильным любопытством.
На указанную возвышенность принесли подушки и зонтик с жемчужной бахромой, под которым расположилась царица.
Река, великолепного голубого цвета, изгибалась, потом текла почти прямо, теряясь вдали между плоскими изумрудными берегами, на которых местами возвышались кущи тутовых деревьев. На противоположном берегу красовалась армия набоба, вытянувшись в длинную внушительную линию. Сначала стояла артиллерия, потом кавалерия, а за ними несколько слонов; на самом высоком из них развевался флаг Карнатика. Пехота скучивалась на заднем плане.
— Но, — сказала царица, — где же ваши французы? Берег, на котором мы находимся, кажется совершенно пустынным.
— Там, в нескольких стах шагах от нас. Этого тутового леса достаточно, чтоб их скрыть.
— Разве они так малочисленны? Действительно, эти французы безрассудно горды!
— Разве ты не знаешь, — вскричал Шанда-Саиб, — что четыреста человек из них обратили в бегство под стенами Мадраса столь блестящую армию моего соперника?
Царица сделала недоверчивый жест.
В это время из кущи тутовых деревьев раздался звучный бой барабана. Сильный голос командира прокричал команду, и французы, внезапно выскочив из леса, направились бегом к реке. Видно было только, как сверкнули красные нашивки мундиров, белые ремни из буйволовой кожи и штыки на концах ружей.
По известным зеленоватым или желтоватым оттенкам реки можно было судить, где она проходима вброд.
Французы, не колеблясь, бросились в реку при непрерывном барабанном бое. Но вдруг этот гул был заглушен громовым ударом: это стреляла индусская артиллерия.
Этот грохот, казалось, не причинил большого вреда переправляющемуся батальону. Когда дым рассеялся, французы, полные воодушевления, как будто после освежительной ванны, стали карабкаться на противоположный берег за своим начальником, который бежал первым со шпагой в руке. Забили атаку — и они бросились с выставленными штыками, испуская неистовый крик.
Марфиз-Хан только что появился на слоне, на котором развевался флаг Карнатика с золотой бахромой; вождь блестел на солнце, усыпанный драгоценными камнями.
Но французы, с несокрушимым порывом, продолжая испускать страшные крики, опрокинули пушки и бешено бросились на первые ряды кавалерии. Той показалось, что это — шайка дьяволов; и, не дожидаясь ударов блестящих штыков, она повернула коней и обратилась в бегство. Тогда нападающие остановились и, по команде своего начальника, выстрелили все зараз. Действие было ужасное. Множество всадников упало под ноги своим лошадям. Крики раненых увеличили беспорядок и ускорили бегство. Даже сам Марфиз-Хан, после минутного колебания, повернулся спиной, погоняя своего военного слона. Французы, не переставая заряжать свои ружья, бросились преследовать неприятеля.
— Велик Господь! — вскричал Шанда-Саиб.
Царица встала и, бледная и дрожащая, следила за этой сценой.
— Мою лошадь! — вскричала она. — Я хочу видеть, чем это кончится. Это бегство — хитрость: Марфиз хочет завлечь этих варваров в Мельяпор, чтобы лучше раздавить их.
Привели прекрасную арабскую лошадь, цвета персика, с профилем газели. Царица взяла оружие и превратилась снова в обворожительного воина, каким мы ее застали.
— Пусть Арслан сопровождает меня, — сказала она. Потом, обернувшись к своей подруге, спросила: — Может быть, ты боишься, Лила? Останься, если хочешь.
— Я пойду туда, куда ты пойдешь, — сказала принцесса. — Правда, смелость этих людей и их дикие крики леденят мне кровь, и я чуть не упала в обморок от грохота пушек. Дело в том, что я не герой; вот и все!
— О, моя бедная Лила! — сказала царица. — Мой кроткий и ленивый друг! Какому испытанию я подвергаю твою нежность! Останься, прошу тебя: я скоро вернусь к тебе.
— Ты найдешь меня мертвой от беспокойства, — сказала Лила, вскакивая в седло. — К тому же в страхе есть какая-то прелесть: что бы ни случилось, я не убегу.
— Ты храбра по-своему, — сказала Урваси. — Так отправимся.
Шанда-Саиб уже скакал вдоль берега, с двумя пажами впереди, которые искали брода.
— Сюда, прекрасная царица! — воскликнул он. — Вот проход.
Маленький отряд переправился через реку и бросился по следам сражающихся.
Беспрерывный бой барабана и правильная стрельба верно указывали направление; скоро они замедлили шаг, увидав перед собой задние ряды французов.
Отступавшие все ускоряли свое бегство, усыпая путь телами убитых и раненых. Теперь они давили друг друга у ворот Мельяпора, маленького городка, на который опирался Марфиз-Хан. Они хотели запереться в нем. Но беглецы так запрудили ворота, что не было возможности раскрыть их вовремя; французы вошли в них, следуя по пятам убегающих.
— Ты видишь? — сказала царица Шанда-Саибу. — Они попали в ловушку: они входят в город, и ни один из них не вернется оттуда.
— Я думаю, что ты заблуждаешься, божественная апсара, — ответил принц с сияющим от радости лицом. — Мы присутствуем при самой изумительной войне, какую только можно себе представить.
— Чтобы армия была разбита несколькими сотнями человек! Это невозможно, — сказала Урваси, прелестные брови которой нахмурились от гнева и негодования.
— Но это не люди, а демоны! — воскликнула Лила. — Они идут, как бы побуждаемые одной мыслью, останавливаются все разом и когда стреляют, можно сказать, что раздался единственный выстрел.
— Взберемся на вершину этого холма, — сказал Шанда-Саиб, указывая на возвышенность. — Оттуда мы увидим весь город.
Теперь зрелище было ужасное. Все эти обезумевшие существа хотели выйти в противоположные ворота, но в узких улицах человеческий поток не мог двигаться достаточно быстро; и на минуту оставаясь неподвижным, он оказывался беззащитным и подставленным под правильные и верные выстрелы победителей.
— Но это безумие! — вскричала царица. — Они одурачены каким-то колдовством; они даже не защищаются и дают себя резать, как жертвы под топором палача.
После огромных потерь беглецы все-таки прошли через город и бросились в поле. Они уже считали себя спасенными, как вдруг барабанный бой и блеск выстрела из пушки впереди них дали им понять, что отступление отрезано. Подоспели войска Мадраса.
Тогда армия набоба, не пытаясь больше сомкнуться, бросилась врассыпную, покинув имущество, освобождаясь от оружия и от всего, что стесняло бегство. Она бежала в полном смятении по направлению к Аркату.
— Трусы! — шептала царица, бледная от страха. — И эти-то люди завоевали наш прекрасный Индостан и гнут его под своим игом?
— Они действительно, кажется, несколько выродились после Тимура и Бакера, — сказал, смеясь, Шанда-Саиб. — Но этот день, роковой для моих врагов, славен для меня. Дай мне отпуск, свет мира, я хочу поклониться победителю и послать с ним поздравление великому набобу Пондишери.
— Есть ли у тебя переводчик? — спросила живо Урваси.
— У меня есть один: он твой раб, как и я.
— Когда ты будешь у этих варваров, спроси у них, нет ли среди них человека, которого зовут Шарлем де Бюсси?
Шанда-Саиб с глубоким удивлением посмотрел на царицу. Что у нее могло быть общего с этим иностранцем, — у нее, которая, казалось, не знала даже, что такое Франция? Но он увидел на лице молодой женщины выражение такой странной жестокости и страдания, что ему показалось, будто перед ним Азраиль, ангел смерти.
— Арслан-Хан поедет с тобой, — продолжала она, — и привезет мне твой ответ.
— Слышать тебя, значит повиноваться, — сказал принц. — Я тень под твоими ногами и поклонник твоей тени.
Он поклонился, приложив руку к сердцу, потом ко лбу, и удалился. В долине Шанда-Саиб обернулся и бросил последний взгляд на ту, которую только что покинул. Стройно держась в седле, на вершине холма, который служил ей как бы пьедесталом, она осталась неподвижной, с поникшей головой. Ее изящная фигура, казалось, еще выросла в глубокой синеве неба, а нашлемник из драгоценных камней рассыпал искры.
— Что за прелесть эта женщина! — пробормотал Шанда-Саиб. — Принц Салабет-Синг действительно счастливый человек.
Лила вздыхала на вершине горы, не смея иным способом прервать грезы царицы, которая, казалось, превратилась в статую. Между тем солнце жгло; и было опасно оставаться на открытом месте. Принцесса подъехала совсем близко к Урваси.
— Лила! — сказала мечтательно царица. — Ты не слышала сейчас.
— Что такое?
— Это имя, это проклятое имя слетело с моих уст. Я произнесла его как бы против воли; разве это не новое осквернение? Меня унижает то, что я знаю его; и я негодую, что не могу забыть его.
— Имя, это еще ничего не значит, — сказала принцесса, смеясь.
— Что ты говоришь, ребенок! Имя — это самый образ существа; это его явление в его отсутствии, его высшее существование в царстве ума. Ты хорошо знаешь, что индусские женщины не произносят вслух имени своего мужа столько же из стыдливости, сколько из нежности; они хранят его в себе как сокровище.
— Ну так что же! — сказала Лила. — Если из любви хранят в своем сердце дорогое имя, то пусть же уста оттолкнут далеко от себя имя того, кого ненавидят.
— Но оно жжет, вылетая, — сказала царица, — и слетев, остается, как стрела, которая оставляет яд после того, как ее вырвут.
— Ах, заклинаю тебя, будь мужественнее. Изгони из твоего ума все эти образы, которые смущают тебя. Подумай лучше о том, что если святой факир, с его несравненной наукой, с которым ты едешь совещаться в развалины пагоды Садраспатнам, посоветует тебе согласиться на выкуп, которого от тебя требуют, то ты освободишься от твоего спасителя, так как все связи с ним будут порваны, и его обаяние прекратится. Подумай лучше, что он, может быть, находится среди сражающихся и мог быть убит и что ты освободилась от него.
— Мне кажется, что лед тает в моем сердце при мысли о возможности его смерти. Так проявляется радость, и настолько сильно, что она причиняет мне страдание.
Лила невыразимым взглядом посмотрела на царицу из-под своих длинных ресниц. В нем была смесь хитрости, любопытства и беспокойства: это был открытый и проницательный взгляд, старающийся разгадать тайну и прячущий затаенную мысль.
— Покинем эти места, догоним наш конвой, моя божественная подруга, — сказала она, минуту спустя. — Мы здесь одни, а варвары, которых ты боишься, слишком близко.
— Это правда, едем! — сказала Урваси, бросив последний взгляд на Мельяпор, где теперь победоносно развевался белый французский флаг.
Глава XIII
ЭСКАДРА
— Дорогой Кержан, объясните мне, пожалуйста, — если вам удалось понять это — порядок чиноначалия в правительстве Индии. Несмотря на все усилия, я не могу разобраться в нем. Только и слышишь, что субобы, набобы, падишахи, раджи да магараджи… Значит, всякий в этой прекрасной стране — царь?
Этот вопрос задал Бюсси своему другу Кержану, сидя в изящной коляске, которая мчала их на «Королевский Бег» — модное гулянье.
— Я горжусь, что могу ответить вам, — сказал Кержан. — Как прикажете начать: сверху или снизу?
— Мне кажется, что логичнее начать сверху!
— Будь по-вашему! Только неизвестно хорошенько, что в данном случае важнее — верх или низ. Ну так вот: прежде всего существует падишах, или Великий Могол, которого мы называем императором. Это, так сказать, монарх Индии, верховный судья, царь царей. Все от него исходит и к нему возвращается. Его резиденция там, у черта на куличках, в Дели, великолепном, но наполовину разрушенном городе. Теперешний Великий Могол называется Ахмед-Шах. Двор его — место козней и заговоров; он держится за свой престол, который многие оспаривают, не считая маратов и других.
— Я понимаю, что такое Великий Могол, — сказал Бюсси. — Это — гвоздь всего, вершина довольно зыбкой пирамиды.
— Вот именно. Но один человек не может управлять такой непокорной и обширной страной, почти в половину Европы. Поэтому-то она разделена на субобства, или губернии, управляемые субодарами, которых мы для краткости называем субобами.
— Теперь я вникаю: губернии оказались, в свою очередь, тоже очень большими; и их разделили на провинции, отчего и появились набоб.
— Точно так. Субобы и набобы, прежде простые офицеры Великого Могола, стряхнули с себя, насколько возможно, его иго и стали настоящими королями, имеющими свой диван, визирей, армию и казну. Политика, в сущности, самая простая — собирать налоги. Набоб обворовывает субоба, который обкрадывает императора. Последний часто прибегает к войне, чтоб получить деньги.
— По-видимому, по части заговоров и козней дворы набобов и субобов не уступают двору в Дели.
— Вы не можете себе представить, что это за плуты, — сказал Кержан, смеясь. — Они проводят время в том, что режут друг друга.
— Но какое место занимают индусские принцы на этой шахматной доске? Это меня интересует больше всего.
— Ах, сейчас: видите ли, победителей меньше, чем побежденных, приблизительно один на десять; и они не могут занять всей страны. Как вам известно, до завоевания Индия была разделена на множество больших и маленьких царств. Мусульмане оставили те, которые согласились быть данниками Великого Могола и признать его владычество. Если цари хорошо платили, что всегда стояло на первом плане, то им предоставляли царствовать, как им заблагорассудится, в их государствах, иногда равнявшихся величиною Франции, иногда состоявших только из одного города. Отсюда произошли раджи и магараджи: цари и царьки.
— Благодарю, — сказал Бюсси. — До сих пор я знал только сказочный и священный Индостан, поэзия которого привела меня в такой восторг; и я думал, что найду все в таком же виде.
— Я не такой поэт, как вы, — сказал Кержан. — Я разделяют мнение Великого Могола: дань — прежде всего. И я думаю нажить себе хорошее состояние в этой чудесной стране. Однако, благодаря вашему уроку истории, я совершенно забываю смотреть на прекрасных дам.
«Королевский Бег» был расположен вдоль вала, на взморье. Здесь встречалось все высшее общество, и трудно было представить себе более великолепную прогулку. Сюда съезжались, когда солнце садилось за город и роскошная зелень садов, аллей, огромные пальмы, возвышавшиеся над стенами, кокосовые деревья, прекраснее, чем где-либо, освещенные сзади, ярко и свежо вырисовывались на темно-синем небе, производя неподражаемый эффект. По другую сторону тянулся лазоревый океан, а на взморье, которое казалось усыпанным золотым песком, беспрерывно лился каскад серебристых волн.
Коляски двигались в двух направлениях под прекрасными деревьями. Дамы в легких туалетах томно лежали в своих прелестных позолоченных или раскрашенных колясках с индусскими кучерами в белых одеждах. Попадались также носилки и паланкины, которые составляли другую линию, рядом с пешеходами; много индусских всадников, на изящных лошадях в блестящей сбруе, проносилось галопом в развевающейся белой одежде. Ниже, на самом берегу, двигалась толпа черных туземцев, матросов и разных чиновников, которые занимались нагрузкой, выгрузкой, переноской и записыванием товаров. Это было движение, лихорадочное оживление, суматоха цветущего торгового порта. Там и сям среди кишащих людей возвышались огромные фигуры рабочих слонов.
Море было покрыто судами, которые сновали взад и вперед; а дальше, на рейде, виднелось несколько кораблей, тонкие снасти которых вырисовывались на небе в виде кружев.
Теперь Кержан называл имена всех встречавшихся женщин, рассказывая о них множество анекдотов, которые Бюсси почти не слушал.
Вдруг вдали раздались восторженные крики и стали быстро приближаться. Все встали в экипажах; и между двух шпалер, образовавшихся по правую и левую сторону, быстрой рысью пронесся эскадрон гвардии, сопровождавший коляску губернатора. Она быстро приближалась, блестя позолотой, запряженная четверкой лошадей, убранных пурпурными тканями и золотом. На ее пути проносился как бы ураган криков: «Да здравствует наш великий губернатор! Да здравствует победитель набоба!» Дамы бросали цветы под ноги лошадям.
Дюплэ раскланивался с достоинством. Рядом с ним сидела бегума, а напротив — Шоншон. Она сидела выпрямившись и бледная от волнения. За коляской следовали двенадцать уланов со знаменами.
На возвратном пути молодые офицеры проехали городом, чтобы сократить путь; и Бюсси все еще с любопытством рассматривал этот город, с которым он уже начинал сродняться. Вдоль широких и прямых улиц стояли маленькие домики с хорошенькими палисадниками. Домики все еще были убраны флагами по случаю победы Дюплэ над армией набоба, которую жители не переставали праздновать.
Поднялся морской ветер, и народ во множестве высыпал на улицу. Простонародье, в белоснежных балахонах, которые отлично оттеняли темный цвет его кожи и голых ног, осаждало продавца жареной рыбы; и кипящий жир наполнял воздух едким запахом. Гуляющие, в богатых туалетах, толпились около торговки плодами, которая сидела на корточках между двух душистых пирамид своего товара, или останавливались подле продавцов прохладительных напитков. На верандах, среди цветов, сидели на коврах богатые индусы и спокойно смотрели на все это оживление, лениво покуривая гуку. Из кофеен, закрытых только занавесками, неслись звуки песен и музыки, прерываемые перемежающимся звоном колоколов, благовестившим к вечерне в церкви капуцинов. Видно было, как священники торопливо взбирались по ступенькам портала; дальше, из пагоды с пирамидальной крышей, вышла толпа баядерок под черными газовыми покрывалами, усыпанными золотыми блестками. Потом наши приятели поехали вдоль высокой, глухой стены ослепительной белизны, в которой были только одни величественные, сводчатые ворота, выложенные внутри цветными изразцами.
— Это дворец принца Салабет-Синга, — сказал Кержан.
Бюсси долго оглядывался назад. С обширной площади, куда они выехали, видна была башня с часами, которая стояла среди красивого сада, устроенного на возвышенности. Она была обнесена зубчатой решеткой, которая прерывалась широкими лестницами, украшенными индусскими статуями, изображавшими огромных двуглавых попугаев.
В то время как Бюсси любовался ваянием одной древней каменной колонны, с моря раздался пушечный выстрел и заставил вздрогнуть обоих друзей.
Кержан остановил экипаж.
— Это салют корабля, который идет из Франции, — сказал он.
С этой площади открывался вид на море. Они действительно увидали корабль, который только что бросил якорь на рейде. Спущенная на воду шлюпка, со множеством гребцов, была уже недалеко от берега.
— Как они спешат! — сказал Кержан. — Они, наверное, везут важные новости. Отправимся прямо во дворец губернатора: там мы узнаем их скорее.
Они быстро помчались и, проскакав канал, разделявший белый город от черного, ехали некоторое время среди индусских хижин, по великолепным кокосовым аллеям, затем через ворота Вильпур выехали из города и достигли местопребывания Дюплэ.
Новости из Франции были, действительно, важны, даже ужасны. Губернатора Индии извещали, что Англия решила предпринять нешуточный поход против Пондишери: она отправила восемь военных кораблей и одиннадцать перевозочных судов с войсками, под предводительством адмирала Боскауэна.
Опасность надвигалась вслед за известием; нельзя было терять ни минуты. Дюплэ был сражен.
Это уже была не борьба, хотя и неравная, но в которой надеялись одержать победу и которой раньше опасались. Приходилось стать лицом к лицу с силами, превосходящими все, что до тех пор появлялось в Индийском океане. А что посылали губернатору, чтобы противостоять врагу, чтобы поддерживать честь нации?.. Деньги, войска, боевые запасы? Нет, ему просто-напросто давали чуть ли не смешной совет — твердо держаться!
Одну минуту Дюплэ, сраженный ужасным ударом, невольно вспомнил великие разгромы древности.
Но он быстро поднял голову, успокоил смятение вокруг себя и поклялся защищать своими слабыми силами до последнего издыхания этот доверенный ему город, который под сенью французского знамени составлял как бы клочок отечества.
Тогда, со своей обычной энергией, не теряя ни минуты, он принялся готовиться к защите; он наблюдал за всем сам, вселял во всех доверие и мужество.
Благодаря его литейным заводам, которые работали без устали, у него была очень сильная артиллерия; и он мог вооружить вокруг города массу редутов и почти готовых окопов, которые доставят много хлопот осаждающим, принудив врага брать их шаг за шагом, прежде чем ему удастся напасть на самый город. Успокоенный, готовый на все, Дюплэ ждал событий.
Глава XIV
ОСАДА ПОНДИШЕРИ
Пушка! Бронзовое жерло извергает рев ненависти и смерти среди великолепной природы. Пондишери окружен железным кольцом: со стороны моря — грозный флот, на суше — армия. В селении Арианкопан, где находился главный редут, уже дерутся. Это — прелестная местность, с густыми лесами, свежими видами, с прозрачной речкой, окаймленной густой зеленью. Но в этот день дым и запах пороха застилают цветы и заглушают их аромат.
Англичане, не придавая большого значения этому делу, приблизились накануне с гибельным доверием и приступили к натиску на форт без лестниц и снарядов. Они дорого поплатились за свою непредусмотрительность. Заметив слишком поздно свою ошибку, они принуждены были отступить под страшным огнем, оставляя на месте множество своих лучших солдат и офицеров. Теперь они возвратились с подкреплением и принялись за правильную осаду укрепленного селения. Но они действуют с меньшим увлечением и уверенностью. Потеря самого опытного начальника, майора Гудера, не без причины сильно огорчает их: тот, кто занял его место, выказал уже свою неспособность. Утром заметили, что перед устроенной ночью батареей находится лес, скрывавший от нее неприятеля. Французы приветствовали этот невероятный промах радостными криками и пели насмешливую песню, напев которой раздавался среди выстрелов:
Адмирал Боскауэн был внучатым племянником знаменитого Мальборо. Именно благодаря этому высокому происхождению, он удостоился почти единственной в своем роде милости — двойного командования флотом и армией, несмотря на свою молодость: ему было всего тридцать шесть лет. Неизвестно каким образом французские солдаты узнали об этом родстве; и им доставляло большое удовольствие драться под этот известный напев.
Трещит огонь ружейных выстрелов и грохочут пушки преимущественно со стороны французов, но и враг отвечает сильной пальбой.
— В добрый час! — воскликнул Парадис, собственноручно наводя пушку. — Эти не показывают пяток, как мавры, при первом же выстреле. С ними приятно бороться, и победить их — честь. Видишь ли, сынок, — продолжал он, обращаясь к канониру, — когда английская пушка вытягивает шею, вытяни ей навстречу три, чтобы прекратить ее болтовню.
— Господин главный инженер! — крикнул подскакавший адъютант. — Комендант Ло приказывает разрушить крепостные работы неприятеля и просит вас командовать вылазкой, вместе с капитаном де Бюсси, которого я мчусь предупредить.
— Будет исполнено!
Бюсси находился на самом переднем посту, по ту сторону реки, у батареи, которая помещалась прямо против неприятеля. Среди грохота и порохового дыма нельзя было ни рассмотреть, ни расслышать друг друга: адъютант принужден был приложиться к самому уху маркиза и крикнуть ему приказание командира.
Несколько времени спустя волонтеры, предводимые своим капитаном, выступали из пороховых облаков, в то время как драгуны, под предводительством Парадиса, бросились в воду и переплыли реку.
Сначала англичане выказывали большую стойкость, но бешеный могучий натиск заставил их дрогнуть; и скоро они покинули окопы, взятые приступом и тотчас разрушенные до основания.
— Ну, мне не везет! — вскричал Парадис, смеясь. — Опять враги обратились в бегство.
Действительно, эта ужасная зараза, именуемая паникой, овладела осаждающими: они, несмотря на усилия офицеров, бросились бежать в беспорядке. Французы, полные воодушевления, возвратились в траншеи, ведя множество пленных.
У командира Ло была важная добыча: он захватил в плен офицера с бледным благородным лицом, в ярко-красной одежде, расшитой золотом. Это был майор Лоуренс, уже приобретший известность; не желая бежать вместе со своими солдатами, он остался один, среди врагов, и дал себя обезоружить.
Осажденные были вполне довольны своим успехом. Они могли надеяться удержать форт Арианкопан, что поставило бы их противников в большое затруднение. Победители чувствовали их колебания и нерешительность и замечали, что они крайне медленно восстанавливали разрушенные рвы.
Несколько дней спустя после этой счастливой вылазки все были на своем посту, наблюдая за работами неприятеля, постепенно разрушая их и тревожа работников, как вдруг раздался страшный треск, от которого задрожала земля, и к небу поднялся огненный столб, рассыпавшийся дождем осколков. Форт на минуту вспыхнул и обрушился; множество вчерашних героев, охваченных паникой, бросилось к городу.
Когда все стихло, раздались громкие крики и стоны. Офицеры бросились к дымящимся развалинам, усеянным ранеными и убитыми. Что же произошло? Ужасная катастрофа, в которой англичане были не при чем: среди форта взорвало две фуры с порохом — и сто человек легло убитыми или выбыло из строя. Из-под обломков вырывались ужасные вопли и слабые стоны, но отдельные взрывы еще продолжались, и никто не решался подойти. Немой ужас сковал всех избежавших несчастья.
— Неужели вы оставите умирать ваших товарищей, не сделав никакой попытки спасти их? — крикнул только что приехавший Бюсси своим волонтерам. — Если бы вы оказались способны на подобную подлость, то я сломал бы свою шпагу, чтобы не быть больше вашим начальником.
Он первый бросился к развалинам, собственноручно разбрасывая раскаленные камни. Его люди без колебания последовали за ним. Скоро раненые и мертвые были уложены на носилки и унесены в город.
Отчаяние ослепило Парадиса. Он приказал было забить отступление, чтоб покинуть редут, который нельзя было дольше удержать; но Бюсси бросился к нему и схватил его за руки.
— Умоляю вас, не отдавайте такого приказания! — вскричал он. — Подумайте! Нужно сохранить селение и по возможности поправить разрушенное.
— Но это невозможно! — сказал инженер. — Что мы будем делать с этой развалиной? К тому же де ла Туш собирается взорвать последние остатки укрепления.
— Удержите его; не предпринимайте ничего, не посоветовавшись с губернатором. Да где же командир Ло?
— В городе, куда он ведет пленных.
— Ну так прежде, чем действовать, дайте мне пойти посоветоваться с Дюплэ от вашего имени.
— Хорошо, поспешите.
Но Парадис с сомнением качает головой, в то время как Бюсси вскакивает на коня и уезжает в галоп.
Он мчится, как вихрь, через город, объятый неописуемым ужасом и отчаянием. Шум взрыва заставил всех жителей высыпать на улицу. Новость облетела всех с разными изменениями; и те, у кого в армии были друзья или родные, с криком и слезами бросились узнавать, кто ранен или убит. Во дворце Бюсси не нашел ни одного слуги и принужден был сам привязать свою лошадь к колонне. Он взбежал по большой лестнице с железными перилами искусной работы и, запыхавшись, вошел в кабинет губернатора, двери которого были открыты. Там стоял солдат, рассказывая Дюплэ о роковом событии.
— Сударь! — сказал Бюсси задыхающимся голосом. — Парадис хочет покинуть Арианкопан. Тем не менее, мне кажется, что он согласится подождать вашего решения.
— Пусть во что бы то ни стало сохранят редут! — вскричал Дюплэ. — Его потеря повлечет за собой гибель всех остальных укреплений.
— Я мчусь передать это распоряжение, — сказал Бюсси.
Но в ту минуту, когда он собирался выйти, раздался гул нескольких взрывов и заставил задрожать стекла.
— Слишком поздно! Де ла Туш взорвал укрепление.
— Это — несчастье, капитан, — сказал губернатор, подавив гневную вспышку. — Благодарю вас за попытку избежать его. Но главное, не надо давать сломить себя: тогда еще ничего не потеряно! Я сам посмотрю, что теперь остается делать.
Как всегда, губернатор успокаивает и ободряет. Он смягчает несчастье, насколько возможно, подымает доверие, пробуждает рвение. Так проходят дни, недели; а осаждающие, несмотря на все усилия, не могут одолеть французов, которые заперлись теперь в Пондишери. Но вот у англичан заметно особенное движение: кажется, они задумали идти на решительный приступ. Вот почему губернатор, верхом на коне, объезжает шагом город, тогда как над его головой со свистом и шипеньем пролетают роковые гранаты. Иногда он останавливается и наблюдает в подзорную трубу за движениями неприятеля. Несколько офицеров следуют за ним молча.
На рейде, так близко, как только позволяла глубина, стояли на шпринге три английских парохода и бросали бомбы; но сильное волнение мешало меткости выстрела, тогда как из крепости выстрелы попадали в цель без промаха. Несмотря на это, в пустынных улицах падало множество гранат; и вдруг губернатора чуть не сбил с ног отряд солдат и сипаев, которые в ужасе убегали от догонявшей их бомбы. Сопровождавшие Дюплэ офицеры, видя, какая опасность грозит их начальнику, крикнули ему, чтобы он посторонился; но он спокойно продолжал двигаться навстречу бомбе, которая, разорвавшись, обдала его пылью и дымом.
Когда облако рассеялось, он обратился к солдатам, остолбеневшим от удивления и беспокойства, и сказал им улыбаясь:
— Вот видите, детки, это совсем не так опасно.
Потом Дюплэ продолжал путь, сопровождаемый восторженными приветствиями. Вскоре он прибыл на бастион св. Иосифа, который находился со стороны, противоположной морю. Там он остановился и приблизился к бойнице, чтобы получше рассмотреть приготовления врага.
Минуту спустя он сказал, обратившись к офицеру:
— Положительно, это не хитрость: англичане решили вести атаку со стороны болота и затопленных лугов, которые в этом месте служат нам такой хорошей защитой. Они, без сомнения, надеются, что эта грязь защитит их от нашей вылазки, и, кажется, совсем забыли, что она для них так же непроходима, как и для нас, и что они там завязнут. Они деятельно подвигают свою работу; но не нужно давать им так легко работать киркой. Будьте добры, передайте драгунам, с д’Отэйлем и Парадисом, гренадерам де ла Туша и капитану Бюсси, с его волонтерами, приказание выступить и напасть на них, окружив болото.
И Дюплэ остается на своем месте, покуда готовится и совершается выступление, чтобы следить глазами за успехом. Вот колонна выступает из ворот, потом разделяется на два дивизиона, которые проходят между траншеями. Каждый направляется своим путем к неприятелю, скрываясь за неровностями почвы и лесом. В течение долгих минут дивизионы исчезают из глаз Дюплэ, потом он снова видит их и опять теряет из виду.
Вдруг у него вырывается крик горя и досады: самый сильный дивизион идет неверной дорогой; он избрал самый длинный и дурной путь.
— Что они делают, несчастные? Кто же их ведет? — в отчаянии восклицает он. — Их артиллерия завязнет; и враг заметит их раньше, чем они успеют стать в оборонительное положение.
В английском лагере раздаются звуки труб; англичане наскоро собирают войска; и когда французы с трудом справились со своей ошибкой, перед ними уже стояла вся неприятельская армия.
С двух сторон открывается страшный огонь, и облако быстро охватывает и скрывает поле битвы. Не имея возможности больше видеть, Дюплэ слушает. Он хорошо различает более близкие и громкие выстрелы своих пушек, которые грохочут без перерыва.
Иногда облако разорвется и откроет часть поля битвы; то проскачет кавалерист, махая руками, то видно, как несколько солдат поправляют орудие, то сверкнет сабля в руке полководца; потом снова опускается пушистая и мягкая мгла непроницаемой стеной.
Но вот со стороны французов пушки вдруг умолкли; слышна только приближающаяся беспорядочная перестрелка.
«Они отступают, — думает Дюплэ. — Что же они могли в самом деле сделать против всех английских сил?»
Он наклоняется, беспокойно прислушиваясь, так как, конечно, при отступлении царит беспорядок. Во всяком случае, сильное смущение необъяснимо, так как враг не преследует их и скоро даже прекращает стрельбу с этой стороны. Колонна возвращается. Дюплэ видит, как она появляется из облака и спешит в город, на этот раз уже верной дорогой. Тогда он покидает свой наблюдательный пост и несется в галоп к бастиону «Бесстрашный», через который входят солдаты.
Они уже возвращаются шумными толпами, черные от пороха, окровавленные, но скорее опечаленные, нежели испуганные.
Дюплэ остановился; у него сжалось сердце от какого-то предчувствия; он не смеет спросить, но ему кажется, что вокруг него шепчут имя Парадиса.
— Парадис в плену? — восклицает он быстро, двинувшись вперед.
Все отворачивают голову, никто не отвечает, — и вот по мостовой раздаются мерные тяжелые шаги: четыре солдата несут на скрещенных ружьях человека, покрытого знаменем.
Губернатор соскакивает на землю и бросается к нему.
— Ранен!
Он отбрасывает складки знамени и хватает еще теплую, но безжизненную руку Парадиса. Головы всех обнажаются, царит глубокое молчание.
— Умер!
Это слово раздирает душу Дюплэ: тем не менее, он еще не хочет верить и кладет руку на храброе сердце, которое больше уже не бьется. Потом, с помутившимися от слез глазами, он долго смотрит на своего старого инженера, столь верного, столь преданного, которого он так любил и который так хорошо понимал его. Не видно раны, сгубившей его: пуля, очевидно, попала в сердце. Парадис кажется спящим; только он очень бледен и это в первый раз, так как, несмотря на климат Индии, он всегда сохранял свой яркий цвет лица.
Но Дюплэ мужественно подавляет свое горе. Не следует, чтоб смущение и расстройство, вызванное этой смертью, долго продолжались.
— Солдаты! — сказал он. — Нас постигло жестокое несчастье. Но нужно храбро переносить суровые законы войны. Тот, который покинул нас, обладал большой славой и был нашим самым драгоценным помощником. Правда, город остается без инженера. Ну, так я сам заменю его. К счастью, я имею некоторые познания в математике, а в молодости изучал фортификацию; следовательно, могу взять на себя руководство защитой и не ударю в грязь лицом. Проливая справедливые слезы о смерти этого героя, вы не должны забывать вашего долга. Подумайте о ваших братьях, которые в эту самую минуту бьются с врагом и, благодаря вашему отступлению, имеют дело с целой английской армией. Поспешим прикрыть их возвращение, чтоб нам не пришлось по нашей вине оплакивать новое горе.
Вторым дивизионом командовал Бюсси. Не зная, какая участь постигла первый, он продолжал подвигаться вперед.
Молодой офицер был великолепен в бою, полный воодушевления и в то же время хладнокровия; он обладал таким верным взглядом и такой быстрой решимостью, что солдаты относились к нему с полным доверием.
Ему удалось завладеть шалашами, прогнать врага из траншеи, которую он должен был взять, и произвести смятение в рядах англичан, которым также пришлось оплакивать потерю одного важного офицера: не стало капитана Брауна. Бюсси держался в завоеванной позиции, покуда не увидел, что огромные силы бросились, чтобы овладеть ею. Тогда, угадывая, что вторую колонну постигла какая-то неудача, он приказывает отступить и, несмотря на смертоносный огонь, удаляется, не нарушая порядка. В ту минуту, когда из города выезжал отряд к нему на помощь, волонтеры уже входили в полном порядке, неся раненых и мертвых.
Кержан, раненный в ногу, уже несколько дней не выходил из комнаты и приходил в ярость от досады. Бюсси зашел на минутку навестить его, и раненый жадно расспрашивал его о вылазке и предстоящих действиях.
— Бомбардировка начнется сегодня ночью или завтра утром, — сказал Бюсси. — Англичане оканчивают свои траншеи; но так как болота мешают им подойти ближе, то их укрепления расположены на семьсот пятьдесят саженей от лесистой дороги, и их огонь не произведет большого действия. Может быть, этот адмирал Боскейауэн и хороший моряк, но, к нашему счастью, он совершенно неопытен в деле осады. В последнюю ночь они подошли, сами того не зная, к маленькому лесу, где находилась наша засада, и мы захватили пушки, которые отряд переправлял с корабля в лагерь. А вы не имеете ли каких-нибудь известий извне?
— Нам все очень хорошо известно, — сказал Кержан. — У госпожи Дюплэ даже среди английских сипаев есть шпионы: они у нее везде имеются, и невероятно преданные. Вот самая свежая новость: набоб Аллах-Верди обещал дать две тысячи всадников в подкрепление нашему врагу.
— Как! Несмотря на подписанный с нами мирный договор?
— О! Договоры не имеют никакого значения для этих людей, когда им выгодно нарушать их. И потом Мальбрук, кажется, сделал ему великолепные подарка. Этого, вместе с надеждой отомстить за постыдное поражение, которое мы нанесли им, более чем достаточно, чтобы заставить мавров решиться на измену. Это плохая новость. Хорошая же та, что нашим кораблям удалось, под носом у англичан, высадить триста человек подкрепления для Мадраса.
— Слава Богу! Теперь Мадрас может продержаться, и у Дюплэ будет одной заботой меньше. Но я вас должен покинуть теперь, друг, так как я не принадлежу себе. Будьте терпеливы и — до скорого свидания.
Действительно, на другое утро, едва занялся день, началась жестокая бомбардировка. Видя свою ошибку, англичане усилили атаку с северной стороны, и выстрелы сыпались теперь градом на бастионы св. Иосифа и на Валдаурские ворота. Дюплэ тотчас явился туда. Он приказал еще усилить артиллерию на этих двух пунктах и, так как не хватало мешков с землей, велел укреплять кокосовыми стволами обрушивающиеся склоны.
Стрельба с вала не прекращалась ни на минуту.
Боскауэн открыл все пушки, какие только мог сгруппировать против крепости. Везде он встретил огонь вдвое сильнее своего. В течение трех ночей продолжался без перерыва страшный грохот; в город было брошено более двадцати тысяч ядер.
Осаждающие прибегли к последнему средству: они подвели свои корабли второго ранга на пятьсот саженей от города, и оттуда осыпали его картечью.
— Приютитесь с этой стороны! — сказал Дюплэ. — Не отвечайте им: пусть себе шумят.
И действительно, англичане убили только бедную старуху-малабарку, проходившую по улице. Видя мало проку от всех своих усилий, они окончательно теряли мужество. Перехваченное письмо адмирала дышало бешенством; шпионы и дезертиры поговаривали о снятии осады. Однако Дюплэ ожидал отчаянной атаки и велел благоразумно убрать пушки с передних батарей. Но на четвертую ночь ему донесли, что англичане снимают осадный материал и направляются к форту св. Давида.
— Не дадим им так переселиться, не сказав им последнего «прости»! — воскликнул губернатор, преисполненный радостью.
Бросились их преследовать, смяли их, подожгли лагерь, который они покидали; и на утро видно было, как последние ряды арьергарда поспешно удалялись, а корабли уходили в море.
Тогда ветерок с суши, подгонявший их, донес до них песню, которую пела вся французская армия и насмешливый припев которой так раздражал нервы адмирала и его солдат в течение этой пятинедельной осады:
Глава XV
ЛЕВ ПОБЕДЫ
В тот же вечер у губернатора Индии был парадный обед в Новом Саду, куда все вернулись тотчас после снятия осады, так как с того времени все дни проходили в празднествах и увеселениях.
Дюплэ сильно раззвонил о такой важной победе из политических видов — чтоб она достигла ушей индусских принцев. Он даже написал Великому Моголу о победе французов над европейскими силами, самыми большими, какие когда-либо появлялись в Индии, и получил из Дели искренние поздравления. Его влияние удвоилось, тогда как англичане потеряли всякое значение в глазах туземцев.
На этот раз в числе гостей ждали принца Салабет-Синга и Али-Резу, сына Шанды-Саиба, низверженного карнатикского набоба, затем всех офицеров, многих важных лиц, сановников и нескольких богатых банкиров из армян. На всех лицах выражалась радость. После того, как считали себя погибшими, после долгого томления осады, все возрождались, преисполненные славой и счастливые своим существованием.
Один маркиз де Бюсси, опершись о деревянную балюстраду, не принимал никакого участия в окружавшем его шумном веселье: он погрузился в глубокую, мучительную думу. Какое ему дело до славы, которую он стяжал в этой войне, до креста св. Людовика, что блестит на его груди? Он чувствует под его сиянием страшную пустоту, которая терзает его сердце. Не было никаких известий из Бангалора, куда невольно постоянно возвращалась его мысль. Ни один посланный не приносил ответа, которого он ожидал с мучительным сомнением. Во время осады отсутствие известий было вполне естественным, но после…
Наик объяснял задержку плохим состоянием дорог. Наступил период дождей, бурные реки стали непроходимы, дороги превратились в лужи, и всякое путешествие было невозможно в продолжение еще нескольких недель. Но, скорее всего, его безумное требование было отвергнуто с негодованием, и его не удостаивали даже ответа. Однако факир Сата-Нанда как будто советовал ему надеяться. И он надеялся, не желая в этом признаваться самому себе, и ждал, несмотря на тщетность своих ожиданий. Покуда шла война, пыл борьбы, усталость, которая разбивала его тело, усыпляли его нетерпение. Но сегодня оно невыносимо обострилось и жгло его смертельным томлением.
— Да будет счастье твоим вестником, славный капитан! — услышал он вдруг подле себя мелодичный голос. — Я счастлив, что вижу тебя.
Бюсси живо поднял голову и посмотрел блуждающим взором: так далеко были его мысли от гостиной Дюплэ, куда его столь неожиданно возвращали. Он вздрогнул от удивления: на него смотрел, улыбаясь, принц Салабет-Синг, сияя золотом и драгоценными камнями. Одной рукой он опирался на плечо юноши, Али-Резы, сына Шанды-Саиба.
— Знаменитейший принц, который осчастливил нас своим присутствием, — сказал Али-Реза, — пожелал познакомиться с тобой, он слышал, как тебя везде восхваляли во время войны.
— Бегума сказала мне, что ты говоришь на нашем языке, — сказал Салабет-Синг. — Я очень люблю французов, но ты единственный, которому я могу сказать это без переводчика. И я был бы рад стать твоим другом.
Его другом! Бюсси хотел крикнуть ему, что они соперники и что он ненавидит его. Но это был гость Дюплэ, и подобный скандал был бы позором. Ему удалось овладеть собой, и он низко поклонился.
— Я не достоин такой чести, — сказал он.
— Позволь мне называть тебя багадуром, — продолжал принц. — Ты более, чем кто-либо, достоин этого названия; заключим с этих пор дружеский договор. Дай мне шарф с твоей шпаги, хочешь?
Бюсси был ошеломлен; но принц говорил таким кротким голосом, что не было возможности отказать ему. Он отвязал белый шарф с золотой бахромой, который украшал рукоятку его шпаги, и подал его Салабет-Сингу. Последний быстро обмотал его вокруг рукоятки своей сабли. Потом он снял с пальца великолепный бриллиантовый перстень и, взяв руку Бюсси, попробовал надеть его. Несмотря на аристократическую изящность, пальцы молодого француза не отличались чрезмерной восточной тонкостью: перстень пришелся только на мизинец.
— Моя рука меньше твоей, но насколько твоя белее! — сказал Салабет, удерживая руку Бюсси.
Потом он медленно удалился и вполоборота сказал ему через плечо:
— До скорого свидания, багадур!
Бюсси был взбешен. Он пытался снять этот перстень и хотел пойти в сад, чтобы бросить его ко всем чертям. Кержан, пробегая мимо, сказал ему на ходу:
— Предложите руку моей кузине и идите в столовую: вы сидите рядом с ней.
Вдруг распахнули настежь тройные двери, по бокам которых стояли алебардисты в золотой парче, в малиновых чулках, с солнцем на груди. В столовую потянулось торжественное шествие.
Маркиз столкнулся с Шоншон, которая искала его. Он не сразу заметил ее, и она испугалась сердитого выражения его глаз.
— Боже мой! — сказала она. — Что случилось, что у вас такие злые глаза?
— Как только я вижу вас, всякая тень исчезает, как перед зарей, — сказал он, предлагая ей руку.
У стола суетилась целая армия слуг: тут были пажи и чернокожие, махавшие огромными веерами. Салабет-Синг сидел рядом с бегумой; за ними стояли роскошно одетые рабы; один из них держал золотой рукомойник. Бюсси посадили почти напротив принца, и он невольно был у него перед глазами; его угрюмость не проходила.
— Я вижу, что по-прежнему очень пасмурно, и заря потеряла свою силу, — сказала Шоншон.
— Браните меня, мадемуазель, — сказал маркиз, недовольный сам собой. — Да, я очень заслуживаю этого. Вместо того, чтобы наслаждаться счастьем находиться подле вас, я глупо позволяю гневу овладеть собой из-за подарка, который мне только что сделали. Вот, этот перстень…
— Да, принц Салабет… Я издали видела, как он вам давал его, — сказала она. — Как же это может раздражать вас? Он оказал вам огромнейшую честь, какую только возможно оказать — так как он взял ваш шарф и носит его на себе: это — знак, что он считает себя вашим другом.
— Зачем? Я его не знаю!
— Ваша храбрость и геройские подвиги наделали много шуму во время осады. Принц знает вас по вашей славе и благодарит вас за то, что вы так хорошо защищали его, ведь он не покидал города. Перстень великолепен. Есть на что сердиться!
— Я действительно глуп, — сказал Бюсси. — Но это прошло; не будем больше говорить об этом.
Он залпом осушил стакан, который ему налили, и старался быть веселым и любезным.
Но это ему плохо удавалось. Его взгляд невольно приковывался к Салабету-Сингу, изучал его лицо, стараясь отгадать его душу. Несомненно, что принц не имел вида влюбленного, разлученного с той, которую он любил. Юношески веселый, он смеялся всему. В его милых чертах не было энергии; в его продолговатых глазах отражалась только ленивая нега.
Симфония, исполняемая под сурдинку скрытым оркестром, серебристый звон посуды, говор гостей — все сливалось в какой-то шум, под который отдельные группы могли вести задушевные разговоры.
— Принц женат? — спросил Бюсси у Шоншон после минутного молчания.
— Женат? Еще бы! У него пятьдесят жен! Я была с матерью в его гареме, в Зенанахе, как здесь говорят, я видела этих женщин без покрывал. Они очень красивы, в особенности черкешенки. У них есть рабы, на обязанности которых лежит исключительно раскрашивание век изнутри сурьмой. Но моя мать, которая понимает их язык, говорит, что они все глупы.
— Почему он живет в Пондишери, вместо того, чтобы находиться при дворе субоба?
— Его уже хотели убить: он бежал от заговоров. Мой отец считается великим убежищем: все эти принцы знают, что он не выдаст, и они питают суеверное доверие к укреплениям города, ученой постройки которых они не понимают.
— А разве у него есть какая-нибудь надежда наследовать престол?
— Нет, скорей у его дяди, Музафера, внука короля; но и все сыновья не дадут ускользнуть наследству из своих рук. Наконец, я в этом ничего не понимаю. Не заставляйте меня говорить о политике.
Обед кончился. Возвращались в освещенные гостиные в некотором беспорядке, шумно продолжая начатые разговоры. Затем более почтенные особы принялись за игру, молодежь рассыпалась по открытым верандам, между тем как Дюплэ, улыбаясь, говорил каждому любезное слово.
Салабет-Сингу разрешили курить его гуку. Но не успел он выпустить несколько клубов дыма, как, к великому изумлению всех, в гостиную ворвался человек, с которого струились потоки дождя и грязи, так что на полу отпечатывался каждый его шаг, и упал к ногам принца.
Последний, постоянно занятый мыслью об убийцах, в испуге схватился за саблю.
Дворцовая стража, сопровождавшая этого человека, бросилась к дверям, объясняя, что он пронесся мимо них, как стрела, перепрыгнув через скрещенные копья, и что выстрел не попал в него. Человек задыхался на паркете, как загнанное животное. Наконец он был в состоянии говорить.
— Я посланец, — сказал он принцу. — Я первый приношу тебе известие, что преславный король Декана, Низам-эль-Мульк, покинул этот свет.
— Король умер! — воскликнул Салабет-Синг, быстро вставая. — Известно ли, кто ему наследует? — прибавил он через минуту, наклоняясь к посланному.
— По завещанию субоба — знаменитейший принц Садула-Багадур-Музафер-Синг, его внук; но старший сын короля, Насер-Синг, начальник армии, завладел сокровищами и властью.
— Как, этот изменник, этот пьяница! Жизнь моя более, чем когда-либо, в опасности.
Дюплэ подозвал Бюсси к себе и заставил его перевести разговор принца с посланным.
— Вот одна из самых важных новостей! — воскликнул он. — Событие, которого я втайне давно ждал! Не оставляйте меня, Бюсси. Сегодня я открою вам мою душу!
Салабет-Синг подошел к губернатору, сжимая ему руки.
— Король умер! — сказал он. — А ненавистный Насер-Синг завладел престолом. Окажи мне еще раз твое покровительство: без него я пропал!
— Будьте покойны, дорогой принц! — сказал Дюплэ. — Вы в безопасности в этом городе; никто не осмелится нападать на вас под французским знаменем. Тем не менее, если вы желаете, я удвою стражу вокруг вашего дворца.
— Нет, нет, это бесполезно. Знамя охранит меня лучше тысячи человек. Но я должен покинуть тебя, чтоб наложить на себя траур и совершить публичное молебствие.
И повернувшись к Бюсси, он сказал:
— Мой новый друг, не забывай нашего союза!
Он протянул ему руку. Маркиз не мог не подать своей перед Дюплэ. Принц нервно пожал ее, обнял Дюплэ, который провожал его до его паланкина.
Когда губернатор вернулся, бегума сделала ему знак подойти к ней; в это время паж что-то тихо говорил ей.
— Супруга Шанды-Саиба находится здесь и желает меня видеть, — сказала она. — Наверное, случилось что-нибудь важное, если она решилась выйти из своего дворца в такой час. Я велела провести ее в белую гостиную. Приди туда немного погодя.
Белая гостиная была маленькая комнатка, обитая белым и серебряным штофом, где г-жа Дюплэ отдыхала иногда во время приемов и куда посетители входили только по особому приглашению. Губернатор отправился туда, уводя с собой Бюсси. Портьера опустилась за ними, и паж стал у входа.
Али-Реза сидел там подле матери, у которой сквозь кисейное покрывало видны были только большие черные глаза. Она сидела рядом с бегумой. Последняя читала длинное письмо. Мусульманка поднялась, чтоб приветствовать губернатора.
— Я пришла как просительница, — сказала она Дюплэ. — У моего мужа только и надежды, что на тебя: он твой самый верный раб.
Бюсси быстро перевел фразу.
— Вот! — сказала бегума, свертывая пергамент. — Шанда-Саиб, взятый маратами, теперь свободен. Законный наследник только что умершего короля поручился за выкуп — и мараты дали три тысячи всадников своему бывшему пленнику, который, став во главе их, присоединится к низложенному субобу, заключит с ним союз и поможет ему завоевать его трон.
— Вот это отлично, — сказал Дюплэ. — Сходство судьбы должно было соединить этих двух людей.
— План их следующий, — продолжала Жанна. — Сначала напасть на Карнатик, разбить набоба Аллаха-Верди, завладеть Аркатом и, став во главе армии, пойти против похитителя престола, Насер-Синга. То, чего ты так давно желал, наконец настало! Они как милости просят тебя дать в их распоряжение маленький отряд французов. Если ты будешь их союзником, они будут уверены в успехе, так как ты, по их словам, «Лев победы».
Глаза Дюплэ засветились странным огоньком.
— Они прибавляют еще, — сказала бегума, — что если ты согласишься, то можешь сам предписывать условия.
Губернатор отвечал, стараясь казаться невозмутимо спокойным:
— Я рад, что могу оказать услугу моему другу Шанде-Саибу и законному наследнику карнатикского набобства. К счастью, благодаря нашим победам, я могу предоставить им четыреста французов и семьсот обученных сипаев. Как только получу согласие высшего совета, я отправлю этот отряд, так как я знаю, что при подобных обстоятельствах быстрота составляет половину успеха.
Когда бегума перевела этот ответ, мусульманка бросилась ее обнимать, а Али-Реза с чувством поцеловал руку у Дюплэ.
— Мы обязаны тебе жизнью; мы будем обязаны тебе и могуществом, — сказал он. — Мой отец желает, чтобы я соединился с ним и сражался подле него. Я отправлюсь, как только ты разрешишь мне.
— Наши солдаты будут сопровождать тебя, — сказал губернатор. — Вот и дожди проходят; через несколько дней вы отправитесь в путь.
— Благодарю, — сказал Али-Реза. — Отправляю курьера к моему отцу, чтобы сообщить ему счастливую весть.
Когда супруга и сын Шанды-Саиба удалились, бегума вернулась в гостиную, а Бюсси остался наедине с Дюплэ.
Тогда губернатор положил обе руки на плечи молодого офицера и посмотрел ему в глаза.
— Мой дорогой Бюсси! — сказал он ему после минутного молчания. — Того, что я хочу сказать вам, никто не должен знать, кроме вас, исключая моей жены, которая составляет часть меня самого. С тех пор как я знаю вас, я наблюдаю за вами, изучаю вас; и результаты этих наблюдений вполне благоприятны вам. Вы соединяете с отвагой и увлечением героя хладнокровие и скромность, быстрое и верное суждение о вещах. Стараясь не выходить ни на минуту из повиновения, вы обладаете, однако, предприимчивостью. Вы — тактик, и я угадываю в вас дипломата и государственного человека. Кроме того, вы обладаете природным даром очаровывать: я вижу это на всех, кто имеет с вами дело. А это — большое преимущество в жизни. Да, я могу вам вполне довериться: вы именно тот, кого я искал.
— Эти похвалы наполняют меня радостью, — сказал Бюсси, — но я еще ничего не сделал, чтобы их заслужить.
— Выслушайте меня! — сказал губернатор, привлекая его на софу. — Уже давно я поджидал случая вмешаться в дела индийских принцев. Вы слышали, о чем просит меня Шанда-Саиб: поддержать его в войне, которую он затевает. Слава наших побед и храбрость наших солдат вызвали такие события, которых я втайне желал! Высшему совету и директорам компании я дам понять, что выгода от этого вмешательства будет заключаться только в денежной экономии: войска, которые поступят на службу к принцам, будут на их содержании. Это позволит нам в мирное время сохранить такую же армию, как и во время войны с Европой, не считая вознаграждения, которое нам не преминут дать за оказанные услуги. Об этом я громко прокричу, чтобы не помешали моим планам. Настоящая же моя мысль гораздо более дерзкая; и если бы о ней подозревали в Версале, а также в Индии, меня сочли бы сумасшедшим и создали бы мне тысячу препятствий. Вы, наверное, заметили, в каком состоянии упадка и анархии находится правительство в этой стране. Эти постоянные войны, кровавые заговоры, власть Великого Могола, которую обыкновенно не признают и презирают, и — народ, как всегда, жертва, которую попирают все эти честолюбцы! Ну, так вот, моя мечта — завоевать эту страну, вернуть ей спокойствие и процветание; и все это мирно, без битв и насилий. Если мне помогут, это — вещь возможная. Может быть, я буду в состоянии дать Франции индийскую империю! Подумайте, как мы будем близки к цели, если нам теперь посчастливится. Мы поддержим двух законных принцев, изменнически лишенных власти. Если нам удастся возвратить им трон, какую признательность, какое уважение они будут питать к своим избавителям! Мы будем их руководителями, их властелинами — одним словом, мы будем управлять под их именем. Они наделят нас титулами, уделами, которые быстро возрастут. Народ, почувствовав благотворность нашего владычества, перейдет на нашу сторону из любви, когда мы, без потрясений, в силу вещей, законно унаследуем власть, с согласия Великого Могола, наместников которого мы всегда будем поддерживать, уважая его указы.
— Ах, сударь! Смелость вашего гения поражает меня, — воскликнул Бюсси, поднимаясь. — Конечно, подобная победа возможна; и если вас сумеют понять и поддержать, вы одержите ее. Что касается меня, я готов пожертвовать жизнью, чтобы содействовать вам. Я полон гордости и счастья, что удостоился чести быть избранным в ваши помощники.
— Вы один знаете мои истинные намерения, Бюсси. Смотрите, чтоб их не угадали, но сообразуйте с ними ваши поступки. Я бы ничего не мог сделать без такого человека, как вы, обладающего высшим умом, который может угадывать мои желания и думать, как я сам.
— Ах, не осыпайте меня такими похвалами! — сказал маркиз. — Не отнимайте у меня возможности стоять на том уровне, на который вы поставили меня в своем мнении.
— На этот раз я не ошибаюсь, — сказал Дюплэ, сжимая молодого человека в своих объятиях. — Вы именно тот, кого я ждал. Но на сегодня довольно, мы еще поговорим об этом до отъезда. Вернемся к нашему вечеру.
В гостиной Дюплэ подошел к покрытому столу и велел налить себе шампанского.
— Выпьем за успех законных принцев! — сказал он, чокаясь с Бюсси.
Молодой человек одним духом осушил стакан и тихо сказал, ставя его снова на поднос:
— За завоевание рая!
Глава XVI
ИНДИЙСКИЙ ПОХОД
Среди ночной темноты, в величественном лесу мелькают красноватые огни, оставляя за собой полосы дыма. Под черным сводом великолепной аллеи выступают слоны. Направо и налево бегут люди с факелами. Шум бесчисленных шагов можно было принять за беспрерывно падавшие по листьям капли дождя. Тут были всадники, верблюды, пешеходы. Двигалась целая армия!
Французский отряд догнал Шанда-Саиба и его войска. Теперь они спешат, пользуясь ночной прохладой, к лагерю Музафер-Синга, которого думают достигнуть к утру.
Бюсси счастлив: идут на Аркат, приближаются к Бангалору.
Экспедицией командовал граф д’Отэйль. Де ла Туш и Бюсси находились под его начальством, но последний имел секретные предписания. Шанда-Саиб встретил французов с восторгом. Каждому из трех начальников он подарил по великолепному слону со сбруей и погонщиком. И вот, на одном из них, в расшитом паланкине, лежал маркиз, дремля, мечтая и разговаривая со своим другом Кержаном, которого он пригласил к себе.
— В конце концов привыкаешь к этой несколько грубой качке, — сказал он. — Точно кормилица укачивает ребенка, чтобы заставить его заснуть.
— В первые минуты я чувствовал себя ужасно, — сказал Кержан. — Но, действительно, к этому можно привыкнуть; и это становится уже приятно. Знаете ли, ваш слон великолепен!
— Конечно, и выражение у него очень умное. Я его уже люблю. Как бы мне его назвать?
— Аякс или Александр.
— Почему?
— Потому, что он идет на войну.
— Не по собственному желанию. Нет, скорее как-нибудь по-индусски. Вот что: я назову его Ганеза.
— Что это значит?
— Бог мудрости: он изображается с головой слона.
— Превосходно. Назовем его Ганеза. А все-таки странный подарок: слон, да еще человек при нем! Он вовлечет вас в бешеные расходы.
— Во время похода о наших издержках будет заботиться набоб…
— А после войны мы будем миллионерами! — сказал Кержан. — Или же эти принцы просто нищие.
Занавеси башенки были подняты с одной стороны: и видно было, как от факелов летел дым с искрами, в котором кружились всевозможные насекомые. Постепенно освещаемая ярко-зеленая листва принимала металлический оттенок; и иногда на суке показывалась внезапно разбуженная съежившаяся обезьянка с испуганным видом.
— По спине Ганезы пробегает иногда дрожь, которая для нас равняется землетрясению, — сказал задремавший было Бюсси.
— Потому что он чует какого-нибудь хищного зверя, пантеру или тигра, и выказывает таким образом свою неприязнь. Ужасная кошачья порода уже вышла на охоту. В такой час не особенно приятно очутиться в лесу одному.
Действительно, сквозь шум двигавшейся армии слышались рев, жалобные и бешеные крики, протяжное мяуканье в глубокой чаще, которая окружала солдат.
Но резкая свежесть возвещала о наступлении дня. Мало-помалу непроницаемый мрак стал рассеиваться, сменяясь белесоватым туманом. Вскоре можно было различать огромные шероховатые стволы, гирлянды лиан, листья странной формы; потом открылась даль, и вдруг стало светло. Тогда весь лес запел.
Рыканье хищников смолкло; пение птиц, как небесные голоса, заставило скрыться в свои логовища этих мрачных бродяг. На каждой ветви, из каждого гнезда раздавалось пение, воркованье, призывные крики, рулады, бесконечное щебетание поднимались из каждого пучка листьев. С высоты своей башенки Бюсси видел, что делается на деревьях; он подсмотрел, как птички совершали свой туалет. Подле дороги бенгальский зяблик сел на широкий цветок, доверху наполненный росой; он погружал свой клюв и пил, запрокинув голову, потом стал купаться в цветке, встряхивая свои перышки и рассыпая бриллиантовые брызги. Затем, в свою очередь, проснулись обезьяны, белки и легко запрыгали с ветки на ветку, скользили вдоль лиан, испуская короткие, пронзительные крики. В чаще пробегали газели и скрывались, сильно шумя смятыми листьями.
Кержан заснул; но Бюсси высунулся наружу, чтобы лучше насладиться этим праздником зари. Он говорил себе, что человек был непрошеным гостем среди этого таинственного леса, столь населенного и оживленного.
По мере того, как солнце проникало в лес, он становился все великолепнее. Вырисовывались гигантские станы необыкновенно мощных деревьев, их причудливые формы: тут были сикоморы, индийские дубы с вековыми стволами, белые сандальные деревья, испускавшие удушливый аромат, группы бамбука с колоссальными снопами огромных листьев; наконец, всевозможные виды деревьев, произраставшие на свободе, в диком состоянии, в своих нетронутых владениях. Видно было, что топор никогда не касался их, что вековые деревья умирали сами, склоняясь к своим детям, которые поддерживали их, мешая им упасть, и служили им цветущим саваном. Под тенью этих гигантов с роскошным станом целый мир деревьев, кустарников, плодов, цветов, причудливых трав состязался в красоте, блеске, изысканных ароматах. Тут были: перец, вьющийся бетель, уродливые маисовые деревья, имбирь, кардамон; а по всему лесу прихотливая и своевольная лиана перебрасывалась с ветки на ветку, с дерева на дерево, образуя переплеты, фестоны, гирлянды и обвивая все.
Говор жизни становился также причудливым и беспокойным; чувствовалось, что шумит и двигается целая толпа. Казалось, что птиц столько же, сколько листьев. Насекомые поднимались, как облака пыли; и бесчисленные теперь обезьяны прыгали направо и налево, гримасничая, крича, преследуя людей, осыпая их градом цветов и плодов.
В самую грудь Кержану попал лимон, и это внезапно разбудило его; он был взбешен и разразился проклятиями.
— Я думал, что это пуля, — сказал он, поднимая плод и очищая его. — Фуй, какая кислятина!
— Я думаю, — сказал Бюсси, — это амблит. Наик утверждает, что если в него погрузить иголку, то она растворится.
— Пришлите-ка мне что-нибудь другое, ужасные животные! — сказал Кержан, бросая обезьянам остатки плода, что повлекло за собой град снарядов. — Однако какие же они скверные! — продолжал он. — Пора уж нам выехать из леса, не то придется начать битву. Спросите же у погонщика, где мы находимся?
— Через несколько минут мы выйдем в долину, где будет сделан привал.
Солдаты-мусульмане уже расстегивались: многие бросились бежать, чтобы прибыть первыми.
— Что с ними такое? — вскричал Кержан.
Это бегство объяснилось только на широкой, прекрасной равнине, в глубине которой протекала река. Многие были уже на берегу и раздевались: дело шло о священном омовении, немного запоздавшем, так как солнце уже поднялось.
— Право, я хочу поближе посмотреть на это, — сказал Бюсси, сходя со слона и также пускаясь бегом к реке.
Один умара, исполнявший обязанность муэдзина, пел во все горло предписанное воззвание:
— Великий Боже! Великий Боже! Великий Боже! Нет Бога, кроме Бога, и Магомет его пророк. На утреннюю молитву! На молитву! Нет Бога, кроме Бога!
И правоверные со всех ног бежали к реке, раздеваясь на ходу. Они старались бежать, обращаясь лицом к Мекке.
Бюсси подошел к ним. Умара стоял на коленях, склонившись над водой, и омывал руки, читая первую молитву:
— Хвала Аллаху, сотворившему прозрачную воду и давшему ей свойство очищать! Он сделал также нашу веру чистой и искренней.
Потом он взял в левую руку пригоршню воды, выпил глоток и дважды выполоскал рот.
— Молю тебя, Господи, напои меня той водой, которую ты дал в раю своему пророку. Она ароматнее мускуса, белее молока, слаще меда и обладает свойством утолять навсегда жажду у того, кто ее пьет.
Потом он втянул воду в нос, три раза вымыл лицо и ушные раковины и, зачерпнув полную пригоршню, омыл правое плечо, потом левое и помочил темя, вымыл уши внутри, шею, грудь и живот, большой и все остальные пальцы, наконец, ноги, читая последнюю молитву:
— Будь мне твердой опорой, о Господи, и не дай моей ноге споткнуться, чтобы мне не упасть на остром мосту сирата, который ведет в геенну.
Все эти мужские голоса, читавшие молитву, сливались в резкое жужжание. Каждый бормотал про себя; одни дошли до ушей, тогда как соседи их достигли уже ног, а иные только что начинали. Одни стояли с воздетыми кверху руками, другие подняли к небу глаза. Тот, кто чихнул или кашлянул, начинал снова.
— Ну, не смешны ли эти глупости! — сказал Кержан, который догнал маркиза.
— Я не нахожу этого, мой милый, — отвечал Бюсси. — В этом поклонении восходящему солнцу есть что-то величественное, и я не могу не питать уважения и сочувствия к религии, где молитва состоит в чистоте.
Еще до полудня показался лагерь Музафер-Синга. Он был раскинут в зеленеющей долине, у подножия холма, и казался издали цветущим палисадником.
Трое французских начальников сошли со своих слонов и пересели на лошадей, чтобы стать во главе своих солдат. Шанда-Саиб отправился с ними, желая лично представить их субобу.
Как только их заметили, из лагеря выслали им навстречу почетный караул из двадцати всадников. Они примчались бешеным галопом на своих маленьких, грациозных, горячих лошадках. Они стреляли, с криком потрясали оружием и весело джигитовали. Тогда граф д’Отэйль отдал приказ бить в барабаны и трубить в трубы.
Когда всадники субоба подскакали совсем близко, один из них поднял забрало, скрывавшее его лицо, и подъехал к Бюсси. Узнав его, молодой человек побледнел от волнения.
— Арслан Хан! — воскликнул он.
— Я искал тебя, а ты сам пришел, — сказал умара.
— Ты искал меня?.. — пробормотал маркиз.
— Тебя ждут в Бангалоре, — сказал мусульманин, понижая голос, — чтобы отделаться от себя или дать тебе святотатственный поцелуй.
Бюсси напряг все усилия, чтобы казаться спокойным.
— Меня ждут? Хорошо, — сказал он. — Если я останусь жив после предстоящего сражения, то приеду в Бангалор.
— Когда настанет время, человек подойдет к твоей палатке и будет твоим проводником.
Арслан удалился и занял свое прежнее место.
Два ряда всадников от входа в лагерь до царской палатки образовали как бы широкую аллею. У всех этих людей с гордым и величественным видом были надеты под яркими чалмами каски, а сверх кисейной рубашки — кольчуга. Они были вооружены копьями, луками и саблями; с одного бока у седла висел легкий щит, а с другого — колчан со стрелами, украшенными перьями куропаток. Эти воины, неподвижные, как статуи, смотрели, как бы не видя, на проходивший между ними французский батальон, с Шанда-Саибом во главе, также вооруженным по-военному и великолепным.
Перед высокой и широкой палаткой Музафер-Синга, из зеленой шелковой материи, расшитой золотым шнурком, развевалось царское знамя. Оно было белое, с золотой бахромой. На одной его стороне были изображены книга и рука, на другой были начертаны стихи из Корана. То было начало победной песни: «Богу, полному всеведения и мудрости, принадлежат небесные и земные армии. Мы одержали во имя Него блестящую победу».
Субоб вышел из палатки на яркий свет и ступил на ковер, разостланный у входа. Это был высокий, сильный молодой человек, с темным лицом, блестящими глазами, красными губами и небольшой бородкой. На нем была каска из темного серебра, на которой, в виде арабесок, была выписана золотыми буквами двадцать одна тысяча имен Аллаха; сетка из золотых и серебряных нитей мягкими складками спускалась с каски и защищала затылок и шею. Кольчуга тоже была из золота и серебра. Поручни блестели ослепительно; они были выложены мелкими бриллиантами, окружавшими огромный, знаменитый алмаз, который называется Молнией. Щит, украшенный изображением тигра из рубинов и изумруда, был покрыт жемчужной сеткой.
Шанда-Саиб представил субобу трех спешившихся французских начальников. Музафер протянул им руку я предложил подкрепиться, так как битва предстояла, без сомнения, в тот же день. Потом он стал смотреть, все с большим и большим удивлением и разочарованием, как перед ним проходили четыреста французов в темных мундирах, которые составляли печальный контраст с роскошными костюмами индусов, затем семьсот сипаев и шесть пушек.
Когда представление кончилось, он увлек Шанда-Саиба в палатку.
— Но это насмешка! — воскликнул он раздраженным тоном. — Что же ты хочешь, чтоб я сделал с этой горсточкой солдат! У тебя шесть тысяч человек; у меня едва наберется столько же: и это-то ты собираешься выставить против армии Аллаха-Верди? Но мы пропали, несчастный! Ведь мы не можем отступить. Наш враг выступил из Арката и стоит недалеко лагерем; он ждет нас, чтобы начать битву.
— Если бы ты видел, как я, этих французов в деле, свет моих очей, тебя не беспокоила бы их малочисленность. Они были еще слабее, когда рассеяли, как прах, эту же самую армию Аллаха-Верди. Один лев обращает в бегство целое стадо газелей. Дождись первой битвы, чтобы судить о людях, которых я привел к тебе.
— Но ты не знаешь, как хорошо укрепился наш враг! У него сильная артиллерия; и шпионы донесли мне, что к ней приставлены европейские авантюристы.
— Этот последний факт, без сомнения, важен, — сказал Шанда-Саиб. — Но он не колеблет моей уверенности. Целая английская армия не могла ни восторжествовать над нашими союзниками, ни разрушить стен Пондишери. Прикажи начать битву; и если, по окончании, твое беспокойство не перейдет в восторг, накажи меня, как обманщика.
Разочарование субоба не ускользнуло от французов. Маркизу Бюсси донесли, что царь, запершись в своей палатке, предавался молитве и скорби.
— Между тем он очень храбрый принц, — прибавляли говорившие. — Но сравнительно с военными силами Карнатика его армия кажется ему слишком слабой; и он сомневается во французах, потому что сам не присутствовал при мельяпорской битве.
Французы горели нетерпением вступить в сражение; они были раздражены; самолюбие их было задето. Они хотели одержать победу во что бы то ни стало.
Граф д’Отэйль выслал отряд на разведку неприятельских позиций.
Аллах-Верди, который сам командовал своей армией, расположился недалеко от деревушки Амбура, позади ручья, который разливался по долине и затоплял ее. Его лагерь упирался в неприступную гору, на которой возвышалась крепость. Фронт, вытянувшийся вдоль ручья, был защищен траншеями и насыпью, с многочисленной артиллерией. Укрепление, действительно, было очень сильно, и его трудно было взять.
Д’Отэйль решил, что этот день и часть ночи следует употребить на отдых, чтобы на другой день, на заре, идти на приступ.
На следующий день, вскоре после полуночи, выступили в поход. Французы занимали почетное место, в авангарде, а за ними следовали армии двух принцев. Но когда они подошли к врагу, граф д’Отэйль предложил только с войсками Пондишери разнести окопы, за которыми скрывался похититель престола.
Шанда-Саиб согласился, тогда как царь пожал плечами, считая своих новых союзников совсем сумасшедшими.
Затрубили в трубы, забили в барабаны, и заколебались французские знамена, на которых был изображен лик, окруженный золотым сиянием, под девизом короля-Солнце: «Nec pluribus impar».
Французы беглым шагом бросились на приступ. Целый град пуль из хорошо направленных орудий отбросил их; но они тотчас же соединились, и граф д’Отэйль, со шпагой в руке, бросился первый, крича:
— Кто любит меня — за мной!
На этот раз они бросились с остервенением, несмотря на все еще сильный огонь. Вторая атака продолжалась более получаса и почти уже увенчалась успехом, как вдруг граф д’Отэйль упал, раненный пулей в бедро. Его солдаты опять отступили.
Команда перешла к маркизу де Бюсси. Он галопом объехал ряды солдат, подбодряя и обнадеживая их, передавая им свой пыл.
— Разве вы не видите, — кричал он, — набобов и эту армию, которые смотрят, как на представление, на наше поражение. Разве вы потерпите, чтобы они смеялись над нами и считали нас дрянными солдатами? Вперед, ребята! Враг уже расстроен и утомлен. На этот раз мы одолеем его в одну минуту.
Французы снова бросились с таким бешеным порывом, что, действительно, разрушили бруствер и ворвались в укрепление, где они рубили и кололи беспощадно. Вскоре защитники траншеи убежали в середину лагеря, преследуемые победителями.
Тогда в долине поднялись неистовые радостные крики. Армии-зрительницы рукоплескали успеху, и Шанда-Саиб бросился со своими всадниками в открытую брешь.
— Не будем останавливаться! — сказал ему Бюсси. — Набоб здесь, своей особой: нужно его взять.
Аллах-Верди, на своем военном слоне, рядом с карнатикским знаменем, окруженный избранными воинами, старался удержать беглецов, осыпая их бранью и бросая в них стрелами. Ему удалось собрать их и снова двинуть на врага; вдруг ему донесли, что знамя Марфиз-Хана сброшено и что его сын убит. Он побледнел, несмотря на свою темную кожу, но продолжал идти вперед.
На некотором расстоянии от себя Аллах-Верди заметил Шанда-Саиба. Сердце его охватили ненависть и бешенство.
— Я тебе дам какое угодно вознаграждение, если ты через толпу довезешь меня до моего врага, — сказал он погонщику своего слона.
Погонщик спешил, давя все, что попадается ему на пути. И вот уже до Шанда-Саиба достигает голос.
— Остановись, негодяй, и вступи со мной в борьбу, если посмеешь! — закричал ему Аллах-Верди. — Подойди, трус, одерживающий победы при помощи европейских колдунов. Пошлый проходимец, которому власть набоба пристала так же, как чалма ослу! Дай мне вырвать из тебя твою скверную жизнь и снести твою голову, которая оскорбляет зрение, чтоб она скатилась под ноги слонов!
— Правда, я один остался из семьи, которого ты не убил! — воскликнул Шанда-Саиб, стремясь приблизиться к нему. — Гнусный коршун, настал час для искупления твоих грехов! Я вижу, как твои жертвы носятся в ожидании твоей зачумленной души, чтоб сбросить ее в Иблис с высоты адского моста!
Аллах-Верди с насмешкой прицелился в своего противника и собирался бросить в него свой дротик, как вдруг выстрел в сердце свалил его.
Кто выстрелил? Неизвестно. Пуля вылетела из рядов французов.
— Победа! — вскричал Шанда-Саиб, бросаясь к знамени Карнатика и срывая его.
Видя своего начальника мертвым, а знамя в пыли, войска Аллаха-Верди, которые только что, казалось, решились твердо держаться, отступили и обратились в бегство. Французский батальон и мусульманская армия ожесточенно преследовали их.
Затем началось разграбление покинутого лагеря. Принцы завладели слонами, лошадьми и боевыми припасами. Остальное досталось солдатам, которые, с торжествующими песнями и радостными криками, набросились на огромную добычу.
В тот же день направились к Аркату; и еще до заката солнца на розовом небе показались очертания столицы Карнатика, с ее башнями и минаретами.
Глава XVII
ОСТРОВ МОЛЧАНИЯ
Французский лагерь расположился в великолепном саду одного из дворцов Арката. Граф д’Отэйль не хотел распускать своих воинов по квартирам, чтобы иметь возможность поддерживать среди них дисциплину. Тогда им отвели этот райский сад. Генерал не велел ничего портить; и солдаты смотрели с изумлением на рощи, портики, мраморные киоски, всевозможные странные цветы, ароматы которых они вдыхали, не смея сорвать их. Они со смехом погружали пальцы в бассейны с розовой водой, пытались ловить бабочек, до того великолепных, что они принимали их сначала за слетевшие цветки.
Субоб не знал, как выразить им свою благодарность. Он велел раздать им денег и, кроме того, посылал им плоды, пирожные, различную дичь. Теперь он так верил в своих новых союзников, что воскликнул:
— Я бы пошел на самого Великого Могола в Дели с какими-нибудь пятьюстами французов!
Палатки были раскинуты на прелестной лужайке, в тени огромных деревьев, у прозрачного ручья, журчавшего в траве; туда приходили на водопой ручные газели и лани.
В палатку, где, мечтая, отдыхал Бюсси, тихо проскользнул Наик.
— Господин! — сказал он. — Там стоит индус: он пришел к тебе.
— Приведи его! — вскричал Бюсси, подпрыгнув от радости.
— Он отказывается войти.
Бюсси встал и вышел из палатки.
Он увидел человека с черным лицом, одетого в длинную белую рубашку с узкими рукавами; на голове у него была чалма.
— Ты Шарль де Бюсси? — спросил человек.
— Я.
— Ну, так сегодня вечером, после заката солнца, жди меня здесь.
— Я буду ждать тебя, — сказал Бюсси.
Человек быстро удалился.
— Наик! — сказал маркиз. — Приготовь мой чемодан, для небольшой поездки, и вели оседлать мою лучшую лошадь, я тем временем пойду к коменданту попросить отпуск.
— Я еду с тобой, господин!
— С чего ты взял, что я буду брать с собой целый конвой, когда меня ждет женщина?
Наик молча опустил голову, а Бюсси углубился в великолепную тень, разыскивая палатку генерала.
Граф д’Отэйль, который все еще не покидал постели из-за раны, лежал среди кустов жасмина, у розового мраморного бассейна и забавлялся тем, что бросал рыбкам крошки хлеба. Это был человек лет шестидесяти, но еще совсем бодрый, храбрый, простой, только немного вялый и нерешительный.
Бюсси осведомился сначала о его здоровье.
— Право, — весело воскликнул генерал, — кажется, что это кровопускание принесло мне большую пользу! Подагра не беспокоит меня, а рана, сделанная пулей, ничто в сравнении с этой пыткой. Скоро я буду на ногах. Не воображайте, молодой львенок, что я дам вам украсть у меня все победы.
— Я только докончил то, что вы так хорошо начали.
— Нет, сударь, Амбургский день принадлежит вам; если вы этим не хвастаетесь, то молва делает это за вас. Вы молоды, слава любит вас.
В этом добродушии чувствовалась некоторая досада; и смущенный Бюсси не смел просить отпуска, боясь отказа.
— У нас, кажется, будет здесь долгий отдых, — сказал он. — Принцы, по-видимому, не торопятся вступать в сражение.
— Это ошибка, большая ошибка! — воскликнул генерал с оживлением. — Они сидят тут, наделяя друг друга пышными титулами, собирая подати и отыскивая в земле сокровища, вместо того, чтобы напасть на похитителя престола, не дав ему опомниться. Теперь они ждут из Дели писем от Великого Могола, который должен утвердить за ними их титулы. Какое дело до писем Великого Могола! Тот субоб наделал себе фальшивых: это гораздо проще. И он нагрянет на нас как снег на голову.
— Этого нечего опасаться, — сказал Бюсси. — Эти индийские принцы поступают все на один лад. У этого горького пьяницы, Насер-Синга, нет никакой энергии; прежде чем его армия придет сюда из Арангабада, пройдут месяцы. Вот почему я пришел к вам просить отпуска на несколько дней.
— Отпуска? Зачем? — резко спросил д’Отэйль.
— Вам известно, что меня очень интересуют памятники, литература и нравы этой страны. В окрестностях есть развалины, которые я хотел бы осмотреть.
— Да, это правда, вы ученый. Только нашли же вы время рассматривать старые камни! Впрочем, вы их увидите; это — все одно и то же. Вам лучше остаться здесь.
— Сударь, вы меня очень обяжете, если исполните мою просьбу, — сказал маркиз, употребляя все усилия, чтобы казаться вполне спокойным.
— Вам непременно хочется! — сказал генерал, искоса посмотрев на Бюсси.
— Непременно.
— Если бы это еще было какое-нибудь любовное свидание, в этом был бы здравый смысл; но идти любоваться ужасными каменными болванами, которые строят вам рожи…
Д’Отэйль разразился смехом.
— Он-таки рассердился! — воскликнул он. — Ну, полно, я подразнил вас немножко, чтобы отомстить за успех, который вы у меня отняли. Делайте, что вам угодно, милый друг. Только не запаздывайте, а главное, берегите себя.
И генерал протянул руку молодому офицеру, который дружески сжал ее с облегченным вздохом.
В условленный час, на назначенном месте появился черный человек. Он был верхом.
Бюсси вскочил в седло и в то время, как всходила луна, покинул лагерь вместе со своим молчаливым спутником.
Молодой человек не видел ничего по дороге: ни бесплодных долин, ни лесов, ни городов. Он замечал только многочисленные горы, которые замедляли его путь.
Его товарищ, с хмурым, враждебным лицом, молчаливый, представлялся ему самым невыносимым тираном. Когда этому человеку казалось, что они слишком долго едут, он сходил с лошади, искал убежища, садился на корточки и не двигался; если же маркиз сердился и торопил его продолжать путь, он жестом указывал на усталых и голодных лошадей и давал понять, что когда они околеют, то не будут в состоянии больше бежать.
Тем не менее путешественники доехали. На другой день, под вечер, они были в Бангалоре, перед дворцом царицы.
Здесь пажи, лет пятнадцати, бросились к лошадям, чтобы не дать им проскакать галопом во входные ворота. Но Бюсси теперь не торопился, и насколько раньше его глаза относились ко всему безучастно, настолько жаждал он теперь все увидеть.
В стене, обвитой жасмином, отворилась высокая, величественная дверь. Две порфирные колонны поддерживали арку со скульптурными украшениями из слоновой кости, над которой развевались желтые флаги с длинной бахромой. На капителях, в хрустальных вазах, росли два молодых манговых деревца.
Пажи шагом ввели лошадей под уздцы в первый двор.
Он был окружен зданиями ослепительной белизны, с крышами в виде террас, с лепными балконами и мраморными лестницами. Под деревьями, посаженными правильными рядами, производились военные маневры.
В одном углу, на широком каменном кресле, дремал привратник.
Четырехугольный вход, суживавшийся кверху, вел во второй двор, вдоль которого были расположены конюшни и хлева. Перед лошадьми, с красивыми, заплетенными гривами, были навалены груды всевозможной сочной травы, которую они разбрасывали упитанными губами на блестящую мозаику пола. Погонщики на серебряных блюдах филигранной работы подносили слонам комочки риса и топленого масла. Буйволам и упряжным зебу золотили рога, а походным баранам натирали шеи маслом. Дальше женщины расчесывали и душили гривы любимым верховым лошадям. Огромная черная обезьяна, привязанная к колонне, казалось, председательствовала при этих работах, крича и гримасничая.
Тройная арка, украшенная скульптурной работой, вела на третий двор. Это был общественный двор: там собирались придворные, вельможи и молодежь Бангалора. Он был весь окружен прохладными портиками, обсажен тенистыми деревьями; бьющие фонтаны освежали воздух, наполненный гулом голосов. Там и сям медленно прогуливались друзья, рассматривая картины, изображавшие любовные сцены; другие сидели перед шахматной доской и играли в шахматы, сделанные из драгоценных камней; третьи читали, пили щербет или курили гуку.
Четвертый двор был царством музыки. Глухие удары по цимбалам, нежные звуки флейты, дрожание струны под нервным пальцем — все это сливалось в неясный шум. Каждый музыкант упражнялся сам по себе. Сквозь широкие окна в глубине комнат видно было, как изящные молодые девушки упражнялись в танцах и пении. Там и сям висели кувшины из пористой глины, придававшие свежесть проникавшему сквозь них ветерку.
Пятый двор был наполнен дымом и запахом кухни. Начальник поваров, окруженный блюдами, пробовал их одно за другим. Варили варенье, сажали в печь пирожки и укладывали плоды на цветущее ложе зелени в золотые вазы.
Роскошный свод, выложенный лазоревым камнем и золотом, отделял кухни от следующего двора, наполненного парфюмерами и ювелирами. С одной стороны сушили мешки с шафраном, цветы и коренья, шили подушечки для мускуса, выжимали сок из сандала, растирали румяна и белила, составляли эссенции. Залы были завалены до потолка лепестками роз, так как нужно было собрать жатву с целого поля, чтобы добыть крошечный флакон лучшего масла, выжатого из роз, называемого «аттаргуль».
Сторона, занятая ювелирами, была ослепительна. Ловкие мастера били и чеканили золото у раскаленной добела печи; другие шлифовали янтарь, кораллы, гиацинт, лунный и солнечный камень, сортировали жемчуг и протыкали его, чтобы нанизывать ожерелья, делали украшения к кушакам из зеленых сибирских гранатов, сапфиров, топазов и красных опалов. В отдельных киосках сортировщики, сидя перед хрустальными вазами, наполненными самыми редкими драгоценными камнями, внимательно вставляли в золотую оправу бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры, украшали ими перстни, запонки, колки для скрипки, венцы, сабли, щиты. Тут же граверы вырезывали золотым резцом на широкой бирюзе стихи, молитвы или чудодейственные изречения.
Бюсси как во сне подвигался среди всего этого богатства. Храм казался ему достойным богини. Но во всем обаянии этой роскоши и могущества она как будто еще дальше уходила от него, становилась все прозрачнее и неуловимее.
Седьмой двор так же блистал, как и двор с драгоценными камнями. Но здесь были живые драгоценности — всевозможные птицы с великолепными перьями. Двор был выложен таким гладким мрамором, что розовые лапки голубей скользили по нему. Он был осенен деревьями, которые, казалось, росли прямо из камня. Посреди двора находился бассейн, окруженный ступеньками, на которых все летучее водяное население чистило свои перья или хлопало крыльями. Лебеди и золотистые утки плавали на поверхности этой воды, поросшей красными лотосами.
Чтобы не испугать птиц, маркиза просили сойти с лошади. Но на восьмой двор, где возвышался дворец царицы, его не пустили, а провели налево через здание. Тут были исторические залы, украшенные изображениями богов и героев, которые напомнили ему египетскую живопись. Он только прошел через эти залы и снова вышел в прекрасный сад.
Здесь, под необычайно высокими деревьями, были привешены к одной ветке, подобно чашке весов, шелковые качели. На лужайке он заметил грациозных молодых девушек, которые ловили голубых бабочек с помощью обученных скворцов.
По мере того, как он подвигался вперед, перед ним открывались цветники и кущи деревьев, покрытые цветами, которые красотой превосходили все, виденное им до сих пор в Индии. Он любовался странной кеорой с огромным цветком, издававшим тонкий запах свежего мускуса, голубой клиторией, красной азолкой, белым чен-пали, деревцом гургиля, похожим на розовый куст, у которого из раскрывшейся чашечки выходил тонкий стебель, с великолепным, ярко-красным сердцем на конце; мадгави с зелеными, как изумруд, цветами и палевой анишей, столь нежной, что когда нюхаешь ее, она вянет. Дальше, у фонтанов, росли прелестные голубые, золотистые и красные лотосы.
Маркиза привели к изящному зданию, окруженному яшмовыми колоннами с золочеными капителями. У веранды к нему подошли женщины, улыбавшиеся с приветливым видом, которые составляли резкую противоположность с суровыми лицами пажей, сопровождавших его до сих пор.
— Войди, молодой незнакомец! — сказали они. — Войди подкрепиться и отдохнуть с дороги. Ты у принцессы Лилы.
— Принцесса Лила! — вскричал Бюсси. — Так это правда, что она расположена ко мне? Буду ли я иметь счастье видеть ее?
— Она вместе с царицей на Острове Молчания. Туда мы должны отвезти тебя, когда взойдет луна, — сказала одна из женщин.
— Принцесса сказала: «Пусть чужестранец будет здесь, как брат у сестры; повинуйтесь ему», — прибавила другая. — Государь, тебе приготовили душистую ванну, тонкие блюда и освежительные напитки.
Молодой человек отдался в их распоряжение. Конец дня он провел лежа на подушках, поджидая ночь с лихорадочной радостью, смешанной с тоской.
Когда ему пришли сказать, что пора идти на свидание, он вскочил, воскликнув:
— Уже!
Они шли довольно долго по саду, потом по лесам и лугам, и наконец пришли к берегу озера. Женщины остановились.
— Вот серп луны показывается из воды, подобно клыку слона, который выходит после купанья, — сказала одна из них. — Теперь настало время.
И они захлопали в ладоши, подавая знак. Вскоре послышался шум весел; он быстро приближался. Появилась узкая лодка и врезалась своим золоченым носом в прибрежные тростники. Два сильных черных гребца с обнаженной грудью управляли ею. Один из них протянул руку Бюсси, чтобы помочь ему войти.
— Берегись! — шепнула ему одна из женщин. — Не наклоняйся и не опускай рук в воду: озеро полно кайманов.
Лодка быстро удалилась. Еще с минуту Бюсси видел на берегу, в сумерках, белые покрывала своих спутниц, потом — только неподвижную воду, в которой там и сям отражались звезды и дрожал, удлиняясь, тонкий отблеск луны.
В первый раз он почувствовал себя совсем одиноким, совсем затерянным в этом дворце, полном измен. Озеро было все как бы взъерошено, покрыто острыми зубцами; но они то погружались, то перемещались, следуя за лодкой. Это были ужасные головы подстерегавших кайманов.
Маркиз пожалел о Наике. Почему он не настаивал сильней на своей просьбе сопровождать его? На этот раз ему, очевидно, изменило его тонкое чутье преданного слуги. Может быть, он опасался вызвать гнев своего господина, понимая, что тот не захочет взять провожатых на это свидание, чтобы не показаться трусом. Но какое дело маркизу до всего этого? У него была его шпага, и он ничего не страшился.
Показался белый остров, как бы выточенный из глыбы мрамора, с колоколенками, портиками, колоннадами и большими лестницами, спускавшимися к самой воде. Кустарники и группы пальм казались темными пятнами среди зданий; нигде не мерцал огонек. Лодка сейчас же причалила; и молчаливые гребцы помогли молодому человеку высадиться. Затем сильным ударом весла они оттолкнулись от берега, и лодка исчезла в темноте.
Бюсси быстро взбежал по ступенькам на широкую, пустынную террасу. Тотчас из дворца, высокая, сводчатая дверь которого смутно вырисовывалась, вышел человек, приблизился к нему и, не говоря ни слова, вложил ему в руку конец своего кушака, потом пошел впереди. Они вступили под темные своды и пошли по галерее, которая незаметно вела в гору. Одна из стен состояла из прозрачной аркады, через отверстия и фестоны которой виднелось бледно освещенное небо. Царила необыкновенная тишина. Шаги заглушались мягкой душистой пылью. Не было слышно ни шума воды, ни шума листьев.
Вдруг на одном темном повороте он почувствовал, что чья-то маленькая ручка схватила его за руку и чьи-то губы прошептали ему на ухо, почти касаясь его щеки:
— Берегись, друг! Смерть дарит только один поцелуй.
Он, казалось, узнал этот низкий, дрожащий от страха голос. Это была, без сомнения, Лила. Он ответил быстрым пожатием на пожатие этой маленькой, горячей ручки; потом невидимая женщина, казалось, ушла в стену.
Какая же ему грозила опасность? Одно только беспокоило его: исполнит ли царица свое обещание? Но не было сомнения, что она исполнит его и не осмелится ослушаться богов.
— Опасность может настать только после, — говорил он сам себе. — А после будь что будет!
Теперь он шел в полной темноте: аркады кончились, и он вошел в глубь здания. Однако вскоре вдали появился огонек, который быстро увеличивался, освещая на земле густую пыль, состоявшую из золотого порошка, сандала и алоэ. Бюсси вошел в высокую залу, освещенную лампами; проводник его остановился у двери, скрытой тяжелыми занавесками из золотой парчи. Они раздвинулись, и показавшаяся дверь бесшумно скользнула в выемку в стене.
Бюсси вошел в восьмиугольную комнату, стены которой были украшены резьбой из слоновой кости, а сводчатый лазурный потолок блистал звездами, выложенными из драгоценных камней. Но молодой человек ничего этого не заметил.
В комнате стояла царица, облокотившись на золотую тумбу, на которой горели канделябры. Бюсси был поражен, видя, что ее красота превосходила все его воспоминания о ней.
На этот раз она казалась дивной статуей, окутанной чрезвычайно тонкой белой тканью. Эта ткань, называемая «ночная роса», была так тонка, что ее можно было заметить только тогда, когда она была сложена в несколько раз; окутывая царицу легкой дымкой, она оставляла обнаженным одно плечо и не скрывала ее чудных форм. Из-под бриллиантовой повязки, которая просто придерживала ее волосы, выбивались локоны; и все ее украшения состояли из перстней на руках и браслетов на ее обнаженных ногах.
Бюсси медленно подошел к ней, созерцая ее таким жадным взглядом, что она опустила глаза и едва заметно покраснела.
Дверь задвинулась. Они были одни, среди глубокого молчания. Она казалась смущенной и бросила быстрый взгляд вокруг. Он подумал, что она боится, чувствуя себя в его власти. Тогда он упал к ее ногам, умоляя ее ничего не страшиться; и она опустилась на груду подушек.
Она смотрела на него, склоняя к нему голову и отстраняя его своими вытянутыми руками, для того ли, чтобы лучше рассмотреть его, или чтобы оттолкнуть. Он принял это за жест отвращения.
— Ах, будь милостива! — воскликнул он. — Не выказывай мне ненависти, поступи как царица и дай мне хоть минутку забвения. Я не хочу твоих холодных и враждебных губ, которые будут прикасаться к моим, как к горькому напитку, который нужно выпить, чтоб спасти жизнь. Нет, я хочу поцелуя любви; иначе я не считаю себя вознагражденным. Постарайся убедить меня, что ты ошиблась в своих чувствах, что этот твой пыл, который ты принимаешь за огонь оскорбления и ненависти— другой, похожий на тот, что обуревает меня. И я поверю этому, да, потому что это так и должно бы быть, если бы дикие предрассудки не ослепляли твоего разума. Да, такова воля Неба. Ты должна была полюбить меня, пришедшего из такой дали, через моря; конечно, судьба привела меня к тебе, чтобы вырвать тебя из рук смерти. Я с первого взгляда отдал тебе мою душу, и ты должна дать мне твою в обмен. Может быть, помимо твоей воли, но я взял ее у тебя…
— В таком случае, надо будет возвратить мне ее, чтобы я могла дать то, что у меня взяли, — сказала она чудным голосом.
Почти невольным движением он обвил ее талию руками; и она больше не отталкивала его. Она, казалось, замерла, разделяя его волнение. Выражение ее глаз также изменилось: ее зрачки расширились в какой-то неге; и он мог теперь вблизи смотреть в глубину этих черных бриллиантов с звездным сиянием. Он любовался правильными чертами ее лица, восхищался этими очаровательными губками, которые, смутно улыбаясь, показывали зубки очаровательнее бутонов жасмина. Он так был подавлен этим совершенством, что не мог понять, как он осмелился говорить с ней сейчас, так, как он говорил.
— Ах, прости, прости! — сказал он. — Урваси, за что ты могла бы любить меня? Прости, что я оскорбил тебя таким безумием! Это все равно, что просить великолепное солнце любить мрачную землю, которую оно освещает и радует.
— Ты знаешь мое имя? — удивленно спросила она.
И руками, которыми только что отталкивала его, она обвила шею молодого человека.
Он был как бы опьянен гашишем: он терял всякое сознание времени. Ему казалось только, что эта минута была целью его жизни, что он жил только в ожидании ее и что прошлое и весь мир крутились в вихре вокруг этой высшей точки.
Он шептал, закрывая по временам глаза:
— Любовь, которой я люблю тебя, выше сил человеческих. Держать в своих объятиях воплощенный идеал, даже больше, это — слишком великое счастье, которого сердце не может вынести; душа расширяется, готовая разорваться, и это ужасно мучительно, так как чувствуешь, что такое счастье невозможно и мимолетно.
Она устремила на него глубокий взгляд, нагибаясь, чтобы расслышать его слова, вся смущенная от этого страдания, которое заставило его так побледнеть, от этого горячего обожания, которое делало его столь воздержанным. Действительно, он испытывал как бы стыд за самого себя, робкую застенчивость; и этот поцелуй казался ему теперь невозможным и святотатственным.
Она первая вдруг прильнула к его губам, как бы для того, чтоб разом покончить с этим. Хотя прикосновение было самое быстрое и легкое, но бархатистое, благовонное и свежее, как прикосновение цветка; оно почти лишило его сознания, ослепило его вихрем пламени.
— Ах, прости! — вскричал он. — Я этого уж больше не просил, я не заслужил так много!
Он уронил голову на холодное плечо молодой девушки. Она сказала ему шепотом:
— Ты не находишь меня больше неблагодарной?
— Я бы пролил мою кровь, каплю за каплей, не переставая благословлять эту божественную минуту!
— Правда ли это? Так ли ты думаешь, как говоришь? Поклянись мне в этом, согласен?
— Клянусь! — сказал он.
И он сжимал свои руки вокруг талии царицы, которая извивалась, опрокидываясь назад. Теперь она была взволнована и дрожала. Грудь ее высоко поднималась от быстрого дыхания. Она смотрела на молодого человека со странным выражением какого-то отчаяния. Вдруг, испустив глубокий вздох, почти вопль, она бросилась в его объятия, впилась своими губами в его губы и неистово прижалась к нему. И он чувствовал, как по его щекам текли ее слезы, слышал, как билось это гордое сердце, готовое разорваться.
— Этой поцелуй, несомненно, дар твоей любви! — вскричал он, вне себя от радости. — Я чувствовал, как твоя божественная душа проникла в мою!
Но она отодвинулась, рассматривая его, не слыша его слов.
— Эти глаза, — сказала она, — эти глаза, которые сделали мне столько зла!..
И она поцеловала их долгим поцелуем, один за другим, как бы для того, чтоб закрыть их навеки.
— Боже мой! Если такое опьянение должно прекратиться, то именно теперь следовало бы умереть! — сказал он почти невнятным голосом.
Она поднялась, высвободилась из его объятий и быстро отошла от него.
— Ты хочешь умереть? — воскликнула она изменившимся голосом, с жестоким смехом. — Так радуйся же; тебя услышали: эта комната для тебя могила.
Он поднял глаза на царицу. Теперь перед ним был настоящий враг, с надменным жестоким взглядом, с презрительно сжатыми губами. Он отвернулся, чтоб не видеть ее такой.
— Смерть теперь будет желанной гостьей, — сказал он. — На что мне теперь жизнь?
Разбитый волнением, пресыщенный счастьем, он упал на подушки, обессиленный, уничтоженный и действительно желая умереть.
— Неужели ты думаешь, что после такого вечера может настать завтрашний день? — сказала она. — Если принц, мой жених, узнает когда-нибудь о преступлении, совершенном в этот час, то он по крайней мере услышит в то же время, что виновный ни одного часа не сохранил воспоминания о нем.
Бюсси вскочил, как бы пронзенный жгучей стрелой.
— Твой жених! — вскричал он. — Ах, тебе не следовало говорить о нем! Я был покорным и кротким, я готов был подставить шею твоим убийцам. Зачем ты влила в мое сердце растопленный свинец ревности? Это страдание снова дает мне силы жить и напоминает мне, что я должен убить всех тех, кто захочет приблизиться к тебе. Твоя любовь принадлежит мне, слышишь ли? Ты сейчас дала мне ее в этом поцелуе и можешь теперь притворяться, что ненавидишь меня: я тебе больше не верю. Избегай меня, заставляй меня выносить какие тебе угодно муки, только не говори о том, что ты можешь принадлежать другому. Я запрещаю тебе это, и буду жить, чтобы помешать тебе ослушаться меня.
Она стояла теперь, прислонившись к одной из дверей из слоновой кости, которая раздвинулась позади нее. Не сказав ни слова, она углубилась во мрак и исчезла, сделав печальный жест.
Дверь тихо затворилась.
Бюсси быстро обернулся, считая себя пленником, но увидел, что семь других дверей были открыты и на каждом пороге стояло по черному воину; они опирались на обнаженные мечи.
— Ах, так вот в чем дело! — вскричал он. — Тем лучше! Борьба не страшит меня: я думал, что меня хотели замуровать в этой могиле.
Он быстро сорвал драпировку с балдахина, который возвышался над подушками, обернул ее вокруг левой руки, прислонился к золотой тумбе канделябра и обнажил шпагу.
Тогда он спокойно осмотрел этих людей.
Это были индусские солдаты, в белых рубашках без рукавов, с красными чалмами на головах, безбородые, с лоснящимися лицами, круглыми глазами и белыми, как жемчуг, белками; ноги у них были худые, руки тонкие.
Они выступили все разом и подняли мечи. Но маркиз смеялся над их неловкостью. Одним круговым взмахом блестящей шпаги он обезоружил многих. Некоторые, кого задела шпага, отступили. Он наступил ногой на лезвие одной из упавших сабель и метким быстрым движением поднял ее левой рукой. Вооруженный таким образом, он казался непобедимым и принялся драться с ужасающим бешенством. Он наносил удары обеими руками направо и налево, отбивался ногами и головой, так что груди трещали. Кровь текла ручьями, и брызги ее, как красный жемчуг, облепили резьбу стен. Люди падали, не издав ни звука, ни крика, корчась, извергая волны черной жидкости.
Маркизу казалось, что он борется с детьми и совершает страшную резню. Но его удивляло их количество: он нанес больше ударов, чем нужно было, чтобы их уничтожить, а число их все не уменьшалось. Тогда он увидел, что в каждой двери стоял неподвижно человек; и как только кто-нибудь из дравшихся падал, — он выходил, а другой появлялся снаружи и занимал его место.
— Вот это лестно! — воскликнул маркиз. — Это показывает, насколько ценят мою храбрость. Против меня посылают всех пигмеев Бангалора!
Комната загромождалась все больше и больше. Приходилось спотыкаться о мертвых и раненых. Вследствие многочисленности индусы ранили друг друга, потому что маркиз уклонялся от их ударов; а они, раз ринувшись вперед, уже не могли остановиться и падали друг на друга. Он прыгал, перескакивая через груды трупов, делал из них баррикады. Иногда он наступал на лицо врагу, который кусал его.
Вдруг свистнула веревка. Это была петля, которую забросили на него. Он увернулся; другая рассекла воздух и достигла до него. Он разрубил ее своей шпагой и снова прислонился к золотой колонне, расталкивая перед собой подушки и трупы. Но он чувствовал, что погибает. Эти слабые люди, которые дрались без ненависти и гнева и молча умирали, конечно, в конце концов победят его. Если их ужасный аркан и не захватит его, то его задушит их количество.
Тогда он подумал о Дюплэ, который доверился ему, не подозревая, какое безумие овладело его сердцем и руководило его жизнью. Его смерть разрушит благородные замыслы друга! Он сильно досадовал на себя и попробовал еще бороться.
Бюсси бросил шпагу, распустил материю, которая была обернута вокруг его руки, и стал махать ею над головой, отталкивая веревки, которые забрасывались теперь на него со всех сторон. Но воздух становился невозможно душным: все эти выдыхания, этот пот и вздохи агонии, которые выходили из множества уст, оскверняли благоухающее святилище густым смрадом смерти.
Маркиз выбился из сил. Из раны на лбу на лицо его ежеминутно текла кровь, покрывая его красной пеленой и заливая глаза; ослепленный таким образом, он быстро вытирался, но это движение открывало его для врагов. Члены его немели, голова кружилась, и комната вертелась вокруг него. Уже два раза он опускал шпагу.
Теперь он думал об Урваси.
— Я прощаю тебе, — бормотал он. — Я умираю с небесным ощущением на губах.
Вдруг блеснул огонь выстрела, нарушив тяжелую, страшную тишину. Бюсси услыхал голоса, звавшие его.
В одном из проходов индусы вдруг попадали вперед один на другого от толчка, которым их отбросили. Ворвалась струя воздуха — и Бюсси увидел людей, бегущих по опрокинутым телам. Он различил дружеские лица Наика, Кержана и других; потом он упал и больше ничего не видел.
Когда он открыл глаза, над ним блестели звезды и он с удовольствием вдыхал свежий воздух; но он был скован страшной усталостью, словно его члены были налиты свинцом. Перед ним на коленях стояла незнакомая женщина, поддерживая его голову. Наик мочил ему лоб свежей водой, а Кержан, стоявший тут же, разрывал платок.
— Благодарю вас, друзья! — сказал он. — Вы спасли меня, как — я не могу понять.
— Черт возьми! Это все Наик, — сказал Кержан. — Он угадал, что в этом свидании, на которое вы побежали, скрывалась ловушка; а так как он утверждал, что ничто не могло заставить вас отказаться от него, то мы решили последовать за вами на некотором расстоянии, чтобы в любую минуту прийти к вам на помощь.
— Увы! — говорил пария, со слезами отирая кровь своего господина. — Мы пришли слишком поздно.
Маркиз не отрывал глаз от женщины, которая, склонившись над ним, смотрела на него глазами, полными слез.
— Я Лила, — сказала она, отвечая на его немой вопрос. — Я узнала слишком поздно, чтобы предупредить тебя, что замышляли против твоей жизни. Но я имела возможность провести твоих друзей и помочь им спасти тебя.
— Как ты добра!
— Ты еще не в безопасности, — сказала она. — Покиньте скорее этот проклятый остров.
— Тяжело ли я ранен? — спросил Бюсси. — Я совсем не чувствую своего тела: до того я разбит усталостью.
— Нет, у вас нет ничего особенного, — сказал Кержан. — Много царапин и контузий. Рана на голове не глубока, но кровоточива.
И он стал на колени, чтобы временно перевязать рану.
— Уйдемте скорее отсюда, — сказал Наик, дрожа от беспокойства.
Бюсси приподнялся. Он увидел белый мраморный дворец и остановил на нем взгляд, полный благодарности и нежности. Забывая об измене, он снова видел сквозь эти стены восьмиугольную комнату с резьбой из слоновой кости, где его божественный враг проливал на его сердце слезы любви. Он с сожалением вздохнул, когда друзья, поддерживая его, заставили его спуститься по скользким ступеням террасы.
Огромная, черная громада выходила из воды у подножья ступенек.
— Что это такое? — спросил маркиз.
— Ваш слон Ганеза, — отвечал Кержан. — Без него мы бы не могли добраться до вас, потому что не было ни одной лодки; а если бы люди или лошади пустились вплавь, то бесчисленные кайманы, которые сторожат этот милый дворец, сожрали бы их.
— Принцесса! — сказал Бюсси, поднося к губам маленькую ручку, которую ему протянула Лила. — Как мне выразить тебе мою признательность?
— Выздоровев от твоих ран и известив меня об этом, — ответила Лила.
— Увы! Отчего у нее не твое сердце? — пробормотал маркиз.
Часовые, расставленные по углам здания, были собраны.
Разместившись на огороженной платформе на спине Ганезы, все обнажили головы, чтобы раскланяться с принцессой. Потом животное осторожно спустилось с последних ступенек и вошло в воду, в которую тотчас же погрузилось. Наик указал на одно место на берегу, где удобнее было высадиться; и пока слон плыл, высоко подняв хобот, а солдаты направо и налево стреляли в кайманов — что считалось преступлением, так как эти животные были священными. Бюсси с трудом поднялся, чтобы бросить последний взгляд на безмолвный остров, белизна которого медленно исчезала среди ночной темноты.
Глава XVIII
ПОХИТИТЕЛЬ ПРЕСТОЛА НАСЕР-СИНГ
— Принесите сюда весы, — сказал Божественная Тень хриплым голосом.
Нужно было взвесить золотой песок, слитки золота, мешки с жемчугом, ожерелья, короны — все эти богатства, нагроможденные в виде блестящей кучи у подножия трона.
Этот трон представлял из себя низкую эстраду, покрытую коврами и увенчанную навесом, украшенным драгоценными камнями и поддерживаемым золотыми колонками. Там сидел или, вернее, лежал на животе, облокотившись на парчовую подушку, похититель престола Насер-Синг. Это был день его торжества, потому что во главе трехсоттысячной армии он отнял Карнатик у своих противников, которые, не послушавшись совета своих союзников — французов, вздумали поступать по-своему. И вот он считал во дворце Арката сокровища Аллаха-Верди, которые Музафер не успел спрятать.
Палачи в красной одежде, с алебардами в руках, стояли на страже у каждой двери. Они наблюдали за присутствующими: им отдано было приказание убивать на месте каждого, кто осмелится украсть что-нибудь.
Тут находились вельможи, умары, шуты и баядерки. Все стояли, исключая атабека, который, в качестве великого визиря, имел право сидеть, скрестив ноги, на широкой скамье по правую сторону трона.
Насер перевесил свое широкое черное лицо через перила, окружавшие эстраду. Эти сокровища казались ему, в сущности, довольно жалкими; и он думал, что его союзник, второй сын Аллаха-Верди, должно быть, скрыл от него большую часть, что Музафер-Синг был ограблен.
— А, а! — сказал он. — Мой милый племянничек, без сомнения, также немало растратил этого золота. Он хорошо сделал, поторопившись, потому что отныне у него будут только золотые цепи, и я их сделаю из массивного золота: ведь надо же почтить королевскую особу!
И Опора Мира разразился хохотом, который потряс всю его тучную особу с головы до ног. На придворных тоже напала веселость при этой остроте их государя.
— Изменник Музафер должен ежедневно благославлять твое величество, — сказал великий визирь. — Столь же милосердный, как Аллах, ты оставляешь ему жизнь. Ему, который тысячу раз заслужил смерть.
— Что делать! Под старость я становлюсь слаб. Мой племянник — просто животное; если бы он не ослушался французов, которые так прекрасно вели его дела, мы не отняли бы у него так легко Карнатик. Но, вместо того, чтобы слушаться их, он отправился осаждать раджей, чтобы взять с них огромный выкуп, и бросил своих союзников, которые, однако, похожи на голодных львов.
— Но, — сказал атабек, — великий разум, столь же ослепительный, как южное солнце, вздумал противопоставить львам тигров, призвать к себе на службу английских солдат с артиллерией, равной французской.
— Не говори мне об англичанах! — вскричал Насер. — Я три раза приказывал им раздавить французский батальон, и они не могли этого сделать. Зато увидите, что я задумал. Мой племянник — дурак, вот это правда; выпьем кубок за глупость моего племянника.
Подошли кравчие и подали королю золотой кубок, выложенный внутри рубинами, так что и пустой он казался наполненным вином.
— Нет, нет, не надо вина! — И Насер-Синг прибавил с таинственным видом: — Пусть принесут одну из тех бутылок, что прислал мне мой друг Дюплэ.
Это была бутылка с запечатанным горлышком, завернутая в золотую бумагу; в ней заключалась великолепная водка. Королю показали, что печать была нетронута.
— Полней, полней! — сказал он, протягивая свой кубок.
Он осушил его почти одним духом. Его глаза налились кровью, заслезились; на его черном лице выступили капли пота.
— Да здравствуют французы! — сказал он все более и более хриплым голосом. — Вот так напиток! Это — золото, это огонь, это — солнце, которое зажигает нам кровь! Но вот и весы наши готовы, — продолжал он. — За работу!
Это было сложное сооружение, поставленное перед троном, на котором качались две огромные серебряные чашки на шелковых шнурках.
— Сначала взвесим золото, — сказал король.
Невольники положили на чаши два маленьких шелковых ватных одеяльца, чтобы заглушить шум, потом поместили на одной чашке слитки и пластинки золота, на другой — гири из мрамора и бронзы.
— Нет, нет, не то! — вскричал Божественная Тень. — Я сам сяду на весы, и вы сосчитаете, сколько раз золото и драгоценные камни равняются моему весу.
И Насер старался высвободить свои ноги из ковров и одеял, чтобы сойти с трона. Кругом раздавался одобрительный шепот умаров и придворных.
Церемониймейстер Хаджиб, с длинной тростью из слоновой кости в руках, подошел помочь государю, который с трудом держался на ногах. Он расправил смятые складки его розовой рубашки, на которой были вышиты топазами виноградные гроздья. Он поддерживал его под локоть, покуда король садился на чашку весов, хватаясь за шнурки, крича и смеясь при отклонении весов.
Нужно было много золота, чтобы уравновесить значительную тяжесть Опоры Мира; жемчуга оказалось как раз довольно; но драгоценных камней не хватило.
Эта игра, по-видимому, очень забавляла субоба; он сидел на весах, согнувшись, так что шея ушла в плечи, подняв лицо и поводя красными белками своих глаз. Когда все сокровища были взвешены, он захотел, чтобы атабек и Хаджиб оба сели на весы, чтобы посмотреть, перевесят ли они его. Великий визирь повиновался печально, а церемониймейстер с готовностью. Шуты принялись острить, смеясь над их жалким видом на весах.
Оба тощих вельможи не были достаточно тяжелы, чтобы приподнять с полу чашку весов, на которой сидел их государь; но третье лицо прибавляло лишний вес, и они тщетно старались установить равновесие.
— Пусть приведут самую толстую свинью, какую только можно найти! — вскричал совершенно опьяневший король. — То-то будет потеха!
И покуда побежали исполнять это приказание, Насер встал с весов, чтобы немного расправить ноги и потянуться. К нему подошли баядерки и стали обмахивать его веерами из павлиньих перьев; они вытирали ему лицо раздушенными платками и обливали ему руки розовой водой.
В эту минуту один умара, не удержавшись, шумно чихнул.
Чихнуть в присутствии государя считалось дурным предзнаменованием и великим оскорблением, которое строго наказывалось.
Воцарилось глубокое молчание: все с состраданием смотрели на виновного, который распростерся на полу.
Король сделал знак одному из палачей. Тогда умара пополз на коленях, прося о пощаде; он умолял, целовал ноги субоба.
— Что делать, друг мой! — отвечал спокойно Насер-Синг. — Это от меня не зависит: таков закон.
— Лучше убей меня.
— Убить тебя? Нет: ты хороший солдат и еще послужишь мне. Уведи его, — сказал он палачу, — и отрежь ему нос.
Человека увели. Он кричал, ломал себе руки, но из другой двери ввели огромную свинью, убранную цветами, и король захлопал в ладоши. Животное упиралось, испуская визгливые крики, и не хотело идти; его тянули за веревку; его копыта скользили по гладким плитам пола.
Опора Мира надрывался со смеху. Он снова сел на весы; его чалма хитрой работы, украшенная пером с бриллиантами, съехала на бок; его пальцы, унизанные перстнями, все крепче цеплялись за веревки, так как завязалась страшная борьба, чтобы впихнуть розовое, вонючее животное на другую чашу весов. Монарх то и дело подпрыгивал от толчков.
К вящему удовольствию присутствующих, боров и король оказались равного веса. С радости Насер выпил второй кубок коньяка и хотел, чтобы заставили выпить и свинью.
Животное защищалось с отвратительным остервенением, выло, топало, испачкало своим пометом вельмож и дорогие ковры.
Многие умары, сохранившие серьезный вид среди смеха придворных, обменялись раздраженными взглядами и один за другим вышли из залы.
В одном из дворов они увидали только что изувеченного человека: он лежал на ступенях, опершись на них руками; у него была кровавая повязка поперек лица, а перед ним все увеличивалась красная лужа. Один умара подошел к нему.
— Бабар! — сказал он. — Хочешь ли отомстить за себя?
— Я отомщу, я поклялся в этом, — отвечал несчастный, пытаясь подняться.
— Ну, так следуй за мной потихоньку.
— Увы! Ужасные страдания от раны лишают меня сил. У меня кружится голова, и я не могу идти один.
— Пойдем же, я поддержу тебя.
Все расходились разными дорогами, не глядя друг на друга и не прощаясь друг с другом, одни верхом на лошадях, другие на слонах или в паланкинах. Но когда настала ночь, они сошлись за стенами Арката, у великолепной гробницы умерщвленных набобов. Кто-то таинственно открыл им дверь, и они вошли в залу из порфира, украшенную золотой резьбой. Ее освещал разноцветный фонарь, прикрепленный цепями к середине купола. Эти люди, все воины, стояли с мрачным видом, скрестив руки, и горячо и гневно жаловались друг другу на Насер-Синга.
— Своим поведением он роняет власть; сегодняшняя сцена есть оскорбление нашего достоинства.
— Днем пьяный, ночью развратный, всегда жестокий и сумасшедший, он обратил нас в слуг борова.
— Это изменник: он поклялся Кораном не посягать на свободу своего племянника, если тот сдастся ему.
— Он приказал влить расплавленный свинец в горло раненым, которые просили пить!
— Он велел привязать мешки с землей на шею пленным и, измучив их долгой ходьбой, заставил работать на окопах в лагере. Их убивали одного за другим; и из той земли, которую они носили, смешанной с их кровью, делали цемент. Последнего он помиловал, чтобы тот мог рассказать, как наказывают непокорных.
— Этот последний — я, — сказал солдат, выступая вперед. — Чудовищный факт верен: пленные работали; когда не хватало жидкости, протягивали корыто и убивали одного из них. Вот эти самые руки месили кровавую грязь!
Он протянул свои руки, которые, в память этого ужасного события, были окрашены лавзонией, так что казалось, будто он носит красные перчатки.
— А вот как Насер-Синг поступает с теми, которые выигрывают ему битвы! — воскликнул Бабар, срывая повязку с лица, скрывавшую его отрезанный нос; и его лицо предстало во всем своем страшном безобразии.
Крик ужаса пронесся по зале.
Но вошли важные лица и отвлекли всеобщее внимание. Все кланялись им с почтением. Это были самые могущественные вассалы Насер-Синга, его союзники — набоб кадапский и набоб канульский.
— Шанда-Саиб пришел? — спросили они.
— Здесь! — отвечал Шанда-Саиб, входивший вслед за ними.
— Придет ли французский начальник?
— Через несколько минут он будет с нами. Двое моих умаров побежали к нему навстречу и приведут его сюда.
— Значит, французы не покидают Музафер-Синга, несмотря на его ошибки и его безумную сдачу похитителю престола?
— Напротив, они остались ему верны и хотят его спасти, — сказал Шанда-Саиб. — И я должен вам сообщить радостную весть, что они уже одержали блистательную и почти невероятную победу над Магометом-Али, вторым сыном Аллаха-Верди, который оспаривает у меня теперь аркатское набобство.
Его забросали вопросами, и он рассказал про битву. Каких-нибудь триста французов, окопавшихся в пагоде Тиравади, превращенной в крепость, подверглись нападению армии Магомета-Али, подкрепленной двадцатью тысячами войска, присланного Насер-Сингом, и поддерживаемой англичанами; всего их было более восьмидесяти тысяч человек. Вся эта масса была отброшена с большим уроном. Затем на лагерь спустилась ночь; войско было разбито наголову, и Магомет бежал, полуодетый, крича: «Я погиб!» Он бежал, не переводя духа, с остатками своей армии и укрылся в неприступной крепости Женжи.
— Субоб знает эту новость и проводит время на охоте и в попойках! — вскричал набоб канульский.
— Он поддерживает тайную переписку с губернатором Пондишери, и это его успокаивает, — сказал один умара.
— Это-то нас и тревожит, — прибавил набоб кадапский.
— Французский вождь объяснит причины, которые заставляют великого Дюплэ поступать таким образом, — сказал Шанда-Саиб, прислушиваясь. — Кто-то идет: это он.
В дверях показался человек; он был закутан в темный плащ, из-под которого с одной стороны торчал кончик шпаги; на голове у него была треуголка, обшитая золотым галуном, которая, в глазах туземцев, имела больше значения, нежели корона. Он снял шляпу: это был маркиз де Бюсси. Шанда-Саиб бросился к нему с радостным восклицанием и сжал ему руки; но молодой человек сохранял серьезный и строгий вид.
— Да ниспошлет тебе Аллах свои милости! — сказал мусульманин. — И да позволит тебе сообщить нам счастливые вести о дорогом господине Дюплэ-Багадуре.
— Дюплэ очень недоволен, — сказал маркиз. — Он сомневается в союзниках, которые, не слушая самых мудрых советов, вырвали у него из рук победу. Дюплэ спрашивает себя, должен ли он продолжать оказывать им свое покровительство и рисковать жизнью своих солдат за принцев, которые не умеют удерживать свои завоевания.
— Не говори таких жестоких слов! — вскричал Шанда-Саиб. — Ты хорошо знаешь, что не я командовал карнатикской армией и что я умолял Музафера не уступать в минуту безумия и отчаяния, лучше бежать, нежели сдаться со всеми войсками своему смертельному врагу. И ты видишь, что я сумел сохранить свою свободу в этом несчастном деле, где вновь потерял власть, которую вы мне завоевали.
— Да, я знаю твою храбрость и верность; доказательством, что мы тебя не покидаем, служит поражение, нанесенное нами Магомету-Али.
— Значит, вы покидаете Музафера? — вскричал набоб кадапский. — Ведь Дюплэ посылает Насер-Сингу послов и подарки.
— Мы не покидаем наших друзей в опасности, хотя бы они попали в нее, благодаря собственной ошибке, — гордо сказал Бюсси. — Ведь поведение Дюплэ должно было вам это доказать. Вы должны, однако, удивляться, что Музафер, попав в плен к дяде, у которого он оспаривает трон, еще жив. Ну, так это оттого, что переговоры, угрозы и обещания удерживают топор, висящий над головой законного субоба.
— Нужно скорее действовать, — сказал Шанда-Саиб. — Ведь этот топор может обрушиться с минуты на минуту по капризу пьяного человека и уничтожить наши надежды со смертью нашего вождя.
— Заговор силен, — сказал набоб канульский. — В следующей битве войска Кадапа и Канула обратятся против своих союзников; находящиеся здесь умары увлекут своих людей по данному знаку. Этот знак — французское знамя, поднятое на одном из боевых слонов. Я просил его у Дюплэ, это знамя: почему он не присылает его?
— Я его принес, — сказал Бюсси, вынимая из-под плаща и развертывая кусок белого муара. На нем был изображен золотой лик, окруженный сиянием, а над ним красовался французский девиз. — Но кто мне поручится, — прибавил он, — что вы будете верны ему?
— Наша ненависть! — сказал один из набобов.
— Тот, кому мы изменяем, грозил мне, когда я потребовал у него справедливого вознаграждения за мои труды, отнять у меня мои титулы, мое имущество и мою власть и пустить меня по миру.
— Со мной он поступил хуже! — вскричал набоб кадапский. — Он велел бить палками моего престарелого отца, чтобы заставить его силой открыть мнимые сокровища. Его оставили мертвым на месте. Я отомщу за моего отца и прошу милости застрелить его убийцу.
Бюсси дал знамя набобу кадапскому.
— Ваши войска составляют едва одну шестую часть армии, — сказал молодой француз после минутного размышления. — А до вашей измены необходимо выдержать кровавую битву; но сначала нужно покончить с Магометом-Али, чтобы иметь важную точку опоры; для этого нужно взять Женжи.
— Взять Женжи! — воскликнули со всех сторон, как будто он сказал: взять луну.
— Это — мое дело, — холодно сказал Бюсси.
— Взять Женжи невозможно; самое большое, что можно сделать, это блокировать крепость; в ней запасов больше, чем на год; вас всех до последнего раздавят под ее стенами.
— Женжи не только нельзя взять, но она неприступна, — прибавил Шанда-Саиб. — Сами львы не могут проникнуть в гнездо орла; а если вы потерпите неудачу, то это будет огромное несчастье!
— Разве мы испытывали неудачи? — сказал маркиз, бросая надменный взгляд на говоривших. — Французы одни пойдут на этот приступ; и нечего бояться, что они потратят время на отыскивание сокровищ.
— Не нападай на меня за мои прошлые ошибки! — сказал Шанда-Саиб, опуская голову.
Бюсси протянул руку к знамени:
— Поклянитесь мне, — сказал он, — что эта эмблема Франции будет видеть только победы и что вы сожжете ее, если ей будет грозить опасность попасть в руки врагов.
— Клянусь прахом моих убитых родственников, хранящимся в этой гробнице, — сказал Шанда-Саиб.
Набоб канульский простер руку над Кораном, лежавшим в нише под золотой лампадой.
— Беру в свидетели имя Аллаха и его святого пророка Магомета! — сказал он.
— Я клянусь тенью моего отца! — сказал набоб кадапский.
— И поклянитесь все, что ни пытки, ни угрозы не заставят вас выдать этот заговор.
Все умары поклялись.
— Итак, до свидания! — сказал французский вождь. — Будьте настороже; и когда услышите весть о падении Женжи, будьте ко всему готовы.
Он поклонился с холодным достоинством, надел свою раззолоченную треуголку и исчез.
Глава XIX
ЖЕНЖИ
— Передай мне фонарь, Наик! — сказал Бюсси, поворачиваясь на своей походной кровати, в узкой палатке, раскинутой под стенами Женжи.
Ему только что принесли письмо от принцессы Лилы в маленьком ящичке из грушевого дерева, покрытом испанским лаком яблочно-зеленого цвета, с рисунком из мелких роз и гвоздик.
Бюсси писал ей, что от ран его не осталось никакого следа, и робко просил ответить ему. Это и был ответ, который он не надеялся получить. Он был написан на пальмовом листе, и маркиз осторожно развернул его.
«После вашего отъезда с Острова Молчания, — писала Лила, — я находилась в чрезвычайно возбужденном состоянии. Я ненавидела царицу: это жестокосердие возмущало меня. Тем не менее я искала ее, чтобы посмотреть, какими глазами она глядела после своего преступления.
Я нашла ее в комнате, на самом верху. Она стояла выпрямившись, с неподвижным взглядом, с побелевшими губами. Она заткнула уши судорожно сжатыми руками, хотя не было ни малейшего шума. Когда она увидела меня, зрачки ее еще больше расширились.
— Все кончилось, он умер? — спросила она.
— Посмотри сама! — воскликнула я, овладевая одной из ее похолодевших рук.
И я увлекла ее через галереи. Иногда она сопротивлялась, тащила меня назад, потом, шатаясь, покорялась. На пороге гостиной из слоновой кости у нее вырвался вопль, и она закрыла глаза.
— Ах! — сказала она. — Я похороню его своими руками; я положу его на жасминное ложе; и этот подожженный дворец будет его костром.
Золотой канделябр еще горел. Раздавались стоны и слабые жалобы. Она разыскивала глазами твой труп.
— Где он? — спросила она. — Кто учинил эту резню?
— Спроси у тех, кто ее пережил.
Прислонившись к стене, стоял человек, зажимая бок, откуда текла кровь сквозь его пальцы.
— Царица! — сказал он. — Мы исполнили наш долг до конца, мы дрались до самой смерти.
Один раненый приподнялся на руках:
— Ты не сказала нам, что посылаешь нас против бога.
— Бога?
— Его шпага была то разъяренной змеей, то молнией: мы не могли ускользнуть от нее. Прежде всего мы узнали его происхождение по его глазам.
— Это правда, — сказал человек, который умирал стоя. — Он не опускал век.
Знаешь ли ты, что это одно из наших суеверий? Если боги принимают человеческий образ, их можно узнать по глазам, которые никогда не моргают. Твой взгляд, действительно, почти неподвижен; а в пылу этой битвы, поистине сверхчеловеческой, он был еще неподвижнее.
— Но где же он? — спросила царица.
Раненый сделал еще усилие, чтобы ответить:
— Когда он победил нас всех, среди страшного вихря явилась божественная колесница, и он исчез.
— Он сводит меня с ума! — сказала царица, стараясь понять происшедшее.
— Это значит, что его друзья явились к нему на помощь и увели его.
— Они унесли его труп?
— Его труп? Разве я сказала это? Нет, он жив, выйдя еще раз победителем; и теперь ты его не достанешь. Посмотри, твоя бесполезная жестокость течет здесь потоками крови; наши сандалии все пропитаны ею, и можно проследить наш путь по красным следам от наших ног.
Ты видишь, я не могла удержать чувства скорби и негодования, которые переполняли мою душу. Я излила их в горьких выражениях, забыв даже почтение к моей царице; я решила покинуть ее.
Я ожидала вспышки гнева; но она замолчала, потрясенная развернувшейся перед ней картиной. Вдруг она бросилась бежать, призывая рабов к раненым, обещая осыпать золотом оставшихся в живых. Я догнала ее в комнате наверху. Она бросилась наземь и рыдала, схватившись руками за голову.
— Прости меня! — сказала я ей тогда. — Я забылась до того, что позволила себе грубо говорить с тобой.
— Мне нечего прощать тебе, — сказала она. — Я ужасалась сама себя: твои слова были слишком мягки.
— Ах, как ты меня обрадовала! — сказала я ей. — Твои слезы утешают меня. Видишь ли, я не могла больше любить тебя.
— Что же было бы со мной, если бы ты перестала меня любить? — сказала она. — Но я не заслуживаю любви. Мое сердце хотят обратить в камень и сделать из меня чудовище. Голова моя набита вздором: я больше не узнаю себя и ненавижу сама себя.
Я держала ее в своих объятиях; и в глубине ее прекрасных глаз, наполненных слезами, я видела блестящую радость. Она была вызвана сознанием, что ты жив; и за это я многое простила ей, так как я поняла, что все это было делом и распоряжением недостойного любимца, Панх-Анана, и что не она задумала эту ужасную измену.
Прости ее: ненависть, с которой она относилась к тебе, прошла и убита. Тем не менее не надейся ни на что: надежда — обманчивый цветок.
Будь всегда победителем, молодой герой, и помни, что я твой друг».
— Ах! — воскликнул Бюсси, свертывая драгоценный пальмовый лист. — Какую противоположность составляет эта принцесса, прекрасная, как фея, ученая, как брамин, со свободным умом философа, — и божественная Урваси, ослепленная предрассудками.
— Царица была такая же, как Лила, — сказал Наик. — Обе они ученицы одного и того же святого человека. Запоздалая набожность, разжигаемая фанатиком, ввела в заблуждение царицу. Но заклинаю тебя, господин, отдохни немного: ведь завтра будет ужасный приступ! Побереги свои силы и попробуй заснуть.
— Заснуть! Справься лучше, прибыли ли наконец лестницы из Пондишери, которые заказал для меня Дюплэ.
Наик выбежал и, несколько минут спустя, снова вернулся в палатку.
— Лестницы только что привезли, господин, — сказал он. — Они так длинны, что понадобится десять человек, чтобы снести их; и каждую везли на трех телегах.
— В таком случае я спокоен, — сказал Бюсси. — Погаси фонарь; я попробую немного заснуть, так как ты этого желаешь.
Он снова лег и закрыл глаза, но не для того, чтобы заснуть, а чтобы лучше восстановить в своем воображении восьмиугольную комнату с дверями из слоновой кости и пережить, минута за минутой, сцену, которая в ней разыгралась и воспоминание о которой было для него неистощимым источником упоения.
Несколько часов спустя сняли лагерь; и волонтеры Бюсси, скрытые колючим кустарником, ждали, с оружием наготове, приказания выступать. Они тихо разговаривали между собой.
Некоторые из них сидели на камнях и спешили сыграть партию в кости; столом им служил барабан, ящик которого был выкрашен голубой краской. Другие курили трубки из белой глины, думая, что это, может быть, последняя. Некоторые из них с чисто азиатской утонченностью развертывали свою гуку, в которой хрустальный графинчик для освежения дыма был заменен кокосовым орехом.
Выправка этих людей, находившихся в походе уже несколько месяцев, была безукоризненна. Губернатор Индии заботился о том, чтобы мундиры обновлялись по мере надобности, дабы французские солдаты не потеряли своего значения в глазах туземцев. Их голубые кафтаны с красивыми отворотами и обшлагами были безупречны; их полотняные поножья были совершенно белые. Волосы у них были напудрены и тщательно заплетены сзади в косичку, на виски ниспадало по локону; они придерживались свинцовыми пластинками и почти закрывали ухо. Усы были нафабрены, треуголки с белым галуном хорошо сидели на голове, согласно правилу, надвинутые на правую бровь и на один дюйм выше левой.
— Что за копун этот граф д’Отэйль! — сказал один солдат, опершись на мушкет. — Он заставляет нас стоять на одном месте, как журавлей на одной ноге. Неужели нельзя начать без него?
— Нужно подождать, по крайней мере, покуда покажется армия, — сказал другой, — прежде чем броситься в это предприятие, в котором сам черт ногу сломит: ведь нас, французов, только двести пятьдесят человек.
— Что правда, то правда: наш молодой командир совсем сумасшедший! — воскликнул унтер-офицер. — Он думает, что мы, как мухи, можем ходить по потолку и лазить по отвесным стенам.
Один сильный и ловкий солдат яростно выступил вперед, сдвинув брови:
— Кто это сказал, что наш командир сумасшедший? — вскричал он.
— Я, Жан-Мари! — отвечал унтер-офицер. — По-моему, храбрость должна иметь границы и не должна доходить до дерзости.
— Это что еще за песню ты завел? Я хорошо знаю, что это за храбрость. Границы! Прибереги их для себя, твои границы.
— Однако, если я не ошибаюсь, твоя храбрость не выходит из берегов, — возразил унтер-офицер, опираясь на пику и скрестив ноги.
— Не будем говорить больше об этом! — нетерпеливо сказал Жан-Мари. — Те, кто не видал конца мира, не могут знать, что это такое; я видел его и не хочу больше говорить об этом. Но я запрещаю думать, что на свете есть что-нибудь, перед чем бы я отступил. Кроме того, дело не в том. Говорят, что наш командир сумасшедший: таких вещей я не могу терпеть. Прежде всего, какое вам до этого дело? Ведь это мы, моряки, назначены на приступ; а вам остается только следовать за нами.
— Если вам не придется следовать за нами, — сказал кто-то.
— Смирно! — крикнул унтер-офицер.
Проехал офицер, отдавая приказания. Граф д’Отэйль был всего в нескольких часах ходьбы; сейчас пойдут на приступ.
Тогда солдаты двинулись в долину и построились в боевом порядке при звуках барабана.
Теперь в конце долины показалась Женжи. Это было какое-то сумасбродное и невозможное сооружение. Гора, прямо подымавшаяся крутыми уступами, покрытыми зеленью, оканчивалась треугольной площадью, на каждом углу которой поднималась вершина головокружительной высоты, с отвесными, как стены, склонами, где не было других тропинок, кроме высеченных человеком. На этой площади, между этими тремя горами стоял город. Чрезвычайно крепкие стены с многочисленными башнями, следуя за извилинами почвы, обнимали три вершины и город. Они имели три мили в окружности. Совсем внизу, на равнине, прилепившись к горе, виднелась белая мечеть, с двумя рядами арок и с тонкими минаретами; а над вершинами вырисовывалась в небе крепость, опоясанная редутами.
Женжи была столицей маратских царей, господство которых простиралось до Карнатика; а укрепление свидетельствовало о военных знаниях этих знаменитых воинов. Известный герой Сиваджи осаждал ее, но не взял: она сама сдалась. Ауренг-Саиб, в свою очередь, пытался осаждать ее. Но в конце концов она никогда не была взята приступом.
Солнце освещало гору и три гигантских утеса, придавая им все более и более фантастический вид. Солдаты смотрели, как очарованные, подсмеиваясь над невозможностью этого предприятия, но все-таки проникнутые решимостью.
Проехал Бюсси на своей красивой арабской лошади, которая грациозно потряхивала длинной гривой. Молодой человек был весел и полон пыла. Неопределенная улыбка блуждала на его губах, так что были видны его прелестные зубы. В его глазах, более светлых, чем обыкновенно, казалось, отражались лезвия шпаг.
— Ребята! — воскликнул он. — Враг уже делает ошибку: вместо того, чтобы ждать нас за стенами города, он спускается к нам в долину. Теперь наш план нужно изменить: мы не пойдем на приступ. Дадим этим черномазым подойти на расстояние выстрела, и тогда угостим их залпом. Они убегут от нашего огня; тогда-то нужно будет гнаться за ними по пятам и достигнуть вместе с ними ворот города. Я рассчитываю на бешеный натиск.
— Верно! — вскричал Жан-Мари, потрясая своей шляпой. — Да здравствует командир!
Бюсси дружественно взглянул на него и сделал ему знак одобрения.
— Пусть хорошенько смотрят за лестницами! — сказал он и удалился.
Как он и предвидел, армия Магомета-Али расстроила свои ряды и рассыпалась перед французской артиллерией, чтобы бегом взобраться по тропинкам горы. Но Бюсси следовал за ней по пятам, почти касаясь шпагой спины бежавших; скорее казалось, что он гнал их, нежели преследовал.
Дело было в том, чтобы не дать им снова закрыть ворота Женжи, в которые они бросались в беспорядке, давя друг друга и топча ногами тех, кто падал. Но они поняли намерения осаждающих и, не обращая внимания на отстававших, внезапно захлопнули тяжелые двери из индийского дуба, окованные железом и утыканные гвоздями. Отброшенные таким образом, несчастные упали на колени, бросая свое оружие. Их взяли в плен; но план не удался.
С зубчатой стены по французам открыли страшный огонь. В них стреляли из пушек почти в упор, тогда как они не могли отвечать. Многие пали. Поднялся ропот.
— Оставаться здесь, значит учинить резню! — сказал Кержан, подходя к Бюсси.
— Мы здесь и не останемся, — отвечал молодой начальник. — Скорей петарду, чтобы взорвать эти ворота!
Несколько солдат приблизились к воротам, но отступили под градом картечи.
Бюсси вырвал у них из рук легкую пушку, бросился к воротам и, став на одно колено, не торопясь, с величайшим вниманием расположил петарду на надлежащем расстоянии от массивной двери, затем поджег фитиль и отошел.
После взрыва дверь треснула в двух местах. Ее разнесли топорами, и французы, отбрасывая ее защитников, проникли под своды с криками торжества.
В городе Бюсси велел забаррикадировать узкие улицы телегами и всем, что попадалось под руку, и поставить у входа самых широких улиц четыре полевые орудия, которые удалось поднять на эту высоту. Во французов стреляли из окон, но это бы еще ничего: с крепостей трех гор началась пальба; обстреливали уголок города, которым завладели победители.
К счастью, наступила ночь, и выстрелы стали не так метки. Французы старались укрыться как можно лучше и беспрерывно отвечали на выстрелы четырьмя пушками и мушкетами. Тем не менее положение их было очень опасное. Что будет днем, когда крепости на горах и укрепления города будут без промаха осыпать пулями эту неприкрытую горсточку солдат? Значит, нужно отступить, снова спуститься в долину? Такой начальник, как Бюсси, не мог допустить этого. В таком случае, нужно взять три крепости с цепью их редутов?
На небе блестела первая четверть луны; и в этот вечер проклинали великолепную прозрачность индусских ночей. Светлая синева, изрезанная угловатыми и ясными тенями, все время рассекалась красными и желтыми искрами; дым вспыхивал и серебрился, клубясь, а летевшие сверху ядра казались кометами и метеорами.
— Когда луна скроется, — говорил Бюсси, — мы пойдем на приступ; темнота не только будет нам покровительствовать, но и предохранит нас от головокружения.
Он разделил своих солдат на три отряда.
— Одним будет командовать Кержан: он возьмет западную возвышенность, — сказал он. — Пюйморэн отправится со вторым и нападет на восточную. Я же оставляю себе самый лакомый кусочек — северную гору.
Французы ждали, не переставая стрелять; и это ожидание вызывало в них сильное нетерпение, как бы лихорадочную жажду действия.
Наконец луна коснулась края горизонта и, потеряв свой металлический блеск, стала оранжевого цвета.
— В путь, ребята! — вскричал Бюсси. — Я хочу, чтобы первый солнечный луч ласкал французское знамя на вершине трех крепостей.
Солдаты разделились и выступили беглым шагом, со штыками наперевес. Индусы бежали перед этими острыми лезвиями. Бюсси, не потеряв ни одного человека, достиг северной горы, самой неприступной из всех.
Сейчас же приставили лестницы и пустили в ход крюки и веревки с узлами. Французы принялись карабкаться с таким неистовством, что, казалось, сломили бы всякие препятствия своим пылом. Ловкие, как кошки, матросы бросились первые. Жан-Мари даже находил восхождение легким.
— Мачта корабля во время циклона — совсем другое дело, — говорил он. — Гора по крайней мере спокойно стоит, и вода не падает тебе на голову, и дождь не хлещет тебе в лицо острыми иголками благодаря ветру.
Один за другим редуты были взяты. Подымались все выше и выше с возраставшим рвением. Темнота скрывала трудности приступа, и их как будто не существовало. Огонь, направленный на осаждающих, причинял им мало вреда; и солдат забавляло считать, сколько укреплений им приходилось взять; число их казалось бесконечным.
Они работали со сказочной легкостью; и в самом деле, казалось, что все это происходило во сне. Они никогда не могли дать себе ясного отчета, как они действовали и какими путями добирались. И когда на рассвете они посмотрели с вершины крепости, которой овладели при помощи петард, на свою работу, они побледнели от изумления и смотрели друг на друга, сомневаясь, не приснилось ли им все это.
Бюсси укрепил французское знамя на самой высокой башне, между двух расселин, потом, нагнувшись и заслонив глаза рукой, искал взором другие возвышенности, еще скрытые в тумане наступающего дня.
На верхушке восточной крепости появилось знамя, потом оно взвилось и на западной вершине, залитое розовым светом первых лучей.
— Победа! — вскричал молодой начальник, потрясая шпагой, сверкавшей на солнце.
Армия д’Отэйля отвечала ему из равнины радостными криками, барабанным боем и трубными звуками.
Глава XX
ДВА СУБОБА
Насер-Синг велел обезглавить первого, возвестившего, что Женжи, неприступная Женжи, была взята в несколько часов двумястами пятьюдесятью французами. «Подобная ложь, — сказал он, — есть оскорбление королевского величества». И в то время, как под ударом топора скатилась голова вестника, он отправился в свой зенанах, чтобы оценить красоту трех черкешенок, купленных для него за громадные деньги.
Однако пришлось все-таки поверить известию, когда его подтвердили, один за другим, все набобы, атабек и умары. Женжи была взята! Невозможное совершилось.
Индия оцепенела от удивления, французов считали непобедимыми, и имя Бюсси гремело, окруженное ужасом и блеском.
Пришло также известие, что победители не теряли времени на торжества и уже выступили против Арката.
— Так они хотят на меня напасть? — вскричал субоб. — Этого не может быть, так как между мной и губернатором Пондишери завязались сношения.
— Да, Владыка Мира, — сказал атабек смиренно. — Но ты осмеял его посланных и со дня на день откладывал ответ; губернатор, конечно, рассердился.
Тотчас был отдан приказ созвать войско, собрать вассалов, которые удалились со своими отрядами и еще не все вернулись; тем не менее, вскоре трехсоттысячная армия была готова выступить в поход.
Утром того дня, когда она должна была двинуться, в тюрьму Музафера вошел палач. Свергнутый субоб был прикован цепью из массивного золота. Он дремал на куче циновок и вскочил, думая, что пришли казнить его. Но палач опустился на колени на каменные плиты и коснулся их своим лбом.
— Прости твоего смиренного раба, — сказал он. — Ему приказано посадить тебя на слона и поставить в середине армии, чтобы лишить тебя жизни по первому знаку государя, как только враг одержит победу.
— Да будет Аллах милосерден! — сказал Музафер. — Возьми это кольцо: это все, что мне оставили. Сандаловое дерево изливает свой аромат на топор, который рубит его; так и я прощаю безответное орудие.
И он снял с пальца кольцо с рубином, который блестел, подобно капле крови.
Невольник взял его со слезами и поцеловал, как святыню; но вслед за ним вошли незаметно два воина в шлемах с опущенными забралами. Один из них бросился на раба и приставил ему кинжал к горлу.
— Если тебе дорога жизнь, скверное существо, — сказал он ему, — поклянись нам, что ты не исполнишь гнусного приказания субоба и скорее будешь защищать своего пленника.
— Клянусь с радостью! — сказал невольник; в угрозах не было надобности.
— Хорошо; отойди и наблюдай, чтобы никто не вошел.
Воины подняли свои золоченые забрала, который скользнули на лоб, по желобкам, под шлем и открыли их лица. Это были набобы канульский и кадапский.
Они пришли известить Музафера-Синга о заговоре, составленном в его пользу, и предложить ему свои условия перед его выполнением.
Они предъявили такие большие требования, что, слушая их, низверженный субоб кусал губы и опускал голову. Однако он обещал все, чего они хотели, призывая Аллаха в свидетели, что те, которые помогают его избавлению, не будут иметь повода жаловаться.
Палач подал знак, что пора разойтись. Раздались звуки королевских литавр, означавшие, что армия двинулась в поход; и он должен был вести своего пленника к Насер-Сингу, согласно данному ему приказанию.
Это была великолепная сумятица, блестящее скопище людей и лошадей, торопливо, в величайшем беспорядке спешивших выйти из стен, чтобы присоединиться к главному корпусу армии.
Слоны, оседланные для битвы, казались сказочными чудовищами. Они были покрыты роговой броней, спускавшейся до колен и придававшей им вид огромных черепах. На морде у них было железное забрало с отверстиями для глаз, с большими медными гвоздями и острием посреди лба. Стальные чехлы с острыми концами удлиняли их клыки; на голове у них была надета металлическая многоугольная шапочка, а хобот и спина были покрыты чешуйчатой броней, с выдающейся зубчатой пластинкой посредине.
Толпа терялась вдали. Подумаешь, целый город, целый народ двинулся в путь: так за солдатами двигалась армия, еще более многочисленная, нежели та, которая шла в битву. Это была прежде всего куча поставщиков, состоявшая из особой касты индусов-бендиарахов, которые должны были доставлять хлеб и рис. Вооруженные пиками и палашами, они грабили зерно, если им не уступали его за деньги. Они гнали сто тысяч ломовых быков и столько же телег. Затем следовали конюхи, очень многочисленные, так как каждая лошадь требовала двух человек. За ними следовали носильщики паланкинов для раненых, слуги каждого вождя было по крайней мере по десяти), повара и водовозы — по двое на палатку; наконец, тянулись багаж, стада ослов, коз и овец, гаремы вельмож в закрытых телегах, окруженных евнухами, и снова целая толпа купцов, всевозможных искателей приключений, бродяг, женщин, детей, животных.
Справа двигалась кавалерия, слева пехота, посреди артиллерия и слоны. В центре карэ, на самом великолепном слоне, под пурпурным балдахином, который снимали во время битвы и который возвышался над платформой с золочеными перилами, сидел, поджав ноги, Насер-Синг. Он был облечен в великолепные военные доспехи из золота, серебра и драгоценных камней, на которых его широкое черное лицо и его толстые руки выделялись, как три черные точки.
В нескольких шагах позади субоба шел слон, на котором сидел Музафер в оковах, а впереди властелина несли царское знамя, осенявшее своими складками святыню, составлявшую как бы сердце армии, с которой она никогда не расставалась. Её везли на платформе, покрытой коврами, шитыми золотом, два верблюда в блестящей сбруе, окруженные почетной стражей.
Эта святыня был «мозгаф» — коран, якобы весь написанный рукой Гусейна, зятя пророка. Золотые крышки, украшенные бриллиантами, составляли переплет этой единственной книги; ящик из благовонного дерева, в котором она лежала, был весь усыпан цветами и листьями из рубинов и изумрудов. Великий Могол тоже возил в битву подобный коран, и каждый считал свой настоящим; на самом же деле ни у того, ни у другого не было корана, написанного рукой Гусейна, так как он взят в Дели Надир-Шахом и отвезен в Персию.
У каждого набоба была своя отдельная армия, со слонами и артиллерией, свои знамена, которые следовали за армией субоба.
В этот день шли быстро почти до заката солнца; наконец барабаны и литавры подали знак к привалу.
Тогда, с неимоверной быстротой, как по мановению волшебного жезла, на голой равнине, на которой остановились, возник веселый и оживленный городок.
Широкие улицы тянулись, подобно проспектам, окаймленные с двух сторон лавками, где были разложены самым соблазнительным образом всевозможные товары: драгоценные ткани, кашемировые шарфы, ковры, вышитые седла, сбруя, оружие. Всевозможные ремесла имели здесь своих представителей, и мастеровые были уже за работой. Здесь были пирожники, кондитеры, оружейники, сапожники, портные, даже ювелиры и золотых дел мастера. В одних лавках продавали горячие напитки, ликеры и шербет, в других целебные травы, лекарства и спасительные талисманы. Тут были перекрестки и площади, на которых паяцы, укротители змей и фокусники забавляли толпу; шумная музыка сопровождала визгливое пение. Прелестные баядерки с полузакрытыми вуалью лицами, проходя группами, предлагали молодым людям погадать.
Палатки воинов тянулись в дивном порядке, окружая царский шатер, высокий и великолепный; для слонов, верблюдов и лошадей были устроены огороженные загоны; наконец, вокруг этого необыкновенного города тянулись самые странные пестрые и беспорядочные предместья. Там жилища были устроены то из старого платья, растянутого на столбах, то из ковра или ветхого одеяла, то из рогож или пальмовых листьев; иногда вдруг появится где-нибудь роскошная палатка среди стада ослов или быков.
Танцы и пение продолжались, пока не зашла луна, потом все стихло и городок заснул.
На заре Божественная Тень был грубо разбужен атабеком, который вбежал в царскую палатку без чалмы на бритой голове.
Насер-Синг смотрел на него широко раскрытыми глазами, одурев от сна и не очнувшись еще от винных паров.
— Что тебе надо? — пробормотал он, готовый снова заснуть.
— Опора мира! — сказал визирь. — Разведчики только что донесли мне, что французский батальон находится в часе ходьбы отсюда и идет атаковать нас.
— Французский батальон! — повторил Насер, как бы плохо понимая, что ему говорили. — Подай мне кувшин свежей воды, — прибавил он.
Визирь налил воды в медный таз, царь несколько раз окунул туда свое лицо.
— Французский батальон! — повторил он потом, совсем проснувшись. — Невозможно, чтобы он шел атаковать нас, потому что я, как ты хорошо знаешь, написал Дюплэ, что готов заключить мир и согласен на все его условия.
— Да, свет наших очей, но ты так долго собирался отослать свой ответ, что он, наверное, придет слишком поздно.
Атабек говорил спокойным голосом, в котором Насер усмотрел иронию. Он повернулся к нему и гневно закричал:
— Клянусь Аллахом! Визирь Шах-Аббас-Хан, можно подумать, что тебе нравится дразнить меня, напоминая мне о моих ошибках.
— Твое величество ошибается, — сказал Шах-Аббас по-прежнему спокойным голосом. — Я хочу только предостеречь твое величество от заблуждений, которые повлекут за собой твою погибель.
— Говорю тебе, что эти французы — не что иное, как горсточка пьяных людей.
— Между тем их ведет победитель Женжи.
— Ну так что же? Не думает ли он победить такую армию, как моя? Отдай приказание снимать лагерь, и поспешим раздавить эту дерзкую мошкару, которая хочет броситься в пасть льва.
Набобы дали французским начальникам проводника, чтобы указать им место, где были расположены войска под непосредственной командой Насер-Синга; их нужно было победить до восстания вассальных армий, так как набобы хотели действовать наверняка.
Батальон быстро подвигался в утренней прохладе, полный воодушевления.
Войсками командовали Бюсси и де ла Туш, так как д’Отэйль страдал от приступа подагры. Маленькая армия состояла из восьмисот французов, трехсот сипаев и десяти походных пушек. Толпа врагов, которую они должны были одолеть, занимала площадь больше четырех миль.
Передовые посты были рассеяны в одну минуту; и французы направились прямо на артиллерию Насер-Синга, за которой стояло двадцать пять тысяч человек пехоты.
Сейчас же завязалась оживленная битва.
Быстрота пушечных выстрелов была главной силой французов. Она мешала бешеному натиску неприятельской кавалерии прорвать ряды и позволяла нападающим шаг за шагом двигаться вперед, прикрываясь очень тяжелой для врагов ружейной пальбой.
Таким образом французы дошли до артиллерии черных, которая вскоре замолчала; они бросились вперед.
Отряды войск отступали перед шпагой героя Женжи. Они рассеивались и бежали. Но другие сменяли их: набобы и раджи, верные Насер-Сингу, являлись последовательно на место действия; и беглецы, построившись вновь в арьергарды, возвращались. Однако ничто не заставило дрогнуть неустрашимую колонну, которая медленно, но верно овладевала местностью, противопоставляя невозмутимое спокойствие и полную дисциплину беспорядочному натиску мусульман.
Так уже более трех часов длилась ожесточенная борьба; наконец французы достигли победоносно центра лагеря.
Солдаты остановились передохнуть, утомленные, но полные радости, что им удалось справиться с такой сильной армией. Они отирали лбы, на которых пот мешался с пудрой, как вдруг заметили сквозь разорванные линии индусов отряд всадников и пехоты, который приближался в боевом порядке, под звуки цимбал и барабанов, и которому не было конца.
Послышались унылые восклицания. Как! Неужели нужно было победить еще и эту армию? Молодцы так много стреляли, что ружья жгли им пальцы, не говоря уже о том, что руки устали нести оружие.
Но вот у де ла Туша вырвался радостный крик и, указывая шпагой на слона, в центре новой армии, который возвышался над всадниками, он вскричал:
— Радуйтесь, ребята! Это ваши союзники. Разве вы не видите французское знамя в руках черного воина, что сидит на спине этого слона?
Раздались восторженные крики — и французы с новыми силами бросились навстречу своему знамени.
Между тем Насер-Синг сидел в своей палатке, далеко от поля сражения, окруженный стражей и визирями своего двора, и принимал посланцев, которые ежеминутно простирались на пороге, отдавая отчет в битве. Но они скрывали правду из страха к царю и пересыпали свою речь бесконечными похвалами Божественной Тени.
— Пусть поспешат уничтожить горсточку этих пьяниц, и чтобы о них больше не было речи! — повторял субоб.
Между тем известие об истреблении их не приходило. Несмотря на страх, посланцы должны были признаться, что победа заставляла себя ждать и что французы так же живучи, как и акула-людоед, сердце которой, будучи вырвано, бьется в течение трех дней. Но они говорили, что французы будут скоро раздавлены, истолчены в порошок и выпиты, как несколько капель воды, лучезарным царским величеством.
Вдруг вошел умара, покрытый пылью, крича, что субоб в опасности: армия постыдно бежала, и победители находятся всего в нескольких саженях.
Насер привскочил с бешеным рычаньем.
— Что же делают вассальные принцы? — вскричал он.
— Войска набобов канульского, кадапского и других еще не выступали до сих пор, — сказал умара.
— Ах, негодные! — заревел король, скрежеща зубами. — Я велю с них с живых содрать кожу, посадить на кол и истереть жерновами. Пусть мне подадут моего слона и сейчас же принесут голову Музафер-Синга. Я брошу ее, вместо бомбы, этим дерзким французам; так как они дерутся из-за нее, то пусть же получат то, чего желают.
Он сел на своего слона и, окруженный стражей, бросился на вассальные войска. Он встретился с армией набоба кадапского, который предводительствовал сам.
— А, так вот ты, недостойный трус! — закричал он ему. — Так-то ты мне служишь: ты не осмеливаешься защитить знамя Могола и мое против таких презренных врагов!
— У меня только один враг — это ты, опьяненный кровью боров! — ответил набоб. — Нужно быть Насер-Сингом, чтобы думать, что преданность сына можно заслужить, уморив его отца побоями. Я поклялся убить тебя! Твое царство кончено, пьяный кровопийца!
— Стража, ко мне! — закричал субоб. — Разделайтесь с ним, привяжите к моему слону, чтобы он мог раздавить его шею ногами!
— Пуля долетит скорее, чем твои люди, — сказал набоб с оскорбительным смехом.
И с высоты своего слона он стал целиться, уперев в плечо карабин, выложенный слоновой костью и украшенный золотыми разводами. Он выстрелил и попал субобу прямо в сердце.
Насер захрипел, секунду оставался неподвижным, потом зашатался с открытым ртом и блуждающим взором; наконец темная масса его туловища, в пурпурных и золотых одеждах, согнулась и покатилась вниз со слона.
Его стража, пораженная ужасом, слабо пыталась отомстить за него. Набоб приказал отрубить голову побежденному.
Затем он побежал освободить Музафера, которого торжественно провозгласил субобом Декана и поднес ему еще трепещущую голову его дяди как залог власти, которую с этих пор никто не будет оспаривать.
Прежде всего Музафер возблагодарил Аллаха, повелителя судеб, обнял набоба, потом приказал насадить голову Насер-Синга на шест.
Теперь он занял место на великолепно убранном слоне, с которого скатился в прах его враг; и его повели через всю армию в сопровождении кровавого трофея.
Его приветствовали со всех сторон. На его пути бросали оружие, потрясали знаменами; и субоб, восстановленный в своем достоинстве, под тенью царского зонтика, который раскрыли над его головой, принимал с невозмутимым видом все эти почести.
Бюсси поехал навстречу царю, чтобы поздравить его. Вдруг среди индусской армии водворилась полная тишина, и все выстроились в две шеренги на пути молодого француза. Все толкались, приподнимались, чтобы увидеть победителя Женжи, почти сказочного героя, о котором столько говорили.
Он был очень бледен, ранен, едва держался в седле, но так величествен в своем темном мундире, с гордой и важной осанкой, с блеском лихорадочной битвы, который еще сохранился в его глазах, что в толпе пробежал восторженный шепот. И царь, охваченный внезапным волнением, сошел со своего слона и бросился к ногам представителя Франции.
— Ах! — вскричал он со слезами на глазах. — Тебе одному я обязан всем; я этого никогда не забуду, клянусь тебе!
Глава XXI
ДЮПЛЭ-БАГАДУР ЗАФЕР-СИНГ
В Пондишери большой праздник. Музафер, по внушению Бюсси, пожелал, чтобы торжество его коронования происходило во французском городе. И Дюплэ приложил все свое старание, чтобы сделать достопамятным великолепие этого дня.
С утра с высот крепости гремели пушки; с рейда им отвечали разукрашенные флагами корабли. Церковные колокола весело перезванивали; везде служили молебны; а с высоты минаретов муэдзин звонким голосом выкрикивал на все четыре стороны эззам, призывающий к молитве.
Все население города и окрестных деревень с раннего утра запрудило улицы; богатый и бедный — каждый старался явиться в своем лучшем наряде.
Войска Амбура и Женжи стояли шпалерами на всем протяжении царского шествия, оставив свободный проход посредине; об их непоколебимые ряды разбивалась шумная и блестящая толпа любопытных.
На земле, вдоль свободной дороги, были разостланы персидские ковры, тонкие узоры которых соперничали в изяществе с живыми цветами, разбросанными по ним. На узких улицах от дома к дому были перекинуты гирлянды, а вдоль бульваров стволы деревьев были закутаны шелковыми тканями; в ветвях развевались ленточки и гнездились все умевшие лазить.
Так как лагерь субоба был расположен на зеленых берегах Арианкопана, то въезд Музафера должен был совершиться через ворота Королевы.
Все взоры обратились в одну сторону, все шеи вытянулись; и ожидание уже начинало надоедать, когда наконец появились герольды верхом и затрубили в длинные трубы с пурпурными запонами, украшенными золотой бахромой.
За ними показались мусульманские войска; они долго шли, гремя оружием и сверкая сталью. Затем ехали маратские всадники, гарцуя на своих конях, удила которых, украшенные бирюзой, были покрыты пеной. Наконец двинулась артиллерия; пушки везли верблюды; «гараулы» сопровождали ее с обнаженной тяжелой, длинной шпагой на плече.
Оркестр из цимбал, там-тамов, рожков и труб выл и гудел, предшествуя «альфаразу», который ехал на слоне. Он высоко и прямо держал обеими руками древко огромного знамени из золотой ткани. В тяжелых складках материи виднелись или, скорее, угадывались следующие слова, вышитые жемчугом: «Ля галеб илла Аллах. — Нет другого победителя, кроме Аллаха». Знамя окружила избранная стража, которая обязана была защищать его во время войны.
Затем следовали два представителя верховных привилегий: заведующий сиккой — изображением, вырезываемым на монетах, и хранитель сираса — права, которое имеет только монарх, изображать свое имя на тканях своей одежды.
За ними, на лошадях, покрытых черными попонами, отделанными золотом, ехали большой и малый носители чернильницы, в сопровождении писцов крупного и мелкого письма.
Под сенью шелковых знамен, с копьем в руке, гордо и важно ехали дворяне, вельможи и сановники в великолепных одеждах. У их лошадей на головах покачивались султанчики из перьев; в гривы их были вплетены золотые нитки и жемчужные кисточки; копыта были выкрашены красной краской; на груди сбруя была украшена драгоценными камнями, а на тонких ногах красовались браслеты.
На высоких слонах восседали старцы, составлявшие «диван», или государственный совет; роскошные чепраки слонов заметали цветы, разбросанные по коврам. Среди них находился Ругунат-Дат, визирь-эль-мемалик, первый министр, с хрустальной печатью, знаком его достоинства.
Белые зебу, с горбами, выкрашенными голубой краской, и с вызолоченными рогами, везли серебряные узорчатые повозки с балдахинами из павлиньих перьев. В них сидели женщины, блистая драгоценными камнями, но тщательно закутанные покрывалами. Это были двести гурий зенана; их сопровождала стража из пятисот молодых девушек, одетых по-военному и вооруженных копьями; они ехали на белых конях.
Вслед за ними двигалась царская фамилия. Любимая супруга и сыновья царя сидели на слоне, покрытом голубым чепраком, в башенке из парчи, вышитой драгоценными камнями. За ними следовали принцы — братья, дяди, племянники государя и среди них Салабет-Синг, озабоченный и бледный, но чрезвычайно красивый. На голове у него был газовый шарф, отороченный золотом, и конец его спускался на плечо. Затем следовали набобы, раджи, великие вассалы.
При неумолкаемом громе пушек вдруг раздались звуки медных инструментов, — и среди голубоватого дыма, клубами подымавшегося из курильниц, где сжигались мускус, янтарь и алоэ, показались неясные очертания громадного слона. На нем красовалась царская башенка из массивного золота с куполом, усеянным рубинами, топазами и бриллиантами, от которых расходились ослепительно блестящие лучи. Музафер-Синг, величественный и спокойный, скрывался за таинственной завесой душистого дыма, подобно светилу, окутывающемуся облаками, чтобы не ослепить смертных. Лоб и хобот слона, на котором он ехал, были раскрашены голубой краской с золотом; на клыках у него были надеты колечки из бирюзы, на ногах браслеты, а на голове венок и султан из перьев; его попона, обшитая бахромой, касалась земли и вся была заткана цветами, на венчиках которых, вместо росы, блестели алмазы, опалы, жемчуг и изумруд.
Двенадцать герольдов, махая знаменами из золотой материи, звучно кричали от времени до времени в один голос:
«Рабы, простирайтесь на земле! Едет царь царей, Свет мира, Полюс времен, всемилостивейший государь, Садула, Багадур, Музафер-Синг, возлюбленный сын Низам-эль-Мулька, страх священного закона, царь обширного Декана, у которого под сандалиями тридцать пять миллионов подданных. Это он, Непобедимый, Победоносный, Грозный меч! Радуйтесь, народы! Возблагодарите Аллаха, который позволяет вам славить преемника его пророка, и простирайтесь во прах, ибо едет царь царей, всемогущий принц Садула, Багадур, Музафер-Синг!».
И действительно, позади неподвижных шпалер французских солдат народ бросался на колени и клал земные поклоны.
Молодые пажи, в одежде из прелестной материи, называемой «мургала», нежной, как шея павлина, бежали по бокам царского слона, держась за золотые шнурки.
По правую сторону, на лошадях одинаковой масти, ехал отряд стрелков, луки которых изображали изогнутую змею, по левую — пращники, вооруженные ширазскими пращами.
Царские цимбалы огромных размеров, великолепно закутанные, выставляли свои полушария по бокам слона; между ними сидел цимбальщик и ударял по ним упругими палочками.
Наконец появилась государственная хоругвь, Мамурат, из белого муара, с изображением розовой руки и книги; водружать ее имеют право только субобы. Почетная стража заканчивала шествие.
На Королевской площади возвышалась исполинская палатка; она была покрыта снаружи золотой тканью и, залитая солнцем, казалась огненной горой; все жмурили глаза от невыносимого блеска.
Внутри это была выставка самых роскошных тканей, которые чередовались, переплетались и, сложенные искусной рукой, щеголяли одна перед другой: здесь были шелка, парчи, бархаты, кашемиры, ткани которых совершенно исчезли под шитьем. Потолок состоял из особой великолепной ткани, усеянной небесными светилами, которую называют чантара — луна и звезды.
На помосте стояло два трона, — один из слоновой кости и золота, другой, простой, с гербовым щитом из цветов. Над ними возвышался балдахин в виде зонтика; он был обшит бахромой из жемчуга; по бокам с него свешивался до земли серебристый газ, весь трепетавший от драгоценных камней. Два гигантских павлина из чеканного золота, эмали и сапфиров поддерживали клювами его блестящие складки.
Субоб сел на трон из слоновой кости. Его окружили принцы и вся знать Декана. Вдруг раздались пушечные выстрелы с таким усиленным грохотом, что индусские вельможи побледнели и задрожали от страха. Эти оглушительные залпы означали прибытие французского губернатора. Через отверстие палатки видно было царственное шествие: копейщики с белыми значками, украшенными золотом, эскадроны гренадеров, мушкетеры со знаменами, усеянными лилиями. Затем показался сам Дюплэ верхом, окруженный своим генеральным штабом; а за ним, на спине слона, немного склонившись, развевалось французское знамя, отороченное золотой бахромой; на древке, под копьем, виднелся белый шарф. Рядом с этим знаменем красовался Мамурат, который Музафер разрешил Дюплэ водрузить, как самому себе.
Двенадцать слонов везли на себе целый оркестр, состоявший из кимвал, флейт, гобоев, труб, игравший военный марш «Филидора»; по временам пушки примешивали к нему свой грохот. Дюплэ сошел с лошади и направился к палатке; барабаны забили зорю, солдаты сделали на караул, топали ногами и кричали «ура».
Губернатор поспешно подошел к субобу, поклонился ему и подал на платке из алансонских кружев обычную дань в двадцать золотых могуров. Он присоединил к ней дорогие подарки; но Музафер-Синг встал и, взяв Дюплэ за руку, повел его ко второму трону.
— Сегодня не мне будут воздаваться почести Нуссура, а тому, кому я обязан своей славой, — сказал он.
Тогда набобы, вельможи и все царские офицеры подошли к Дюплэ один за другим и подали ему с поклоном подарки. Вскоре у его ног нагромоздилась целая гора сокровищ: роскошные золотые вещи, венцы, ожерелья, перевязи из драгоценных камней, золотые блюда, кувшины, тазы, самые великолепные принадлежности вооружения, кинжалы, щиты, лагорские, цейлонские и кашемирские мушкеты, все чеканной работы, украшенные драгоценными камнями; золотые каски с султанами из жемчуга; персидские набедренники и нарукавники, латы из носороговой кости, наконец, любопытная броня из чешуек броненосца, отделанная золотой резьбой, бирюзой, гранатами. Дюплэ прикасался к каждому подарку, который ему подносил, в знак того, что он милостиво принимал его. И эта куча богатств росла у подножия помоста, рассыпаясь с гармоническим звоном.
Когда все это кончилось, царь встал и, в сопровождении нескольких камергеров, подошел к губернатору.
— Теперь моя очередь поднести тебе подарок, — сказал он.
И, взяв из рук одного камергера великолепное платье, он сам надел его на Дюплэ, застегнув пояс, на котором висела сабля с блестящей рукояткой, и вручил ему щит и меч. Затем он сказал сильным, громким голосом, чтобы все его слышали:
— Эта царская одежда, мой возлюбленный брат, была пожалована моему деду Низам-эль-Мульку падишахом Ауренг-Саибом; и великий император как бы сам дает ее тебе. Во имя Могола, нашего государя, я провозглашаю тебя теперь карнатикским набобом. Ты будешь властвовать над всей областью, которая простирается от юга Шишены до мыса Коморина. Кроме того, я жалую тебе в удел город Вальдаур с его угодьями; это будет собственность твоя и твоих потомков. Я прибавляю к доходу с этих владений пенсию в двести сорок тысяч ливров, и подобную же я назначаю бегуме Жанне. Я повелеваю, чтобы во всей южной Индии ходила только монета, отчеканенная в Пондишери. Получи также от меня, мой брат, согласно обычаю, новое имя Багадура Зафер-Синга, т. е. Льва Победы, и титул «мунзуба», командира семи тысяч лошадей. По твоему желанию, я признаю владычество французской компании над Музулипатом и Яноном и расширяю ее владения до Карикала.
Субоб снял свою царскую чалму и надел ее на голову Дюплэ, а на себя надел его треуголку.
— Во имя всеблагого и милосердного Аллаха, — прибавил он, — я клянусь считать себя всегда твоим вассалом и не разрешать ничего, ни даже милости без твоего согласия.
Дюплэ встал, в свою очередь, сильно растроганный.
— Не знаю, как благодарить тебя, мой брат и государь, — сказал он, — за такое великодушие! Сердце мое переполнено радостью и благодарностью; но знай, о Свет Мира, что я помогал в этой войне не для того, чтобы завоевывать царства; нет, я хотел послужить Моголу, сражаясь за справедливость против изменника, который был поношением верховной власти. Честь, которую ты мне оказываешь, вверяя мне карнатикское набобство, слишком велика для моих заслуг: я достаточно буду вознагражден за мои труды, если ты оставишь мне только титул без власти.
Затем, протянув руку по направлению к Шанда-Саибу, который стоял в нескольких шагах от него, он сказал:
— Я прошу у тебя как милости, чтобы ты поручил управление обширной областью этому, столь преданному герою.
Сначала все смолкли от удивления; затем раздались крики восторга перед таким бескорыстием, на которое ни один из присутствующих не чувствовал себя способным. Шанда-Саиб, взволнованный, бросился, рыдая, к ногам Дюплэ.
— Такое величие души вполне достойно такого героя, как ты! — сказал царь с волнением. — Да будет по твоему желанию, но не отказывай мне в удовольствии воздвигнуть в честь тебя колонну и основать на месте твоей последней победы город, который будет называться: Дюплэ Фатех-Абад, т. е. Город Победы Дюплэ.
И в то время как толпа испускала крики восторга, царь несколько раз облобызал этого необыкновенного человека, нравственное влияние которого укрепилось еще более, вследствие того, что он так великодушно отказался от царства, по величине равного Франции.
В то время, как Бюсси входил с Дюплэ в царскую палатку, он почувствовал, что его тихонько тянут за рукав. Обернувшись, он увидел «казеги» из свиты великого визиря, брамина Ругунат-Дата. Молодой паж, приложив палец к губам, сунул маркизу золотой футляр, длиной с рукоятку кинжала; потом он скрылся в толпе.
Бюсси зажал в руке ящичек с радостным биением сердца. Думая постоянно об одном и том же, он тотчас понял, что это был посланный от Лилы.
Теперь это был для него вполне счастливый день: он действительно чувствовал всю прелесть жизни, гордый своей молодостью и славой, которую он успел уже завоевать себе. Его соотечественники наперерыв повторяли вокруг него, что со времени завоеваний Франциска Пизарро во всем свете не видели ничего подобного последним подвигам французов, в которых он занимал самое видное место. Полный признательности, субоб сделал его богаче, чем он мечтал бы когда-нибудь, а индусы сравнивали его со своими сказочными героями. Его больше всего радовало то, что Индия восхваляла его. Отголосок этой славы долетит до Урваси: как же она может после этого презирать его?
Но он не мог удалиться, чтобы прочесть дорогое письмо. Только вечером, после банкета, во время бала, который давал губернатор, он мог в иллюминованном саду улучить минутку, чтобы остаться наедине с самим собой.
Он сел на мраморную скамейку, открыл ящичек и развернул письмо, написанное на этот раз золотыми буквами по белому атласу.
«Странные новости, как болтовня перелетного попугая, доходят до нас из Карнатика, — писала Лила. — Ты походишь на Раму с глазами голубого лотоса и слава твоя уже подобна славе Рамы!
Известность подобна запаху, который проникает всюду. Ты будешь счастлив, узнав, что твоя слава дошла до царицы, удивленной и встревоженной тем, что твое имя переходит из уст в уста. Мне показалось, что она боится за тебя. Она знает о неумолимой ненависти к тебе первого министра, Панх-Анана, и хотела бы, чтобы он больше не вспоминал о тебе, а между тем вся Индия чествует тебя как героя!
Урваси утверждает, что она теперь спокойна, избавившись от осквернения. Но я читаю в ее душе и вижу там неотступную мысль и смущение, более глубокое, чем когда-либо. Она борется, не надеясь победить; я молча присутствую при этой борьбе; и если я сделалась твоей союзницей, так это для того, чтобы лучше служить ей. Средство, к которому я прибегнула, я считаю хорошим, но ты никогда не узнаешь его».
Бюсси в первый раз почувствовал себя охваченным лаской утешительной надежды; и в нем шевельнулась гордость, когда он подумал о том, как далеко ушел со времени первого бала губернатора, где на этом самом месте незнакомый умара говорил с ним от имени оскорбленной царицы.
— Но Арслан-Хан состоит теперь членом генерального штаба субоба; он должен быть здесь! — воскликнул он нечаянно вслух.
— Он здесь и есть, — раздался около него голос. — Но теперь он знает тебя; он видел, как ты сражался, и считает тебя полубогом.
Став коленом на скамейку, Арслан смотрел с улыбкой на Бюсси.
— Ты храбрый, и твое уважение для меня очень ценно, — сказал Бюсси, протягивая руку умаре.
— Благодарю, — сказал Арслан, сильно и искренне пожимая эту руку. — Мое сердце и сабля принадлежат тебе.
— Как ты очутился тут, подле меня? — спросил маркиз.
— Я тебя опять искал, и на этот раз, как и раньше, в качестве посланного.
— От кого же?
— От одной знатной особы, которую тебе, я думаю, приятно будет видеть: от великого визиря Ругунат-Дата.
— Брамина! — воскликнул Бюсси, вставая. — Где же он?
— Иди за мной, я постараюсь провести тебя через эту толпу.
Они отправились вместе и принуждены были медленно подвигаться вперед, потому что па их пути собирались толпы любопытных. Бюсси уже не был неизвестным капитаном, которого раньше замечали только благодаря его красивой наружности; он был теперь знаменитым. К его молодости и стройности присоединялась еще слава.
Великий визирь вместе с Дюплэ находился под атласным балдахином, изящно прикрепленном к пальмам над диваном и подушками. Губернатор и Ругунат были отделены от толпы стражей и пажами; и между ними шел оживленный разговор. Подле них стояло третье лицо — переводчик.
Как только Бюсси появился, сейчас же отдали приказание допустить его к ним. Арслан, быстро пожав ему руку, покинул его.
— Мой дорогой Хаджи-Абд-Аллах, — сказал Дюплэ переводчику. — Вы свободны и можете идти на бал и развлекаться. Пришел некто, кто сменит вас.
Тот поспешно сделал несколько шагов навстречу маркизу, протянул ему обе руки, потом сердечно обнял его.
— Наконец-то я вижу вас, дорогое дитя! — сказал ему Дюплэ. — Вы, о котором все говорят, которого все ищут взором, так скромно скрываете ваш успех! Идите же скорей; великий визирь, в высшей степени замечательная личность, которая пользуется моим полным доверием, жаждет познакомиться с вами.
— Он знает меня, — сказал Бюсси, кланяясь Ругунат-Дату и воздавая ему индусские почести — «анджали». — Ах, отец мой! — воскликнул он. — Как я рад, что могу наконец испросить у вас прощения в обиде, которая столько времени тяготит мое сердце!
— Я облегчу твое сердце одним словом, сын мой, — сказал брамин. — Гнев, который побудил тебя сказать мне те жестокие слова, в которых ты теперь раскаиваешься, имел самое благотворное влияние на мою судьбу.
Бюсси удивился. Брамин продолжал:
— Несмотря на всю их оскорбительность, я видел в твоих гордых выражениях отражение незнакомых нравов и чувств. Они пробудили во мне желание узнать твое племя, возбудили жажду к изучению неизвестных вещей. Благодаря этому, я решился покинуть государство, где мое влияние, постоянно умаляемое, висело на волоске, готовое совсем исчезнуть, и где, для того, чтобы быть терпимым, мне нужно было даже скрывать свои мысли. Тогда я уехал: я познакомился с Дюплэ, узнал новый мир, мой ум до того отрешился от старых предрассудков, что я, раджа и брамин, — теперь министр мусульманского принца.
— Возможно ли, что из-за меня ты покинул божественную царицу Бангалора и можешь находить жизнь счастливой, вдали от нее?
— Конечно, кто знал ее, тот не может забыть, — сказал брамин со вздохом. — Я часто сожалею о ней, а также о моей дорогой Лиле, ее верном друге. Но я предпочитаю, хотя бы и ценой некоторой печали, сохранить лучше в моем сердце совершенный образ этой царицы, ум которой я развил, нежели видеть, как у меня на глазах портится, может быть, даже совсем разрушается мое произведение, благодаря вредному влиянию тайного врага. Но довольно об этом; я надеюсь, что мы когда-нибудь возвратимся к этому разговору. Я умолял губернатора о милости и сильно надеюсь, что ты поможешь мне добиться ее.
— Что вас-то у меня и просят, мой дорогой Бюсси, — сказал Дюплэ. — И вы понимаете, как я колеблюсь ответить. Субоб едет в Ауренгабад, столицу своего царства, и через своего министра умоляет меня позволить ему взять, как почетную стражу, отряд французских воинов, под вашим предводительством. Мир еще не обеспечен со стороны столицы, и царь думает, что его трон будет непрочен, если мы его не поддержим.
— Я надеюсь, что вы не сомневаетесь в моем повиновении и уверены, что я исполню все ваши приказания; следовательно, не эта причина заставляет вас колебаться.
— Ваше согласие было необходимо, друг мой: не скрывайте от себя, что этот отъезд будет иметь значение долгого и далекого изгнания. Но меня удерживают еще и другие причины: соперник Шанда-Саиба побежден, но он еще жив. Правда, он просит у нас мира и отказывается от Карнатика, но это только для того, чтобы выиграть время; он похож на плохо раздавленную змею, которая при первой возможности снова подымет голову. Если бы за ним не было англичан, я бы его нисколько не боялся; но они изо всех сил будут поддерживать его, хотя бы для того, чтобы досадить нам.
— Как, сударь! — вскричал Бюсси. — Несмотря на мир, заключенный между Францией и Англией, вы считаете их способными поднять на нас оружие?
— Англичане уже сделали это раз и отлично могут повторить свой поступок. Они слишком озлоблены своими поражениями, чтобы когда-нибудь забыть их. Кто знает, может быть, они уже угадали мою тайну — присоединить Индию к Франции? Вы понимаете, что они всячески будут мешать мне; вы знаете, как их страна поддерживает их, тогда как нас!.. Смотрите, как меня плохо понимают: по Ахенскому договору Мадрас возвращается англичанам! Мне даже не сочувствуют. Богу все известно, и я надеюсь только на него.
— Ваше дело слишком прекрасно и ваши победы слишком блистательны; Франция не может не гордиться ими и не быть вам признательна, когда узнает о них, — сказал Бюсси. — Но если вы позволите мне высказать мое мнение, то я думаю, что предоставить субоба самому себе было бы большой неосторожностью. Музафер царит над Деканом, если я понял вашу мысль. Теперь он только и живет вами. Но что он будет думать завтра, когда, за нашими глазами, другие влияния отвратят его от нас? В самом деле, нужно, чтобы один из преданных вам людей оставался подле царя и, защищая его, охранял и проводил бы великий план, тайну которого вы соблаговолили доверить мне.
— Я так и думал, друг мой, что таково будет ваше мнение, — сказал губернатор с сосредоточенным видом. — Но кто же, кроме вас, может взять на себя это дело, для которого нужно быть одновременно и бесстрашным воином и государственным мужем? Увы, отчего у меня нет двух Бюсси! Я не испытывал бы тогда этой мучительной тоски. Что делать! Пусть будет так, это необходимо. Вы отправитесь с несколькими из моих лучших офицеров.
Вы можете сказать визирю, что я согласен на просьбу царя.
— Эта драгоценная милость доставляет мне двойное счастье, — сказал брамин, когда Бюсси перевел ему слова губернатора, — так как она дает мне уверенность, что мы удержим тебя подле себя. Царь очень торопится уехать, — прибавил он. — Нужно будет поспешить со сборами.
— Солдат всегда готов выступить, — сказал Бюсси. — Я отправлюсь, как только наш дорогой губернатор прикажет мне. Я жду его последних распоряжений.
— Я бы мог дать вам тысячу предписаний, — сказал Дюплэ. — Но это бесполезно, так как вы разделяете мое мнение, и обстоятельства, конечно, подскажут вам их. Я хочу только предостеречь вас от набобов канульского и кадапского. Между нами, я думаю, что они мошенники и что с этого времени они обдумывают какое-нибудь гнусное дело. Я убежден, что вы прежде всего встретите затруднения со стороны этих изменников. Берегитесь их и предупредите их заговор, если это возможно. Я хочу также поговорить с вами о молодом принце Салабет-Синге, которого я отдаю сегодня под ваше покровительство.
При имени принца, Бюсси не мог сдержать своего волнения, которое не ускользнуло от брамина.
— Что же случилось с Салабет-Сингом?
— Нечто, чего я не мог предотвратить и что сильно огорчает меня. Под предлогом милостей и почестей, которыми он хочет наделить его, как своего самого близкого родственника, Музафер увозит с собой своего племянника; он приставил к нему почетную стражу, которой отдан приказ не покидать его. Словом, Салабет — пленник. Так обыкновенно поступают здесь в царских семьях, чтобы предупредить заговоры, которые составляют обычное явление. Несмотря на ласки, которыми окружают молодого принца, он очень хорошо чувствует свои цепи, и это повергает его в отчаяние. Он умолял меня вмешаться в это дело, но как дать заметить царю, что я подозрительно отношусь к его намерениям? Вот почему я особенно поручаю вам это наше любимое дитя. Сделайте все возможное, чтобы сохранить его жизнь.
— Я обещаю вам относиться к принцу с величайшей заботливостью и защищать его всей моей властью.
Бюсси злорадствовал в душе, узнав, что его соперник унижен и что его надежды разбиты. Какой он обретет мир для своей измученной души, держа жениха под крепкой стражей, вдали от царицы, и наблюдая за его поступками!
Он простился с Дюплэ и великим визирем, чтобы поскорее устроить свои дела, и поспешил удалиться с бала.
Глава XXII
КАМА-ДЭВА
Видя необыкновенное волнение, которое охватило царицу после встречи с молодым варваром, Лила быстро поняла, что ее сердце, знавшее до сих пор только холодное высокомерие, открылось для первой любви. Встревоженная, с возбужденным любопытством, она стала расспрашивать Ругунат-Дата и узнала, что этот иностранец, такой храбрый и сильный, был очень красив и говорил, что он равен кшатриям. Брамин рассказал ей то немногое, что сам знал о Европе, и она была поражена в особенности положением женщин, которые были поставлены гораздо выше их тем вниманием, которое им оказывали, и уважением, с которым относились к ним.
— Вот такого-то человека, из той страны, нам нужно бы в цари, — говорила она сама себе, — неустрашимого воина, способного защищать государство и возвратить ему его могущество; мужа, который делил бы власть с царицей, не обращая ее в свою первую рабу. Но, увы! Мы предназначены мусульманскому принцу, то есть обречены на заключение в гарем и на лишение всего, что составляло наше счастье.
Тем не менее она не переставала с величайшим вниманием наблюдать за царицей, смеясь в душе над бесполезностью молитв. Однако была минута, когда ей показалось, что она ошиблась: лихорадочная раздражительность Урваси, разжигаемая Панх-Ананом, становилась болезненной, а сила предрассудков действительно обращала в ненависть и отвращение эту зарождающуюся любовь. Потом несколько новых признаков окончательно убедили ее, что она именно угадала, в чем заключалось зло.
— Она обречена на несчастье, если мне не удастся открыть ей глаза на ее настоящие чувства.
Но как это сделать? Как победить эту плохо понятую ненависть, делая вид, что веришь ей? Как направить ее на путь истинного чувства?
После драмы на Острове Молчания, Лила притворилась влюбленной в иностранца. Она понимала, какую драгоценную помощь окажет ей эта кажущаяся страсть, которая позволит ей восторгаться врагом, говорить о нем без конца или, если ей запрещено будет говорить, напоминать о нем царице вздохами и слезами.
Она раскинула под ногами царицы как бы мягкий склон цветущей тропинки. Урваси, не подозревая, что ею руководят, покорно углубилась по ней. Лила, вполне убежденная, что действует на благо царице, ни минуты не колебалась и так правдиво разыгрывала свою роль, что невозможно было усомниться в искренности ее чувств. Кроме того, кто знает, не попалась ли немножко сама принцесса в свою собственную западню?
В этот день царице предстояло увидеть чудесный праздник весны в лесу. Отправились в путь; все слоны шли гуськом, неся на себе грациозных женщин, певиц, музыкантш, которые стучали цимбалами, били в барабаны, ударяли пальцами по «винам». В царской башенке, рядом с Урваси, сидела Лила, молчаливая и как бы подавленная горем.
— Так ты все думаешь об этом варваре? — спросила царица. — Ты кажешься удрученнее, чем когда-либо.
— Отсутствие подобно голоду, — сказала Лила. — Некоторое время его переносят, но чем дольше оно длится, тем становится нестерпимее. Видишь ли, глаза мои жаждут его; я жду его, как мир ждет света, и мне кажется, что я погружаюсь в ужасную ночь.
— Как же ты можешь увидеть его? Ты хорошо знаешь, что все кончено и что он больше не вернется.
«Как печально она произнесла эти слова!» — подумала Лила.
— Значит, ты думаешь, что он забыл тебя? — возразила она вслух. — Неужели ты думаешь, что он не жаждет увидеть тебя так, как я его?
— Он скорей должен избегать меня после всего, что я предпринимала против него. Но возможно ли, чтобы ты до такой степени желала видеть того, кто придет не для тебя?
— Растение, которое распускается на солнце, не спрашивает, для него ли взошло светило! Оно цветет, вот и все.
— Ах, моя возлюбленная Лила! — сказала царица, обнимая своего друга. — Чего бы я не дала, чтобы вылечить тебя!
— Послушай, сделай мне одну милость, удали сейчас твою свиту и отправимся к рощице азок, которая осеняет статую бога любви.
— Как! Ты хочешь принести ему жертву и покинуть Ганезу, твоего единственного бога? Нечестивец тот, кто признает что-нибудь, кроме мудрости.
— Мудрость учит, что никто не избегнет Кама-Дэвы. И разве не нужно умолять и умилостивлять того, кто держит нас в своей власти?
— Хорошо, пойдем в рощу азок.
Уже давно все вошли в лес. Все женщины подымали головы и испускали крики удивления и восхищения перед невероятной красотой, которую он представляет, весь убранный цветами-поденками. Цветы! Всюду цветы, только цветы! Отягченные деревья, казалось, стряхивали их; они падали дождем; земля была покрыта ими; а запах был такой сильный, что слоны начинали дремать. Это было безумство, разорение, чудо весны.
Вскоре царица отдала приказание остановиться. Слонов поставили в круг. Все сошли на землю; и принцессы группами весело рассыпались по лесу, между тем как Урваси удалилась с Лилой, сделав знак, что она хочет остаться одна.
В это время, когда они пошли по тропинке в рощицу азок, человек, весь запыхавшийся, сделал знак принцессе, не смея приблизиться из уважения к царице. Лила вскрикнула, заметив его.
— Ах, моя царица! Позволь мне говорить с этим посланцем!
И, не дождавшись позволения, она бросилась к нему.
Урваси, которая глазами следила за принцессой, видела, как человек вручил ей письмо, которое она быстро прочла. Потом он протянул ей стилет и пальмовый лист и, став на колени, подставил ей спину вместо стола. Лила написала в ответ несколько слов и дала наставление посланцу, который скрылся бегом.
Принцесса возвратилась очень взволнованная, но молчала. Она заткнула письмо за свой пояс из драгоценных камней, так что виднелся уголок его, белизна которого с непобедимой силой привлекала взор царицы. Но она не хотела расспрашивать своего друга, будучи слишком скромной по привычке.
Лила рвала цветы для жертвоприношения, и ноги ее утопали в упавших лепестках.
Пурпуровая азока, которая, казалось, была покрыта коралловыми шариками, раскидывалась зонтиком над богом Любви. Он был сделан из мрамора, разрисованного красками и золотом, и сидел верхом на исполинском попугае, улыбаясь из-под своей прозрачной шапки; он натягивал лук, сделанный из сахарного тростника, с тетивой из золотых пчел. Пять стрел, которыми он поражает каждое из пяти чувств, выставлялись из колчана и были украшены каждая особым цветом: стрела, которая поражает зрение, была украшена царской чампакой ослепительной красоты; поражающая слух, была украшена цветком мангового дерева, любимым певчими птицами; обоняние поражал кетака, со своим одуряющим запахом; осязание — кезаря со своими лепестками, шелковистыми, как щеки молодой девушки; вкус — бильва, с плодом сочным, как поцелуй.
Рядом с богом Любви стояла его подруга, Весна, а перед ним на коленях — его две супруги: Ради (Сладострастие) и Прити (Привязанность).
Лила приблизилась с целой охапкой цветущих веток и принялась ходить вокруг статуи, произнося вполголоса священный «мантран». Царица смотрела на нее, прислонившись к дереву, и главным образом следила за ее волнением и смущением, которые овладели ею с тех пор, как она получила письмо, которое было закрыто теперь охапкой цветов; у Лилы щеки то краснели, то бледнели; глаза блестели от радости; губы были полуоткрыты от волнения.
«На что же она надеется? — спрашивала себя Урваси. — Нет сомнения, что это послание от него. Она горит нетерпением, но отчего?»
Теперь, став на колени у подножия статуи, Лила положила свое приношение.
— Так как же, царица? — сказала она, покончив с этим. — Разве ты не боишься гнева Кама-Дэвы, приближаясь к нему, даже не поклонившись?
— Раз закон, который он предписывает, будет для меня только печальной обязанностью, и моя судьба решена, зачем же я буду поклоняться этому божеству и что я могу просить у него?
— Попроси его, по крайней мере, пощадить тебя! — вскричала принцесса. — Ты знаешь, на что способен этот сын Брамы, который испробовал свои первые стрелы на своем отце, заставив повелителя богов влюбиться в собственную дочь. Он может сделать самые невозможные вещи. Если бы он захотел, то заставил бы тебя полюбить Панх-Анана.
Царица принялась смеяться, качая головой.
— Я этому не верю.
— Несчастная! Не верить богу богов и не предупредить его мести ни малейшей жертвой!
— Ну, так вот! — сказала царица.
И, немного колеблясь, Урваси приблизилась с протянутым голубым лотосом, который держала кончиками пальцев.
Она положила цветок на мраморный цоколь и в то же время устремила на прекрасного, смеющегося юношу долгий взгляд, в котором высказывалась невольная мольба.
— Теперь я спокойна, — сказала Лила, облегченно вздохнув. — Я боялась, что ты будешь враждовать с всемогущим Кама-Дэвой, потому что я верю теперь в него и убеждена, что он творит чудеса.
— Он однако забыл предупредить тебя, что сейчас ты уронила это таинственное письмо, которое так заботливо прятала за поясом.
Урваси толкнула кончиком своей ноги упавшее на землю письмо. Принцесса быстро подняла его.
— В этом письме заключается именно чудо, — сказала она. — Если бы ты хотела прочесть его, то убедилась бы в этом.
— Посмотрим, — сказала царица, не стараясь скрыть своего нетерпения и любопытства.
Она взяла письмо и держала в руке, прежде чем вскрыть; она с любопытством рассматривала восковую печать, изображавшую герб и над ним корону.
— Что это такое? — сказала она. — Я вижу пряжки; и что значит эта корона из драгоценных камней и листьев?
— Это, без сомнения, знаки царского происхождения.
Но Урваси уже не слушала: она вскрыла письмо и жадно читала его.
«Ты для меня слаще Прити, утешительнее Майи, о моя принцесса; и ты можешь быть уверена, что никакие сочинения поэтов не читались так страстно, как твои. Но мне понадобилось бы много, много дней, чтоб выразить все, что я испытываю. Да и зачем писать, когда я могу все это сказать тебе своими собственными устами? Да, Лила, у меня есть эта чудная надежда, которая заставляет меня дрожать от нетерпения.
Послушай: я сопровождаю царя Декана, который должен вступить во владение столицей, и путь мой лежит в нескольких милях от Бангалора! Ты понимаешь, что быть так близко и проехать мимо — свыше моих сил. Пусть царь думает, что хочет, но я убегу; я хочу подышать еще немного этим воздухом, более живительным для меня, чем амрита богов; я хочу сорвать один цветок с куста, пучок травы с земли, еще раз на минуту увидеть это место, этот дворец, благодаря которому весь остальной мир для меня жестокое изгнание.
Я слишком хорошо знаю доброту твоего сердца, чтобы не быть уверенным, что ты сделаешь невозможное, чтобы устроить мне свидание. Можешь ли ты сделать еще больше? Я не смею ни надеяться, ни просить тебя об этом.
Я прибуду через несколько минут после моего письма. Пусть посланный, который принесет твой ответ, проведет меня к тебе, не теряя ни минуты. Увы! Я не могу урвать у моих обязанностей больше часа».
Лила прикинулась, что приняла за гнев бледность и волнение царицы, и бросилась к ее ногам с умоляющим видом.
— Ах, прости! — воскликнула она. — Я не могла устоять против его просьбы; не получив твоего разрешения, я уступила неотразимому влечению моего сердца.
— Что же ты сделала?
— Я сделала то, о чем он просил меня: я приказала посланному провести его ко мне, в нескольких шагах отсюда.
— Сюда! Он придет сюда!
Царица невольно поднесла руку к сердцу, чтобы удержать его беспорядочное биение.
— Какая опасность! — прибавила она.
— Никто его не увидит, — возразила Лила. — Я велела посланному провести его окольными тропинками; и он останется, увы, так мало, что не успеют узнать о его присутствии.
— Ну хорошо, иди! — сказала Урваси с лихорадочной поспешностью. — Я не хочу, чтобы ты потеряла хотя одну из этих столь дорогих тебе минут. Может быть, он уже там.
— Нет еще: мой посланный должен предупредить меня, подражая крику майны, как только он придет.
В рощице азок были устроены вокруг дерновые скамейки, усыпанные лепестками. Царица опустилась на одну из них, как бы охваченная непреодолимой усталостью. Лила опустилась перед ней на колени и обвила ее стан руками.
— Ты добрая, — сказала она. — Ты не бранишь меня, ты не хочешь, чтобы моя радость была отравлена горечью. Но умоляю тебя, будь еще милосерднее. Посмотри, как Кама-Дэва, которого называют таким жестоким, сострадателен к ранам, которые он наносит: по одному желанию моей молитвы, прежде даже, чем жертва была у его ног, он услышал мое самое дорогое желание. Поступи, как он: царица может брать пример с бога. Пусть твое присутствие будет живительной росой для того, кто по твоей вине сгорает, охваченный пламенем.
— Увидеть его снова, после того, что произошло? Это невозможно! — сказала Урваси, вставая.
— Позволь ему, по крайней мере, издали посмотреть на тебя; дай ему это счастье, в котором ты не отказываешь последнему из твоих подданных.
— Нет, нет, наоборот, я должна удалиться.
— Если ты уйдешь, я принуждена буду следовать за тобой, — сказала печально Лила. — А тогда — прощай мое счастье.
Царица опять села, улыбаясь.
— Так я должна остаться, чтобы покровительствовать твоей любви? — сказала она.
— Ах, благодарю, мой божественный друг! — вскричала принцесса, бросаясь в объятия Урваси. — Как это возможно, чтобы ты, с таким нежным сердцем, заставляла так страдать?
— Ну, хорошо, пусть он меня увидит, — сказала она, вся дрожа. — Но только пусть не приближается ко мне. Иди, иди скорей, вот поет майна.
«Она услышала пение раньше меня», — подумала Лила, бросаясь вон из рощи.
Маркиз приехал верхом, следуя через лес за своим проводником по самым узеньким тропинкам. Он подвигался, очарованный этим блеском весны, этим чудесным расцветом. Увидя Лилу, которая поспешно пробиралась через лианы и ветви, сложив свои обнаженные руки в виде щита, он быстро и грациозно спрыгнул на землю и побежал ей навстречу.
— Мне кажется, что я двигаюсь во сне! — вскричал он. — Вам именно нужен был этот рай цветов. Но что я вижу! Моя дорогая принцесса следует французской моде: ее волосы напудрены белыми лепестками!
Он смотрел на нее счастливым и нежным взглядом, держа ее за кончики пальцев. А она стояла, потупив взор, вся запыхавшаяся от быстрой ходьбы, изумленная робостью, которая мешала ей говорить.
Он заговорил, с любовью поцеловав ее руки:
— Возможно ли то, что ты мне пишешь? Если бы ты знала, как полно мое сердце благодарности от радости, которую ты расточаешь мне. Скажи мне, что же я сделал, чтоб заслужить такую нежную дружбу столь восхитительного существа, как ты?
— Ты ничего не сделал, — ответила, улыбаясь, Лила. — Дружба так же необъяснима, как и любовь; и я не нуждаюсь в награде, так как видеть тебя счастливым доставляет мне удовольствие. Но скажи мне, отчего ты не говоришь о единственной вещи, которая наполняет твои думы?
— Я жду, пока ты разрешишь мне.
— А я медлила, чтобы сохранить свою власть. В отсутствие солнца и звезда, в которой оно отражается, кажется прекрасной; но когда является само светило, ее даже не замечают. Так и ты не захочешь оставаться со мной, когда я скажу тебе то, о чем умалчивала до сих пор.
— Что же это такое? — спросил он, и глаза его загорелись надеждой.
— То, что царица находится в нескольких шагах отсюда и разрешает тебе увидеть ее на минуту.
— Она согласилась! Ах, это первая милость, которую она оказывает мне без принуждения.
— Ах, как ты пугаешь меня своей внезапной бледностью! Можно подумать, что жизнь оставляет тебя, — вскричала Лила, невольно хватая молодого человека за руку.
— Видишь ли, мне придется умереть от этой любви: так сильны ее радости и огорчения. Но сегодня она даст мне жизнь. Веди меня к ней, умоляю тебя.
Оставшись одна, Урваси испугалась охватившего ее волнения, которого она никак не могла победить. Рой мыслей толпился в ее голове: в ее воображении быстро промелькнула вся ее жизнь, наполненная исключительно этим человеком со времени охоты, когда она чуть было не погибла. Ненависть, презрение, убийственные намерения, тревога — он, всегда он был их предметом.
— К чему пытаться обманывать себя? — говорила она сама себе. — Я погибла, в этом нет никакого сомнения. Осквернение проникло в мою душу, больше нет средства, и он знает это; он знает тайну, которую я заглушаю в своем сердце и которой он никогда не должен бы знать. Ах! Зачем непреоборимое безумие бросило меня в его объятия тогда, когда я думала, что он умрет? А он живет, он здесь! Я позволила ему увидеть меня. Но он угадает, что я так же жажду, как и стыжусь этого поцелуя, который жжет меня днем и ночью. Нет, это невозможно: я не хочу, чтобы он видел меня!
Она поднялась, чтобы убежать, и сделала несколько шагов бегом; но ветви раздвинулись перед ней — и молодой человек появился так близко, что она могла бы задеть его.
Она чуть не вскрикнула и немного отступила назад, полная удивления, что на нее вдруг нашло спокойствие и ей стало так хорошо; странная сладость сменила волнение.
Неподвижный, затаив дыхание, он любовался ею в страстном упоении, с ненасытным счастьем.
Она была смущена этим безмолвным созерцанием и хотела удержать свое покрывало, до того тонкое, что оно колебалось, несмотря на отсутствие ветра, и временами закрывало ей лицо. Покоившийся на ней магнетический взгляд неотразимо притягивал к себе ее взоры. Она не была больше в состоянии бороться и, быстро решившись, подняла голову с вызывающим взглядом.
«Посмотрим, — думала она, — опустятся ли его неподвижные зрачки перед моими?»
Но встретив голубой луч его взгляда, она почувствовала себя очарованной: ее как бы пронзила острая стрела, от которой, как от копья, пропитанного ядом, у нее загорелся огонь в крови.
То, что она читала в этом взгляде, прикованном к ней, так подавляло ее, что она не замечала, как бежало время. Несмотря на трепетный восторг, в котором он топил свое пламя, это не был взгляд раба: в нем был властный блеск, могущественное господство, которые раздражали и в то же время привлекали и очаровывали царицу. Она чувствовала, что, поклоняясь ей, этот человек в то же время сумеет защитить ее: что слившись с этим сердцем, она будет сильнее, более царицей, но в то же время над ней будет господин. И она боролась с очарованием, которые вызывала в ней эта мысль; она пыталась возмущаться, защищаясь от нее, как стеной, всеми препятствиями, которые отделяли ее от варвара.
Но их взгляды смеялись над невозможным; преодолевая все преграды, они сливались в чудном объятии.
Молодой человек даже не пытался добиться хоть одного слова. Что она могла бы сказать ему? Слова, укрыватели мысли, может быть, уничтожили бы то, в чем так страстно признавались глаза; и он хотел сохранить воспоминание об этом ослеплении без малейшей тени.
Она умоляющим жестом отстраняла его; и не будучи в состоянии прервать ток его взгляда, она закрыла глаза рукой.
Тогда он убежал, прижимая к губам сорванный им цветок, а царица, шатаясь, медленно отступала, ища опоры; дойдя до статуи бога Любви, она прислонилась к ней, запрокинув голову.
Кама-Дэва, потрясая цветущим луком, смеялся под своей золотой шапочкой.
Глава XXIII
БЕДСТВИЕ
Ночь. Бюсси, с окровавленной шпагой в руках, возвращается в свою палатку, бледный, расстроенный, и с подавленным видом опускается на стул.
Случилось страшное несчастье: Музафер-Синг с размозженной головой лежит на царском знамени, и Декан лишился государя.
Как и предвидел Дюплэ, недовольные набобы придрались к самому пустому поводу, чтобы произвести возмущение. Ссылаясь на то, что арьергард этой огромной армии, которая следовала за субобом, потоптал посевы, проходя по кадапскому набобству, они напали на отряд, сопровождавший гарем царя. Нельзя было нанести более кровной обиды, так как женщины считались священными даже для врагов во время войны. Вне себя от такого оскорбления, субоб, не предупредив французский батальон, набросился на разбойников; эта стычка была для него роковой. Острие дротика, брошенного канульским набобом, пронзило ему череп и убило наповал.
Французы отомстили за царя: все набобы были убиты, а их приверженцы рассеяны. Но дело, созданное с таким трудом, внезапно рухнуло. У Франции не было больше никакого повода вмешиваться в дела Декана. Весь этот чудный сон кончился. Еще не достигнув столицы, царь, которого они сопровождали, стал трупом.
Бюсси, полный негодования и горя, измученный страшной битвой, от которой он не мог еще придти в себя, был подавлен, ошеломлен внезапностью этого непоправимого несчастья.
Непоправимого? Правда ли это? Разве не было никакого исхода? Бюсси не хотел допускать этого.
Не настало ли время доказать гениальным поступком, что он заслуживал доверие, которое питал к нему губернатор?
Он сидел с поникшей головой, нервно кусая губы, уставившись в одну точку, ничего не видя, продолжая держать в руках шпагу, с которой медленно стекала кровь на ковер.
Вдруг он вскочил, далеко отбросив от себя кровавое оружие.
— Ах нет, нет, не это! Я не хочу! — вскричал он. — Жертва была бы слишком тяжела!
Однако он остановился с расширенными зрачками, как бы в ужасе, снова возвращаясь к мысли, которую хотел отогнать от себя.
— Ах! Полно бороться с самим собой, — бормотал он. — Решение дано: эго — единственное возможное спасение… А между тем этого не будет.
Он разразился горьким смехом.
— А, да что же, разве я в самом деле способен колебаться между моим долгом и счастьем?
Он принялся ходить крупными шагами, сжимая голову руками.
— Ну, да! Я колеблюсь! — вскричал он. — Или, вернее, я не колеблюсь. Что мне за дело до света и его честолюбия? Я не такой сумасшедший, чтобы возвысить ненавистного соперника, я не сделаю Салабет-Синга царем.
Он остановился, испуганный звуком своего голоса.
Снаружи доносился неясный шум, как будто волновалась толпа.
«Только бы эта мысль не пришла в голову никому, кроме меня», — подумал он.
В эту минуту край палатки поднялся и показалась высокая, белая фигура, за которой снова упал занавес. Это был Ругунат-Дат, визирь покойного царя. Волосы у него были распущены в знак траура, но вид у него был спокойный и решительный.
— Смерть — это движущийся караван, в котором мы все участвуем, — сказал он. — Сокровища в конце концов рассеиваются, здания рушатся, общества расходятся, смерть пресекает жизнь. Мы были все и обратились в ничто. Но на развалинах возвышается пальма, и в несчастье может расцвести надежда. Я уверен, сын мой, что тебе в голову пришла та же мысль, что и мне; и я пришел предложить тебе свои услуги, если могу быть в чем-нибудь полезным.
— В самом деле, отец мой, мне кажется я нашел средство, которое, может быть, спасет нас, — сказал Бюсси, смущенный взглядом брамина, который, казалось, читал в его душе.
— Не говори «может быть», нет ничего вернее! — вскричал визирь. — Ты здесь всемогущ; твое решение будет принято безропотно. Представленный тобой, Салабет-Синг будет с восторгом провозглашен царем, и смерть Музафера, которая не составляет для Франции никакого несчастья, послужит в пользу ее честолюбивых замыслов, так как созданный тобой новый субоб будет еще больше, чем тот, предан и покорен ей.
— Но мы лишим права наследства детей Музафера. Не будет ли это несправедливо? — сказал Бюсси.
— При малолетних детях что станется с государством от беспорядочного во всех смыслах регентства? Ежедневно будут происходить заговоры и возмущения, и нельзя будет устроить ничего прочного; тогда как при Салабет-Синге, одном из самых близких наследников трона. ты обеспечишь мир Декану. Не нужно колебаться, сын мой, умоляю тебя, эта жертва зачтется тебе.
— Верно служить своей стране не значит приносить жертву, — гордо сказал Бюсси, раздраженный тем, что угадали его мысли. — Разве я колебался? Это было, пожалуй, только инстинктивное чувство, подобно минутному возмущению тела против смерти, признаваемой умом, которое испытывает осужденный. В каком положении находится армия?
— В сильном волнении, — сказал визирь. — Слышишь этот шум? Умары испытывают сильнейшее беспокойство. Но все ждут решения французского командира. Если он отступится, решено произвести погром, потому что они не знают, кто будет теперь платить солдатам.
— Так поспешим же! — сказал Бюсси. — Пусть соберут умаров и весь совет.
Час спустя он покинул диван и в сопровождении своей почетной стражи направился с великим визирем к палатке Салабет-Синга.
Бюсси был так бледен и так торжественен, что молодого человека охватило чувство страха, когда он вошел.
Он быстро встал, вопросительно и с беспокойством глядя на него.
Маркиз низко поклонился.
— Сайэ-Магомет-Хан, Асэф Даула, Багадур, Салабет-Синг! — произнес он твердым голосом. — Именем французского губернатора Индии, почетного набоба Карнатика, именем дворянства, умаров и всей индусской армии провозглашаю тебя королем Декана.
Приблизившись на несколько шагов, он опустился на колени перед принцем и поцеловал ему руку.
Салабет, весь дрожа, удержал его, устремив на него изумленный взгляд.
— Ты! — бормотал он. — Ты делаешь меня царем! Так, значит, ты не забыл нашего союза? Я — субоб! Это предчувствие толкало меня к тебе, внушая мне такую живую симпатию. Но я вижу это во сне, не правда ли? Великий визирь, скажи мне, пожалуйста, не сплю ли я?
— Победа царю! — воскликнул брамин. — Пусть твое величество прислушается — и услышит, что народ уже приветствует тебя.
Слух распространился, и действительно с улицы слышны были крики: «Ура!»
— Возможно ли! Я король! — бормотал Салабет-Синг. — Томление плена внезапно сменилось блеском трона. Это слишком сильное волнение давит меня… Ах, Бюсси! Я умираю! — воскликнул он, взмахнув в воздухе руками.
Бюсси подхватил его на руки. Он был без чувств.
— Сын мой! — сказал Ругунат-Дат, подходя к Бюсси. — Этот принц, слабый и впечатлительный, как женщина, будет мягким воском в наших руках и послушным орудием. Его признательность никогда не ослабнет; и с этих пор я провозглашаю тебя настоящим царем Декана!
Глава XXIV
ДВОРЕЦ
Салабет-Синг торжественно вступил в Аурангабад; прошел уже месяц, а блестящие празднества по случаю его восшествия на престол все еще продолжали очаровывать всю область Голконды.
Под предлогом лучшей охраны города, на самом же деле, чтобы ежеминутно грозить ему своими пушками, Бюсси поместил свою маленькую армию в крепости, господствовавшей над страной. Во избежание всякого насилия он ввел среди солдат строгую дисциплину, чтобы поддержать в глазах индусов достоинство и значение французского воина. Но внутри крепости не было жилища, достойного того положения, которое должен был занять любимец царя, и Салабет предоставил себе удовольствие избрать ему резиденцию по своему вкусу.
Однажды, когда Бюсси сидел с Кержаном, его помощником в этом походе, к ним величественно подошел дворцовый хаджиб, постукивая о землю своей высокой серебряной тростью.
— Что нужно этому церемониймейстеру? — сказал Кержан.
Это был старец в роскошном платье: на голове у него был красный тюрбан, вышитый золотом; борода его была выкрашена пурпурной краской. Приложив руку ко лбу, он поклонился маркизу и сказал:
— Да здравствует властелин нашей судьбы! Угодно ли тебе следовать за мной, согласно желанию царя, туда, куда я должен отвести тебя?
— Здравствуй и ты! — сказал Бюсси. — Я покорнейший подданный его величества. Пойдемте со мной, Кержан, — прибавил он, обращаясь к своему другу. — Посмотрим, какой нам готовят сюрприз.
Во дворе их ожидала многочисленная свита, среди которой господствовало страшное смятение. Молодые люди вскочили на лошадей; хаджиб сел в свой паланкин; но трудно было восстановить порядок и вновь построить шествие. Выставившись наполовину из носилок, хаджиб размахивал руками и кричал во все горло; но его распоряжения терялись среди криков, топота и ворчания слонов, недовольных соседством лошадей, присутствие которых всегда раздражает их. Наконец порядок восстановился и шествие двинулось.
— Как! — сказал Кержан. — Царские кимвалы, герольды, слоны! Это великолепнее, чем у великого визиря.
— Если бы нужно было торопиться, то это была бы очень стеснительная обстановка, — сказал маркиз, смеясь.
Шествие вступило в узкие, круто подымавшиеся улицы; по обе стороны тянулись белые стены с редкими отверстиями, пересекаемые угловатыми тенями. Иногда дома сдвигались так близко, что слишком объемистые слоны ломали и почти сносили выступавшие из стен резные деревянные балкончики. По временам шествие выходило на прекрасные площади, усаженные тенистыми деревьями и освежаемые фонтанами. Затем потянулись широкие бульвары, окаймленные садами и дворцами.
Герольды, ехавшие впереди, что-то кричали, чего Бюсси не мог расслышать, находясь слишком далеко; но народ, попадавшийся навстречу, в изящных и пестрых костюмах, падал ниц.
— Что с ними такое? — сказал маркиз. — Чего ради они все бросаются на землю?
— Милый мой, вам воздают царские почести, — отвечал Кержан. — Кимвалы играют как для царя, так как Салабет не перестает твердить, что вы — его старший брат; что царь выше всего, но что Бюсси выше царя; что он получил свой трон от вас и своего дяди, Дюплэ, и что он ничего не предпримет без вашего одобрения.
— Примем эти почести во имя Франции; мы трудились только ради ее славы, — сказал Бюсси.
— Конечно, вы можете принять, потому что вполне этого заслужили; и царь хорошо понимает, что его трон держится только вами. Герольды, без сомнения, провозглашают по его приказанию, что к вам должны относиться, как к нему самому.
Шествие достигло площади, окруженной деревьями, в конце которой показался белый мраморный дворец. Он был так обширен и так великолепен, что Бюсси не мог удержать крика восторга. Благородство стиля и изящество размеров придавали этому дворцу невыразимую прелесть. Три этажа галерей возвышались один над другим, образуя нежные тени в маслянистой белизне мрамора. Галереи состояли из колонн и колонок, все более легких по мере того, как они подымались вверх; купола, восьмиугольные башни, стрелки, колоколенки грациозно возвышались над зданием; все было покрыто скульптурными украшениями и резьбой, прозрачной, как кружево.
Сводчатые ворота были выше триумфальной арки; их фасад был отделан эмалью цвета бирюзы и испещрен цветами и золотыми буквами, а внутренность свода была вызолочена фаянсом самых нежных оттенков. Над карнизом развевалось французское знамя, отороченное золотой бахромой; оно осеняло герб Бюсси скульптурной работы под короной маркиза. На серебряном шпиньке, в виде сваи, была прикреплена красная перекладина с тремя золотыми пряжками в древнем вкусе.
Когда Бюсси проходил под сводом, раздался пушечный выстрел, и опередивший его хаджиб встретил его у входа во двор. Склонив голову и скрестив на груди руки, он сказал:
— Опора Мира, да ниспошлет тебе Аллах свои щедроты! Милости просим в твой дворец.
— Вот поистине царский подарок! — вскричал Кержан, который, подняв голову и поворачиваясь во все стороны, не переставал любоваться. — Я думаю, что это — резиденция самого Великого Могола, Ауренг-Зеба; но говорили, что она разрушена. Каким же образом она могла обрести вновь всю свою свежесть в такое короткое время?
Вокруг почетного двора стояла толпа невольников, слуг, телохранителей; и все они пали ниц, когда появился господин. Затем, в сопровождении неутомимого хаджиба, маркиз и его друг бродили целые часы по дворцу, осматривая его чудеса. Им показали роскошные конюшни, с колоннами из порфира, в которых стояло множество лошадей самых лучших пород; хлева, полные белых быков и упряжных зебу; парк слонов, где Ганеза занимал лучшее место; узнав своего господина, он приветствовал его ласковым ворчаньем и хлопаньем ушей. Они обходили все дворы, сады, террасы, галереи, комнаты, опьяненные их чудесами, покуда наконец Бюсси, изнемогая от усталости, не бросился на диван в маленькой ослепительной зале, которая, бесспорно, стоила подробного изучения.
— Право, я устал восхищаться и останусь здесь, — сказал он. — Эта комната поистине волшебная. Признаюсь, я ничего не понимаю, где я нахожусь. Уж не попали ли мы внутрь алмаза?
— Я одурманен и ошеломлен, — сказал Кержан, опускаясь на подушки. — Это великолепие превосходит человеческую меру и кажется призрачным, так как невозможно его всего объять: здесь человек слишком мал перед своим произведением. Что касается того, что мы теперь видим, я это так же мало понимаю, как и вы; мне кажется, что я брежу.
Хаджиб с улыбкой потирал руки, читая на лицах обоих молодых французов выражение удивления.
— Благородные вельможи! — сказал он. — Мы получили эту новинку из Персии, и Свет Мира счастлив, что может представить своему прославленному брату работу в этом любопытном стиле: его называют «морганэз», и только персидские рабочие могут его выполнить.
Входивший в эту залу попадал как бы в сеть лучей: стены и потолок в виде купола, как бы струились, пылали; всюду переливался свет, преломляясь в бесконечной игре цветов. Цветы на коврах, цветные стекла окон, вставленные в прозрачные резные рамы из сандалового дерева, сверкали тысячами огней. Малейшее движение вызывало яркую игру света: подымались мерцание, молнии, искры; точно плавилось серебро, точно кто бросал пригоршни алмазов или плеяды звезд, точно солнце отражалось в воде.
Бюсси ради забавы шевелил пальцами, чтобы вызвать эту ослепительную игру. Он старался понять, каким образом происходило это волшебство; но нельзя было разглядеть устройства стен под этим беспрерывным мерцанием и невозможно было угадать, из какого материала они были сделаны.
— Ну, хаджиб! — скричал маркиз. — Открой нам секрет; мы никак не можем понять этой тайны.
Хаджиб выпрямился с гордым видом и, опираясь обеими руками на свою высокую трость, сказал:
— Солнце наших очей, вот в чем секрет: стены, посредством трудной, кропотливой работы, испещрены тысячами пластинок, подобных граням драгоценных камней и покрытых, при помощи особой смазки, сериха, маленькими трехугольными зеркалами, чрезвычайно чистыми и плотно скрепленными. Благодаря бесконечному взаимному отражению, чистые зеркала производят этот невероятный, ослепительный блеск алмазов и пламени.
— Это восхитительно! — сказал Кержан, ощупывая стену концами пальцев. — Боишься обжечься от прикосновения.
Хаджиб подал Бюсси золотой ключ и указал ему на ящичек из черного дерева с резьбой, который стоял на бархатной подставке.
— Соблаговоли открыть этот ящичек, — сказал он. — Он стоит твоего внимания.
Маркиз подошел к ящику. Золотая змея, изогнув свои кольца тонкой работы, лежала на крышке, свернувшись клубком. Хвост ее свешивался на один бок, а подвижная голова скрывала замок. Среди арабесок, которыми было испещрено дерево, было вырезано четверостишие. Бюсси прочел его:
Этот ящик заперт.
Ты не можешь знать, что там лежит: жемчуг, золото или простые вещи.
Однако, как говорят, змеи всегда ложатся на сокровища.
Если в ящике нет драгоценностей, то зачем же на крышке извивается змея?
Молодой человек улыбнулся и поднял голову пресмыкающегося. Ящик открылся. В нем заключалось, действительно, сокровище, так как он был наполнен доверху великолепными драгоценными камнями, самородками или отделанными, но без оправы. Рубины, изумруды, жемчуг, сапфиры, бирюза перемешивались с чудными голкондскими алмазами.
На крышке, с внутренней стороны, был прикреплен лентой свернутый пергамент. Бюсси взял его и развернул. Это была грамота, скрепленная царской печатью, которая делала его законным владельцем этого дворца с его землями, правами, доходами, невольниками, сокровищами и всем, что в нем заключалось. Он закрыл ящик с глубоким вздохом. Его ненависть ко всемогущему сопернику поколебалась при виде такого великодушия; ведь все эти богатства, все эти почести уравнивали его в правах с царицей. А между тем, кто их расточал ему, сам был для него препятствием, врагом.
Хаджиб открыл окно, и в широкое отверстие можно было видеть всю окрестность. Вид простирался до горизонта. Над ним сияло безоблачное небо.
Сначала расстилалось море зелени, в которой утопал город; мраморные террасы и дворцы казались островами; купола мечетей и тонкие минареты смело поднимались кверху, господствуя над всем этим сонмом деревьев, опоясанных светлой оградой с толстыми круглыми башнями. Далее за Аурангабадом, покрытая золотистой пылью, расстилалась холмистая равнина, с ее нивами, ручьями и горами, окрашенными на горизонте в цвет ляписа и аметиста.
Своим худым пальцем хаджиб указывал на любопытные здания: царский дворец, большую мечеть, резиденцию визиря, школы, базары, рынки. Легким движением руки он пробегал огромные пространства. Его прервал посланный, вошедший в комнату, Бюсси быстро обернулся и увидел царского пажа, который, подойдя к нему, опустился на колени и передал ему письмо.
«Приветствую тебя в твоем дворце, мой возлюбленный брат, — писал Салабет-Синг;— пусть вместе с тобой счастье перешагнет через его порог!»
Чрезвычайно растроганный, Бюсси долго стоял погруженный в размышления; затем он встал и вышел с небольшой свитой, чтобы поблагодарить царя.
Дорогой он заметил маленькую кучку туземцев, которые, казалось, роптали на одного гренадера; а тот спокойно удалялся, как бы поддразнивая их. Бюсси послал одного из своих телохранителей узнать, в чем дело.
— Этот гренадер сорвал апельсин через загородку сада, — сказал телохранитель, возвращаясь. — Садовник кричит, что он пожалуется генералу, который запретил брать что-либо бесплатно.
— Черт возьми, он прав! — вскричал Бюсси. — Ему будет оказана справедливость: приведите сюда гренадера.
Солдат подошел, еще с куском апельсина в руке.
— Правда ли, что ты сорвал этот апельсин?
— Да, — сказал виновный, опуская голову. — Мне хотелось пить; плод был как раз у меня под рукой, и я сорвал его.
— Разве ты хочешь, чтобы те, которые раздают царства, прослыли за воров? Я присуждаю тебя к уплате ста рупий за этот апельсин, который ты мог купить за одно су.
— Это справедливо; ты сделал нас достаточно богатыми, чтобы я мог заплатить за свою вину.
— Ну, так как ты сожалеешь о своей ошибке, то я беру на свой счет половину штрафа, — сказал Бюсси. — Но никогда не забывай, что я желаю, чтобы французов столько же любили за их вежливость, сколько боялись за их храбрость.
Глава XXV
ЖЕНИХ
Бюсси в своей персидской комнате, которую он называл сердцевиной бриллианта. Растянувшись на диване перед открытыми окнами, он медленно курил гуку, пропитанную розовой водой.
Он один, но в соседней комнате стоят пажи на страже, готовые явиться по малейшему его зову.
Погрузившись в мечты, он рассеянным взором следит за легкими облачками сизого дыма, которые уносились через окно и, разрываясь на верхушках пальм, исчезали. Потом взгляд его скользит за садами дворца по зданиям города, сплошь залитого светом; высокие минареты сверкают на солнце, подобно огромным факелам; стаи прожорливых птиц беспрерывно кружат в воздухе.
Маркиз думал о тех странных приключениях, которые так быстро привели его на вершину славы. Ученый факир, Сата-Нанда, не ошибся, действительность превзошла самые безумные честолюбивые замыслы капитана волонтеров. Его дворец с садами занимал пространство больше мили в окружности; он не знал даже численности своих рабов. Когда он выходил, окутанный душистым облаком, подымавшимся из курительниц, целое население становилось на колени. Индия прославляла его, Франция благословляла; Бюсси торжествовал вдвойне: он был генералом, рыцарем ордена Св. Людовика и в то же время набобом, почтенным самыми редкими титулами. Имя его было еще знаменитее имени Салабета, потому что теперь его звали набоб Бюсси-Багадур, Гумдет эль-Молук, Сайфет-Дауля, Газамфер-Синг. Что значит: Самый важный из царей, Меч государства, Лев Львов. Он даже получил от Великого Могола, Алемгуира II, который наследовал Ахмету, в высшей степени лестное письмо: «Его Всемогущество» утверждал титулы, пожалованные «достойнейшему его милости», и приглашал его посетить Дели.
Но превыше всего этого тщеславия, которое только забавляло его гордость, для молодого человека было глубоким счастьем сознание быть тайно любимым, и любимым даже прежде, чем блеск его величия дал ему видное положение. Неужели теперь, когда они равны, гордая Урваси не даст воли своему чувству, которое она так деспотически подавляет? Услышит ли он когда-нибудь признание из этих чудных уст, — признание, которое светилось в ее прекрасных глазах? Что произойдет еще? Он тешил себя планами будущего, отстраняя глухое беспокойство, которое овладевало им при мысли о неминуемой опасности — свадьбе. Она вызывала в нем холодную дрожь. Но он отталкивал от себя эти ужасы. Он любим и не хочет больше ничего знать.
Он закрыл глаза, чтобы лучше углубиться в свои мечты и дать дорогим видениям, которыми жил, выступить более ярко.
Так летели часы: он был счастлив своими мечтами, которым напитанный опиумом табак придавал необыкновенную живость.
Вдруг сильный звук трубы, вызвавший в нем болезненное потрясение, вывел его из мечтательного состояния. Он с сожалением открыл глаза.
«Что это такое? — подумал он. — Наверное, мусульманские войска возвращаются с маневров».
В тот день был смотр всей индусской кавалерии; но Бюсси не присутствовал на нем, чтобы не затмевать блеска даря; он по возможности избегал уязвлять его самолюбие, чтобы не дать ему почувствовать зависимость, в которой держал его; он предоставлял ему пользоваться всеми внешними проявлениями, скрывал всегда приказания, которые давал ему под видом советов или просьб.
Паж приподнял портьеру и доложил:
— Герольды возвестили, что его величество царь, будет здесь через несколько минут, чтобы отдать визит Твоему величию.
Царь? Здесь!
Бюсси быстро встал и отдал приказания для приема: пушки у входа должны стрелять; на дворе должны выстроиться шпалерой караулы, баядерки с гирляндами цветов… Но он не успел еще кончить, как другой паж раздвинул портьеру и провозгласил:
— Великодушнейший падишах, Салабет-Синг!
И молодой царь, улыбаясь сюрпризу, который он устроил, быстро приблизился в своем воинственном наряде, залитом блеском драгоценных камней.
Маркиз хотел опуститься на колени, но Салабет удержал его и обнял.
— Я боялся, что ты заболел, так как не видел тебя во время церемониального шествия: это обеспокоило меня, — сказал царь. — И наконец, мне надо поговорить с тобой. Но эта пыль, которую подняли лошади, возбудила во мне страшную жажду. Вели принести щербета, и затем пусть нас оставят одних.
Салабет бросился на диван, воздохнув от усталости.
— Какая честь и какой стыд! — сказал Бюсси. — Принимать тебя у себя, совсем не приготовившись к достойному приему.
— Я очень люблю дразнить моих друзей, приезжая к ним без доклада, как друг.
Он выпустил несколько клубов дыма, воспользовавшись гукой, которая еще курилась.
— Ах, Газамфер, слишком много опиума! — воскликнул он. — Ты повредишь себе. Я должен прислать тебе своего испаганского табака, который напоминает белокурые локоны европейцев. Разве ты не счастлив, что ищешь забытья? — прибавил он, пристально глядя на Бюсси.
— Я был бы сумасшедшим! — уклончиво ответил маркиз, предлагая царю принесенные освежительные напитки.
Он хотел сесть на табурет, но царь привлек его к себе.
— Ах, Бюсси! — сказал он, вздыхая. — Ты не любишь меня!
Молодой человек отпирался, но царь покачал головой.
— Нет! — сказал он. — Я знаю: ты дал мне трон, но отказываешь в дружбе. Почему? Я не могу понять.
— Разве я провинился в чем-нибудь перед моим царем? — воскликнул Бюсси.
— О, никогда! Это отвращение скрывается под полным почтением. Твое сердце подобно моему щиту, сплошь покрытому жемчужной сетью и выложенному бриллиантовыми цветами и птицами, но жесткому и непроницаемому под его нежной оболочкой.
Царь нагнулся и заглянул Бюсси в глаза.
— Кто знает, не скрывается ли под его холодностью чувство драгоценнее жизни, которую защищает металл, скрытый под жемчугом?
Царь выспрашивал его, как будто хотел вызвать признание. Но, встретив непобедимую холодность в светлом взгляде маркиза, он откинулся назад.
— Ах, вечно этот сверкающий снег, который ничто не согревает! — с горечью воскликнул он.
Но он тотчас овладел собой и ласково взял его руку.
— Несмотря ни на что, я все-таки доверяю только тебе, — сказал он. — И так как ты скучаешь подле меня, так я хочу отправить тебя посланником.
— Посланником! Куда же? — воскликнул Бюсси, чувствуя, что удар готов поразить его, и стараясь высвободить свою похолодевшую руку, которая выдавала его волнение.
— Ты должен отправиться поклониться от меня будущей царице Декана и напомнить ей обещания нашего детства, которые мы слишком запоздали исполнить.
Бюсси невольно так сильно сжал пальцы, которые держали руку царя, что тот едва подавил крик и свободной рукой схватился за рукоятку своей сабли. Но он оправился и сделал вид, что ничего не заметил.
— Ты раньше меня увидишь султаншу бегуму, — сказал он. — Ее называют самым чудесным цветком, который когда-либо расцветал под небом Индостана.
— Ты ее никогда не видел? — с живостью спросил Бюсси.
— Один раз, в день нашей помолвки. Ей было пять лет, мне семь; тогда я в первый раз сел на слона; радость, смешанная со страхом, которую вызвало это событие, одна занимала мой ум, я помню только об этом. Говорят, что у этой гордой царицы независимый нрав. Я, без сомнения, буду принужден пожертвовать ради нее Счастливой Звездой, моей любимой персиянкой, которую люблю до безумия; но я готов на все, чтоб угодить моей царственной невесте.
«Клянусь! — подумал Бюсси. — Если Урваси настолько любит меня, чтобы пренебречь троном Декана, то ты ее никогда не увидишь, хотя бы мне пришлось раздробить череп, который я украсил этой короной!»
Черные зрачки Салабета исподтишка наблюдали за Бюсси.
«В эту минуту он думает о моей смерти», — говорил он сам себе.
Потом он заговорил мягким и спокойным голосом:
— Благодаря твоей храбрости мое государство наслаждается миром; все восстания усмирены; следовательно, нам не грозит никакая опасность, и мы можем быть покойны в твое отсутствие. Великий визирь и Кержан будут вести дела по твоим указаниям и уведомлять тебя обо всем. Герольды отправятся сегодня же вечером, чтобы возвестить о прибытии посланника, дабы он был принят с подобающими ему почестями. Я же распоряжусь, чтобы твоя свита, которая должна быть великолепна, быстро собралась в путь. Посланник — это тот же царь, и даже больше, потому что это сам Бюсси, который выше царя.
Салабет встал. Страшно бледный, маркиз молча поклонился.
— Я не сказал тебе, что посылаю тебя в Бангалор.
— Я слуга царя, — пробормотал Бюсси.
Он помог принцу надеть каску и застегнуть ему портупею, усыпанную драгоценными камнями, от которой засверкали граненые стены. Потом он проводил его по залам и галереям до наружных ворот.
Прежде чем расстаться с ним, царь положил руки на плечи Бюсси и еще раз посмотрел на него долгим, невыразимо печальным взглядом; глаза его как бы подернулись слезами. Но маркиз, мучимый ревностью, не заметил их.
Наконец Салабет-Синг обнял его и, вздохнув, сел на лошадь. Бюсси держал ему золотое стремя.
Глава XXVI
ПОСЛАННИК
Урваси лишилась сознания, когда герольды, трубя в трубы, возвестили, что посланник царя Декана находится на пути к Бангалору.
Она лежала, как мертвая, в своей комнате с жемчужными шторами, вытянувшись на подушках, подобно алебастровой статуе, опрокинутой с пьедестала.
Ее служанки не могли вызвать ее к жизни и с нетерпением ждали мусульманского доктора, за которым побежал паж.
Лила приподняла голову царицы, чтобы снять все украшения и распустить тяжелые волосы, которые рассыпались душистой волной Мангала, став на колени по другую сторону, расстегивала золотой корсаж и снимала опаловое ожерелье, которое давило грудь.
— Увы! Неужели она умерла? — сказала она. — Она бела, как жасмин, а губы ее бесцветны.
— Не произноси роковых слов! — воскликнула Лида. — Наше горе и так велико.
— Неужели такое несчастье выйти замуж за принца, который, говорят, очарователен, и стать самой могущественной царицей Индостана?
— Конечно, если для этого нужно лишиться свободы и стать рабой мужчины.
— Разве падишах Жеган-Гюир не был рабом Нур-Жеганы?
— Это была мусульманка, да к тому же Свет Мира не была рождена царицей. Но в конце концов, может быть, наша госпожа лишилась сознания от радости. Придет ли наконец этот Абу-аль-Гассан? — нетерпеливо прибавила она.
— Вот он! — сказал, входя, запыхавшийся доктор. — Я бежал, но дворец велик.
Одним движением он удалил перепуганных женщин, которые толпились в комнате, и оставил только двух принцесс.
Он положил несколько подушек за спину все еще неподвижной царицы, потом открыл маленький ящичек, выложенный мозаикой из слоновой кости, в котором заключались широкие и плоские драгоценные камни.
Затем, по способу Аль-Тейфаши, который знал тайные свойства камней, он положил на грудь Урваси рубин, чтоб возбудить деятельность ее сердца; ее стан он опоясал бриллиантовой нитью, чтобы предупредить страдания желудка; на лоб он положил большой изумруд, который должен был успокоить нервное возбуждение, и бусы горного хрусталя, которые обладают способностью отгонять дурные сновидения. Потом он несколько раз приложил к ее векам бирюзу конической формы: нежное прикосновение этого камня было полезно для зрения.
Спустя несколько минут царица пришла в себя.
— Ах, слава драгоценным камням! — воскликнула Мангала. — Они украшают нас и излечивают!
— Что это? Слабость? Жара, не правда ли? — спросила Урваси, томно глядя кругом.
Но царица сжала руку Лилы в знак того, что она вспомнила все.
— Тебе нужно отдохнуть, украшение мира! — сказал доктор, предлагая ей выпить из золотого кубка несколько глотков эликсира. — Выпей это и постарайся заснуть, чтоб окончательно выздороветь.
— Да, я очень устала и хочу спать. Помахай на меня веером, Лила.
Лила пошла за веером из перьев и сделала знак Абу-аль-Гассану, чтобы он увел Мангалу.
— Если милостивой принцессе будет угодно последовать за мной, — сказал он, кланяясь последней, — я дам ей еще несколько наставлений, чтобы окончательно вылечить нашу возлюбленную царицу.
Мангала, видя, что Урваси засыпает, без сожаления последовала за доктором. Едва она удалилась, царица поднялась; глаза ее лихорадочно блестели.
— Лила, ведь это не сон? Царский посланник должен приехать?
— Увы! Это несомненно.
— Ну, так пусть он нас не найдет здесь. Если ты любишь меня, следуй за мной: я хочу убежать и спрятаться в лесу.
— В лесу! — с ужасом вскричала Лила. — Как! Ты предпочитаешь сделаться жертвой хищных зверей, нежели стать женой молодого и могущественного царя? Бедный мой друг! Я думала, что ты примирилась с этим неизбежным несчастьем.
— Это было так, но теперь этого нет, — нервно сказала царица. — Это было бы невозможной пыткой в данное время.
— Почему же теперь это более невозможно, чем прежде? Ведь твое сердце непроницаемо, как алмаз, и осталось таким же холодным, как он.
— Мое сердце! Кто может знать, какой яд сжигает его? — сказала Урваси, нахмурив брови.
— Я, я знаю! — воскликнула Лила. — А, злая! Зачем ты так долго скрывала от меня то, что я знала раньше тебя?
— Как! Что ты знаешь?
Она схватила принцессу за руки, остановив на ней взгляд, полный тоски и гнева.
— Любовь нельзя спрятать, хотя бы она скрывалась за сотней покровов.
— В таком случае, смерть — мое единственное прибежище, если я не могла сохранить в тайне такой позор! — воскликнула царица.
— Как ты жестока ко мне, которая страдает тем же недугом. Но я горжусь моими страданиями, — сказала Лила. — Однако как же это возможно, чтоб тебя могла унизить любовь к человеку, пришедшему из далеких стран, в несколько лет наполнившему Индостан своей славой и провозгласившему твоего жениха царем?
— К неверному!
— Ах, царица! — вскричала Лила. — Ругунат-Дат открыл мне тайну браминов. Он сказал мне слова посвящения, которые гуру говорит шепотом только самым ученым; и если бы я не боялась нарушить клятву…
— Скажи мне эти слова, я хочу знать их.
— Ну хорошо, вот они: «Подобно Сурьи, который, под различными именами, есть дневное светило мира, которое зовут Брамой, Ормуздом или Аллахом, так и Он — везде Он».
— Я боюсь углубляться в смысл этого богохульства, — сказала Урваси, отвернувшись.
— Наоборот, это — божественная истина.
— Это не мешает мне отчаиваться, что я не сумела защититься от такой пагубной любви. Ах, Лила! Чего я ни делала, чтобы уничтожить это коварное чувство, которому наше сердце служит колыбелью! Но я подобна матери, которая решилась убить своего ребенка. Она хочет задушить его и в то же время ласкает его; она думает, что он умер, а он улыбается ей!
— Дай теперь волю твоему чувству! — сказала Лила, привлекая ее к себе. — Не сопротивляйся больше потоку, который разбивает все препятствия; он приведет тебя, быть может, к счастью.
— Ах, не говори так в тот день, когда несчастье уже приближается. Что делать, увы! Как избежать неизбежного?
— Призовем на помощь Раму. Может быть, герой спасет нас.
— Предупредить его, значит произнести смертный приговор царю, потому что тот, имя которого хранится в нашем сердце, сказал мне гневным голосом в ту страшную ночь на Острове Молчания, что он убьет всякого, кто приблизится ко мне. Ну, хорошо! — прибавила царица, вставая с решительным видом. — Я не приму этого посланника. Я объявляю войну субобу. Мы будем разбиты, мое царство исчезнет, пускай! Мы умрем героинями.
— Умоляю тебя, не будем торопиться. Мы всегда успеем умереть. Может быть, есть другие средства для нашего спасения. Но какая я сумасшедшая! — спохватилась Лила. — Я так перепугалась, когда ты лишилась чувств, что забыла про письмо, которое мне передал гонец, прибывший вместе с герольдами.
— Что же говорится в этом письме?
— Я еще не распечатала его.
Она быстро вынула письмо из-за пояса и сломала печать. Едва начав читать, она испустила легкий крик.
— Угадай, кто посланник!
— Он? — вскочила царица.
— Он! По крайней мере, в нашем несчастье есть немного радости. Послушай, что он пишет; он, кажется, очень печален: «Я принял на себя это горестное посольство; я не мог устоять против желания быть принятым в качестве посланника в том дворце, где меня когда-то приняли, как парию. Но главным образом я хочу увидеть ее, подольше и, без сомнения, в последний раз! Несмотря на мои угрозы, я не могу требовать, чтобы она отказалась от самого могущественного трона в Индостане. Пусть она поступит по своему желанию. Я сумею избежать отчаяния».
Царица взяла письмо и несколько раз перечитала его.
— Он, значит, не знает, что, благодаря ему, эта свадьба невозможна?
— Ты отлично скрыла от него, что перестала его ненавидеть.
Урваси покачала головой.
— Не достаточно, увы!
— Так мы объявляем войну царю Декана? — спросила Лила, улыбаясь.
— Не сейчас.
— А мы примем посланника?
— Злая! — вскричала Урваси, которая не могла удержаться от улыбки. — Разве мы не должны изгладить из его памяти оскорбительный прием, который устроили ему в первый раз и за который мне, право, стыдно сегодня. Пойдем, соберем совет, чтобы приготовить встречу, достойную царя.
Тем временем караван подвигался вперед, но слишком медленно, по мнению посланника, горе которого утихало по мере приближения к Бангалору.
Он ехал на великолепно оседланном Ганезе, в башенке с двойным куполом, который поддерживался колонками из чеканного золота. Его сопровождала целая толпа всадников, слонов и верблюдов. Народ сбегался на его пути, чтобы посмотреть на него и приветствовать его. Его дорогу усыпали цветами, пальмами и сандаловым порошком.
В его свите находились священники, астрологи, баядерки, умары, во главе которых стоял Арслан-Хан, ставший верным другом маркиза. Каждые четверть часа звенели царские цимбалы, чередуясь с песнями бардов, которые, играя на арфах, воспевали хвалы подвигам славного путешественника или же древние воинственные сказания.
Бюсси был один с Наиком в своей башенке. Он настоял на том, чтобы пария участвовал в этой поездке и возвратился во дворец, где он занимал такое низкое место.
Наик стал теперь важной особой, и все искали его покровительства. Его официальный титул был: первый писец мелкого письма; как военный, он был лейтенантом. Но он был кое-чем повыше этого: любимец, свой человек настоящего повелителя. Даже весьма гордые вельможи очень низко кланялись первому писцу; но он нисколько не возгордился от этого и служил им, чем мог.
— Помнишь, Наик, сарай, куда меня запрятали, как поганое животное?
— Ах, господин мой! Там-то я и начал жить! Я тебя постоянно вижу лежащим на зеленых ветвях, когда тебя принесли раненым. Кто бы мог сказать тогда, что это входил мой Бог?
— Ты в тот же вечер сказал мне, что царица — невеста; и у меня уже тогда сжалось сердце почти с такой же тоской, какая охватывает меня сегодня, когда я должен от имени жениха возвестить той, которая составляет теперь для меня всю жизнь, что время свадьбы пришло.
— Если бы царь знал, как ты страдаешь, он, конечно, ничего не пожалел бы, чтобы облегчить тебя. Почему не сказать ему всю правду?
— Разве я мог отнять у Урваси такой великолепный венец? Это было бы страшное себялюбие.
— Раз она тебя любит, этот венец будет для нее невыносим, и ее отчаяние должно быть равносильно твоему.
— Любит ли она меня? Теперь мне кажется, что я был слишком тщеславен, поверив этому. А этому так приятно было верить! Но какие же у меня доказательства? Выражение сострадания к человеку, которого она толкала на смерть, немного сожаления о своей жестокости и минутное томление в ее прекрасном взгляде, устремленном на меня. Этого достаточно, чтобы навсегда свести меня с ума, но слишком мало для того, чтобы я мог требовать нарушения старинных обетов и отказа от престола.
— А все, что тебе говорила принцесса Лила?
— Это одни предположения. Урваси никогда ни в чем сама не признавалась.
— Что такое случилось? Шествие остановилось.
Они были у ворот Бангалора, и посланные царицы выступили навстречу посланнику.
Показался город, башни и зубцы которого вырисовывались на небе. Шествие подвигалось.
Под высоким сводом ворот будто дралась стая голубей: так цеплялись и переплетались пучки перьев, украшавшие древка знамен. Выйдя из ворот, они как будто разлетелись, и знамена распустились свободно, колыхаясь, подобно лазоревым и золотым волнам. Через эти открытые ворота город как бы приветствовал желанного гостя внезапно раздавшейся музыкой.
Показались слоны, выкрашенные киноварью. Их широкие лбы, украшенные расшитыми повязками, возвышались над толпой, а на их спинах качались белые зонтики. Затем проскакали всадники легким и грациозным галопом; поднявшаяся вокруг них пыль казалась розовым облаком при свете заходящего солнца.
Со стен смотрел народ.
Французский отряд, сопровождавший посланника, салютовал из мушкетов; отряды встретились и вместе вошли в город.
Скороходы в коротких рубашках с высокими палками с серебряными и золотыми набалдашниками, расталкивали народ, который запрудил все улицы. Не было ни одного жителя без венка из роз или жасминов, ни одного, у кого не было бы корзинки, переполненной самыми прекрасными цветами. Бангалор предстал в виде букета, и воздух был пропитан благоуханием.
Путники вступили на широкий мост, откуда открывался вид на город, с его большими белыми ступенями, спускавшимися к воде, с его террасами, украшенными скульптурой, садами и высокими пагодами с черепичными крышами, похожими на ульи.
Наконец достигли дворца, проехали почетные ворота; трубачи трубили, как при въезде царицы.
— Это посланнику она делает такой прием или тому, представителем кого он служит? — спрашивал себя Бюсси.
Он испытывал странные чувства радости и печали: счастье настоящей минуты, страх за будущее, сомнение, сменявшееся надеждой, острое волнение при мысли о свидании с возлюбленной — чувство, которое вскоре исключительно завладело им и возобладало над всеми другими.
Он спустился со спины Ганезы. Перед ним склонялись особы с величественной осанкой, приветствуя его прибытие в дивных, напыщенных фразах. Но он был так смущен, что не обращал на это внимания; и Наик, как бы в качестве переводчика отвечал за него в том же духе, пересыпая свои слова священными изречениями.
По этикету первый министр должен был принять посланника на пороге дворца; который бы предназначен для него. Эта обязанность выпала на долю Панх-Анана. Бюсси, предупрежденный Наиком, вздрогнул, очутившись лицом к лицу со своим смертельным врагом.
Удивление брамина было еще сильнее. Он отшатнулся, вытаращив глаза и расставив руки, и только наполовину сдержал крик ужаса. Он видел молодого человека украдкой, во время ужасного побоища в комнате из слоновой кости; но тогда через минуту он убежал, испуганный силой своего врага и боясь попасться под его удары.
— Ну, что ж, отец мой! — сказал теперь Бюсси со смехом. — Или ты думаешь, что у западного варвара есть яд, как у кобры? Или ты воображаешь, что перед тобой призрак?
Панх-Анан, не будучи в состоянии оправиться, пробормотал что-то и, окончательно растерявшись, юркнул в толпу придворных. Тогда, кланяясь, подошло другое лицо, со сложенными на груди руками.
— Я рад видеть тебя, знаменитый гость, — сказал он. — Буду ли я иметь счастье быть узнанным тобой?
Он смотрел на Бюсси с открытым видом и ласковой улыбкой. Это был доктор Абу-аль-Гассан.
— Конечно, я тебя узнаю! — вскричал маркиз, протягивая ему руку. — Неблагодарность кажется мне самым отвратительным недостатком, и я должен тебя поблагодарить.
— Угодно ли тебе последовать за мной? — сказал Абу-аль-Гассан. — Я беру на себя исполнение обязанностей министра, так как он скрылся, как будто увидал Сиву, вооруженного трезубцем.
Потом он тихо прибавил:
— Принцесса Лила наверху; она желала приветствовать тебя на пороге твоих покоев.
Бюсси ускорил шаг. Они пошли по галерее, отлого подымавшейся вверх; пол ее был усыпан песком из золота, алоэ и сандала; она напоминала ему ту, по которой он поднимался во дворец Молчания.
К нему навстречу шла улыбающаяся Лила. Она держала, прижав к стану, корзинку, наполненную плодами.
— Во имя царицы Бангалора, приветствую тебя! — сказала она, опускаясь на одно колено, прежде чем он мог помешать ей. — Дворец озарился твоим присутствием, как озаряется небо, когда Сурья вступает туда. Прими эти плоды, которые сама государыня нарвала для тебя по утренней росе; прими также бетель и, как подарок в честь твоего приезда, это опаловое ожерелье, сохранившее еще теплоту от нежного прикосновения к царской груди.
Она взяла ларчик из рук пажа и поднялась, чтобы надеть ожерелье на шею маркиза, причем шепнула ему с лукавым видом:
— Я надеюсь, что на этот раз ты не оттолкнешь драгоценности, а также ту, которая тебе их подносит.
Он успокоил ее улыбкой, но она приложила палец к губам, чтобы дать ему понять, что он не должен узнавать ее и должен держаться важно и холодно.
Одна баядерка принесла золотую кадильницу, а другая полила горящие угли благовониями, которые тотчас же закурились. Принцесса кадила несколько времени, затем, пока звучали тамбурины и женщины пели торжественный гимн, она несколько раз обошла вокруг молодого человека, с поднятыми вверх ладонями, прикладывая ко лбу большие пальцы.
Бюсси жил в воображаемом Индостане; он вспомнил Рамайяну и с гордостью сознавал, что ему известно имя воздаваемых ему почестей «прадакшина».
Потом они вошли в покои, и, чтобы на минуту отдалиться от толпы рабов и пажей, Лила провела его на террасу, откуда видны были многие здания дворца.
— Наконец-то! Дай мне твою руку, дорогая сестра, — вскричал Бюсси. — Все обряды исполнены относительно посланника, но брат, в свою очередь, требует сердечного приветствия.
— Будем осторожны! — сказала она, позволяя ему тихонько поцеловать руку. — Не забывай, что мы видимся в первый раз.
— Знает ли царица, кто посол субоба?
— Она знает, и это, я думаю, смягчает горе, которое причиняет ей цель посольства.
— Она действительно сильно огорчена?
— Мысль потерять свою независимость ей ненавистна, и, если ее сердце несвободно, она должна страшиться, как смерти, этого союза.
— Ах, Лила! Твой нежный голос всегда утешает меня. Ты постоянно стараешься успокоить мою тоску. Но пусть! На этот раз счастье жить много дней около нее, быть в ее дворце, видеть и слышать ее так велико, что я не хочу думать об отчаянии, которое наступит потом и будет концом всему.
— Я вполне разделяю эту радость, это торжество твоего чествования, как равного, — сказала Лила. — Твоя слава уничтожила все предрассудки! Ах, ты можешь гордиться, потому что победа далась не легко!
— Она также и твое дело, моя великодушная союзница, и я чувствую больше благодарности, чем гордости.
— Урваси наконец призналась, что ей стыдно за свой первый прием, и это должно заставить тебя забыть его, — сказала принцесса. — Но я не могу дальше оставаться с тобой. Имей терпенье! Завтра будет торжественный прием посланника, а потом пойдут празднества, во время которых ты будешь свободно видеться с ней.
Она протянула руку по направлению к одному месту дворца.
— Наблюдай за той террасой, над которой развеваются флаги. Там появится царица для вечерней молитвы, и ты можешь увидеть ее. Она последняя прощается с заходящим солнцем.
— Как ты добра, что предупредила меня! — сказал он, пожав ей руку. — Какое великолепное сокровище — сердце, подобное твоему!
Лила взглянула на него печальным взором и подавила вздох.
— Пойдем, пора вернуться! — сказала она.
Он последовал за ней, с сожалением оставляя эту террасу и бросив тревожный взгляд на солнце, которое уже касалось горизонта.
Залы еще были полны царедворцев и неподвижных пажей; они сложили на груди руки и как будто чего-то ждали.
— Господин! — сказала принцесса, снова принимая важный тон. — Ты здесь хозяин, приказывай! Твои желания будут для нас милостью. Мы твои рабы и рабы твоей свиты.
— Отпусти их с любезностью, — прибавила она тихо. — Иначе они никогда не уйдут.
Как только Бюсси остался один, а Наик занялся своим делом, он вернулся на террасу и, опершись о лепные перила, принялся наблюдать.
Толпа, весело болтая, медленно выходила из дворов дворца, которые она наполнила вслед за свитой. Женщины, более любопытные, зашли дальше всех и теперь уходили немного смущенные, общипывая свои гирлянды. У многих щеки были раскрашены желтой краской, «горочаной», которую находят в голове коровы. Женщины красиво закутывались в свои полотняные, шелковые или кисейные шали. Последние состояли из большого куска цельной материи, который обертывается вокруг тела, закрывая одно плечо и обхватывая талию, а второй конец иногда служит покрывалом. В сильно проткнутых ушах были продеты золотые кольца; «мукути», вдетый в ноздри, обрамлял их рот, а иногда его тонкое кольцо, украшенное жемчугом, доходило до груди. На щиколотках ног и на кушаке звенели бубенчики; у всех губы были выкрашены бетелем; на лбу были значки, обозначавшие религиозную секту, к которой женщины принадлежали: тройной полумесяц, выкрашенный шафранной краской, обозначал поклонниц Сивы; две желтые полосы, изображавшие Ганг, — поклонниц Вишну. Вместо мукути у последних в ноздри была продета цепочка из раковин.
Много духовных особ пробиралось мимо медленными шагами с важным видом, сопровождаемые поклонами своих приверженцев и презрительным взглядом прочих. Чтецы Пуран, в шапочках, посыпанных сандаловым порошком, несли под мышкой священные книги, завернутые в коврики, которые они расстилали во время чтения на перекрестках, где собирались слушатели. Другие, посыпанные пеплом, со знаком Сивы на шее и с собранными в пучок волосами, несли в руках, вместо чаши, полчерепа. Некоторые из них, с длинными бородами, были одеты в желтые рубашки, сверх которых были накинуты шкуры черных антилоп. Многие опирались на высокие бамбуковые палки или потрясали луками, украшенными павлиньими перьями и колокольчиками.
Потом наступило молчание; народ удалился; слышался только глухой шум барабана, в который должны были бить день и ночь в знак празднества, да крики рабов, распрягавших слонов.
Маркиз пожирал глазами картину, расстилавшуюся у его ног.
Он ежеминутно бросал взгляды на террасу, где должна была появиться царица, но там только копошилось голубиное население.
Он старался понять расположение дворца, его странные запутанные низкие здания из розового песчаника или белого мрамора, с крышами в виде террас с легкими перилами, его многочисленные дворы, сады, галереи, его изящные триумфальные ворота, высокие зубчатые башни и лепные каменные крыши в виде пирамиды или яйца.
Неподалеку блестел пруд, как клочок неба, и со всех сторон его окружали мраморные ступени.
Это был священный пруд, потому что с наступлением заката солнца там появились брамины. Сняв свои белые одежды, они спустились по ступеням, чтобы совершить омовение и исполнить вечерний «сандий». Бюсси, улыбаясь, перевесился, чтобы увидеть эти нелепости, и искал между ними глазами Панх-Анана.
Окончив молитвы, они надели новые льняные одежды безукоризненной белизны и удалились.
Тогда наступила чудная тишина. Дневной блеск мало-помалу погас в прозрачной свежести; зелень приняла бархатистый оттенок; резкость белизны стушевалась; воздух застыл и казался чистым кристаллом; неподвижный пруд представлялся лазуревой бездной; и, подобно луку Кама-Дэвы, в небе засеребрился месяц.
Бюсси чувствовал, как волнение его росло; теперь он был один; она должна была появиться.
Вдруг свист от внезапного хлопанья тысячи крыльев нарушил тишину, и терраса, на которую он смотрел, скрылась за белым облаком голубей. Когда облако рассеялось, показалась Урваси, вся окутанная золотым покрывалом.
У молодого человека вырвался крик радости, вся душа его рвалась к ней. Ее присутствие всегда было для него как бы магической формулой, внезапно нарушавшей равновесие жизни, заставляя ее бить ключом и в течение минут переживать года.
Царица подошла со стороны молодого человека к краю террасы и, казалось, смотрела на него. Он поднес к губам опаловое ожерелье, которое она ему подарила. Тогда она подняла полный кубок, который несла, протянула его к нему и совершила возлияние вина солнцу за посланника.
Успокоенные голуби снова вернулись и унизали перила балюстрады, подобно жемчужной нити. В одном углу стояла кучка женщин с веерами из перьев и музыкальными инструментами.
Урваси отошла назад и откинула вуаль. Раздались звуки арфы; и прелестным, чистым, звонким голосом она пропела гимн. Природа как бы замерла и прекратила свой шум, чтобы лучше слышать ее.
Она пела не обычную молитву, прощанье с заходящим солнцем; нет, она выбрала одну оду из Гариванзы, ту, где Бгавати, невеста сына Кришны, вздыхает по возлюбленному.
Маркиз, склонившись к ней, упивался ее словами и терял голову от слышанного.
Голос замер, арфы еще несколько минут звучали одни, а Урваси исчезла в полутени, которая спустилась, как газовое покрывало, на дворец.
Бюсси стоял облокотившись и охватив голову руками. Он дрожал от сильного волнения. Было ли это пение признанием? Было ли оно обращено к нему, или же здесь намекалось на царственного жениха?
— Увы! — вскричал он. — В самое высшее опьянение счастьем для меня всегда закрадывается горький яд сомнения.
Наик подошел незаметно.
— Нужно войти в комнату, господин, — сказал он. — Падает ночная роса, обильная, как дождь. Она полезна для растений, но пагубна для людей. И потом, все удивлены твоим отсутствием, и весь двор ждет тебя, чтобы председательствовать за ужином.
— Иду, Наик, — сказал Бюсси. — Но какой у меня будет вид? Меня бьет лихорадка, я не могу совладать с моим волнением. Постарайся разыскать мусульманского доктора; попроси у него для меня снотворного питья, чтоб я мог забыться до завтрашнего дня. Иначе я сойду с ума.
Глава XXVII
ПРИЯВАТА ДЭВАЯНИ ИЗ ЛУННОЙ ДИНАСТИИ
Тронная зала была обширна, как храм, продолговатая С каждой стороны, вдоль стены, тянулся ряд четырехугольных колонн, на которых стояли статуи, изображавшие всех царей Бангалора, которые происходили из Лунной династии. Выпуклые знаки зодиака украшали потолок, и Мегим, овен, нагнув голову, держал на своих рогах большую золотую люстру с сотней свечей. Подножия статуй и промежутки между ними были убраны голубой шелковой материей, затканной серебром, к которой прислонялись воины и толпа придворных.
В глубине залы четыре белых мраморных слона поддерживали своими поднятыми хоботами пирамидальный балдахин над троном. Трон, слоновые ножки которого утопали в толстых коврах, состоял из широкого сиденья без спинки; оно было покрыто голубыми бархатными подушками, вышитыми золотом и мелким жемчугом. За ним находился большой щит, изображавший хвост павлина, сделанный из изумрудов и сапфиров. Посредством искусного расположения, в часы аудиенций, солнце ударяло в высокую дверь против трона; и когда она растворялась, снопы солнечных лучей падали на монарха, зажигая драгоценные камни его убора и окружая сверхъестественным сиянием царское величество.
Когда обе половинки двери распахнулись перед Бюсси, а четыре герольда выкрикивали его имена и звуки музыки и труб приветствовали его, он остановился на минуту на пороге, ослепленный солнцем Вся зала исчезала перед блеском трона, все мелочи которого бросались в глаза.
Царица сидела со скрещенными ногами, подобно богине, и одетая, как она. На голове у нее была сквозная золотая шапочка, окаймленная венцом на подобие листьев, который со лба спускался за уши и кончался немного выше плеч, в виде извивающейся змеи. Стан ее был обнажен, но окутан сетью из переливающихся драгоценных камней. Пояс, в виде золотых пальмовых листьев вперемешку с жемчужными кистями, ниспадал на узкую юбку из шелковистой материи небесно-голубого цвета, всю покрытую бриллиантовой росой. Она держала скипетр, который оканчивался цветком лотоса, и казалась такой лучезарной, что сверкавший за нею сноп сапфиров и изумрудов представлял относительно темный фон.
Предшествуемый церемониймейстерами, которые опирались на высокие золотые трости, посланник подвигался в сопровождении французских офицеров, умаров и рабов, которые несли подарки царя. Дверь снова закрылась, и ослепительное видение потускнело, стало более мягким. Бюсси искал прекрасный обожаемый взгляд: он встретился с ним — и его горячие живительные лучи затемнили весь этот безжизненный блеск.
Кроме царицы, сидевшей одиноко на возвышении, все присутствующие стояли. Слева находились принцессы в самых дорогих уборах, астрологи, кудесники; справа — брамины белые и в белых одеждах; затем следовали по обеим сторонам залы знать, военачальники, придворные поэты, чиновники.
В нескольких шагах впереди трона сидели на цепи, прикрепленной к кольцам в полу, три тигра с ошейниками из драгоценных камней. Они казались пресыщенными и дремали, положив морды на протянутые лапы и жмуря свои золотые глаза.
Для посланника, как представителя царя, который не должен стоять, было устроено сиденье с гербом, убранным цветами. С одной стороны караул держал знамя Декана, с другой — развевалось французское знамя в руках гренадера. Но прежде чем дойти до своего места, посланник должен был воздать почести царице, преклонившись перед ней так чтобы лоб его коснулся ее ног, потом вручил ей послание субоба, которое было запечатано и заперто в ящичке: принц, в качестве жениха, хотел, чтобы оно было тайное.
Бюсси приблизился, охваченный религиозным волнением, воображая себя, действительно, на ступенях алтаря, чтобы поклониться божеству. Вместо лба, он почти невольно коснулся губами этой хорошенькой обнаженной ножки, украшенной кольцами, с красной пяткой, выкрашенной соком мендхи и переплетенной золотой цепочкой.
Урваси вздохнула и сказала дрожащим голосом:
— Слава посланнику! Да будет счастлив священный гость, который нашел приют под нашей кровлей! Да проживет он под ней многие дни, и пусть дворец покажется ему достойным!
Бюсси созерцал ее. Находясь совсем близко от нее, вдыхая ее благоухание, он вообразил, что они были одни, как бывают в глубине святилища священник со своим богом. Погрузившись в восторг, он забыл всю эту толпу, посольство, церемонию и весь мир. Встревоженные хаджибы заволновались, думая, что молодой иностранец забыл выученное наизусть приветствие. Лила также испугалась; но она была слишком далеко, чтобы предупредить своего друга. Царица, которая забылась так же, как и он, внезапно очнулась, сознавая опасность, и проговорила, почти не шевеля губами:
— Говори, господин, не выдавай себя.
Мощным усилием он овладел собой и снова обрел холодное достоинство. По зале раздался его твердый и ясный голос:
— Украшение Мира, могущественная царица! Я целую землю, которую ты попираешь ногами, и пыль, которую освещают твои шаги. Я пришел поклониться тебе от имени царя Декана, Божественной Тени, Опоры Мира, который попирает коронованные головы и которого всемогущий Могол называет своим возлюбленным сыном. Я пришел от Салабет-Синга, который гордится быть твоим рабом и посылает тебе это тайное письмо, запечатанное его царской печатью, которого никто не должен читать прежде тебя.
Подошел паж, держа на материи, сложенной вчетверо, ящичек, выложенной рубинами. Посланник открыл его, вынул письмо, написанное на белом атласе, и, приложив его ко лбу, подал царице. Урваси, держа письмо кончиками пальцев, устремила на Бюсси взгляд, полный тоски, который ясно говорил ему:
— Так это ты приносишь мне приговор, который кладет конец дням моего счастья и разлучает нас навеки?
То, что отвечали ей голубые глаза с выражением непреоборимой силы и безграничной преданности, царица поняла так хорошо, что испугалась. Склонившись над письмом, она медлила распечатывать его, спрашивая себя, позволяет ли ей ответственность и достоинство царицы, ради своего спасения, спустить с цепи этого взбешенного льва, который, без всякого сомнения, по одному ее слову разгромит Декан и разрушит свое произведение, уничтожив созданного им царя.
«Его взгляд сказал мне это, — думала она в то время, как он шел к своему месту. — Он пришел, чтобы защитить меня, повиноваться мне и спасти меня, если я откажусь сдержать священный брачный обет».
Она вздохнула так, что ожерелье и драгоценные камни зашевелились на ее груди, и развернула письмо. Тотчас глухо заиграла музыка, чтобы нарушить молчание, и баядерки, распустив свои шарфы, начали исполнять грациозный, медленный танец.
Бюсси удивлялся смущению, которое овладевало царицей по мере того, как она читала. Может быть, только он почувствовал это, потому что на вид она сохраняла невозмутимость богини; но он видел, как дрожали ее длинные ресницы, как ее дыхание учащалось, как нежная розовая краска разливалась по ее разгоряченному, бледному лицу. Она прочла письмо, не отрываясь, потом перечла его и, не поднимая вполне век, подведенных сурьмой, бросила на посланника такой блестящий взгляд, что ему показалось, будто луч солнца сверкнул между двух облаков. Она подозвала знаком одну из женщин, которая приняла из ее рук царское послание и передала его пажу, вместе с приказанием царицы. Паж подошел к Бюсси и, преклонив колено, подал ему письмо.
— Царица желает, чтобы ты прочел про себя, — сказал он.
Молодой человек взял письмо и заметил, что оно целиком было написано царской рукой. Зачем он должен был прочесть его? Его душило сильное волнение: строки казались ему огненными; и несмотря на нетерпение узнать содержание, он должен был на время закрыть глаза, чтобы снова обрести ясность ума.
Послание гласило:
«Хвала Аллаху!
Венцу Мира, величайшей, знаменитейшей, храбрейшей и счастливейшей царице Бангалора Прияват-Дэваяни-Урваси из божественной славнейшей Лунной династии — Сайэ-Магомет-Хан, Асеф Даула, Багадур Салабет-Синг, царь Декана.
Да хранит тебя всемогущий Бог в полном здравии.
О, царица! Говорят, ты так ослепительно хороша, что при твоем появлении обезумевшие звезды покидают ночное светило, чтобы следовать за тобой. Я касаюсь лбом твоих ног и объявляю себя твоим рабом.
Всеблагому Аллаху угодно было, чтобы я узнал через твоего великого визиря, почтеннейшего Ругунат-Дата Пандита, что свобода, которой ты пользуешься в своем Бангалорском царстве, для тебя дороже жизни, что замужество покажется тебе тяжелой цепью, а гарем ужасной тюрьмой. Открывая мне твои чувства, визирь сделал похвальный поступок, отстранив несчастье и заслужив мою благодарность.
Знай, первая из цариц, что мое самое дорогое желание — видеть тебя счастливой и иметь возможность, не умерев, принести тебе в жертву мое счастье. Вот почему я избегаю свидания с тобой, чтобы мои глаза при виде твоей красоты не заставили молчать мой ум. Итак, я могу тебе сказать опять, что ты свободна, что твоя воля для меня священнее, чем данные за нас обещания, когда мы были еще слабыми птенчиками и щебетали в гнезде.
Я не хочу хвалиться своей жертвой и преувеличивать ее в твоих глазах. Несмотря на свою молодость и неопытность, я буду говорить с тобой, как убеленный сединами мудрости, и чтобы совсем избавить тебя от угрызений совести по поводу разрыва старинных клятв, я докажу тебе, что то, что делает тебя счастливой, есть также благо для наших подданных.
Когда нас помолвили, ничто не подавало повода предвидеть, что жестокая смерть лишит тебя братьев и всех мужских родственников и что корона будет когда-нибудь отягощать твое нежное чело. С другой стороны, препятствия, отделявшие меня от трона, который я занимаю теперь с таким торжеством, тоже казались непреодолимыми. Теперь, вместо беззаботных и свободных обрученных, два монарха стоят друг перед другом, а у них иные законы. Прежде чем думать о личном счастье, они должны думать о счастье своего народа.
Разве разум не говорит нам, что Бангалор, который так благоденствует при твоем царствовании, потеряет все вместе с тобой? Декан также потерял бы, так как твоя честность относительно трона моих предшественников, твоя точность в исполнении твоих обязанностей встречаются у очень немногих ленных князей. Губернатор, который за твоим отсутствием будет управлять государством, без сомнения, будет иметь в виду только свою выгоду, и его жадность ляжет тяжелым ярмом, вызовет волнение и беспорядки и породит войну и развалины там, где процветают мир и богатство.
Я отдаю тебе на суд эти соображения, которые мне высказывал мой визирь. Но ты одна решишь; не оскорбляй меня сомнением в том, что если ошиблись в твоих чувствах или они изменились, то величайшей честью для меня будет разделить мой трон с тобой, что бы ни случилось.
Я не тороплю тебя с решением; объяви его моему возлюбленному брату Бюсси Багадуру Газамфер-Сингу, как бы мне самому. Он передаст мне твою волю, которая одна будет для меня законом.
Прими милостиво скромные подношения, которые я кладу к подножию твоего трона. Среди них ты найдешь указ, утвержденный нашим отцом Моголом, по которому тебе возвращаются владения, простирающиеся от теперешних границ Бангалора до Восточных Гор.
Мой брат Газамфер говорил мне, то ты очень сожалеешь об этой части твоего государства, которой завоеватели лишили твоих предков; а я нахожу величайшее удовольствие в том, чтобы следовать советам моего славного брата. Он один, а не я, заслуживает твоей благодарности за это возвращение.
Дан в моем Аурангабадском дворце 10 числа месяца Рахеба, тысячу сто шестьдесят седьмого года геджры, в первый год моего царствования».
Во время чтения, как только посланник понял суть дела, порыв радости чуть не лишил его сознания. Он почувствовал, что сердце его переполнилось благодарностью к этому очаровательному царю, которого он так долго не знал; и он не сомневался ни минуты в том, что только из-за него, а не из-за выставленных политических доводов, Салабет принял такое решение.
«Но значит, он знает мою тайну? — подумал он. — Да, через Ругунат-Дата. Как мне это не пришло в голову?
Эта трогательная деликатность возвращения моим именем этого клочка государства — вполне достаточное для меня доказательство. Опьяненный ревностью, я ничего не угадывал. Ах, если бы я не был подле Урваси, я бы тотчас же уехал, чтобы броситься к ногам субоба и заставить его забыть мою несправедливость!»
Бюсси без устали перечитывал это блаженное письмо, которое переполняло счастьем все его существо; но испытывал лихорадочную радость, подобно человеку, который только что избегнул насильственной смерти. Один гаджиб подошел к Бюсси, кланяясь, и сказал ему, что царица ждет посланника для исполнения обряда биры, которым заканчивается аудиенция. Маркиз быстро встал и пошел к трону. Когда он приблизился к Урваси, взгляды, которыми они обменялись, пылали таким огнем, такой безграничной радостью, что они испугались и тотчас опустили веки, чтобы скрыть смысл своих взоров от толпы. Царица немного наклонилась, чтобы дать ему, по обычаю, листьев бетеля и налить ему на руки несколько капель розового настоя.
Пробужденные тигры стали потягиваться, ворча; Бюсси, не замечавший их, сделал жест удивления.
— Ты не узнаешь их? — спросила царица, улыбаясь. — Ты сделал их сиротами, убив их мать, чтобы спасти меня.
— Детеныши тигрицы!
— Разве можно было дать им погибнуть одним: ведь они не были еще способны совершить греха.
И так как он, казалось, хотел приблизиться к ним, она быстрым движением схватила молодого человека за руку, чтоб удержать его.
— Не трогай их! Иногда они добры, но обыкновенно коварны. Что, если они узнают убийцу своей матери и отомстят за нее!
— Так ты не желаешь больше моей смерти?
— Ах, не упрекай меня! — сказала она дрогнувшим голосом. — Ты, которому я обязана больше, чем жизнью! Иди, мы скоро опять увидимся.
Возвратившись в свой дворец, Бюсси, жаждавший остаться один, приказал Наику удалить всех и не допускать никого, кроме посланных царицы. Он принялся ходить по комнате с лихорадочным волнением, которое обеспокоило парию, потом бросился на диван.
— Ты страдаешь, господин? — спросил Наик, приближаясь.
— О нет! Но я не могу совладать со своими нервами и удержать слез. Черт возьми, мне в первый раз приходится плакать от радости! Она свободна! Наик, великодушие субоба освобождает меня от ужасного кошмара, который тяготил мою душу. Мне больше некого ненавидеть. И в сердце моем, переполненном любовью, остается только одна горечь — сожаление, что я раньше не знал сердца царя.
— Хвала всем богам! — вскричал Наик, целуя руку у своего господина — Я как будто предчувствовал то, что случится; но я не решался говорить про это, из опасения дать пищу обманчивой надежде. Ругунат-Дат не мог не предупредить царя о горе, которое он причиняет тебе, сам того не зная. Он слишком умен и добр, чтоб не желать услужить тебе и в то же время царице, своей ученице, склонность которой он хорошо знает. Но, умоляю тебя, господин, скрой теперь новую радость: тебе нужно бояться еще многих гадов, которые предательски, втихомолку могут повредить тебе.
— Чего же мне бояться под покровительством царицы?
— Остерегайся браминов, — сказал Наик. — Они хотят властвовать над царями; и если любовь восторжествовала над предубеждениями царицы, то они не отрекутся от своих предрассудков; и для них ты всегда будешь варваром, приближение которого оскверняет. Они сдерживают свою ненависть только из страха перед Моголом.
— Что мне за дело до этих бледных фанатиков! — вскричал Бюсси. — Она свободна, она любит меня! Весь остальной мир для меня ничтожнее мыльного пузыря.
Гериалы, которые бьют часы в медные тазы, только что возвестили третий час дня; послышались голоса поэтов, воспевавших ветерок, который начал освежать горячий воздух. Посланец царицы пригласил посланника придти к ней в сады, если он предпочитает ее общество зрелищу, на котором будет представлена борьба тигров, слонов и носорогов для развлечения гостей дворца.
Бюсси нашел царицу под тенью свежей аллеи амблисов, где она медленно прогуливалась среди своих женщин и своего двора, состоявшего в этот день преимущественно из мусульман. Он заметил, что царица была одета так же, как и в вечер их встречи на Острове Молчания. Венок из жасминов придерживал ее покрывало; на ней не было других драгоценностей, кроме жемчуга.
Когда маркиз был в нескольких шагах от Урваси, она повернулась наполовину и закрыла лицо покрывалом с изящной стыдливостью и скромностью, как бы выражая ему покорность. Потом она приблизилась к Бюсси, взяв Лилу и увлекая ее за собой.
— Да будет с посланником радость и торжество! — сказала она. — Нашел ли он покой под нашей скромной кровлей?
— Воздух этого дворца для меня подобен божественной амброзии, — сказал он. — И я счастлив, как бог.
Они немного опередили свиту, и царица сказала, понизив голос:
— Лиле одной известно послание царя; она знает, какое счастье ты приносишь с собой; но пусть это будет тайной. Я только завтра объявляю министрам на совете цель твоего посольства, не сказав им, однако, какой ответ я дам царю Декана, потому что он вызовет разочарование.
Бюсси вздрогнул от страха.
— Во время отсутствия Красы Мира, — живо сказала Лила, — Панх-Анан был предназначен управлять государством и сохранять власть до того дня, пока наследник…
— К чему говорить об этом? — нетерпеливо прервала царица. — Знатный посланник устал от всех этих вопросов. Займемся лучше концертом птиц и красотой цветов.
— Когда божественная музыка твоего голоса ласкает мой слух, — сказал Бюсси, — пение птиц кажется мне только фальшивым криком, и невозможно смотреть на цветы, когда можно созерцать твои губки.
— Ну, хорошо, так я замолчу, чтобы не вредить моим сладкогласным певцам, — сказала она, смеясь. — А ты быстро забудешь мои губы при виде цветника лотосов. Не огорчай меня своим невниманием к нему. Я сама велела устроить его.
— Это самый любимый из всех цветов, — сказала Лила, бросив на Бюсси выразительный взгляд.
— Разве это не есть истинный символ Индостана? — сказала Урваси. — Говорят, что эта страна представилась взорам богов в виде лотоса, плавающего в море. Пестик — это Меру, самая высокая гора на земле; окружающие ее вершины Гималайских гор представляют лепестки; венчики — это различные государства; четыре листка чашечки — четыре полуострова, которые вдаются в море. Разве это не остроумно?
Никогда она не казалась ему такой очаровательной. Душа её, находившаяся до сих пор в постоянном угнетении, придавала ее красоте что-то трагическое и мрачное; теперь же божественное спокойствие сообщало ей новую, несравненную прелесть.
Когда она умолкла после вопроса, Бюсси, растерялся: ошеломленный счастьем, жадно созерцая ее, он слышал ее голос, не понимая слов.
— Смотри, Лила! — вскричала она, смеясь и обвивая рукой шею принцессы. — Слова женщины кажутся ему слишком пустыми; он не слушает меня!
— Его нужно ослепить, чтобы он слушал, — сказала Лила.
Она своенравным движением набросила конец своего шарфа на глаза молодого человека.
— Я так виноват, — сказал он, — что совсем не пытаюсь извиняться и жду снисхождения, не заслуживая его. Я похожу на вора, который, желая унести слишком много богатств, теряет половину.
Они медленно ходили по тенистой аллее; она кончалась солнечной полянкой, на которую они и вышли.
Там их ожидали рабы с зонтиками, щитами и веерами, чтобы охранить от солнца знатных гуляющих, пока они будут проходить по открытым местам. Только тысячи лотосов распускались, скрывая своим количеством воду, которой питались их корни. Цветы, красные, как кровь, розовые, как заря, белые, золотисто-желтые, бледно-зеленые, черные перемешивались там в гармоническом беспорядке, как на самых прекрасных коврах.
— Это лотосы луны, — сказала Урваси, указывая на группу цветов с закрытыми венчиками. — Они раскрываются только ночью.
— А вот излюбленный цветок! — сказала Лила, наклоняясь, чтобы сорвать великолепный голубой лотос, который она поднесла царице.
Та взяла его, взглянув украдкой на Бюсси, как бы для того, чтобы сравнить лепестки цветка со зрачками иностранца.
Дорога вела к пристани, которая спускалась к красивой реке. Вдоль ступенек протягивалось великолепное судно. Его сорок гребцов стояли, опершись на свои длинные весла. Бот был украшен эмалью и имел вид большой змеи, растянувшейся на воде. Ее поднятая голова образовала нос; корпус напоминал павлина с распущенными крыльями. На передней части судна находилась площадка, обнесенная решеткой; легкий навес защищал ее от солнца.
Там поместилась царица с Лилой, посланником и несколькими лицами из свиты, среди которых находился Абу-аль-Гассан. Павлин как бы взмахнул крыльями, и судно тотчас заскользило по воде с такой быстротой, что те, кого оно уносило, ощутили прелестный ветерок. Сзади молодой танцор распустил флаг; размахивая им, он размерял удары гребцов своими молчаливыми движениями. Свита царицы разместилась на судах меньших размеров, которые весело скользили справа и слева, приближаясь к царскому боту, но никогда не опережая его. На некоторых из них помещались певцы и певицы, которые принялись сочинять хвалебные гимны в честь царицы и ее гостя.
Облокотившись на подушки, Урваси полулежала в изящной позе, слегка вытянувшись, и, небрежно играя лотосом, делала вид, будто слушает музыку. Взгляд ее был устремлен на Бюсси: подчас он, казалось, умолял его получше скрывать их сердечную тайну. Но когда маркиз, слушаясь ее, старался рассматривать прекрасные берега, которые мелькали направо и налево, глаза царицы жадно искали его взора. Видя, что они до такой степени забывают весь мир, встревоженная и испуганная Лила наклонилась к маркизу, как будто желая посмотреть в воду, и быстро сказала ему:
— Берегись! Неужели ты хочешь все потерять таким безумным поведением? Вас разделяют еще много опасностей и препятствий.
И она принялась расспрашивать его о Европе, о Франции, о тысяче вещей, заставляя его отвечать, беспрестанно тормоша его. Несколько времени скользили они по голубой зеркальной воде; наконец гребцы разом подняли свои блестящие весла, и бот стал у скалы, поросшей мохом, на которой все высадились.
— Рама позволил себя увезти, не справившись даже, куда! — сказала царица.
— Будучи подле тебя, я прибыл прежде, чем отправился в путь, так как ты цель всех моих мечтаний.
Голубая антилопа с прямыми блестящими рогами подбежала к ним, звеня серебряными колокольчиками, которые висели на ее длинной шее. Обогнув большую скалу, всю усеянную мясистыми растениями, которые походили на фантастические чудовища, общество вступило в грот. Перед входом, с той стороны, где открывался вид, низвергался водопад, такой гладкий и прозрачный, что иногда казался неподвижным. Эта бесшумная скатерть воды падала на густую траву, покрывавшую уступы, и молча убегала. Лук Индры проникал сквозь водопад, окрашивая цветами радуги хрустальные глыбы воды и зажигая драгоценные украшения.
Красивые рабыни принесли на золотых блюдах финики, манго и винные ягоды, которые они только что нарвали, а также всевозможных сортов лакомства, варенья и щербет.
— Пусть мой знаменитый гость соблаговолит сесть рядом со мной, — сказала царица.
И она принялась смеяться над его удивлением, которое он выразил, видя, что все присутствующие садились лицом к темному гроту и спиной к пейзажу.
— Это — покаяние, которое мы наложили на себя, — сказала она почти с детской веселостью. — Ты дал себя слепо увезти; теперь ты должен разделить его с нами.
Рабы с щитами из перьев и опахалами собрались сзади царицы, которая вскоре хлопнула в ладоши, слегка окрашенные краской менди. По этому знаку флейта заиграла мелодию, подхваченную «винами» и тамбуринами. Глубина грота раздвинулась, и появилась сцена театра; декорация представляла сад. Вышла очень почтенная особа и, после воззвания к богам, объявила, что в честь знаменитого посланника, прославившего дворец своим присутствием, она даст пьесу любимого поэта Бавабгути. Эта пьеса особенно нравится цветущей молодежи, потому что она представляет трогательные, знаменитые любовные приключения Мадавьи Малати.
— Я уверена, Лила, — сказала Урваси тихо, — что это ты выбрала эту пьесу?
— Разве не следовало вам помнить, что любовь торжествует над всеми препятствиями? Сверх того, никто, кроме вас, не может понять того сравнения, которое можно провести между этой пьесой и состоянием ваших сердец.
Легкое покрывало царицы развевалось от маханья вееров и зацепилось за шитье мундира маркиза! Он осторожно отцепил его, но удержал в руке и, думая, что взоры всех устремлены на сцену, тихонько прижал к губам нежную ткань. Урваси незаметно улыбнулась ему и, приподняв голубой лотос, поцеловала его.
Эту немую игру заметила принцесса Мангала, которая не переставала следить за царицей исподтишка. Но последняя не замечала этого; выражение удовлетворенной злости, которое на минуту блеснуло в глазах соперницы, ускользнуло даже от Лилы, котора также украдкой смотрела на Бюсси с мучительным чувством, в котором радость видеть его счастливым смешивалась с глухой тоской.
Пьеса кончилась к удовольствию влюбленных, которые, после многих неудач, преследуемые даже гневом богов, достигли исполнения всех своих желаний.
— Ах, мне страшно, Лила! — сказала Урваси в конце этого дня. — С ним часы летят, как минуты, а между тем эти минуты полнее всей моей прошлой жизни. Что станется со мной, когда его здесь больше не будет?
— Будущее принадлежит вам, раз он тебя любит и ты его любишь, — сказала Лила. — Но берегись повредить ему слишком сильным нетерпением. Уж не мне ли, которая так долго боролась с безумством твоей ненависти, удерживать теперь неблагоразумную смелость твоей любви?
— Ах, не отравляй мне моей радости упреками! — сказала царица. — Когда я подумаю, что тот, который спас меня от смерти, спасает меня еще и от рабства, а я хотела дважды убить его, сердце мое разрывается от страшной боли. Он стоит передо мной, выпрашивая взгляда, — он, кому я втайне отдала всю мою душу; а ты хочешь, чтоб я отворачивала от него свой взор и сдерживала слезы!
— Я дрожу за жизнь, которая тебе дорога; ведь еще недавно ты сама дрожала, когда скрывала от меня свою тайну. Вихрь счастья увлекает и ослепляет тебя теперь, заставляя забывать о справедливых опасениях.
— Это правда, — сказала Урваси, бледнея. — Если министр узнает о моей любви к тому, к кому он питает такую непостижимую ненависть, мы погибли. О, Лила, ты меня пугаешь. Между тем нужно, чтобы правда обнаружилась и чтобы царь был провозглашен.
— Нужно, чтобы Панх-Анан был свергнут раньше этого; а если ты не осмеливаешься сделать этого сразу, то прибегнем пока к хитрости и будем понемногу подрывать эту неограниченную власть, которую ты так неосторожно предоставила министру.
— Я так и сделаю, Лила, и никто не узнает моего ответа царю Декана, прежде чем посланник будет вне опасности. Я постараюсь, раз это нужно, получше скрывать мою тайну; но если это его опечалит?
— А я-то на что? — сказала принцесса. — Я его уже предупредила, но он, к несчастью, принадлежит к тем, кого опасность привлекает.
На другой день после совета, на котором присутствовал посланник, царица объявила о предложении субоба и о неожиданном расширении владений Бангалора. Возвращаясь домой очень озабоченным, Панх-Анан заметил на дворе своего дворца пажей и носилки принцессы Мангалы. Он ускорил шаги и вошел в залу, где она его ждала.
— Слава министру! — сказала принцесса, прикладывая руку ко лбу.
— Что привело тебя, дочь моя, ко мне так рано? — спросил брамин.
— Открытие самой изумительной тайны, святой гуру. Любовь моя к царице побуждает меня открыть ее тебе, чтобы ты мог защитить ее и спасти. Боги во власти молитв, молитвы во власти браминов, следовательно, брамины — боги, и ничто не должно быть скрыто от них.
— Говори без обиняков, дочь моя: я знаю твою преданность и сумею наградить тебя за нее в этой жизни и в будущей.
— Так вот, отец, варвар — очень могущественный чародей, потому что он добился любви царицы.
— Кто тебе это сказал? — вскричал Панх-Анан, меняясь в лице.
— Мне, конечно, не сказали этого, — отвечала Мангала. — Но я подметила взгляды и знаки, которыми обменивались царица и посланник и которые не оставляют никакого сомнения.
— Так, значит, то, чего я так опасался, случилось! — сказал брамин, нахмурив брови. — Теперь я понимаю: этот проклятый варвар побудил субоба дать царице свободный выбор — разорвать или сдержать брачное обещание. Это новость, которую она нам только что сообщила на совете.
— Значит, наместничество ускользает от тебя?
— Может быть. Царица объявила, что она не знает, какой даст ответ. Но она, конечно, обманывает нас и решила отказать.
— Трон Декана в сравнении с таким маленьким государством, как Бангалор, заслуживает того, чтобы о нем подумать, — сказала Мангала.
— Но Бангалор становится вдвое значительнее. По просьбе варвара, которого нечестивый мусульманин считает за брата, все старые владения возвращаются нам. Разве это не знак, что царь Декана благосклонно взглянул бы на союз царицы со своим посланником?
— Ах, отец мой! Подобного святотатства не должно быть! — вскричала испуганная принцесса. — Если царица позволила чарам завладеть своим сердцем, она не настолько безумна, чтобы забыть свой сан и касту.
— Я ее знаю: она во всем доходит до крайности. Когда она ненавидела этого человека, она искала его смерти; любя его, она сделает его царем.
— Но камни дворца обрушатся сами собой и задавят его.
— Успокойся, дочь моя! — сказал брамин. — Продолжай наблюдать и будь уверена, что мы восторжествуем. Не забывай, что богов никогда нельзя победить.
Вечером вокруг зданий протянулись, в виде ожерелий, нити лампочек. Во дворце пять тысяч дэоти — рабов-факельщиков — образовали иллюминацию, стоя шпалерами на лестницах, на дворах и вокруг прудов. Во всех концах города сверкали фейерверки. На реку спустили множество лодок с разноцветными огоньками. Поток, уносивший эти лодки, которые беспрерывно следовали одна за другой, представляя настоящую реку огня и драгоценных камней. Только одни пагоды оставались темными и безмолвными.
Царица предложила Бюсси воспользоваться на другой день свежими утренними часами, чтобы отправиться с ней на прогулку и дойти до владений, о которых она так сожалела и которые, благодаря ему, снова принадлежали ей. Собирались отправиться верхом, а возвратиться на слонах, которых накануне послали на место привала.
Когда звезды начали бледнеть, один «веталика» подошел к комнате Бюсси, ударил по золотым струнам арфы и запел, чтобы прогнать сон от его глаз. Он пел, что, подобно тому, как слава предшествует герою, так свет разливается по небу, возвещая восход солнца. Маркиз, улыбаясь, проснулся и поспешил одеться.
Уже рассвело, когда с вершины башен затрубили в трубы и царица показалась на лошади, в своем очаровательном военном халате, под воротами последнего двора. Бюсси с непокрытой головой приближался к ней, красиво сдерживая своего скакуна. Они церемонно обменялись поклонами, но в то же время искра блеснула в их глазах и тотчас же погасла. Как восхитительна была Урваси в этой новой одежде странной красоты, в легкой каске с лучезарной птицей наверху, в шелковой с золотом тунике, прелестно облегавшей ее стан! На перевязи из драгоценных камней висел колчан.
Лила и два пажа с пустыми корзинками сопровождали царицу; Бюсси ехал с Арслан-Ханом. Отряд индусских стрелков и французских мушкетеров должен был следовать за ними на некотором расстоянии.
Они проехали шагом через просыпавшийся город. Множество жителей спускалось по лестницам к реке, чтобы совершить свое утреннее омовение; женщины распускали свои длинные волосы. Открывались базары; по ним уже бродили нищие монахи, собиравшие милостыню; быки браминов, прекрасные животные с вытравленной эмблемой Сивы на бедре, медленно прогуливались или расхищали выставку торговцев зернами, и последние не смели прогнать их, ни даже выказать малейшее неудовольствие.
Гонцы, вооруженные серебряными булавами, расчищали дорогу царице. Всадники выехали южными воротами и, промчавшись под сводами, доскакали до стеклянной галереи, которая казалась бесконечной.
— Ах! — воскликнула Лила со счастливым вздохом. — Мы похожи на птиц, которые летят на свободе и далеки от всякой принужденности!
Бюсси смотрел на царицу, которая, склонив немного голову, улыбалась ему с бесконечной нежностью; потом этот прекрасный воин смутился, опустил глаза и, казалось, был сильно занят отвязыванием своего золотого лука от седла, где он был прикреплен.
— Все на свете, кто взглянул бы на нее в таком виде, назвали бы ее воплощением любви, — сказал маркиз Лиле.
Урваси кончиками пальцев взяла через плечо стрелу, оперенную перьями попугая.
— Берегитесь! — вскричала принцесса. — Ужасный Кама-Дэва натянул свой лук и полетит стрела, в которой яд смешан с амброзией!
— Я больше не боюсь торжествующего бога, — сказал Бюсси. — Он так изранил меня всего, что пусть-ка попробует найти еще место хоть для одной раны.
— Никому не надо бояться, — сказала Урваси, смеясь, — даже птицам и белкам, которые населяют цветущие кусты и деревья.
— Твоя жертва, должно быть, один из бессмертных, — сказал Бюсси, глядя, как царица натягивала тетиву лука с неподражаемой грацией.
— Нет! — сказала она. — Прежде это были пантеры и птицы, но теперь кровь пугает меня, и я охочусь только на цветы.
Стрела полетела, и цветок, срезанный на стебле, упал с высокой лианы.
Один из пажей соскочил с коня и поднял его. За этой жертвой последовали другие; это был как бы дождь цветов, и корзинки наполнялись. Иногда цветок, пронзенный в середину, осыпался.
— Ах, неловкая! — восклицала царица. — Я его убила.
Маркиз любовался ею в лихорадочном восхищении, каждое ее движение открывало ему новую прелесть и было для него так же сладко и утешительно, как ласка.
Она отклонялась назад, чтобы лучше целиться, нагибалась вбок, опускала длинные ресницы своих внимательных глаз, расставляла руки, затем, когда стрела была пущена, улыбаясь, опускала их. Ее арабская лошадь цвета персика слушалась малейшего движения ее колена или тихо сказанного слова.
— Что же, ленивец! — вскричала царица. — Ты не хочешь подражать мне?
— У меня нет лука, — сказал Бюсси.
Принцесса Лила протянула ему свой.
— Я так неискусна, — сказала она, — что не смею употреблять его, потому что боюсь ранить птиц.
— Я никогда не имел дела с этим оружием!
— Скажите, какая гордость! — вскричала царица, смеясь. — Этот герой боится быть побежденным.
Бюсси быстро взял лук и стрелы, которые ему протягивала Лила, потом пустил свою лошадь вперед, ища глазами цветок, чтобы попасть в него.
Урваси, любопытствуя, догнала его, оставив Лилу позади с Арслан-Ханом.
Лила следила за ними мечтательным взором.
— Кто мог предвидеть, — сказала она умаре, — что мы увидим когда-нибудь этих смертельных врагов бегающими вместе в таком нежном согласии, забавляясь цветами с детской радостью?
— Ты вспоминаешь, как и я, другое утро, принцесса, не правда ли? — сказал Арслан. — То, когда мы присутствовали при первой битве, у Мальяпора, французов с моголами, когда я спустился к городу, чтобы узнать, находится ли среди сражающихся человек, которого мы ненавидели.
— Да, — сказала Лила. — Я подумала об этом, когда сегодня мы снова соединились около этого самого человека, жизнь которого стала нам так дорога.
— Конечно, — сказал мусульманин, — теперь я люблю его и любуюсь им, и жизнь моя принадлежит ему.
— Если ты его так любишь, следи хорошенько за ним, заклинаю тебя, — сказала принцесса с помрачившимся взглядом. — Так как ты теперь приставлен к его дому, ты его совсем не покидаешь; ну, так остерегайся всего. Ему еще угрожают измена и убийство, потому что я очень боюсь, что у царицы не хватит ни решимости, ни, может быть, силы предупредить их мощным проявлением власти.
— Вся опасность заключается в том бессовестном министре, не правда ли? — вскричал Арслан, преисполненный негодования. — Это чудовище с гнусной зеленой физиономией, который живет только жадностью, этот скорпион, эта ядовитая змея! Почему не употребить против него то оружие, к которому он сам так охотно прибегает?
— Говори тише! — сказала Лила, осматриваясь с беспокойством. — Убить брамина — это такой грех, о котором нельзя даже подумать. Кроме того, царица, терзаемая угрызениями совести из-за злодеяния, которое заставил ее совершить министр, и которая оплакивала смерть бабочки, не согласится для спасения своей собственной жизни пролить больше ни одной капли крови: к тому же она суеверна, она верит в чудеса и в превосходство браминов. Панх-Анан еще не потерял всего влияния над ней.
— Что же делать? Как освободить мир от такого негодяя?
— Я написала великому визирю Ругунат-Дату, прося у него совета; ответ не заставит себя ждать. А покуда будем настороже. Ведь опасность не грозит нам немедленно: посланник — особа священная, и никто, даже Панх-Анан, не посмеет ничего предпринять против него, пока он находится в пределах государства.
Покуда эти два верных сердца беспокоились о будущем, два стрелка, отдаваясь настоящему, скакали по свежей аллее, состязаясь в ловкости и не уступая друг другу. Такой искусный стрелок, как маркиз, после нескольких потерянных стрел и искрошенных цветов, скоро стал с блестящим успехом поддерживать борьбу; а когда она окончилась, колчаны были пусты, а корзины полны.
Бюсси и царица остановились, улыбаясь, и Урваси искала глазами своих спутников; они показались совсем вдали и шагом приближались к ним. Тогда, при мысли, что она на минуту осталась одна с Бюсси, красавица почувствовала страшное волнение, в котором страх смешивался с удовольствием.
«Он осыпал меня благодеяниями, — думала она, — а я отблагодарила его ужасной изменой. Теперь, когда наши сердца слились, могу ли я отказать ему, если бы он потребовал признания в любви, которую он слишком хорошо угадал, или наконец попросил бы вознаграждения за свои долгие и терпеливые страдания? Как говорить ему об осторожности и тайне, которые должны еще замедлить и скрыть наше счастье?»
И она опускала голову, желая и боясь, чтобы он заговорил.
Между тем он молчал, удерживаемый именно мыслью о благодарности, которой она была ему обязана, и боясь, как бы ей не показалось, будто он ее требует. Кроме того, у него еще не прошло это чистое, прелестное смущение зарождавшейся любви, и он испытывал такую полноту счастья, что не думал желать чего-нибудь больше настоящей минуты. Он был далек от мысли требовать от нее чего-нибудь; он боялся оскорбить ее даже той настойчивостью, с какой смотрел на нее, но тем не менее не мог оторвать от нее взора. Бюсси был очарован этим совершенством форм, как будто он был скульптор, и находил неизъяснимое наслаждение в том, чтобы следить за прелестью ее малейшего движения, — за ее манерой поднимать голову быстрым, гордым движением, за дрожанием ее длинных ресниц на щеках; особенно хорошо она поджимала свои яркие шелковистые губы, заставляя трепетать от нежности сердце влюбленного.
«Это — поистине избранная душа! — подумала царица, в то время как Лила и Арслан подошли к ним. — Он все хочет получить от меня самой и ничего не попросить».
— Ну, что ж! — вскричала принцесса. — Был ли, наконец, Лев Львов озадачен поражением?
— Тот, кто восторжествовал над такими противниками, как мы, не может быть побежден, — сказала Урваси. — Мы отправились, чтобы победить его, а возвращаемся все трое, опутанные цепями цветов.
— Я сложила оружие, как только увидела героя, — сказала Лила. — Я дала надеть на мое сердце цепи, не пытаясь сражаться.
Бюсси взял руку Лилы и поцеловал.
— Эти цепи сделали меня твоим истинным братом, — сказал он. — И они еще больше привязывают меня к тебе, чем связывают тебя.
— Это правда. Лила одна только ни в чем не виновата перед тобой, — сказала Урваси. — Но кто знает, может быть, ненависть есть только порыв к более сильной любви. Однако мы совсем забылись, — прибавила она, отворачиваясь, чтобы не видеть прелести взгляда, полного страсти, которым он благодарил ее. — Мое царство невелико, тем не менее мы, кажется, никогда не доедем до его границ.
Они пустили лошадей в галоп и скоро, покинув тень деревьев, поехали по узкой дороге через розовое поле. Здесь была видна правильная обработка: все кусты росли прямыми рядами, были одинаково подстрижены и терялись вдали, в виде красного ковра. Там и сям виднелись женщины, закутанные в белые сари, одна пола которых служила им покрывалом. Они собирали распустившиеся цветы для приготовления аттар-гуля — тонких и драгоценных духов. Вся эта долина была наполнена сильным, острым запахом.
— Не будем останавливаться! — сказала царица. — Запах роз опьяняет так сильно, что можно потерять сознание.
Голубые горы с белыми снежными клочками на вершинах замыкали горизонт и казались совсем близко.
— Вот естественная граница Бангалора! — сказала царица, указывая на них рукой. — Но она уже давно не принадлежит нам. Не кажется ли она тебе сегодня прекраснее, чем когда-либо, дорогая Лила, — теперь, когда мы не смотрим на нее сквозь слезы сожаления?
— Она блестит, точно сапфиры, оправленные в серебро, — сказала принцесса. — И самые высокие вершины «Зимней Обители» с горой Меру не доставили бы мне большего удовольствия.
Они проезжали мимо деревень, рисовых полей, зеленых плантаций, где все дышало благоденствием и изобилием. Потом показалась зубчатая стена, предохраняемая от разрушения чужеядными растениями; позади нее тянулась голая пустыня.
— Жизнь скоро возродится здесь под твоим волшебным скипетром, — сказала Лила. — И когда снова вернемся сюда, мы не найдем здесь больше негостеприимных джунглей.
Урваси, серьезная и задумчивая, обнимала своим прекрасным взглядом все это иссохшее и дикое пространство. Царица изучала извилины земли и следила за воображаемым руслом свежих ручьев и серебристых каналов, которыми она хотела наполнить эту заброшенную землю, подобно тому, как пересохшие вены наполняются кровью.
Но солнце начало палить, и они поспешили уйти от него.
— Какое могучее укрепление! — вскричал Бюсси, рассматривая вблизи горы, которые сурово возвышались острыми зубцами и казались непроницаемой стеной.
— К несчастью, — сказала царица, — многочисленные удобопроходимые ущелья прорезывают цепь на всем ее протяжении.
— Как легко было бы укрепить их! — сказал маркиз. — Довольно одного редута и двух пушек, чтобы с помощью нескольких солдат остановить целую армию в этих узких проходах. Если ты удостоишь поверить моим советам, я набросаю тебе план укреплений, которые можно воздвигнуть, и пришлю тебе образцы скреп и литейного завода, который я велел построить в окрестностях Аурангабада и который уже действует.
Царица слушала Бюсси с почтительным вниманием.
— Считаю за счастье получать от тебя советы и буду слушаться тебя, как самого царя этого государства, — сказала она вполголоса. — К тому же разве ты не истинный господин его?
— Я, господин! — бормотал Бюсси, опьяненный счастьем, которое заставило его пошатнуться и вызвало ту внезапную бледность на его лице, которая так пугала Лилу.
Сама царица также испугалась и протянула руку, чтобы подержать его, но он завладел этой гибкой рукой, свежей и мягкой, как лепестки цветка, и горячо поцеловал ее. Потом юноша внезапно пришпорил лошадь и умчался, как будто хотел в бешеном галопе успокоить овладевшее им опьянение.
— Увы, он помешался! — сказала Урваси, дрожа.
— Ты заставишь его умереть от радости, после тех мучений, которые ты заставила его претерпеть! — воскликнула принцесса. — Смотрите, лошадь его бесится и может разбить его о камни!
— Не тревожьтесь! — сказал Арслан со спокойной улыбкой. — За такого всадника, как Бюсси, нечего бояться. В его изящном теле таится невероятная сила. Я видел, как он своими белыми руками ворочал глыбы, которые сильные люди не могли сдвинуть. Он задушит лошадь своими железными коленями, если она вздумает артачиться. Глядите, как он ею свободно управляет; вот, он возвращается к нам.
Бюсси разом остановил лошадь; глаза ее блуждали, пена покрывала драгоценные камни удил; ноги дрожали. Голубые глаза молодого человека блестели гордостью и радостью; но он подавил их выражение, прося прощения за безумный поступок.
Привал был устроен под баньяном, этим странным деревом с воздушными корнями, которые, укрепляясь в земле, порождают новые деревья; от них, в свою очередь, спускаются корни, и таким образом возникает дивный, свежий и полный звуков храм, а сквозь его зеленые своды открываются прелестные виды.
На мху были разостланы ковры; вокруг маленьких низких столиков из драгоценного дерева, выложенных перламутром, лежали подушки.
Всадники сошли с лошадей, и рабы прибежали, чтобы их увести.
Потянуло приятным запахом, возбуждающим аппетит, и в глубине баньяна показалась целая толпа двигавшихся слуг. Там были устроены переносные серебряные печки, ледники с запасом снега для щербета; в хрустальных сосудах пенилось теплое молоко; деятельно сбивали масло, варили рис, смешанный с индийским перцем и грудной ягодой, которым начиняли медовые пирожки и всевозможные печенья.
Царица сняла свой хорошенький шлем и прикрепила его к ветке.
— Правда ли, — спросила она у Бюсси, — что на твоей родине женщины и мужчины обедают вместе?
— Правда, — сказал он.
Урваси обратилась к Лиле:
— Ну, так вот что! Сегодня мы подчинимся обычаю нашего гостя.
Принцесса принялась смеяться.
— Что с тобой, злая? — спросила царица с несколько озабоченной улыбкой.
— Я думаю о том знаменитом барашке, фаршированном фисташками, который причинил нам столько хлопот и которого нам нужно теперь отменить, так как нельзя же его подать таким браминам, как мы. Однако, чтоб спасти наши души, мы принесем его в жертву Кали.
— Ах, царица! Как ты меня огорчаешь! — воскликнул Бюсси. — Ты нарушаешь ради меня предписание твоего закона. Я даю обет, если это тебе нравится, питаться только плодами и кореньями.
— Наоборот, тебе следует смеяться над моими предрассудками, — сказала Урваси. — Мудрая ученица Ругунат-Дата доказала мне, что они не имеют никакого основания. Никто не обладает таким знанием священных изречений, как она; она также дала мне прочесть в Ведах, что принято предлагать гостю мед с различным мясом. Спроси Лилу, она тебе расскажет еще тысячу вещей по этому поводу. Когда мудрец Вальмики принимал в своем уединении жен Дазараты, он устроил им огромный пир, на котором подавались дичь и разное мясо. Сам Рама приносил в жертву газелей, в лесу, в месте своего изгнания. Она тебе скажет, что дженасы и буддисты первые запретили употребление мяса. Ты видишь, что наши суеверия заслуживают только насмешки.
— Тем не менее ягненок осужден, — сказала Лила и прибавила на ухо Бюсси: — Значит, она тебя безумно любит, если решилась на такую жертву; но она не могла бы вынести этого и лишилась бы чувств от ужаса при виде этого отвратительного блюда.
Вместо тарелок и блюд служили прелестные раковины, бокалы были из золота, а ложки — из розовых, полированных клювов кокнов. Во время обеда невидимые музыканты и певцы играли и пели; танцовщицы, переплетая свои великолепные наряды, составили хоровод вокруг деревьев, заключив пирующих в цепь газа и золота.
Тяжелые послеобеденные часы перед возвращением в город провели, расположившись на подушках в самом тенистом месте; покуда рабы освежали воздух, махая щитами, принесли корзинки, наполненные цветами, которые были срезаны при помощи стрел.
— Вот еще предлог для насмешек! — сказала царица, высыпая душистую жатву на ковер. — Любимое занятие индусов — делать гирлянды; не права ли, как это легкомысленно?
— Когда я покидал Версаль, — сказал маркиз, — король Франции и весь двор, чтоб угодить ему, вышивали ковры. Разве не приятнее проводить время в сплетании цветов?
— Ты и на этот раз соглашаешься на борьбу?
— Я храбро готов сносить ваши насмешки, — сказал он, притягивая к себе ветку.
Лила, смеясь, бросила Бюсси золотую нитку, чтобы связывать стебельки. И он весело принялся за незнакомую ему работу, которую часто прерывали нежные взгляды и улыбки. Царице приходилось поправлять его неловкость, и он имел удовольствие прикасаться к ее пальцам среди колючих шипов!.. Эти часы были очаровательны: среди мирной, дремлющей природы парочка отводила душу и испытывала в мечтах счастье, которому не грозила никакая опасность и которому принадлежала вечность.
На возвратном пути их сопровождала величественная свита.
Эравата с царицей и принцессой шел рядом с Ганезой, на котором помещались Бюсси с Арслан-Ханом. У слона Урваси была на шее гирлянда, довольно плохо сплетенная маркизом, так что некоторые цветы отвязались, а Генеза был увенчан гирляндой царицы. Они возвратились в город лесом.
Население Бангалора ожидало их. В течение дня герольды созывали жителей на всех площадях и читали им указ, по которому потерянная земля возвращалась престолу; они прибавляли, что царь Декана был счастлив оказать эту милость по просьбе посланника. Урваси велела распространить через ловких дельцов слух, что этот благодетель государства — тот самый человек, который несколько лет тому назад спас ей жизнь, жертвуя своей. Она хотела знать, так ли велика любовь ее народа к ней, чтоб заставить замолчать их племенные и религиозные предрассудки, и какой он окажет прием посланнику субоба, когда узнает, сколько тот имел прав на ее признательность.
По какому-то наитию, которое иногда овладевает толпой, тайное желание царицы, казалось, было угадано народом. Он самопроизвольно устроил посланнику восторженное чествование, бросал на его пути пальмовые ветви, поливал мускусом и розовой водой уши его слона, осыпал имя иностранца благословениями и похвалами.
Бюсси, удивленный и тронутый этим теплым приемом, раскланивался, улыбаясь, с толпой.
— Ах, Лила! — сказала Урваси, бледная и дрожащая от радости, когда они приехали во дворец. — Можно подумать, что они приветствуют царя!
Глава XXVIII
РАЗЛУКА
Дни и недели проходили в празднествах. Охота, зрелища, бои диких зверей, всевозможные развлечения устраивались в городе и во дворце; но царица и ее гость мало принимали в них участия. Они появлялись на несколько минут, потом удалялись с кучкой любимцев. Их личный праздник состоял в том, чтобы быть вместе, без особого стеснения, в кругу близких друзей, которые, если и догадывались об их любви, то не выдали бы их. Бюсси захотелось еще раз увидеть Остров Молчания и комнату из слоновой кости, залитую блеском звезд из драгоценных камней. Потом царица провела его к сараю, куда его принесли раненого. Не расчищая вполне пепел и тернии, они вместе, в глубокой тайне, заложили первый камень для храма Кама-Дэвы, который Урваси хотела здесь воздвигнуть, как только это можно будет сделать безопасно.
Иногда они любовались, как молодые пажи охотились за великолепными бабочками при помощи ученых птиц, которые должны были ловить насекомых живыми. Бабочки казались драгоценностями на шелковистых цветах; ими наполняли газовые клетки; потом всех этих блестящих насекомых пускали летать в хорошенький дворик, обсаженный кустами и покрытый золотой сетью, чтоб держать их в плену.
Урваси и маркиз прелестно проводили время в садах, у фонтанов, или в прохладной зале какой-нибудь беседки, из которой открывался вид в поле. Но больше всего они пристрастились к особенному каменному балкончику, который был весь украшен самой прихотливой резьбой и находился в дупле огромного дерева. Когда парочка сидела там, совсем близко от певчих птиц, не видя ничего, кроме просвета между ветками, ей казалось, что она находится в настоящем гнезде. Часы блаженства быстро бежали, и мысль, что это счастливое время может кончиться, не приходила им в голову.
Однажды, когда они молча сидели на этом балконе одни с Лилой, погруженные в мечты, в зале раздались торопливые шаги и появился посланец.
Бюсси каждое утро получал с гонцами письма от Ругунат-Дата и Кержана, которые сообщали ему о ходе дел. Но, увидав этого посланного, прибывшего после полудня, покрытого пылью и, наверное, мчавшегося во весь опор, Бюсси испугался. Он взял протянутое письмо, задрожав от беспокойства.
Царица встала, вся бледная, и, опершись о перила балкона, смотрела с ужасом и гневом на этого человека, который, быть может, пришел разрушить ее радость. Маркиз прочел вслух письмо, состоявшее из нескольких строчек, лихорадочно набросанных рукой царя.
«Возвращайся скорей, мой Бюсси, мы пропали! Мараты наводнили Декан и грозят Аурангабаду».
— Увы! Неужели эта страна не перестанет быть желанной добычей для всех! — вскричал молодой человек, бросая на Урваси огорченный взгляд.
Она ломала руки и бормотала с расстроенным видом:
— Мараты!
— Так что ж! — сказал Бюсси, улыбаясь. — Что же в них такого ужасного? Если бы они не отрывали меня от небесного блаженства, они не особенно тревожили бы меня.
— Господин! — сказала Лила. — Это они сделали Урваси сиротой. Покуда французы не затмили своей славой все в Индостане, мараты считались самыми храбрыми и опасными воинами. Ничто не могло устоять против них; при одном их имени армии обращались в бегство.
— Нашей славе не хватало их поражения, — сказал он. — Не мешает унизить гордость и дерзость этого народа. Умоляю тебя, моя царица! — прибавил он, видя, что Урваси печально поникла головой. — Имей больше доверия к нашему оружию. Храбрость маратов не устоит против такой же храбрости, вдобавок поддерживаемой такой превосходной артиллерией, что все здесь говорят, будто мы в союзе с громом.
— Я верю, что Рама непобедим, — сказала она, — но неуязвим ли он?
— Разве я могу умереть, когда ты удостаиваешь беспокоиться за мою жизнь? — сказал он. — Но, увы! Я могу провести с тобой только несколько минут. Желаешь ли ты разрешить мне, чтобы не теряя ни одной минуты сделать необходимые распоряжения, не покидая тебя?
Царица, не будучи в состоянии говорить, сделала утвердительный знак головой.
Бюсси распорядился, чтобы несколько гонцов были готовы к отъезду, и велел позвать своего секретаря.
Наик тотчас явился и не мог побороть в себе движение страха, очутившись в присутствии царицы, потому что приблизиться к монарху считалось для парии незамолимым грехом. Но по бледности и выражению печали, которая отражалась на лицах, он скоро понял, что случилось несчастье и что никто не заботился о том, был ли вновь прибывший чандала или брамин.
Маркиз дал ему прочесть записку царя и продиктовал несколько писем. Наик всегда имел при себе, у кушака, золотой футлярчик, заключавший «калам», чернильницу и свиток пергамента — отличительные признаки его должности. Он опускался на одно колено и писал, опершись на другое.
Бюсси отдал приказание умаре, командовавшему сипаями гарнизона Кадапы, набобства, соседнего с Бангалором, которое Салабет-Синг подарил бегуме Жанне, приготовить для него всех людей, каких только можно взять без ущерба для безопасности страны, и возможно больше полевых орудий. Он послал тот же приказ командиру Канула, который также находился на его пути. Потом он собственноручно написал Кержану шифрованную депешу и несколько строк субобу, заключавших в себе следующее:
«Будь покоен, царь мой, и не теряй веры в того, кто до тех пор доставляет тебе победы. У меня есть верное средство защитить столицу: это — пойти на Пунну, столицу твоих врагов. Ты увидишь, как они тотчас же повернусь назад, чтобы поспешить на защиту своего государства. Но не нужно терять ни минуты. Умоляю тебя выслать тотчас, по получении этого письма, войска с французским батальоном, который будет готов к выступлению в какой-нибудь час. Вы догоните меня в Бедэре».
Между тем Урваси, неподвижная, удерживая слезы, любовалась, несмотря на свое горе, этой быстротой решения, этой холодной рассудительностью, которую не смущали ни внезапность известия, ни горе, которое оно причинило. Она видела перед собой героя, неустрашимого воина, который заботится о своей славе, и она не узнавала в нем любовника, который сейчас дрожал от любви у ее ног. Со своим прекрасным строгим лицом, с повелительным выражением, с пристальным взором и нахмуренными бровями, он, казалось, совсем забыл о ней.
И она думала со смутным чувством ревности: «Если бы ему пришлось выбирать между славой и мной, может быть, он принес бы меня в жертву».
— Предупреди Арслан-Хана и французских офицеров, — сказал Бюсси, отпуская Наика, — что все солдаты, сколько их было в караване, отправятся вместе со мной менее чем через час. Остальная свита, слоны и рабы выступят в путь завтра.
— Как! — сказала Урваси. — Ты даже не подаришь мне этого дня?
— О, царица! — вскричал он. — Как тяжело и как лестно вызвать в тебе сожаление! Но посуди сама, могу ли я не лететь, не теряя ни минуты, на помощь к царю, который выказал столько великодушия?
— Это правда, — сказала она, опуская голову. — Это невозможно, нужно ехать.
Она, казалось, задыхалась, готовая лишиться чувств.
— Какая печальная царица, не правда ли? — снова начала она, силясь улыбнуться. — Малодушная!.. О! Я не всегда такая. Но я не знаю, меня гнетет какая-то тоска; мне кажется, что мы выходим из света, чтобы вступить в густой и безысходный мрак. Ах, как бы я хотела отогнать от себя это роковое предчувствие, которое держит меня в своих тисках и надрывает мое сердце!
И она спрятала на плече Лилы свое орошенное слезами лицо.
Бюсси стоял перед ней на коленях и целовал ее руки.
— Увы, она отнимает у меня всю силу! — говорил он. — Видеть ее страдающей — невыносимая мука.
— Моя добрая царица, не убивайся так! — сказала Лила, лаская ее волосы. — Внезапный удар, который наносит эта разлука, ужасен, это правда, но посланник не мог же остаться навсегда; подумай о том, что он вернется победителем и что вести о его славе будут доходить до нас.
Урваси устремила свои влажные глаза на молодого человека.
— Хорошо же! — сказала она. — Если он умрет, и я умру.
Потом она снова предалась горю.
— Помимо этого света мы не можем соединиться! — вскричала она. — Я забываю, что небо моих богов иное, чем его.
— Мой единственный бог — это ты, мое небо — воздух, который окружает тебя! — воскликнул он. — Но если это может успокоить тебя, я преклонюсь перед Брамой, Индрой, Ганезой и ужасным Кали, который пляшет па трупах, и перед голубым богом, который плавает по молочному морю, и перед всеми, как только ты захочешь. Если нужно совершить какую-нибудь жертву, или обряд — я готов.
— Прости меня, я безумствую, — сказала Урваси. — Мне, право, стыдно, что я ослабляю твою храбрость своим малодушным видом. У меня достаточно будет дней и ночей, чтобы предаваться своему горю. Пока ты здесь, я еще счастлива. Велим подать наших лошадей, Лила; мы проводим посланника до границ наших владений.
Час спустя они выезжали вместе из ворот дворца, и маркиз, обернувшись в последний раз, долго смотрел на это жилище, где он был так счастлив.
— Ах! — воскликнул он. — Надпись, которая теперь лежит на роскошных развалинах одного здания в Дели, была бы вполне уместна на воротах этого дворца: «Если на земле есть рай — он здесь!» Когда Адам выходил из рая, он, наверное, не испытывал такого тяжкого горя, как я, хотя у него не было, как у меня, надежды возвратиться туда.
С высоты одной из террас, спрятавшись за деревце, кто-то смотрел на удалявшегося посланника. Это был министр Панх-Анан. Он так ловко стушевался, держась в стороне в течение всех этих дней, столь сладких для влюбленных, так искусно притворялся поглощенным делами, чтоб дать полную свободу царице, что о нем почти забыли. Но он-то не забыл их; и взор, которым он провожал иностранца, был полон ненависти и угроз.
Всадники выехали из города и, пришпорив коней, скакали молча, стараясь скрыть друг от друга свое отчаяние. Между тем настала минута разлуки, и они остановились, почти не смея взглянуть друг на друга. Принцесса, обыкновенно более мужественная, также казалась подавленной.
— Я не могу отделаться от мысли, — сказала она, — что судьба таит какую-то измену против нас. Мой правый глаз дрожит, и сейчас я видела роковую птицу, которая летела нам навстречу. Как ни старайся смеяться над суевериями и не верить в предчувствия, тем не менее сердце леденеет, когда предзнаменования угрожают дорогому существу.
Урваси молчала, бледная, как жемчуг.
— Истинное и единственное несчастье состоит в том, что надо расстаться, — сказал Бюсси. — Хуже ничего не может быть. Разве разлука не сестра смерти?
Он быстро поцеловал им руки.
— Прощайте! — закричал он, удаляясь. — Я возвращусь.
Но когда повышение почвы скрыло от него царицу, которую он не мог более видеть обернувшись, сердце его сжалось от ужасной тоски, и его, в свою очередь, охватил ужасный страх. Ему казалось, что дувший ветер кричал ему на ухо: «Ты видишь ее в последний раз».
Он остановился, у него сперло дыхание, страх охватил его. Потом он внезапно вскрикнул:
— Я заставлю солгать это ужасное предчувствие, я не в последний раз видел ее.
И он снова въехал на возвышенность.
Урваси все еще неподвижно стояла на том же месте. Она увидела его, бросилась к нему, и в то время, как их лошади стали на дыбы, в безумном объятии они обменялись поцелуями, полными ужаса и наслаждения.
Глава XXIX
РАХУ
Слышится страшный шум. Раздаются и звон металла от ударов о щиты рукоятками сабель, и частый барабанный бой, и бряцание кимвалов, и крики целой армии, примешивающиеся ко всему этому гвалту.
Полная луна проливает свой свет на белый лагерь Маратов, где проснувшиеся воины стоят на коленях или прямо, по большей части в ночных одеждах, с поднятыми к небу глазами. Виднеются энергичные и тонкие лица, обрамленные взбитой бородой, расчесанной надвое снизу вверх.
Проделка Бюсси вполне удалась: враги поспешно бросились вспять защищать свои границы. Уже во многих стычках эта знаменитая маратская кавалерия, неистовство которой обыкновенно уничтожало все на своем пути, впервые не произвела никакого действия: непроницаемая стена картечи всегда останавливала ее натиск. Теперь вся армия соединилась с королем Балладжи-Рао во главе, на расстоянии одного дня ходьбы от французов, и решительная битва была неизбежна. Но в данную минуту угрожает всем и волнует все умы опасность более важная, чем битва: астрологи предсказали, что Раху, бестелесное чудовище, поглотит луну.
Весь этот шум подняли ради того, чтобы испугать и прогнать его от своей жертвы, которая плывет по прозрачному небу, убегая, совсем бледная и испуганная. Но жадный дракон уже настигает, а его черная пасть уже схватила край чистой и блестящей выпуклости, кусает ее своими острыми зубами и выедает ее. Чандра не может больше ускользнуть, Раху не выпустит ее, он пожрет ее, погружая, таким образом, мир во мрак.
И со всех сторон сыплются ругательства и проклятия, смешанные с ропотом отчаяния, который усиливается по мере того, как светило исчезает между челюстями чудовища.
— Прочь, прочь, отвратительный вампир! Злой дух дал тебе предательски проскользнуть среди богов, пока они бурлили море!
— Бесчестный вор! Ты украл у них немножко амриты бессмертия, чтоб не умереть.
— Но два глаза неба, золотой и серебряный, узнали и выдали тебя.
— Тогда взбешенный Вишну отрубил тебе голову, и она катится в пространстве, далеко от твоего тела.
— И ты постоянно преследуешь тех, кто выдал тебя, чтобы отомстить, пожрав их.
— Сожги ему язык, Чандра, разлей по его нечистым деснам такой едкий яд, чтобы ужасный Раху принужден был убежать, воя от боли и снова выкинув тебя в небо.
Когда настала полная тьма, шум еще увеличился, крики усилились, кимвалы и барабаны бешено звенели и стучали.
Но вдруг этот шум покрыл сильный голос, который напоминал рыканье чудовища, пожиравшего луну. Горизонт осветился — и красные, как раскаленные уголья, шары просвистели в воздухе: французы обстреливали маратский лагерь.
Поражение было полное. Суеверный страх сменился более ужасным состоянием оцепенения, которое лишило этих полунагих, затерянных в темноте людей всех способностей. Они даже не знали, в какую сторону бежать, благодаря беспрерывной пальбе, которая окутывала их облаками дыма. «Вдыхали только дым и огонь», — говорили они впоследствии.
Когда Раху изверг снова луну, она осветила французские штыки на том месте, где только что был лагерь. Мараты, которые еще занимали его, были убиты или взяты в плен, все остальные разбежались. Балладжа-Рао, в одной рубашке, спасся только благодаря лошади, которая попалась ему на пути и на которую он вскочил.
Эта победа, разбивавшая старинную славу маратских воинов, погрузила их, может быть, в первый раз, в мрачное уныние, и когда Балладжа-Рао понял, что французский генерал не расположен был отдыхать, а продолжал свой поход на Пуну, он предложил мир.
Бюсси охотно согласился. Горя нетерпением увидеть Салабет-Синга, до которого до сих пор не мог добраться, он решил сам переговорить с царем о мире. Оставив командование Кержану, он повернул к лагерю субоба, который, по обыкновению, представлял из себя целый походный город.
Когда маркиз вошел в царскую палатку, Салабет быстро вскочил и бросился к нему.
— Ах, Газамфер! — вскричал он. — Твои победы над маратами составляют венец нашей славы! Счастлив царь, у которого есть такой защитник; охраняемый твоей рукой, он может не бояться судьбы.
— Не будем говорить обо мне, — сказал взволнованный Бюсси. — После всех милостей, которыми ты меня осыпал, я должен просить у тебя на коленях прощения, что не сумел разгадать такое сердце, как твое.
— Так, значит, ты наконец любишь меня? — вскричал царь, в порыве очаровательной доброты раскрывая свои объятия маркизу. — Вот эта моя самая большая победа! Ты не знаешь, как ты заставлял меня страдать и как мучительно было для меня принимать все от человека, который ненавидит меня. Знаешь ли, что я готов был отдать мое царство, чтобы растопить этот лед, который виднелся в твоем взгляде, и заставить заблистать в нем горячий луч дружбы, который светится сегодня. Злой, ты не понял, что я знал твою тайну и что я был счастлив, что мог наконец выразить мою признательность жертвой, достойной тебя.
— Ах! Я был безумцем, слепцом и глупцом: чем больше очарование твоей личности притягивало меня к тебе, чем более ты выказывал себя достойным любви, тем сильнее терзала меня ревность.
— Да, ты даже думал меня убить, — сказал царь. — В выражении твоего лица была начертана смерть, когда я пришел к тебе, полный нетерпения принести тебе счастье.
— Это правда, — сказал Бюсси. — У меня была эта ужасная мысль. И всю мою жизнь я не буду в состоянии искупить ее.
— Замолчи, это забыто! — сказал царь. — Кроме того, я отомщен, так как заставил тебя страдать несколькими днями больше: однако, запечатывая письмо моей печатью, которое я хотел дать тебе сначала открытым, я не мог удержаться от слез при мысли, что я продолжу твое горе. Но я сделал все, чтобы просветить тебя и успокоить; больше я ничего не мог сделать. У нас не принято говорить мужчине, будь это хоть брат, о женщине, которую он любит. Между тем, несмотря на все эти обычаи, я не раз называл тебе Радию, мою любимицу, чтобы вызвать твое сердце на откровенность и показать тебе, что мое было занято. Но ты не понял меня.
— Я недостоин твоего прощения, — сказал маркиз. — Мои проступки так важны, что тяжесть их давит меня. Несмотря на твою великодушную доброту, они оставят тень в моей душе.
— Ты еще не знаешь меня, Газамфер, если думаешь, что я буду злопамятен относительно тебя. Дружба для меня редкая и священная вещь, которую ничто не поколеблет. Я добровольно подал ее тебе, и всю, так что моя бесконечная благодарность к тебе ничего не могла прибавить к ней. И ты видишь, что друг забыл о царе; я не спрашиваю, что привело тебя ко мне и что это за бумаги ты принес.
— Это — предложение мира от Балладжи-Рао, — сказал маркиз. — Я велел предупредить Ругунат-Дата, чтобы он пришел сюда, и, согласно твоим распоряжениям, заключим условия.
У входа в палатку показалось красивое и кроткое лицо брамина.
— Он любит меня, визирь, и это благодаря тебе! — вскричал царь. — Ты можешь просить у меня за это какой угодно милости!
Глава XXX
ЯД
Среди свежей рощицы пальм, на берегу моря, приютился довольно маленький уединенный домик, окруженный со всех сторон раскаленными песками. На окнах опущены «татти» — занавески из плетеного тростника, которые чернокожий беспрерывно поливает при помощи насoca, переходя от одной к другой. Слышится только шум от этой струящейся воды. Дом кажется мертвым среди этого широкого, совсем оголенного вида, где песчаная пустыня чередуется с морем и небом.
Между тем вдоль берега как будто что-то катится и необыкновенно быстро приближается. Поднявшееся облако пыли дает знать, что скачет всадник: он беспощадно гонит лошадь. Он направляется к дому, въезжает в открытую калитку ограды и, спрыгнув со своего скакуна, взбегает по ступенькам террасы.
Из домика кто-то выходит к нему навстречу.
— Ну что, Наик? — печально спросил вошедший Арслан-Хан.
Лицо парии было в слезах.
— Он умер?
— Нет, он жив; но надежда покидает наши сердца, как вино — разбитый кубок.
— Велик Аллах! Он может сотворить чудо.
Наик покачал головой.
— Войдите, но снимите оружие: вид стали наводит на него ужас.
— Бюсси боится шпаги! Увы, он погиб, — сказал Арслан, глаза которого стали влажными. — Теперь я вижу, что меня хотели удалить, отправив к Моголу, чтобы отвезти ему дань царя. Уехав среди торжества и радости, я нахожу через несколько месяцев бедствие и горе.
— Убийство Ругунат-Дата было первой молнией этой ужасной грозы, — сказал Наик.
— Убийца — это негодный Панх-Анан.
— Я ни минуты не сомневался в этом. Министр говорил об опасном письме Ругунат-Дата к принцессе Лиле, которое было перехвачено. И поэтому, когда я увидел дорогой брамина мертвым, мною овладело ужасное беспокойство. Я был уверен в нашем поваре, и все блюда приносились закрытые и запечатанные им. Но я умолял моего господина не пить ничего, даже капли воды вне дворца, и он обещал мне, смеясь, не веря в опасность. Тем не менее я не был спокоен, я предчувствовал отраву. Увы! Однажды, уходя с совещания с новым министром Сеид-эль-Аскер-Ханом, притворно скромное лицо которого внушало мне ужас, господин упал без чувств и его принесли во дворец в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, он признался мне, что выпил несколько ложек щербета, от которого не мог отказаться, так как его предложил сам министр. Он говорил, что ему было очень жарко, потом его внезапно охватил холод. Тем не менее, против всех ожиданий, он быстро оправился и посмеялся над моими постоянными опасениями. Однако вскоре нрав его изменился. Он, с такими привлекательными манерами, дружелюбный, несмотря на свое высокое достоинство, вдруг стал страшно высокомерным со всеми, так что г-н де Кержан перестал говорить с ним и еще до сих пор страшно сердит на него. У господина появились внезапные приступы гнева без причины, и тогда он не щадил никого, даже царя, который выказал редкое терпение. Тогда-то узнали о невероятной новости, что новый претендент, поддерживаемый англичанами, идет с огромными силами на Аурангабад. Услыхав об этом, генерал, казалось, смутился. В первый раз хладнокровие покинуло его; он колебался, и когда враг приблизился, вместо того чтобы защищать город, он, вопреки всему, приказал отступить и заставил царя уехать в Гайдерабад. Я слишком хорошо знаю действие медленного яда, который, прежде чем убить его тело, разрушал славу любимого героя. Были минуты просветления, потом он ослабевал и, казалось, боялся битвы. Враги заняли город, отняли драгоценности, и Бюсси, герой Женжи, победитель, стал говорить о бегстве в Пондишери. Дюплэ страшными усилиями смягчил немного бедствие и мог удержаться в Гайдерабаде. И я думаю, что капитан Кержан получил секретные предписания: он управляет всем, после того, как болезнь генерала приняла смертельный характер и мы должны были отвести его сюда, надеясь, что свежие морские ветерки принесут ему облегчение.
Арслан-Хан рыдал, схватившись за голову.
— Кто его лечит? — спросил он.
— Доктор царя здесь, он не покидает его, — сказал Наик. — Но он признает себя бессильным и не может узнать, какой яд медленно убивает такого молодого здорового человека. Генерала беспрестанно терзает ужасная лихорадка и доводит его до припадков бешенства, гнева и безумия, во время которых он находит силы и ломает все. Но эти приступы прекратились уже несколько дней, уступив место более спокойному бреду, детскому страху и опасной сонливости, которая, по словам врача, возвещает конец.
— О, я отомщу за него! — вскричал Арслан. — Я даю священную клятву поймать этого негодного брамина и выдумаю для него самые ужасные пытки. Я продолжу его страдания дни и месяцы и разорву его на куски. Но, увы! Вся его нечистая кровь не искупит и одной капли крови моего друга.
— Господин проснулся, — сказал слуга, появившись и тотчас исчезнув.
— Как ты думаешь, узнает он меня? — спросил Арслан, входя, весь дрожа, в комнату.
Это была зала с голыми стенами, почти пустая, в которой всегда поддерживался свежий воздух и полумрак. Посередине, на тростниковой кровати, без простыни и одеяла, лежал маркиз, укутанный только в черный шелковый халат. Он лежал на спине с блуждающим взором, с черными, откинутыми назад волосами, и можно бы подумать, что он был мертв, если бы не нервные подергивания и прерывистое дыхание.
Арслан подошел и безнадежно созерцал это еще прекрасное, но прозрачное лицо, с двумя черными кругами под глазами, которым лихорадка придавала ужасный блеск. Он стал на колени, взял и поцеловал руку умирающего, которая обожгла его, как раскаленный уголь. Между тем пунка сильно освежала воздух, и Марион беспрестанно мочила свежей водой лоб своего господина.
— Он не видит меня! — пробормотал воин. — Он не слышит меня!
При звуке этого голоса, Бюсси внезапно приподнялся и посмотрел на того, кто там стоял, потом откинулся в сторону молодой девушки.
— Господин не узнает Арслан-Хана?
— Да, — сказал он. — Знаю, он пришел убить меня.
— Какое наказание! — вскричал умара.
Но больной тотчас забылся и впал в неподвижное состояние.
— Где же доктор? — спросил Наик.
— Он пошел отдохнуть; он выбился из сил. Больной не переживет ночи, сказал он, и бесполезно беспокоить его лекарствами, которые он отказывается принимать.
— Все мы трое с радостью пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти его! — вскричал Арслан, ломая руки. — И ничего-то не можем сделать.
Бюсси снова задремал. Его верные друзья смолкли и стояли неподвижно, уничтоженные ужасным ожиданием неизбежного несчастья.
Прошел час. Наступила темнота, предвестница ужасных, внезапных гроз, которые так часты в Индии. Море принялось реветь, небо разгорелось; дождь и гром потрясали домик, который, казалось, готов был разрушиться.
Присутствующие, поглощенные горем, мало беспокоились об этом. Проснувшийся доктор вошел в комнату больного и велел запереть окна и затворить дверь.
В середине грозы Бюсси приподнялся на кровати с искаженным лицом, со сжатыми на груди руками, как будто его давила какая-то тяжесть. Потом, глубоко вздохнув, он упал назад, без дыхания.
— Это конец, — сказал доктор.
В эту минуту в дом ворвался вихрь ветра, озарив комнату: дверь открылась и раздался голос:
— Всякий конец есть начало!
Арслан, как безумный, бросился на колени перед только что вошедшим, необыкновенным существом.
— Аллах услышал меня, — вскричал он, — и сотворил чудо!
Вновь прибывший был худ, как призрак. Глаза его блестели, как звезды под всклокоченными волосами. Он был наг, исключая куска красной материи, и весь промок от дождя.
— Факир! — пробормотал Наик, складывая руки, с лучом надежды в глазах.
— Да, это я; вы обнимете меня после, — сказал Сата-Нанда, сбросив наземь мешок из крокодиловой кожи, который был у него на спине.
Он поспешно раскрыл этот мешок и вытащил из него множество пузырьков и массу широких, шероховатых и волосатых, только что сорванных листьев. Потом он приблизился к больному, устремил на него долгий, пристальный взгляд и несколько раз провел пальцами по его лбу, глазам и груди.
— Это бог! — сказал Арслан. — Раз он пришел, он его спасет.
— Завтра было бы слишком поздно, — сказал факир.
Он сорвал шелковый халат, которым был окутан Бюсси, и, не обращая внимания на прозрачность и белизну его кожи, принялся сильно растирать его горстью листьев, которые принес с собой.
— Разве ты не знаешь, — сказал ему доктор, — что в этом растении заключается сильный яд?
— Если бы я этого не знал, я не воспользовался бы им. А впрочем, не все ли тебе равно, раз ты осудил твоего больного на смерть?
— Кто этот безумец? — спросил тихо доктор Наика.
— Это святой человек, который знает все тайны природы. Он был зарыт в землю в течение шести недель.
Царский доктор пожал плечами и бросил презрительный взгляд на факира, который извивался, как демон, не переставая растирать больного, все меняя листья.
— Смотрите, смотрите! — вскричал он после часовой работы. — Кожа краснеет и становится влажной.
— Вот это было бы чудесно! Мы безутешно испробовали все, чтобы вызвать испарину.
— Вы не сделали того, что было нужно; яду нужно противопоставить другой яд.
— В самом деле, влага смягчила кожу, — сказал доктор, вне себя от удивления, трогая руку больного.
— Ну, так, раз ты не считаешь меня больше сумасшедшим, потри в свою очередь, у меня нет больше сил. Полегче теперь и не так скоро.
Доктор повиновался и занял место Сата-Нанды, который дал ему горсть листьев.
Тогда факир спросил чашу и налил в нее содержимое одного из своих пузырьков, потом несколько капель из другого, отмеряя в высшей степени аккуратно.
— Это тоже яд, — сказал он.
— Но больной не в состоянии что-либо принять; он со вчерашнего дня отказывается от всякого питься.
— Это он выпьет.
Сата-Нанда подошел к маркизу и устремил на него пристальный взгляд.
— Выпей это, сын мой, так я хочу! — сказал он повелительным голосом.
Не открывая глаз, Бюсси сделал усилие, чтобы поднять голову.
Факир медленно влил ему всю чашу.
— Нy, о чем же ты задумался? — спросил он доктора, который немного боязливо смотрел на него.
— Разве ты волшебник?
— Может быть! А ты разве боишься волшебников? Иди, растирай, или, если ты устал, уступи место другому.
Доктор принялся тереть, между тем как Сата-Нанда слегка дул на лоб больного.
Последний вдруг открыл глаза и вскочил с раздраженным видом, крича:
— Что, вы хотите кожу что ли содрать с меня живого?
— Он чувствует боль, он спасен! — вскричал факир и принялся выкидывать самые невероятные штуки.
Бюсси смотрел на него с невыразимым изумлением, не выказывая между тем страха. Потом он снова опустился с усталым видом, но с гибкостью живого тела.
— Принесите мне все, что у вас есть шерстяного, — сказал факир, снова став серьезным.
Он тщательно укутал молодого человека и приказал ему спать.
— Отдыхай долго и хорошо! После этого я отвечаю за тебя.
Бюсси закрыл глаза и, пролежав столько дней растянувшись на спине, он впервые повернулся на бок, чтобы заснуть.
Хотя радость тех, которые только что готовы были придти в отчаяние, не выражалась ничем особенным, она не была от того менее сильной.
— Ну так, если вы довольны, дайте мне поесть, — сказал факир, садясь на пол и уткнув подбородок между колен. — Вот уже три дня, как я скачу без всякой пищи, кроме нескольких фиников, которые я сорвал на лету, проезжая под деревьями.
Наик побежал готовить обед. Доктор сел рядом с Сата-Нандой.
— Велик Аллах! — сказал он. — То, что я видел сейчас, привело меня в восторг. Продай мне твой секрет, я тебе дам какую угодно цену.
— Продать его тебе! Зачем? Я тебе охотно передам его и объясню, каким образом яд, который я поборол, действует только на нервы и очень похож в своих проявлениях на бешенство. Но обо всем этом поговорим после, когда я поем и высплюсь.
— Я преклоняюсь перед твоей наукой и твоим великодушием, — сказал доктор, — ты в самом деле — сверхчеловек.
Гроза прошла, только море ревело еще. Все, измученные усталостью, быстро заснули, кроме Наика, который, сидя на корточках в ногах постели, смотрел с немой радостью на своего господина, спавшего почти спокойным сном.
Факир проснулся с наступлением дня, потянулся своими длинными, как у саранчи, членами и поднял одну занавеску, чтобы пропустить дневной свет. Тогда он увидел распроставшегося у сада верблюда, на котором приехал, с вытянутыми ногами и шеей и стеклянным взором.
— Бедное животное! — пробормотал факир. — Я принес тебя в жертву, но твоя жизнь спасла человека.
Он подошел к маркизу, который продолжал спать, и в волнении смотрел на него.
— Такого молодого, здорового, сильного унесла бы смерть, если бы я вовремя не вспомнил о нем! — сказал факир вполголоса. — Еще несколько часов забвения, и все было бы кончено, и горе мое было бы глубоко. Почему? Я не знаю. Какие чары притягивают меня к нему? Почему среди тех, которых я встречаю в своем уединении, он самый любимый. Разве только потому, что он обладает волшебной троицей — совместным равновесием сердца, ума и тела; потому что он добр, умен и прекрасен? Все равно; я сегодня возвратил ему жизнь, и мне кажется, что он мой сын.
Он склонился к молодому человеку, осторожно откинул волосы и поцеловал его в лоб.
Бюсси открыл глаза и долго смотрел на факира; потом слабая улыбка разжала его губы.
— Узнаешь ли ты меня? — спросил Сата-Нанда.
— Ты кто-то, кого я люблю; кто — не знаю.
— Ах, так значит это не сон! — вскричал Арслан. — Он спасен!
Выздоровление шло медленно, силы постепенно возвращались. Но ум по-прежнему был слаб, и молодой человек испытал снова страшный припадок в тот день, когда, по его настояниям, ему рассказали о несчастье, случившемся благодаря его болезни: отступлении, по его приказанию, о бегстве царя в Гайдерабад, о занятии столицы врагами.
— Это она, она обесчестила меня! — кричал он.
И он упал, как пораженный громом.
Сата-Нанде пришлось пустить в ход всю свою науку, чтобы привести его в чувство.
Когда он снова поднялся, это был уже другой человек; можно было подумать, что лучшее в нем умерло, что он пережил себя и что пламя его юности внезапно погасло. Он обвел своих друзей таким взглядом, что сердце у них сжалось.
— Если вы любите еще меня, несмотря на мое падение, мои верные, — сказал он, — не говорите мне никогда о Бангалоре и отстраняйте от меня все, что могло бы напомнить мне об этом проклятом месте.
— Господин мой!.. — вскричал Наик, бросаясь к его ногам.
Но маркиз оттолкнул его с холодной мягкостью.
— Дай мне письменные принадлежности, — сказал он.
И он с большой важностью написал коротенькое письмо.
— Друзья! — сказал он степенно, закрыв и запечатав письмо. — Я прошу у губернатора Индии руки мадемуазель Шоншон. Я хочу посмотреть, считает ли он меня еще достойным быть его зятем, или в его глазах позор последних дней уничтожил все мои победы.
— О, отец! — тихо сказал Арслан Сата-Нанде, который, уткнув подбородок в колени, смотрел с безучастным видом. — Ты, такой могущественный, ты, который все знаешь, неужели ты позволишь ему вырыть такую пропасть между самим собой и счастьем?
— Догоните гонца, который должен отвезти это письмо, и пусть он его не отвозит, — сказал вполголоса факир.
В ожидании ответа от Дюплэ, маркиз проводил дни в военных упражнениях с Арслан-Ханом. После болезни у него осталось дрожание в правой руке, которое его огорчало. Тем не менее, благодаря упражнениям, эта слабость уменьшалась и вскоре совсем исчезла.
Из Пондишери приехал курьер с в высшей степени важным письмом от Дюплэ, но оно еще не могло быть ответом на то, которое отправил Бюсси.
Маркиз вскрыл письмо и, прочитав его, обратился к друзьям.
— Одни только несчастья! — холодно сказал он. — Перехватили письмо изменника Сеид-эль-Аскер-Хана к губернатору Мадраса и узнали о хорошо устроенном заговоре: мараты нарушают мирный договор и соединяются с Нази-эд-дином, новым претендентом, и с англичанами. Министр увез царя, чтобы вырвать его из-под французского влияния, и отправил его в Аурангабад. Наши войска рассеяны во все стороны, чтобы ослабить их, и принять все меры, чтобы их испортить. Ожидаемое подкрепление от Дюплэ никогда не придет. Наш товарищ по оружию, майор де ла Туш, сгорел на море и с ним семьсот человек, которых он вез с собой. Губернатор умоляет меня, даже если я не вполне поправился, немедленно выступить, чтобы снова взять командование над армией. «Вы не успеете доехать до Гайдерабада, — говорит он, — как почувствуется необходимость этой поездки; все будет потеряно без вашего присутствия. Письма, которые я получаю, заставляют мои волосы подыматься дыбом. Всевозможная разнузданность дошла до крайности, и нация впала в нерадение, которое вы одни можете прекратить».
Маркиз сложил письмо.
— Наша задача тяжела, — сказал он. — Но я вижу по блестящим глазам моего отца, Сата-Нанды, что выйду победителем, или, по крайней мере, своей смертью восстановлю свою славу. В путь, друзья! И сейчас же! Мой отъезд все погубил, мое возвращение все спасет.
Глава XXXI
ПРИВИДЕНИЕ
Огромная палатка, обитая пурпурной материей, была открыта настежь. В глубине, на кресле, усеянном цветами, сидел человек, в расшитой золотыми вышивками одежде, с шапочкой на голове, бледный, как пудра его волос. Около него собрались офицеры генерального штаба; некоторые из них сидели на табуретах, но большинство стояло. По обе стороны вытянулась индусская и европейская стража.
Снаружи доносился глухой ропот толпы, а на недалеком расстоянии из-за зубчатых стен вырисовывались на чистом небе башни и минареты Аурангабада.
Все пробудились от кошмара, и население города, полное радости, дает праздник армии, расположившейся лагерем за стенами. Матери отыскивают сыновей, братья спешат в объятия друг другу; смеются и плачут, не досчитываясь тех или других и не перестают расспрашивать и слушать победителей. Чудесная история, которая шепотом передавалась среди мусульман, вызывала у нового лица, которому ее передавали на ухо, крик удивления.
История заключалась в следующем: умерший от отравы французский генерал победоносно возвратился и рассеял чудесным образом самых опасных противников; но это его тень вернулась, чтобы вести армию к победе и возвратить французской нации прежнюю славу.
Несмотря на большую таинственность, с которой все это передавалось, несколько мушкетеров и гренадеров услышали сказку и сильно рассердились. Между тем многие из них готовы были поверить слуху, до того их командир казался им непохожим на себя. Они так хорошо знали его свободный ум, дружелюбную веселость во время сражений. Он умел лучше всякого другого заставить забыть труды своей улыбкой или лестным словом, внушить безумное рвение взглядом, в котором блестела отвага. На этот раз он выказал неумолимую строгость, был нем вне распоряжений, казалось, никого не видел; и лицо его было так холодно и бледно, что в самом деле минутами оно принимало такое выражение, что им казалось, будто ими руководит привидение.
В палатку бросают робкие боязливые взгляды, несмотря на блеск солнца, мало способствующий появлению привидений среди лучезарной равнины.
Между тем в палатке не происходит ничего необыкновенного. К генералу подошел Кержан и глубоко поклонился ему.
— Г-н маркиз! — сказал он. — У меня есть к вам просьба; но сначала я хочу просить у вас моего помилования. Я так провинился перед вами, что не смею, ради моего прощения, обращаться к снисхождению искренней дружбы, которой я больше не достоин.
— То, что вы могли сделать против меня, было на благо нации, — сказал Бюсси. — И с этим надо вас поздравить.
— Я донес на вас моему дяде, — вскричал Кержан с горечью. — Я обвинил вас в трусости!
Бледность Бюсси удвоилась, но он спокойно ответил:
— Ну так что ж, разве я не был изменником? Что это произошло благодаря предательскому действию яда — это вас не касается, и вашей обязанностью было предупредить Дюплэ.
— Я лживо служил вам, имея уже в руках грамоту на командование вместо вас. Я хочу, чтобы вы знали всю мою низость.
И он протянул ему сложенный пергамент.
— Вы очень умно поступили, — сказал Бюсси, отталкивая бумагу. — Спрячьте хорошенько эту бумагу на случай, когда я изменю своему долгу.
Кержан испугался холодной мягкости, с которой отвечал ему маркиз, почти не глядя на него. Он понимал, что за этим спокойствием не скрывалось ни гнева, ни злобы, но что это все-таки не было великодушным, дружеским прощением.
— Умоляю вас! — сказал он. — Теперь, когда, благодаря вашей храбрости, наше государство восстановлено прочнее, чем когда-либо, подумайте о себе: болезнь еще не оставила вас.
— Раз честь спасена, до остального нам нет дела. Но, мне кажется, вы хотели о чем-то просить меня?
— Моя сестра Луиза выходит замуж за г-на де Морасена. Меня ждут на свадьбу в Пондишери, и я прошу отпуска на несколько недель.
— Вы совершенно правы, располагайте нужным вам временем. Можете уехать завтра же, если хотите.
— Честь имею кланяться, генерал.
Бюсси протянул ему руку.
— Да хранит вас Бог! — сказал он.
— Что с ним такое? — спрашивал Кержан сам себя, удаляясь. — Можно подумать, что этот ужасный яд, оставив жизнь его телу, убил его душу. Нет сомнения, что весь мир ему безразличен, он кажется больше неспособным проявлять какие-нибудь чувства, ни радость, ни любовь, ни ненависть, ни гнев. Его присутствие обдало меня могильным холодом.
На поле раздался барабанный бой и звон кимвалов среди криков толпы. Приближался царь в сопровождении министра, чтобы встретить у ворот вновь завоеванной столицы победителя, который только что спас его, и публично воздать ему почести.
Салабет-Синг бросился в объятия Бюсси, который сделал большое усилие, чтобы вызвать улыбку на своем лице.
— Ах, брат мой! — вскричал юный царь, плача от волнения. — Видеть тебя живым — вот настоящее торжество для меня; за него я с радостью отдал бы все другие.
— Твое сердце ни на минуту не изменило тебе, я это знаю, — сказал Бюсси. — Ты один извинил мое безумие, опечалясь, вместо того, чтобы рассердиться; я также вырвался из рук смерти, чтобы придти защитить твой трон, который изменники хотели низвергнуть.
— Как я счастлив, что опять нахожусь под твоей защитой! — сказал царь.
— Покуда я жив, ты не будешь чувствовать недостатка в ней. Тем не менее будь настороже; худший из изменников ближе к тебе, чем ты думаешь.
Трудно себе представить что-нибудь более жалкое, чем вид, который был у министра Сеид-эль-Аскер-Хана, который видел смертельный приговор в каждом слове Бюсси. Министр позеленел, потом покраснел, и усилия, которые он делал, чтобы скрыть свой страх, удваивали его волнение. Между тем, с некоторых пор, видя, что тот, кого он хотел убить, стал опаснее, чем когда-либо, он стал ползать у его ног и писал ему самые покорные письма, унижаясь до раболепства. Маркиз решил, не обращая внимания на личную месть, которая мало его занимала, воспользоваться этим страхом в политических интересах. Визирь, чтобы отвратить грозу, висевшую над ним, был счастлив предупредить малейшие желания генерала, который давал ему возможность угадывать их, избегая таким образом неприятности выпрашивать милости и заставляя, напротив, подносить их себе.
И вот, когда визирь услыхал, что Бюсси говорит об изменнике, который находится совсем близко от царя, он бросился к молодому французу и склонился почти к его ногам.
— Меч государства! — вскричал он, развертывая указ, запечатанный царской печатью. — Свет Мира нашел, так же, как и я, что волнение, вызванное среди подначальных тебе войск по поводу невыплаченного жалованья, не должно повторяться; он дает французам на восточном берегу Индии четыре провинции — Раджамендри, Эллору, Чикаколь и Настафанагар. Доходов с них будет вполне достаточно на содержание армии: они обеспечат ее на всякий случай.
— Хорошо! — сказал Бюсси, взяв договор и прочитав его, передавая своему секретарю. — Это и справедливо, чтобы те, кто защищает государство, были первые вознаграждены за их труды.
Сеид-эль-Аскер-Хан, думая, что ужасный генерал успокоился на время, облегченно вздохнул, как полузадушенный человек, которому возвратили дыхание.
Когда Бюсси появился с правой стороны короля, на своей белой лошади, и переезжал поле, чтобы вступить в город, народ толпился, радуясь, что видит его, но многие мусульмане, с боязливой дрожью, говорили друг другу:
— Конечно, видно, что он не живой. Это призрак. Он внезапно исчезнет, как только въедет в ворота своего дворца.
Наконец он достиг этого дворца — и действительно исчез. Жажда одиночества заставила его углубиться, как дикого раненого зверя, который хочет спрятаться, чтобы умереть. Дойдя до персидской комнаты, он удалил жестом Наика и заперся.
В первый раз после многих дней он мог свободно страдать и дикими криками выражать горе, которое сдерживал и которое терзало его. Он еще не смел дать себе отчета и оставался погруженным в то ужасное отупение, которое охватывает того, кто только что нечаянно убил дорогое существо.
Он никак не мог понять, что побудило его действовать с такой безумной поспешностью. Гордость его была оскорблена; он думал, что та, в которой была вся его жизнь, выдала его; сначала его ослепил вихрь ужаса и отчаяния; потом он почувствовал в себе страшную пустоту. Ему казалось, что сердце его навсегда умерло, как бы сожженное молнией; но к чему же бросать его пепел этой девушке, которая любила его, но которую он не любил? Зачем он просил руки Шоншон? Бросился ли он к ней как к убежищу, вспоминая, что она сказала однажды, что была бы счастлива жить около того, кого она любит, хотя бы тот не любил ее. Нет, он скорее хотел создать непреодолимое препятствие против возможной слабости и вновь завоевать славу, доставить себе горькое удовольствие презирать ту, которая сначала заставила его потерять торжество славы, чтобы убить его потом.
Но теперь его взяло сомнение. Доказательств ее виновности не было. Неужели яд так поразил его ум, что он забыл прелесть своей последней поездки? А эти жгучие, страстные взгляды, эти нежные руки, лежавшие в его руках, и этот прощальный поцелуй, безумный, смешанный со слезами? Да, на минуту все было забыто, при ужасной мысли, что название низкой могло быть справедливо присоединено к ее имени. Он увидел с холодной ясностью, что пропасть разверзлась у его ног и опасность, благодаря этой женщине, постоянно угрожает ему. Инстинкт заставил его удалиться от нее, но когда была принесена жертва, безысходное отчаяние охватило его, как ледяной покров. Между тем сильное желание смыть пятно со своего имени блестящими успехами поддержало его во время последнего похода. Но, как только он сделался победителем, он стал жадно искать смерти, подвергаясь ненужной опасности с безумной смелостью. Но смерть постоянно миновала его, что способствовало тому, что его принимали за тень.
Потребность мести заставила его написать Лиле очень жестокое письмо, в котором он говорил, что в третий раз избежал покушения на свою жизнь и что он признает себя побежденным и отказывается от борьбы, так как последнее покушение было слишком бесчестно.
В доказательство, что на возврат больше не было надежды, он объявил ей о скорой свадьбе своей с дочерью губернатора Индии. Он кончил письмо благодарностью за бесконечную доброту, которую она ему всегда выказывала, уверяя, что он никогда не забудет ее и сохранит к ней те же чувства; но он умоляет ее дать времени смягчить горечь этого разрыва, прежде чем завязать братские отношения, от которых он не хочет отказываться.
Принцесса покорилась и замолчала. Бюсси видел в этом молчании признание в измене.
Дюплэ также не отвечал. Ах, если бы он не получил письма, написанного в минуту безумия, если бы оно пропало! Теперь, когда он снова находился в комнате, переливавшейся огнями, в которой все было по-прежнему, он мог подумать, что пробуждается от дурного сна и что им снова овладевают прежние сладкие мечты, к которым невольно стремился его ум. Дорогое видение, которое он так часто призывал, снова появилось здесь, где оно было всегда желанным гостем; граненые стены, которые как будто сохранили отблеск его, снова воскрешали жгучие грезы, свидетелями которых они были. Мягкий диван, на который он только что бросился в отчаянии, вызвал в нем сладкую дремоту; он забыл настоящее и предался воспоминаниям, которые осаждали его, чтобы проститься с ними в последний раз.
Он думал о чудных радостях, которые напоминала ему малейшая вещь, и даже жалел о прошлых страданиях, которые нельзя было сравнить с теми, какие он испытывал в данное время. Он думал о бешеной ревности, которая заставила его в слезах кататься по этому дивану, когда он боялся собственного ее брака. А теперь, когда она была свободна, он безумно сковал себя цепями по неосновательному подозрению!
Он не должен был возвращаться в эту странную, переливающуюся залу, свидетельницу его счастливых грез! Мужество его исчезало здесь; он потерял самообладание и не мог избежать массы воспоминаний, которые, казалось, принимали его с радостным приветствием.
Сколько раз, покинув царя и визиря после долгих и утомительных споров, он спешил к этому милому месту, как будто кто-нибудь ждал его там! Там, бывало, он находил письмо от Лилы, тщательно и кокетливо положенное в красивую коробочку, футляр или сумочку. Уже входя в дверь, он бросал быстрый взгляд на ларчик с драгоценностями, на который Наик имел обыкновение класть письма, которые приходили из Бангалора в отсутствие хозяина. Как, бывало, сильно и радостно билось его сердце, когда он замечал послание! В его живой радости было что-то наивное, напоминавшее ему счастливые минуты его детства, когда он находил рождественские подарки в своей маленькой туфельке. Наик клал письма в том месте, где извивающаяся золотая змея образовала узел. Бюсси невольно устремил туда печальный взгляд — и вдруг привскочил: там, на обычном месте, лежало письмо.
Быстрым движением он схватил его. Но было адресовано к Дюплэ, и он узнал свою собственную руку и нетронутую печать. Это было предложение, которое его друзья не отослали. У него не было сил рассердиться за ослушание: такое он испытывал облегчение от сознания, что он свободен.
Однако между ним и царицей все было кончено. Она осталась в его воображении, как чудесное воплощение этого великолепного и коварного Индостана, где слишком сильный запах цветов одуряет и иногда убивает разум. Он чувствовал неспособность к жизни, и горе его смягчалось уверенностью, что она недолго продлится. А между тем он думал об обязанностях к царю, которые его честь приказывала ему выполнить. Разве он сам не должен был бороться до самой смерти? Эта мысль повергла его в страшное томление. Ему было бы так приятно, если бы успокаивающие волны последнего сна поглотили его, унесли без сопротивления в океан вечного покоя!
Часы шли: голова его была тяжела, в ней не было мысли. Члены были неподвижны. Он почти не страдал и пришел в себя, когда косвенные лучи заходящего солнца, проходя через стекло, зажгли стены, и зажгли их блеском торжественного великолепия.
Он встал, чтобы навсегда покинуть эту залитую светом комнату, где из неведомой глубины каждой грани мимолетные существа делали ему веселые знаки и смеялись над его отчаянием.
Глава XXXII
ЛИЛА
— Господин! — воскликнул Наик.
Но он не мог продолжать и прислонился к стене, задыхаясь от волнения.
— Что с тобой случилось? Уж не дикий ли зверь преследует тебя? — спросил маркиз, приподнимаясь с дивана, на котором он дремал.
— Нет, не дикий зверь, — сказал Наик, улыбаясь и показывая свои белые зубы.
— Правда, ты кажешься очень довольным. Уж не пришел ли ты объявить мне о своей свадьбе?
— Нет, не то, — сказал пария, колеблясь и выражая нетерпение. — Я хотел приготовить тебя, но я так смущен, что не знаю, как это сделать.
— Меня приготовить, к чему?
— Принцесса Лила здесь!
— Лила!
Молодой человек вскочил на ноги, с расширенными глазами, судорожно вздрагивая.
— Лила? Я не хочу ее видеть! — вскричал он слабеющим голосом.
— Между тем ты ее увидишь, — сказала принцесса, появляясь в сводчатых дверях.
Они долго смотрели друг на друга, подавленные сильным волнением. Она была страшно бледна, с расстроенным и измученным лицом. Покрывало и темные одежды, растрепанные и покрытые пылью, свидетельствовали о той поспешности, с которой она бросилась во дворец после долгого быстрого путешествия.
Шатаясь от усталости, она подошла к Бюсси.
— Ты нужен царице, — сказала она. — Поезжай!
Маркиз отступил и сказал прерывающимся голосом:
— Я нужен ей? В самом деле! Она, конечно, находит, что я и на этот раз был плохо убит. Ну, так пусть она успокоится, скоро она услышит о моей смерти. Она может сказать своим браминам, что сдержала клятву, которую дала им, так как я, конечно, умираю из-за нее. Но скажи ей также, что теперь ей меня не достать. Я остерегаюсь напитков, которые делают вас низкими и глупыми, прежде чем вы умрете; я предпочитаю умереть сразу, с незапятнанной славой. Вот почему я не последую за тобой.
— Ах, гордость говорит в тебе громче любви! Твое поведение достаточно доказало это, — вскричала принцесса в отчаянии. — Она так же горда, и вот это-то губит вас обоих. Она была слишком горда, чтобы оправдываться, когда ее несправедливо подозревали, и сумела скрыть свое горе и ужасный замысел, который она лелеяла под непроницаемой маской.
— Ах, Лила! К чему ты, такая правдивая? Разве ты не писала мне, что брамины заставили ее поклясться, что она погубит меня?
— Разве я говорила это? Я очень жалела об этом письме, написанном в минуту безумия. Я тебе посылала другие письма, несмотря на запрещение царицы, но посланные были остановлены. В чем поклялась, я узнала позже: она отреклась от тебя, если ей взамен поклясться не покушаться на твою жизнь. Панх-Анан говорил, что ты осужден, но что она может спасти тебя этой ценой. Он поклялся, бесчестный, что пощадит тебя, а в эту самую минуту он влил тебе яд.
— Ах, я не могу больше верить, я не хочу слушать! — говорил маркиз, отворачиваясь от нее. — Может быть, ты тоже хочешь обмануть меня.
— Теперь он во мне сомневается! — бормотала принцесса. — Он колеблется! В таком случае, все погибло!
Уже несколько времени, как Арслан вошел, и Наик радостно показывал ему на вновь прибывшую.
— Она приехала из Бангалора, — сказал он, — привезла спасение.
— Но этой бедной женщине дурно! — вскричал Арслан, бросаясь к Лиле, чтобы поддержать ее. — Разве вы не видите, что она шатается от усталости?
Он довел ее до дивана, где принцесса упала без чувств. Все стали ухаживать за ней, а Арслан старался влить ей между стиснутых зубов несколько капель подкрепляющего напитка.
Придя в себя, Лила быстро встала и с ужасом посмотрела вокруг.
— Мне было дурно? — спросила она. — Долго я пролежала?
— Мы с большим трудом привели тебя в чувство, — сказал Арслан, продолжая стоять на коленях на ковре.
— Ах, проклятая слабость! — вскричала она, ломая руки. — Все уже будет кончено, теперь слишком поздно! Дорога смертельно длинная! Но не все ли равно, раз он ее не любит!
— Лила! — вскричал Бюсси, бросаясь к ее ногам. — Не богохульствуй.
Но она осторожно оттолкнула его.
— Несчастный! Так, так-то ты любишь! — продолжала она. — А я, безумная, судила о твоем сердце по моему и только тебя призывала в своем отчаянии; я, которая из своей любви делала пьедестал твоей и умерла бы, не жалуясь, только бы вы были счастливы — она и ты! Напрасно прошу у тебя помощи, проскакав все пространство день и ночь, не жалея себя, не стряхивая даже пыли, которая ослепила меня. Я скакала без передышки к этому герою, к этому непобедимому, который один мог спасти нас. И когда я приезжаю, разбитая, поддерживаемая только надеждой, он меня отталкивает, колеблется, боится за себя! Ну, хорошо же, раз ты не хотел спасти царицу, так иди, посмотри, как она умирает! — вскричала она душу раздирающим голосом, разражаясь рыданиями.
— Что такое происходит? Говори, Лила, приди в себя; умоляю тебя. Не делай меня безумным, когда она нуждается во мне.
Лила провела рукой по глазам, чтобы отогнать слезы.
— Это правда, — сказала она более спокойным голосом. — Ум мой мутится. Я должна была сейчас же крикнуть ему истину; но я не смела; так я боялась, что ужас отнимет у него силу действовать.
Она схватила руку Бюсси и порывисто, нервно пожала ее.
— Слушай! — сказала она. — Прежде всего, царица не могла поверить, что ты покинешь ее. Она ждала, долго надеялась услышать от тебя слово; потом, когда уверилась, что все кончено, она объявила со страшным спокойствием отчаяния, что, покинутая тем, которого она свободно выбрала себе в мужья, она смотрит на себя как на вдову и решилась расстаться с жизнью, сгорев на костре по обычаю вдов. Брамины, в особенности Панх-Анан, поздравили ее с таким решением. Они говорили, что осквернение души такой преступной любовью может быть смыто только огнем и что тогда она может получить у богов свое полное прощение и обеспечить себе счастье к иной жизни. Царица просила министра приказать начать приготовление для церемонии сожжения. Когда я уехала, обезумев от отчаяния, чтобы призвать тебя к нам на помощь, воздвигали костер для Урваси! А теперь!.. Ах, эта мысль невыносима!.. Это чудное создание, которое приводило мир в восторг, это обожаемое и дорогое существо больше не существует и, может быть, представляет уже груду пепла.
— Замолчи! — закричал Бюсси страшным голосом. — Разве я буду жить, если не будет больше моей Урваси?
Он схватил шпагу, которую ему уже протягивал Наик, и бросился вон. Пария последовал за ним.
Принцесса обеими руками схватилась за сердце, и слабая улыбка надежды разомкнула её сжатые губы, пока она следила за удаляющимся молодым человеком. Потом она снова упала на диван, выбившись из сил.
Тем не менее она еще не хотела отдыхать.
— Арслан! — сказала она умаре, который быстро прицеплял оружие, чтобы тоже отправиться. — Прежде, чем последовать за ним, выслушай меня. Возьми с собой несколько самых отважных французских солдат; может быть, придется бороться с фанатиками, которые помогают браминам. Если меня послушают, на дороге этапами стоят вполне оседланные переменные лошади на двадцать человек. Один человек откроет вам восточные ворота города; все же будут заперты по приказанию Панх-Анана, который принудил царицу провозгласить его наследником престола. Поезжай прямо на царское кладбище, что за дворцом. Иди, иди скорей!
— Если не удастся спасти царицу, можно будет, по крайней мере, отомстить за нее! — вскричал Арслан, бросаясь к двери.
Лила осталась одна и, упав на диван, невольно заснула.
Глава XXXIII
ДЖЕНАТ НИШАМ
Все обряды — молитвы, посты, очищение — были исполнены. Урваси доживала последний торжественный вечер.
Оставив в слезах своих прислужниц, она вышла на высокую террасу и мрачным, пристальным взглядом созерцала умиравшую ночь, залитую кровавым светом зари. На западе, за горизонтом, скрывалась бледная луна, и царице казалось, что она видит печальное лицо, которое с состраданием смотрит на нее, делая ей знаки, притягивая ее к голубой бездне, куда оно опускалось.
Занялся день, последний, который ей предстояло увидеть, и тотчас начался, как всегда, птичий концерт. Голуби доверчиво опустились на карниз из розового песчаника, но царица не видела их.
Дворец, в котором жил посланник, еще был погружен во мрак. И царица жадно смотрела в эту тьму, ища глазами темную фигуру, склонившуюся над балюстрадой террасы, на том самом месте, где показался царский посланник в день его приезда, когда она в его честь делала возлияния солнцу.
Теперь солнце отомстило за нечестие, рассеивая видение потоком света.
Урваси закрыла лицо руками, чтобы лучше созерцать свое видение.
— Увы! Неужели возможно, чтобы он разлюбил меня? — говорила она себе. — Неужели любовь, которую, казалось, вечность не могла истощить, вдруг исчезла? Ах, а между тем мне все кажется, что я через пространство чувствую, как порывы его сердца отвечают волнению моего. Может быть, он страдает так же, как и я, в оковах своей гордой воли, может быть, он еще любит меня! Ах, нет, нет! Пусть эта мысль не смущает моего ума! Как бы я могла умереть, если бы знала, что не все еще потеряно? Нет, нет! Я заслужила свою участь. Но мои первые грехи явно свидетельствуют о том, что я невинна в том грехе, которого не совершила. И возлюбленный насильно вырвал свою любовь, без сомнения, растерзав свое сердце, но он ее вырвал и с презрением отбросил прочь от себя. Решительно все кончено: он устал наконец прощать; слава для героя дороже любви. Он жестоко отомстил за страдания, которые ему причиняло раньше мое безумие. И вот, когда моя жизнь всецело сосредоточилась на нем, он поверил в мою ненависть и отнял у меня свою любовь, чтобы отдать ее другой. Это всего невыносимее. Теперь для другой будут светить его голубые глаза; этот властный и нежный взгляд будет ласкать красоту другой! И ей будут улыбаться эти чудные губы. Как, эти губы, поцелуй которых приводил в восторг мою душу и наполнял ее неизгладимым опьянением, отдадутся другим поцелуям, которые сотрут мой! Ах, смерть! Приди скорей, чтобы задушить эту ужасную мысль, освободи меня от муки, слишком тяжелой для меня, слабой!
Со стороны большой пагоды раздались мрачные звуки и разнеслись по всему проснувшемуся городу. Звуки кимвал и колоколов чередовались между собой с погребальной заунывностью, возвещая о жертвоприношении, о царском сожжении в честь богов.
— Вот бьет час моего освобождения! — сказала она. — Меня ждут; я готова.
Царица бросила последний взгляд вниз. Там она заметила молчаливую толпу, которая, как ручьи, стекалась по улицам, по направлению к кладбищу. Это пораженный народ шел смотреть на смерть царицы, своей добродетельной богини. Женщины плакали, закрывая лица черными покрывалами, у мужчин волосы были посыпаны пеплом, а некоторые из них несли музыкальные инструменты, сломанные в знак траура.
— Бедный и дорогой народ! — бормотала царица, склоняя голову. — Мой наследник, конечно, не будет так любить тебя, как я! Прости, что я покидаю тебя таким образом, будь сострадателен к низости женщины, которая не может решиться жить в страданиях. Между тем я надеялась дать тебе хороший удел, я хотела дать тебе в цари могущественного и доброго героя, который укрепил и защитил бы тебя. Но он отвернулся от меня, отдернул руку, которой нежно поддерживал меня, унося на самое небо; он дал мне упасть с высоты моих мечтаний в пламя костра.
Она безучастным взором осмотрела еще раз деревья, сады и здания двора, где прошла ее жизнь.
— Того, о чем я жалею, нет здесь! — сказала она.
Она спустилась и отдалась в руки своих прислужниц, которые одели ее для жертвоприношения. Все плакали, оканчивая дрожащими руками свою работу. Слезы скатывались на драгоценные камни в блестящих складках нежной материи. Мангала спрятала лицо, и ее притворные рыдания вызывали улыбку царицы.
— Лила! Где ж Лила? — вскричала она, ища глазами отсутствующую подругу.
— Принцесса не могла пережить тебя, — сказала одна из женщин. — Говорят, она умерла. Знаменитый Абу-аль-Гассан находится около нее, и он запретил доступ к ее дворцу.
— Дорогая Лила! У меня нет времени сказать тебе последнее прости. О, ты, которая так любила меня, что могла бы радоваться моему счастью, которое разбивало твое! Ты, которая столько же, сколько и я, страдала из-за моего горя, может быть, умираешь из-за моей смерти; я посылаю тебе мои самые нежные чувства и уношу воспоминание о тебе, как о благовонном букете.
Урваси была одета. Она посмотрела в большое зеркало полированного золота, в то время, как ей прикрепляли гирлянду девственного жасмина.
Она в последний раз улыбнулась, как женщина, видя в зеркале небесное отражение, и сказала вполголоса:
— Восемнадцать лет, прекрасна и царица! О, жестокий возлюбленный, жертва достойна тебя!
Потом она вышла из своей комнаты, в сопровождении рыдающих женщин, и твердым шагом подвигалась между двух шпалер придворных и вельмож, которые, все в слезах, становились на колени на ее пути и целовали пол под ее ногами.
Когда она появилась на наружной галерее, где кончалась лестница, у народа вырвался громкий крик отчаяния. Взволнованная царица остановилась на минуту и скользнула взглядом по этой толпе с поднятыми к ней головами, потом сделала прощальный жест и спустилась.
В ту минуту, когда она была на последней ступеньке, существо, которое там сидело, уткнув подбородок между колен, с большой шапкой волос, быстро встало и устремило на удивленную царицу два блестящих глаза, сверкавших, как бриллианты. Она задрожала, узнав факира, который был известен своей святостью, и сделала шаг к нему.
— Ах, отец мой! — вскричала она, протягивая руки. — Окажи последнюю милость той, которая должна умереть, — ты, который все можешь!
— Чего ты хочешь от меня, — ты, красота которой обоготворяет плоть? Чего тебе надо от меня, преступное дитя, разрывающее чудную оболочку своей души?
— Чего я хочу? — спросила Урваси. — Я не имею утешения, как обыкновенные вдовы, у которых умирают мужья, после жизни, полной любви, — утешения, покидая землю, поддерживать на своих коленях безжизненное тело возлюбленного. Если бы я могла по крайней мере еще раз увидеть его лицо, смерть для меня была бы приятней. Отец, умоляю тебя, заклинай Майю, сделай, чтобы явился передо мной тот, кого я хотела убить сама и из-за которого сама теперь умираю.
— Ты будешь услышана, прекрасная дева! — сказал факир. — Он явится, ты увидишь, как он прибежит, обезумев от страха и любви. Тогда сойди с костра, беги в его объятия: они сомкнутся над тобой, чтобы унести тебя на небо.
— Ах, благодарю, благодарю! — воскликнула царица, схватив руку Сата-Нанды и благоговейно целуя ее.
Каста браминов подвигалась к ней навстречу с Панх-Ананом во главе; но толпа, менее почтительная, чем всегда, не торопясь, расступалась перед ними. Можно было даже сказать, что враждебный ропот пробегал там и сям, и что как бы нечаянно, святым отцам заграждали дорогу. По знаку своего господина, рабы Панх-Анана рассыпали несколько ударов направо и налево своими серебряными палками; народ отступил, бросая злобные взгляды ненависти на министра. В толпе распространился слух, что Панх-Анан принудил царицу назначить его своим наследником и что он толкнул ее на жертвенник, чтобы завладеть ее короной. Новость, что жестокий и жадный брамин, которого так боялись и ненавидели, наследует этой любимой государыне, усиливало отчаяние, вызванное жертвоприношением.
Урваси села в носилки, ища глазами факира, который замешался в толпе. Она заметила, как он с удовольствием потирал руки, слушая ропот толпы.
Дорога была длинная и трудная. Нужно было рассекать живые волны, нарочно загораживавшие проход, представляя слабое сопротивление ударам палок и натискам всадников. Иногда цепь всадников разрывалась, и ворвавшаяся толпа тянулась, ползая на коленях, к носилкам.
— Царица, царица! Не покидай нас! — кричали люди. — Что с нами будет без тебя? Мы привыкли к твоей благодетельной руке, и всякое другое иго раздавит нас.
— Мы будем тебя так любить, что ты забудешь свое горе, останься, останься! Ты должна быть с нами. Откажись от этой ужасной смерти! Сжалься над твоим народом, который готов погибнуть вместе с тобой!
Народ хватался за носильщиков, умоляя их не идти вперед, тогда как царица, в слезах, откидывалась в глубь носилок.
Министр, полный беспокойства, отдал приказание рассеять толпу ударами копий. Послышались крики, жалобы, и кровь полилась на землю; но дорога стала свободной; и вскоре все вступили в тень царского кладбища.
На открытом месте, где позже должен был возвышаться надгробный памятник из мрамора и золота, был воздвигнут костер из сандалового дерева. На каждом углу рабы держали зажженные факелы.
Увидя вдруг эту груду бревен и валежника, Урваси с непобедимым ужасом откинулась назад, закрывая лицо руками. Но ее гордость быстро вернул ей мужество: она резко подняла голову и храбро посмотрела на место жертвоприношения.
Брамины поместились на площадке, против костра, и с поднятыми вверх руками стали на молитву. Под ними глухо заиграли музыканты, мало-помалу увеличивая шум. Толпа, сдерживаемая стражей, составляла как бы стену на некотором расстоянии.
Вокруг костра развешивали гирлянды цветов и зелени, которые почти совсем скрывали его. Молодые девушки, ходя вокруг него, лили на землю амбру и мускус; потом они вернулись к царице, которая, срывая с себя украшения, раздавала их им.
Нанх-Анан приблизился к Урваси с полной чашей в руках. Он восхвалял царицу с напыщенным жаром, очертил главные деяния ее царствования и провозгласил ей счастливое существование в будущей жизни. Он обещал выстроить в честь нее храм, как в честь богини, и в конце концов поздравил богов с принятием ее в их мир. Потом он протянул ей напиток. Обыкновенно его составляли из усыпляющего сока для того, чтобы жертва онемела, так как страшное возмущение природы перед убийством могло вызвать соблазн. Но Панх-Анан, боясь, чтобы народ не предпринял чего-нибудь для освобождения царицы, усилил порцию яда, чтобы навсегда усыпить ту, которая выпьет его.
Урваси твердым голосом поблагодарила его, схватила чашу, в слезах протянула ее к толпе, как бы прощаясь с ней в последний раз, и поднесла ее к губам.
Одним прыжком Сата-Нанда очутился перед ней и опрокинул смертельный напиток, сказав тихим голосом:
— Это помешает тебе видеть явление.
Она с благодарностью посмотрела на него и бросилась на костер.
Тогда рабы, опустив свои факелы, подожгли его.
Музыкальные инструменты с шумом заиграли, чтобы покрыть возможные крики жертвы, а брамины, придя в сильное волнение, запели торжественную молитву, в то время как душистый дым стал стлаться по земле.
Урваси появилась на вершине костра, как на пьедестале. Освещенная лучами солнца, которые, казалось, сосредоточивались на ней, ее красота приобретала неземной блеск, и, казалось, она больше уже не принадлежала земле.
Охваченная восторгом, она терпеливо ждала обещанного вознаграждения — последнего видения, которое должно было сделать смерть такой сладкой. Обещание факира усыпило ее томление лучше, чем это мог сделать напиток.
— Спеши, возлюбленный, спеши! Иначе будет слишком поздно, — бормотала она.
Вдруг она вскрикнула:
— Он едет, он едет! Я заметила блеск его шпаги, его белоснежный лоб, блеск его золотых волос…
Облако дыма быстро поднялось и окутало ее, ослепляя; она старалась руками разорвать его, отогнать.
Бешеные крики торжества и радости, вырвавшиеся из тысячи уст, были так оглушительны, что можно было подумать, будто небо падало.
— Победа! Победа! Супруг возвращается, герой спасет ее.
Она ясно слышала эти возгласы, но, окутанная душным облаком, ничего больше не видела и перебегала с одного конца костра на другой, с протянутыми руками, стараясь освободиться от этого ужасного мрака.
Ей не хватало дыхания; ее разгоревшиеся глаза с трудом открывались. Она готова была упасть, когда увидела, как в дым въехала лошадь, покрытая пеной и кровью, с бешеными от ужаса глазами, неся дорогого всадника, который схватил ее на руки и умчал.
Но в эту минуту появилась фигура Панх-Анана, который, скрежеща от бешенства зубами, повис на спасителе, мешая ему, стараясь свалить его. Подобно тому, как отстраняют мерзкое животное, Бюсси сильным ударом ноги оттолкнул своего врага, так что он покатился в середину костра и исчез за облаком.
На отчаянные крики брамина о помощи отвечали только смехом. Одну минуту Панх-Анану удалось подняться, чтобы бежать; но один воин концом копья оттолкнул его.
Брамин узнал его: то был Арслан-Хан.
— Я не сержусь, что мне пришлось только наполовину принять участие в мести, — сказал мусульманин, — потому что я не мог один привести ее в исполнение. Прочь, прочь, отвратительное чудовище, верни свою мерзкую душу Иблису!
Теперь огонь ярко и живо затрещал. Панх-Анан испустил страшный предсмертный хрип; огонь жег его и осветил его тело, которое покатилось, подобно узкому ремню, и он, корчась, полетел в горящие уголья.
Тогда странный факир, уже несколько дней волновавший народ, появился на верхушке костра, танцуя с бешеной радостью среди пламени, которое как будто было бессильно против него. Потом одним прыжком он соскочил на землю и бросился бежать, увлекая за собой толпу ко дворцу, куда Бюсси увез царицу.
Молодые люди долго лежали в объятиях друг друга и не были в состоянии говорить, замерев от счастья. Они задыхались в объятиях, сквозь слезы и смех с опьянением смотрели в лица друг другу, бледные и искаженные от страданий.
Урваси не могла поверить, что она жива! Она тихо благодарила богов за то, что они дали ей небо, о котором она мечтала…
— Еще минута, — говорил Бюсси, дрожа, — и я слишком бы поздно приехал, но еще вовремя, чтобы умереть вместе с тобой. Это пламя служило бы пологом нашего брачного ложа.
— Так я не умерла? — спрашивала она, откидываясь назад, чтобы лучше видеть его. — Так это правда, что обожаемые глаза светятся совсем близко около меня, что я вижу эти улыбающиеся уста, которые будут принадлежать только мне?
— Ах! Они устанут целовать следы твоих ног, чтобы заслужить прощение, которого я не стою, несмотря на адские мучения, которые я вынес.
— Не говори о прощении: я одна виновата! — вскричала она, снова бросаясь к нему на грудь. — Я была низка и слаба, как простая женщина. Я не могла победить ужаса, который внушал мне министр, и я причина всех наших несчастий. Ах, теперь я отдаю его тебе, мы сумеем победить вдвоем бесчестного брамина!
— Панх-Анан умер, — сказал Сата-Нанда, внезапно входя. — Осмеянные толпой брамины рассеялись, и опьяненный счастьем народ забыл свои предрассудки и суеверия; постарайся воспользоваться минутой просветления.
Он нагнулся к уху царицы и тихо сказал ей что-то.
— О, да, да! — вскричала Урваси с лучезарной улыбкой.
Она увлекла молодого человека через галереи лестницы, до самой высокой террасы дворца, которая была вся убрана коврами и на которой жглись в курильницах благовония. Там собрался весь двор.
Держа Бюсси за руку, Урваси подошла к перилам террасы, как бы представляя его народу, который, увидя чету, с неистовством приветствовал ее.
Тогда царица взяла из рук одной принцессы золотую урну с водой Ганга и окропила ею лоб молодого человека, чтобы посвятить его в цари. Потом она обошла вокруг него и заставила его сесть на трон, горевший драгоценными камнями. Около него положили скипетр и корону, и над его головой раскинулся царский зонтик.
— Приветствую тебя, царь Бангалора! — сказала Урваси громким голосом. — Я слагаю с себя власть и передаю ее в твои руки. Доставь нам радость, сделайся нашим господином! Прошу тебя об этом во имя счастья твоего народа и моего.
Бюсси поднялся и ответил, нежно глядя на царицу:
— Чтобы послушаться тебя, я принимаю это, слишком большое, счастье с твердым намерением сделаться достойным его; я посвящу мои силы и мою жизнь защите и процветанию этой страны.
— Победа царю! — вскричала Урваси, опускаясь перед ним на колени. — Я — только его смиренная подданная.
Но он быстро поднял ее и привлек к своему сердцу.
— Ты мой рай, мой бог! — сказал он ей тихо. — Все государства в мире не стоят одного твоего поцелуя.
Она оперлась на царя, ослабев от счастья, в то время как придворные входили один за другим, чтобы воздать почести; в порыве благодарности она подняла глаза к небу.
На чистой лазури не было ни облачка, кроме стаи лебедей, белоснежные крылья которых сверкали на солнце и, казалось, парили над влюбленными, как предзнаменование славы и счастья.