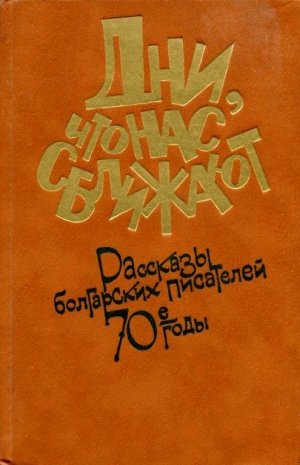
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Предлагаемый читателю сборник рассказов болгарских писателей охватывает период 70-х годов, ставший важным этапом в развитии литератур социалистических стран, в том числе и Болгарии. Изменение духовного облика человека в ходе социалистического строительства было предметом исследования художественной литературы и ранее, однако в это десятилетие тенденция к углубленному раскрытию внутреннего мира человека социалистической формации приобрела новые черты, получила социально-философское наполнение. Писатели разных творческих почерков и стилистических манер стремятся воссоздать напряженность поисков смысла жизни, выявить роль рядового человека в борьбе народа за социальный и духовный прогресс.
Особо пристальное внимание уделено в «малой прозе» 70-х годов рабочему человеку: каков он сейчас, через тридцать лет после победы Революции? В рассказе В. Жекова это монтажник, бригадир, воодушевленный идеей строительства коммунизма и борющийся за то, чтобы она овладела каждым человеком; в рассказе И. Богданова это коммунист, бывший подпольщик, ставший директором профучилища; в рассказе К. Странджева это молодой проходчик, преодолевающий болезнь и неудачи и оказывающийся способным на подвиг.
Одной из ведущих тем болгарской литературы 70-х годов оставалось революционное прошлое страны, когда наиболее полно раскрылись героические черты народа. Характерно, что в новых произведениях на эту тему сильнее звучит мотив борьбы за мир, за самоё жизнь на нашей планете (рассказы К. Кюлюмова, П. Вежинова, В. Попова). Естественно и внимание писателей к жизни современной армии, моральным качествам защитников социалистической отчизны (рассказы Б. Томова, Я. Станоева, С. Сивриева).
Тема революционных преобразований, происходящих в наши дни, дополняется темой сохранения исторических богатств, национальной культуры, бережного отношения к природе. Для Болгарии, в прошлом страны аграрной, эти проблемы особенно актуальны, ибо социальные преобразования в деревне, миграция сельского населения в город и на новостройки меняет его социальную роль и жизненный уклад; одновременно с этим усиливается тяга горожан к природе, к народному мироощущению и искусству, и литература старается отразить наиболее характерные черты этого двуединого процесса (рассказы Д. Цончева, И. Петрова, Б. Томова, Р. Босева).
Немало внимания уделяют болгарские писатели влиянию бурных темпов жизни в эпоху НТР на формирование личности, не закрывают глаза на такие негативные явления, как нравственная инфантильность и безответственность, бюрократизм, разъедающий человеческую душу, не изжитая еще мещанская психология, отчуждение людей в условиях жизни большого города (рассказы Д. Коруджиева, Р. Михайлова, Л. Петкова, Л. Михайловой, Д. Начева).
Тематический диапазон болгарской «малой прозы» 70-х годов очень широк, и собранные в этой книге рассказы писателей, наиболее активно работающих в этом жанре, представят читателю многогранный образ нашего современника, его проблемы и открытия, его жизненное кредо.
Павел Вежинов
ПАМЯТЬ
Генерал пил вторую чашку кофе. День стоял пасмурный, промозглый, в окно, словно бы заслоненное чьей-то спиной, едва просачивался тусклый свет. Но в комнате было тепло, от радиатора исходило ощущение летнего дня, душистого, как этот кофе. Раньше он пил по десять — двенадцать чашек в день, иногда просто тонул в чудесной коричневой гуще. Но из-за сердца пришлось сокращать дозу и постепенно дойти до трех, самое большее — четырех чашек. Он угрюмо спускался по этой лесенке, испытывая горькое чувство безвозвратности, словно уходил навсегда в обиталище теней и воспоминаний. И с каждым прошедшим днем ему становилось все грустней.
Откуда вообще взялась у него эта нелепая страсть к кофе? Он и сам не знал. Первый раз он отведал кофе почти взрослым человеком. Его отец, потомственный учитель, был толстовцем, вегетарианцем, разводил пчел. В доме не бывало ни мяса, ни спиртного, ни табака, ни даже чая, кроме липового — липовый цвет собирали во дворе. Но все это ему так или иначе отведать удалось, а вот кофе как-то не попадался. Окончив Шуменский педагогический институт, он получил должность учителя в Кованлыке, в глуши, где даже рожь не сеяли. Там впервые он и попробовал кофе — этот день так хорошо ему запомнился, словно все происходило вчера. Никогда и ничего не мог он вычеркнуть из памяти; воспоминания шли за ним, как полки и дивизии, неистребимые, беспощадные.
Иногда он даже сетовал на них: они так заполонили его жизнь, что он не мог порой как следует увидеть то, что его окружает. Воспоминания стояли чуть ли не за каждым человеком, и от каждой улицы, от каждого дома тянулась тень далекого прошлого. Сны и те были полны воспоминаний, запутанных, даже страшных.
Он очень хорошо помнил свою первую чашку кофе в доме старшего учителя. То был низкорослый человек с маленьким горбом, словно седло выступавшим над поясницей. Но глаза — спокойные, ясные, как у ангела. Горбун вытащил откуда-то закопченную банку из-под ваксы. Это была спиртовка. Загорелся слабенький синеватый огонек, еле-еле была видна лишь самая верхушка. Вскоре запахло кофе. Однако напиток ничем его не поразил: сладковатый, теплый, приятный — только и всего. А день был точно как этот: серый и безрадостный…
В холле зазвонил телефон.
— Надка! — крикнул генерал.
— Слышу-слышу, — откликнулась жена, все еще невидимая, но ощутимая, как кофейный дух.
Уже в следующую минуту генерал слушал, как она спокойно и беззастенчиво лжет по телефону:
— Нету его. С утра уехал в Оряхово.
В Оряхово… Что выдумала! Никогда не ездил он в Оряхово…
— Не знаю, — продолжала жена, — наверное, завтра, а точнее, послезавтра. Я сказала: послезавтра. Да!
Когда брякнула трубка, он проворчал с досадой:
— Почему ты его не выключишь?
— Тетка должна позвонить, — ответила жена и тут только появилась в дверях: черненькая, еще стройная — худющая, вернее, — взъерошенная, как дрозд зимой.
— Тетка, — поморщился он, — тридцать лет назад была она тебе тетка, а теперь ты сама селедка!
Случайная рифма показалась ему очень удачной, и он с довольным видом откинулся на круглую деревянную спинку стула, которая тотчас сердито заскрипела. Генералу пришлось снова выпрямиться.
Да, он очень хорошо помнил свою первую чашку кофе, и комнату с земляным полом и затянутым бумагой окном, и свинцово-серые щеки учителя. Но помнил он и другую чашку, ту, что впервые открыла ему истинный рай настоящего кофе.
А произошло это в сорок третьем. Из-за ранения в ногу его оставили зимовать в одном селе, битком набитом полицейскими и жандармами. Весь день он проводил в подземелье, ширина и глубина которого была буквально как у могилы. Днем он заставлял себя спать, а ночью, когда все село, окоченевшее от холода и страха, замирало, он, как Лазарь, вылезал из своей «могилы», посинелый, почти прозрачный, и брел на одеревеневших ногах в кухню — на единственную разрешенную ему территорию. В доме было двое детей, но никто, кроме хозяина, не знал о нем.
Бай Димо — ятак, у которого он прятался, — был маленького роста, с брюшком, носил толстые вязаные чулки и линялый свитер, не прикрывавший даже пупка. Часто по ночам бай Димо спускался вниз, чтобы составить ему компанию и рассказать о новостях с фронта. Невидимые друг другу, сидели они вдвоем в темноте, и лишь иногда кончик сигареты высвечивал рыхлый, слегка приплюснутый нос крестьянина.
— Хочешь, кофе сварю? — спросил как-то бай Димо.
— Можно! — согласился он охотно.
Этот кофе показался ему бесконечно лучше, чем тот, что он пил у учителя. Сжавшиеся от напряжения и страха внутренности расслабились, расслабились и истерзанные его нервы. Но ум продолжал работать с беспощадной четкостью: откуда кофе у этого заурядного мужичонки? Теперь и в городах его нет. Перед тем как спросить, он долго колебался.
Ответ последовал из темноты не сразу.
— Скажу — так все равно не поверишь. От начальника полиции. Я ему вчера отнес домашней колбасы, а он дал мне кофе.
Бай Димо говорил шутливо, но слегка обиженно.
— Откуда ты знаешь начальника полиции?
— Когда он был майором, я у него ординарцем служил.
Усилием воли он вырвал из сердца гнусного червя, который уже собирался там угнездиться.
— Товарищи знают?
— Как не знать! Я хожу к нему домой, случается — выпиваем, а он всякий раз чего-нибудь да сболтнет. Работенка эта не больно по мне, но задание есть задание… Еще подлить?
С этого и началась у него страсть к кофе — самая стойкая из всех его довольно малочисленных страстей, начавших уже утихать. Хуже всего, что без кофе трудно работать. За весь вчерашний день он еле написал пол-страницы своим ровным красивым почерком. Каждую букву он выводил старательно, чередуя толстые линии с тонкими, даже точки у него получались красивые: крупные, круглые. Так и не смог он забыть свои учительские навыки и годы, проведенные перед черной доской.
С улицы кто-то позвонил. Он взглянул на часы: половина одиннадцатого. Именно в это время обычно приходит одна пожилая крестьянка из Нижнего Лозена, приносит крапиву и щавель, а иногда домашнее сало или баранину. Но сейчас всему этому не сезон… Спустя минуту в кабинет вошла жена.
— Тебя спрашивает какой-то человек, — проговорила она словно бы нехотя.
— Что значит «какой-то»?
— Ну, такой…
— Подозрительный, что ли?
— Да нет, наоборот…
— Что ж теперь поделаешь, — генерал с сожалением посмотрел на недописанную страницу, — впусти.
Немного погодя снова появилась жена; за ней беззвучно семенил маленький сутулый человечек без обуви, в одних носках.
— Зачем разулся? — сердито спросил генерал.
— Чтоб не запачкать.
— Тут нечего пачкать. Пойди обуйся.
Пачкать действительно было нечего. В прихожей лежал тканый чипровский коврик, а кабинет застилал пестрый родопский половик — его яркие краски, казалось, источали тепло. Возле письменного стола распростерлась громадная бесхвостая медвежья шкура. Пасть скалилась безобидно, но сверкающие стеклянные глаза давно раздражали генерала.
Незнакомец вернулся, на этот раз в поношенных коричневых ботинках. Генерал вопросительно посмотрел на него. Он был абсолютно уверен, что видит этого человека первый раз в жизни: лицо обожжено солнцем, шея тоже потемневшая, морщинистая, на концах тощих рук висят несоразмерно крупные кулаки.
— Сядь тут! — Генерал указал на ближайший стул с вязаной подушечкой на сиденье.
Гость сел, но как-то неловко, словно стул был мокрый. В его синих прозрачных глазах угадывалась усталость и грусть. Генерал молчал — нарочно, разумеется: явился без приглашения — говори первым. Но гость не торопился. Он внимательно посмотрел на пучок карандашей, торчащих из коробки, и только потом тихонько сказал:
— Мы знакомы, товарищ генерал. Ты один раз у нас ночевал. Но меня небось уж не помнишь. Это когда еще было!
Генерал удивленно на него посмотрел. Чтобы память ему изменила? Такого ни разу не случалось.
— Ну и когда ж это было? — спросил он.
— В сорок первом, осенью. Шарков меня зовут.
Какая-то молния озарила память, но лишь на миг; промелькнувшие лица были застывшие, блеклые.
— Стой, — оживился вдруг генерал, — сейчас скажу. Село Нивян, правильно? Ты — кузнец!
— Жестянщик…
— Да, жестянщик. Ты жил в конце села. У нас с Янко была явка в твоем доме. Так?
— И вы оба заночевали у меня.
Генерал пристально на него глядел. Воспоминания приобретали все большую четкость, становились почти осязаемыми, но никак не соединялись с обликом этого бесцветного, заурядного человечка. Тот ведь молодой был, быстрый, синие его глаза сверкали, дерзко…
— Я тебя вспомнил, да-да, вспомнил, — проговорил генерал скорее пристыженно, нежели радостно. — Ты нас угостил хорошо, даже ракийки налил. — Он засмеялся.
— Своя была, немудрящая, — проговорил гость, — ты нехорошо тогда на меня поглядел.
— Я не из пьющих, я и теперь не пью.
— Не из-за того; ты будто усомнился во мне.
— Было дело, — усмехнулся генерал.
— Да это я по глупости, товарищ генерал, не разбирался еще в конспиративных-то законах.
Они помолчали и, глядя друг на друга, вспомнили тот далекий вечер больше тридцати лет назад: на улице глухо и надоедливо лаяли собаки, на печке скворчало жаркое. Маленькая светловолосая женщина с тяжелыми косами проворно готовила вкусный, сытный ужин. И когда обернулась к ним, глаза ее засветились, как небо…
— Что тебя ко мне привело, — спросил генерал, — может, какая-нибудь просьба есть?
— Да нет, — покачал головой гость, — какая просьба! Я уже старый человек, чего мне просить?
— Не такой уж ты старый. Шестьдесят-то есть?
— В следующем году сравняется.
— Ну вот… А мне больше. Но я и не думаю о пенсии. Работаешь?
— А как же? Бригадиром в кооперативе. В строительной бригаде.
— Это хорошо, — одобрил генерал, — а семья?
— Жена в сорок третьем умерла, — ответил крестьянин, и голос его странно изменился,, будто угас, — от родов. А дитя осталось. Девочка. Она в Софии сейчас, университет кончила и уж три года как замужем. Езжу теперь к ним в гости, дня на два.
— Хорошо… — рассеянно проговорил генерал.
Кажется, разговор закончился. Что еще могли они сказать друг другу?
— Может, отобедаешь у меня? — предложил генерал, — я у тебя гостил, а теперь надо, чтобы и ты уважил мой дом.
— Ой, нет! — чуть ли не испуганно воскликнул Шарков. — Меня обедать дома ждут!
Генерал незаметно подавил вздох облегчения. Не жалко ему было обеда, но чем еще целый час развлекать этого неразговорчивого человека?
— Тогда я дам тебе свою книгу. Я написал воспоминания об отряде. Тебе будет интересно.
— Читал я ее, товарищ генерал, и даже два раза, от корки до корки.
Что-то в его тоне насторожило генерала.
— Не понравилось?
Может, не стоило так прямо спрашивать, но никак не мог он привыкнуть к штатским вежливостям.
— Почему ж? Коли два раза прочел — понравилось, выходит, — ответил гость, и опять что-то не то послышалось в его словах.
— Ну давай, говори!
— В твоей книге имеется ошибка, товарищ генерал.
— Ошибка? Быть того не может!
— Имеется-имеется, — неохотно пробормотал Шарков, — где сказано про окружение под Сырницей. Я вас вывел тогда из окружения, а у тебя написано, что Стойчо Ковашки.
Генерал изумленно посмотрел на гостя. Видно, тот не в своем уме! Он помнит каждый миг этой тяжелой операции. И теперь еще, как живое, видит он лицо Стойчо.
— Никакой ошибки нет! — холодно сказал генерал. — Нас вывел из окружения Стойчо Ковашки.
— Да хоть бы и так, — уныло откликнулся Шарков, — теперь-то не все ли равно? Разве свои головы мы тогда спасали?
Он улыбнулся и встал. Какая добрая и какая чистая была у него улыбка! Генералу показалось, что такой улыбки он уже много лет не видел.
— Куда ты? — нервно спросил генерал. — Рассказывай, как было!
— Точно, как ты описал. Только там был не Стойчо, а я. Однако ж какой смысл препираться, товарищ генерал? Не веришь — спроси Стойчо. Он жив-здоров и все еще верховодит над селом, хотя уже не староста и не партийный секретарь.
Гость посмотрел на часы и двинулся к дверям. Генерал шел за ним, насупленный, рассерженный, и Ковашки стоял перед его глазами в дурацкой детской шапчонке.
— Хорошо, пусть это был ты. А не помнишь ли, какая на тебе была тогда шапка?
— Помню, — тихо сказал гость. — Красная такая, вязаная.
Генерал остановился, пораженный.
— Погоди-погоди, — прошептал он.
Шапка действительно была красная, вязаная. Откуда Шарков мог это знать, если, конечно, он не… Но такое казалось невероятным.
Вдруг лицо Шаркова просветлело.
— А-а-а, понял! — воскликнул он и легонько ударил себя по лбу. — И тебя эта шапка обманула! Я и вправду взял ее у Стойчо Ковашки, чтоб уши не замерзли. Наверно, когда я к вам шел, меня увидел кто-то, и Стойчо арестовали. А потом уж и меня. Сколько ж вынес он из-за этой дурацкой шапки! Но выдержал. И я выдержал.
Генерал глядел на него не отрываясь.
— Может, помнишь, как ты меня ругал, — оживившись, продолжал Шарков, — помнишь, ты мне сказал: «Надел бы поярче, а то всего лишь за три километра тебя видать!»
Эти свои слова генерал отлично помнил. Вскоре они опять сидели в кабинете, и генерал пил третью — внеочередную — чашку кофе. Он был почти расстроен, словно утратил частицу самого себя — маленькую, правда, но чрезвычайно важную. Шарков все подробно ему рассказал, и теперь уже сомнений не оставалось.
— Помнишь, товарищ генерал, когда я вас вывел, ведь ты не хотел отпускать меня, — тихо сказал гость. — Ты, видно, боялся, что меня на обратном пути поймают и я выдам отряд.
— Было чего бояться, — буркнул генерал, — а почему, собственно, ты так рвался обратно?
— Как почему? Ведь я ж говорил тебе, жена рожать собралась. Она могла в любую минуту родить, а в доме ни одного мужчины, кроме меня.
— А что потом было?
Лицо Шаркова совсем потемнело.
— Хуже некуда! — вздохнул он. — Тронулся я в обратный путь, потом понял, что ты был прав. А ну как поймают? Даже если они лишь о том догадаются, что меня не было в селе, что я скажу? Подумал я, подумал и пошел к братниной овчарне. Договорились мы с ним кой о чем, потом закололи барашка, и я его прямо как есть, неободранного, взвалил на плечи. Спросят, где был, — скажу, что ходил к брату за барашком.
— Умно, — одобрил генерал.
— А получилось-то не больно умно. Добрался я до дому уже затемно. Ворота отворил. Раньше, когда приходил я, собака от радости на грудь мне кидалась, а в этот раз — не видно ее. Сердце у меня так и сжалось. Иду точно приговоренный. Гляжу — в доме светится всего одно окошко, а занавеска спущена до самого низу, так что ничего не видать. Только я открыл дверь, как они накинулись на меня, будто волки.
— Кто — они?
— Жандармы, кто ж еще… Меня стерегли в засаде.
— Значит, кто-то тебя выдал?
— Да нет. Тогда б со мной покончили. Просто взяли по подозрению. Где был, спрашивали, и насчет шапки, про которую ты говорил… Я отвечал им, как вы учили: ничего не слыхал, ничего не видал, ходил к брату — и все тут. Били они, мучили меня, а я лишь это твержу.
Он тяжело вздохнул и едва слышно проговорил:
— И все — при жене. Это было страшней всего. Чего только со мной ни делали: сигареты зажигали и в шею тыкали. Видишь, следы? Целый год не заживало. Я выдержал, она — не выдержала. Сознание потеряла. А через час пришла в себя и начала рожать. Ребенок-то родился, но она оправиться не смогла. Да вроде бы и не хотела. Так и угасла, даже не попрощавшись со мной.
Воцарилось мучительное молчание.
— Когда смотришь — страшнее, чем когда сам терпишь, — добавил гость.
— Да, точно, — кивнул генерал. Лицо у него осунулось, глаза мрачно горели. В этот миг он как будто не был похож на самого себя.
— Прошло ни много ни мало уже тридцать лет, а у меня это все так и стоит перед глазами: и днем и ночью. Другие пьют, чтоб забыться, а я и того не умею. Не жизнь это.
Генерал молчал.
— Если б на небе был бог, только об одном попросил бы я его, — с мукой в голосе продолжал крестьянин, — чтоб избавил меня от памяти.
— Нет, нельзя! — резко сказал генерал, и желваки заходили на его скулах. — Как ни страшно вспоминать, а без этого нельзя!
— Можно, — грустно возразил гость. — Сдается мне, что все зло от нее, от памяти. Мы ж не живем — мы только и знаем, что разговаривать с мертвецами…
— Неправда! — Генерал налился краской. — Неправда, — повторил он почти грубо. — Наоборот! Если умрет память, умрем и мы, и не только мы — все умрут. И те, кто идет за нами, дорогу потеряют, как будто ее никогда и не было!
— Не знаю… — уныло проговорил Шарков. — Может, ты и прав…
И снова — в который уж раз — синие глаза жены поглядели на него, как живые. Живее всех живых глаз, самые живые на свете. И самые молодые, самые нежные из всех, какие он видел. Переполненные нечеловеческой мукой, горькой любовью, состраданьем. Не может на свете быть других таких глаз, настоящих, живых… Невозможно это! У него перехватило дыхание, и едва ли не впервые он понял, что никогда она не умирала. Никогда, ни на один миг! Зачем сгубил он свою жизнь и себя самого? Ведь она все такая же живая, как в тот давний, страшный день.
Перевод И. Сумароковой.
Костадин Кюлюмов
СЕРДЦА МАТЕРЕЙ
© Костадин Кюлюмов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
Он привык к горам. А на этой равнине, ни долгой, ни широкой — за пять часов можно пройти ее вдоль, за три поперек, — Бойко растерялся, почувствовал неуверенность. Конечно, час встречи выбран был неудачно: пока обо всем договорились, пока разошлись поодиночке, восток заалел и мгла над Родопами стала таять. Теперь и к Пирину идти немыслимо, и к Родопам пробираться опасно. Бойко осмотрелся. Узкие, короткие каменистые овражки — как оскаленные пасти. Они вызывали отвратительное чувство страха, здесь проще простого выследить его и схватить или влепить пулю. И перелески из молодых топольков и верб тут крохотные. Пройдет мимо стадо, шарахнутся овцы, собака тотчас залает: чужак! — и затрещат мотоциклы патрулей. Не-ет, лучше поближе к селу, и, пожалуй, самое надежное место — заросшее деревьями кладбище. До него он доберется через ручей, пересидит день, а к вечеру — по вербным зарослям, потом полем, а оттуда уж как-нибудь до первой родопской горы. Почему он выбрал именно этот вариант, он и сам, уже после того, как все было позади, не мог себе объяснить. Наверное, тогда мелькнула мысль, что кладбище — селение, где никто не поможет, но и не предаст…
Позицию он выбирал тщательно, чтобы страховала от внезапного нападения: в тылу защитой овраг и ручей, левый фланг прикрыт заброшенной и уже разрушающейся церковью с черепичной кровлей, а правый — высокой кучей камней (видно, когда-то собирались делать ограду, но живые в заботах о себе не находили времени для мертвых). Внимательным взглядом обводил он могилы, покосившиеся каменные кресты и подгнившие деревянные кресты, прикидывая, куда отступать, если враг появится со стороны села, или справа, со стороны пыльной дороги, или с пологого склона, или из-за ручья. С выбранной им позиции можно увидеть человека за триста-четыреста шагов — лучшего и не придумаешь. Угнездившись в облюбованной яме среди высокого, почти по пояс, травостоя, разморенный усталостью, со слипающимися веками, он почувствовал, что в пересохшем горле запершило, что он вот-вот закашляется, и подумал: а вода? Тут же вскочил. На ближнем кресте не было ни имени покоящегося в могиле, ни даты смерти, но у основания креста стоял глиняный кувшин. Бойко спустился к ручью, мыл кувшин долго, тщательно, потом наполнил водой и понес в свое укрытие. Голова кружилась от прохлады и чистоты, веявших над примчавшимся с гор потоком, от дурманящего аромата смятых росных цветов… Он вытянулся в траве, положив руки под голову.
Вот и подходят к концу долгие странствия по селам. Теперь снова ждать, пока появится возможность встреч, тогда выяснится, что сделано и какие потери… Сердце щемило от тревоги за молодых с их наивными вопросами: «А почему нельзя просто уйти в горы?»
Он дотошно изучал организацию работы с ремсистами по обеим сторонам Пирина. Было много всего: и отваги, и страха, и осмотрительности, и безрассудства, — была жизнь с ее исканиями, ненавистью и горячей любовью, помогающей верить в добро, в чистоту человеческих побуждений, в то, что зло отступит, что его полный крах неминуем…
Глазу трудно задержаться на чем-то одном: вот на маковку цветка опустилось облако… нет, это просто ракурс снизу вверх, но красиво, надолго запомнится. Такой покой, что не выразить словами. Он разливается по всему телу, овладевает каждой клеточкой и даже воспоминаниями; кажется, что в прошлом это и было самое дорогое чувство и в будущем важно обрести его и беречь, хранить в себе… Вдруг Бойко встрепенулся: я же засыпаю! Ему даже показалось, что он вскочил. На самом же деле он лишь открыл глаза и, вслушиваясь в еле слышное жужжание крохотных существ, в шуршание их крыльев и лапок, вытащил руки из-под головы и прикрыл ладонями глаза от лучей восходящего солнца. Ему предстояло провести здесь весь день, дотемна.
До слуха его донеслись далекие глухие удары колокола, и, еще не проснувшись, не поглядев на часы (что толку, на целый час отстают за сутки), он понял, что девять. В тот же миг рука была в кармане — пистолет на месте. Холодок стали пробудил его окончательно. Голоса! И много! Рядом, совсем близко от него, за душу берущий голос оплакивал кого-то монотонным певучим речитативом. Леденящий ужас сжал сердце: ведь сегодня суббота! Да, суббота, а ему и в голову не пришло, что народ пойдет на кладбище. Перевернувшись со спины на живот, не поднимая головы, он чуть-чуть подтянулся к краю ямы и стал всматриваться, осторожно раздвинув стебли травы. У могилы, с которой он взял кувшин, женщина, вся в черном, опустившись на колени, молилась, кладя земные поклоны. А у ног ее стоял кувшин! Он скосил глаза — в яме кувшина уже не было.
— Иван ходил в город-то, — явственно донеслось до его слуха, — нашел дружков твоих, соколик ты мой ясный… а они ему и говорят: жив, мол, ты, не убитый, а у матери-то у твоей сердце все изболелось, — причитала женщина. — А я-то одежки твои захоронила, чтоб не забыли тебя бог и ангелы, приютили бы душу твою, сыночек ты мой ненаглядный. Завтра-то тебе двадцать первый годочек пошел бы… Господи, если жив сыночек мой, если в горах он, то ничегошеньки мне не надо, лишь бы живой остался… сохрани его и помилуй…
И тут он увидел на краю ямы надломленную просфору и горсть кутьи на осколке черепицы. Почувствовав страшный голод, сполз вниз, жадно жуя, но спазм сжал горло: потом, потом! Здесь горе безысходное, а ты слезы материнские оскверняешь, накинулся, потерпеть не можешь. Он снова подполз к краю ямы, откуда, не выдавая себя, мог видеть женщину, и ему показалось: самозабвенно оплакивая непогребенного сына, обращаясь к нему как к мертвому, но надеясь, однако, на то, что он спасся, она своими мольбами и причитаниями старается удержать в отдалении других, многих, очень многих женщин. Он быстро окинул глазами кладбище, и стало как-то не по себе: почудилось, что могилы разверзлись, из них поднялись черные привидения, а солнце жалит их своими жаркими лучами сквозь нависшие ветви деревьев, кусты сирени в зеленых бусинках зреющих плодов и с редкими поздними цветами. Эти женщины, тенями перемещавшиеся от могилы к могиле, опускавшиеся на колени в земных поклонах, вершившие обряд поминовения — повеяло запахом ладана, смолы, воска, — показались ему бликами ночи. Она будто притаилась под сенью крестов, но, разбуженная колокольным звоном, заколыхалась, ожила и заскользила между могилами, ловя игривые лучи солнца. Как нечто совсем здесь чуждое, не свойственное величавому спокойствию кладбища, солнце стояло на пороге церквушки, искрилось в мраморе ступенек, между которыми проросла ярко-зеленая трава, буйно устремившаяся к небу, словно бы наперекор этому миру безнадежности. Но надо всем властвовал сейчас неумолчный, как шелест сухих неопавших дубовых листьев, приглушенный шум множества женских голосов. Хор без дирижера, вернее, управляемый единым чувством — страданием. Тихий хор голосов, что сливались не с окружающей пышностью природы, не с силой небесного тепла, а с гнущей к земле мукой, с безнадежностью крестов, охраняющих вечный покой «в бозе почивших», с могучей силой влажной, паркой земли.
Он огляделся. Так… повернуться в яме, проползти между могилами и — к ручью. А поп? — молнией пронзила мысль. Поп, о котором в отряде известно, что ест-пьет с жандармами, он здесь, он может заметить! До села за десяток минут дотрусит, а те — сразу на мотоциклы… Далеко не уйдешь. Чтоб провалиться им с этим днем поминовения! Просфорки, кутья, цветочки, ладан… Там, в горах, склонят товарищи головы над погибшим — и все, а боль не меньше… Но здесь-то все же матери…
Женщина, плакавшая рядом, вдруг что-то сердито забормотала. Бойко вслушался.
— Тебе-то что тут делать? Твой-то стражник был! Супротив своих пошел…
Почему он задержался в яме, тоже не объяснишь. Поставив пистолет на предохранитель, осторожно вынул руку из кармана. Рядом с матерью, оплакивавшей то ли живого, то ли мертвого сына, стояла женщина, высокая, худая, тоже вся в черном. Холодом пустоты веяло от ее глубоко запавших под седыми бровями глаз, в них не было ни злобы, ни жалости — ничего.
— Да ладно тебе, Катерина, того, в яме-то, я уж давно приметила, чего уж теперь…
И она, с трудом опустившись на колени, приникла к земле, подкошенная мукой и слезами, которые давят тяжелее могильного камня. Сквозь пелену слез она вглядывалась в Бойко и, ухватившись за траву, шептала в горестном недоумении:
— Господи, ты и сам-то еще дите. Не мог такой убить моего сына… Ведь не ты его убил, сынок?
Бойко смотрел на нее в растерянности.
— Если бы мужчины всегда помнили, что их выстрелы отдаются в сердцах матерей, они бы каждый раз думали, прежде чем спустить курок, — прошептал он и удивленно заметил, что голос его дрожит от волнения.
Мать услышала его, поняла:
— Не верю я, чтобы мой убивал! Ребенком-то был такой жалостливый. Как-то зайца больного нашел и принес мне — лечи, говорит. Не верю я, не убивал он. Ну и что, что был старшим у охранников?
Она опасливо вглядывалась в лицо парня, укрывшегося в провале старой могилы, видела черные тени усталости под его глазами и все же решилась спросить его, врага своего сына:
— Может, ты знал его, сынок? Звали его Петр Ангушев. Три месяца, как похоронили…
Да, она сознавала, что спрашивает того, кто и впрямь мог убить ее Петра.
Что-то смутно всплыло в памяти Бойко, перед глазами возникла на миг стычка у опушки леса с двумя десятками жандармов, случайно наткнувшихся на группу из их отряда. Вспомнилась и еще одна короткая жестокая схватка, когда Люба увидела, что жандарм уронил автомат, швырнула гранату и, бросившись на землю, успела автомат схватить, но в нем оказалось всего пятнадцать патронов. Был ли тогда убит кто-то из врагов? Да, кого-то они тогда тащили, кто-то стонал. Может, это и был Петр.
— Ведь не убивал ты моего сына, нет, не убивал?
Он знал, что не сможет сказать ей правду, он и хотел бы сказать все как есть, но не хватало духу. Ведь тогда ему пришлось бы уподобиться тем господам, которые своим кованым сапогом способны растоптать даже сердце матери.
— О вашем сыне я не слышал ничего плохого, — ответил он, — нет, не слышал.
Мать все крестилась и клала земные поклоны:
— Господи боже, говорила ведь я ему, не с теми идешь, Петр. Ну а сам-то ты, боже, что ж не подсказал ему, куда идти, с кем? Теперь-то уж, господи, прости ему прегрешения его, вольные и невольные… А ты, сынок, хоронись, пожалей мать свою. Господи, что ни случись с вами, все матерям отливается. Да простит тебя господь, что не с миром по земле идешь. Коли добро несешь, зла не встретишь…
Волна сострадания захлестнула душу: мать каким-то шестым чувством уловила, что он боится причинить ей боль. Однако ее истовое желание наставить его на путь добра оборачивалось опасностью: она все громче и громче молила бога:
— О господи! Защити парня-то! Ему бы о матери родной подумать, а он вот пошел добро людям творить.
— Ты вот что… — Бойко подыскивал слова, созвучные ее мыслям. — Ты свари кутью, снеси охранникам, пусть помянут твоего сына, помолятся богу, чтобы простил он его.
— Пойти-то можно, сынок, чего ж не пойти?
— Ты скажи им… хорошенько запомни, о чем прошу! Скажи: ради всех матерей пусть подальше упрячут ружья свои и пистолеты, пусть не ходят больше на облавы, хватит уж стрелять. Гнев тех, кого они убивают в горах и у себя в полиции, он как река, как молния небесная… Так им скажи. Еще скажи, что не будет у их матерей сыновей, у жен — мужей, у детей — отцов. Час страшного суда близок, совсем близок! А о сыне своем ты не убивайся, на нем один только грех: забыл про мать свою и про судный день.
Вялый душный ветер с равнины вместе со звуками женских голосов и плачем донес гнусавый голос попа:
— …и тогда сошел Михаил Архангел и прибрал душу его… раскрыта была книга жизни, и судимы были мертвые и живые… его же царствию не будет конца, и возопиет мир живых и мир мертвых, и начнется суд страшный…
Мать крестилась, все ниже склоняясь в поклонах. Теперь над ней был еще и гнет неминуемо грозившего страшного суда, в голове все спуталось, ясно осознавались только последние слова Бойко.
— Господи боже, в участок-то я пойду, умолять их стану: не забывайте про матерей своих и про деточек малых… Господи боже, да что же это, ведь все-то мы люди, все болгары, а вот поди ж ты, где Петр-то мой? Боже, отведи от нас карающий меч архангелов… Матерей-то за что караешь? Они и так уж наказаны…
И снова опустилась на землю, снова глаза ее впились в Бойко. Шепотом, задавливая в себе крик, рвущийся к небесам, она причитала:
— А что по селам-то делается… Исстрадались люди. Хожу я, сынок, гляжу: дети кричат, матери плачут. Одну спрашиваю, по кому слезы-то, а она отвечает: по мужу, солдат он, дитя родное не увидит. В общину пошла — там писарь голову опустил, а в глазах слезы. О чем плачешь-то? Сына в солдаты взяли, два года служил, потом пять месяцев ни слуху ни духу, а потом пришел, да с одной ногой… Сынок, скажи мне, разве виноват Петр мой, что заманили его в охранники?
Бойко смотрел и сам себе не верил. Великое материнское горе уравняло женщин, каждая оплакивала того, кого уже не чаяла увидеть в родном доме. Смерть уравняла и мертвых: им прощались муки, причиненные людям, и муки, в которые ввергли они сердца своих матерей. Какие же силы исподволь, подспудно действовали все эти годы! От инертности тысяч и тысяч, от охватившей многих жалкой напыщенности монархического патриотизма, от отступничества слабовольных не осталось и следа. Неужто и в самом деле настало время?
Метался над страной пронизывающий, иссушающий душу ураган, его мощные порывы поднимали со дна морского огромные каменья, швыряя их на несокрушимые волноломы до тех пор, пока те не исчезали в морской пучине. Теперь шторм идет на убыль, но вздымаются еще волны, и брызги от них по сей день бьют по лицу. Мир захлебывается кровью миллионов людей, и, если так будет продолжаться дальше, долины заполнятся потоками алой крови и поплывут по ним черные платки матерей и жен, как паруса лодок, уносящих свой скорбный груз за горизонт.
В этом хаосе, в этой мутной мгле, думалось ему, начинают появляться первые, еще чуть заметные просветы, проблески жизни; это муки матерей, их слезы заполняют пропасть ненависти. И непримиримые враги уже видят: одни — бессмысленность своей жестокости, другие — торжество выстраданной надежды. Матери стоят на противоположных краях разверзшегося на две части света и своими истерзанными сердцами пытаются вновь сдвинуть берега надежды и покоя. Потому что придут им на смену внуки, они должны ступить на мягкую, чистую, росную траву мирных рассветов, а не на землю, залитую кровью. Потому что девушки станут матерями и нельзя завещать им вместе с правом носить в себе будущее неутоленную боль старых ран, отчаяние матерей, оплакивающих своих детей, безысходность нынешнего существования…
Бойко понял уже, что мать партизана охраняет его, ведь если кто-то его заметит, то могут сообщить в полицию, и решил пока не покидать даже такое ненадежное укрытие.
— Родные мои, идите обе к священнику, отведите его подальше отсюда, пусть отслужит молебен на другом краю кладбища.
— Погоди, опасно сейчас, — прошептала мать партизана, о котором он тоже ничего не знал, наверно, тот был в дальнем отряде. — Авось не пойдет поп сюда. Вот уйдут все, тогда уж…
Мать убитого полицейского, чуть-чуть повернув голову, скосила на нее глаза:
— Нет, сейчас проще всего, Катерина. Иди со мной, сынок, вот тут справа пойдем, по-над насыпью, потом вдоль оврага, я-то знаю, где засада у них, покажу тебе.
Он шел рядом с придавленной горем, но сильной даже в страдании матерью полицейского. И вдруг испугался, что она угадает его невольно возникшую мысль: горемычная ты моя, поднимись сын твой из могилы, я ведь снова выстрелю в него. Горе твое понимаю и разделяю, помнить буду о тебе, пока жив. Но сыну твоему приговор не мной одним вынесен. Поймешь ли ты меня? Украдкой посмотрел он на женщину. А та, глядя прямо перед собой, шла с плотно сомкнутыми губами. Знает ли паренек, что она в тот самый миг, как увидела его, подумала: тихонько-тихонько — да к сидящим в засаде сотоварищам сына, да сказать им — бегите на кладбище, там партизан прячется. Господи, вот какими помыслами наказываешь ты мать! Почему не вразумил моего Петра, почему дал пойти не туда, не с теми? И, покоряясь этому душу на части рвущему чувству — долгу отомстить убившим сына ее и подсознательной вере, что он был бы жив, если б не убивал сам, — она смирялась, и боль ее затихала…
И вдруг — вот он, поп, прямо перед ними!.. Подходит, смотрит озадаченно:
— Это чей же парень, Николина?
— Мужняя родня, батюшка, мужняя родня…
Видно, на попа произвело впечатление, что мать полицейского водила на могилу сына молодого парня, и он назидательно подхватил:
— Доброе дело, пусть видит, что герой сын твой, что сердцем своим заслонил царство. Молись, мать…
Та ответила что-то, Бойко не расслышал, и мороз пробежал по коже: что сказала она? Инстинктивно ища защиты, он обернулся и тут же — опять, чтобы еще раз увидеть такое, что вряд ли когда-нибудь снова увидит в своей жизни: мать партизана шла в двух шагах от матери полицейского, держа наготове мотыжку для оправки могил, держа как оружие, как секиру. Неотступно шла за другой, тоже в черном, женщиной, защищая его.
Спасибо тебе, мать, сказали его глаза и успокоили ее, потому что подспудно, через скорбь, чудо постижения правды уже свершилось.
За кладбищем мать полицейского, глазами показывая на густой вербняк между оврагом и заброшенной водяной мельницей, сказала:
— Вон там они, трое… молодые, вроде тебя… Во-он в тех кустах, видишь? Утром рано шла на виноградник, углядела…
Другая мать слушала, широко расставив сильные ноги, низко склонив голову, и рука ее с мотыжкой медленно опускалась. Бойко поклонился матери полицейского, взял ее руку и поцеловал. Эта рука купала сына, пеленала его, кормила, держала за ручонку, когда мать в первый раз повела его в школу. Нет, не эта рука надела на него полицейскую форму, не эта рука послала его против своих. Мать не внушала сыну: «Убий!»
Потом он шагнул к матери партизана, взял ее руку и тоже поцеловал.
— Спасибо, мама. Пусть покой снизойдет на вас. — Он обращался к чужим словам, не в силах найти свои, чтобы выразить столько мыслей и чувств сразу. Посмотрел на одну, на другую и докончил: — Много людей полегло, но на крови их возродится жизнь. Настанет завтрашний день… он будет счастливее, светлее.
Надо было торопиться, пока поп не завершил обряда, пока еще ходил вдалеке от могилы к могиле. Бойко заметил в кустарнике человека, за плетнем — еще двоих, значит, правда, слева можно прокрасться незамеченным. Они, конечно, наблюдают за матерями и за ним. Есть ли у них бинокль? Пора, пора, мысленно подстегнул он себя, но ноги не двигались. Наконец пригнулся и вошел в кустарник, осторожно раздвинув лозу. И тут же остановился: невозможно было не оглянуться. Матери все еще стояли и смотрели одна на другую. Он увидел, как в их глазах вспыхнула тяжелая обоюдная вражда, как бессмысленная, неизбывная злоба снова стала охватывать женщин, и если бы одна из них сделала хоть шаг, жилистые старческие руки другой впились бы ей в горло. Но уже через мгновение одна горестно вздохнула, вздохнула и другая, может быть, перед глазами каждой пронеслась вся ее жизнь, теперь опустошенная, и это с новой силой всколыхнуло незатухающую боль, глаза видели одни лишь пепелища и кровь, черный прах, и ничего больше. Обе матери упали на колени в дорожную пыль, склонились в земном поклоне. Не примирятся они, он видел это, до гробовой доски будет стоять между ними ненависть их сыновей, но — и это он тоже видел — одна мать прощала другую, прощала свершенное погибшими детьми, потому что сами-то матери никогда не натравливали детей своих на других детей. Не думала не гадала мать полицейского, что память о сыне натолкнется в ее душе на непреодолимую преграду. А может быть, истоком ее мук был подсознательный страх, в котором она сама себе боялась признаться, страх того, что смерть ее сына станет для людей символом избавления от кошмара теперешней жизни…
Он уходил все дальше, а за спиной раздавались тоскливые вопли матери полицейского и горестно-певучие причитания матери партизана.
Они оплакивали дороги, на которых ветром замело следы их сыновей, оплакивали пути, которые куда-то ведут, но никуда не приводят. Одинаково безмерной была их скорбь, но разной боязнь, будут ли помнить их сыновей. Убитые горем, согбенные, в черных платках с распущенными концами, они походили на черных птиц, что-то выклевывающих в обильно орошенной слезами, спекшейся от страданий земле.
Бойко долго пробирался через кустарник, пригнувшись, сторожко, потому что все еще не вышел из зоны возможного обстрела, и, наконец, когда стало безопаснее, обернулся еще раз. Матери все стояли под палящим солнцем, склонившись друг к дружке под гнетом своей муки, а над округой разносился натужный колокольный звон. Был день поминовения…
Перевод Л. Хитровой.
Добри Жотев
СЛЕД ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Симеону Султанову
Стрелка переместилась в красное поле: двигатель перегрелся. Нужно было долить воды в радиатор, но деревенька осталась позади. У самой вершины сиротливо стоял домик. Там наверняка найдется вода, подумал я и стал подниматься в гору. Тропинка привела к ледяному горному ключу. Напился я, наполнил небольшой бидон и собрался было в обратный путь, но тут из домика вышел старик и окликнул меня:
— Ты, милок, чай не здешний?
— Здешний, но только в местах этих еще не бывал.
— Да нет, видать, не здешний, иначе мимо меня не прошел бы. Наши парни, где б ни бродили, в хибарке моей обязательно устроят привал. Глянь-ка, какая она никудышная, но для этого дела годится. Не успел из леса выйти, а домик — вот он, прямо перед тобой. Отсюда вся деревня в ложбине видна. Случись что, ступил на опушку — и уже у меня. Да, гостей у меня всегда хватает. Кому ломоть хлеба, кому кусок брынзы, кому просто погреться. Не думай, что я в горах партизанил, нет. Так, придут ребятки, еле на ногах держатся, голодные. Как быть? — не прогонишь. Дед Илия готов в своей человечности поклясться. И ты, милок, знай, человечность — дело святое. Скажу про себя: от всего другого могу отмахнуться, а от этой дьявольской напасти не могу. Что случись — я и в огонь полезу. Сызмальства это у меня, видать, на роду написано. Некоторые из ребят, что сюда приходили, погибли, другие живы-здоровы. Лишь один то ли жив, то ли убит — не знаю. Он мне больше всех по душе пришелся. Как увидел тебя, подумал, что это он.
— Обознался, дедушка, — сказал я и пожалел, что я не тот парень, потому что глаза старика повлажнели. — А кто он такой?
Старик вздохнул:
— Скажу тебе, не парень был, а чудо!.. Раз ночью слышу — стучат. Вылез я из-под одеяла, зажег керосиновую лампу и отодвинул засов.
— Добрый вечер, дедушка, — говорит кто-то.
Разберешь разве в темноте, кто таков? Подумал-подумал да и посторонился, чтоб дать пройти. Смотрю на него — годков двадцать. За спиной рюкзак, по бокам гранаты и револьвер. А тощий-то, тощий — ну прямо отшельник. Глазам своим не поверил, когда увидел, как он тащит рюкзак этот, да еще туристские ботинки на ногах. Я раньше его не встречал, не по себе мне что-то стало, я как бы смехом и говорю:
— Ты сейчас, милок, приканчивать меня будешь или погодишь чуток?
Парень сел на табуретку и рассмеялся через силу:
— Зачем же, дедушка, мне тебя приканчивать, не тот ты человек. Дай мне хлебца, и я пойду дальше, дорога торопит.
Если ты партизан, то ничего, подумал я про себя, но если жандарм переодетый, то я тебя и знать не знаю. В ту пору жандармы партизанами наряжались, чтоб нас проверять. Думал я, думал — что поделаешь, надеяться не на кого. Потом говорю:
— Ты, малый, вроде бы на полицая переодетого смахиваешь, но, коли с гранатой пришел, дам тебе хлеба — и дело с концом!
Паренек снова усмехнулся:
— Переодетые жандармы, дедушка, толще меня!
Дал я ему ломоть хлеба и кусок брынзы. Он сложил все это в рюкзак и ушел. А я опять улегся. Потом стали палить из ружей. Эх, сказал я себе, не случилось ли что там с парнишкой? До самого утра глаз не сомкнул. Что верно, то верно, в те годы выстрелить из винтовки — что «здрасте» сказать, а все ж человек есть человек.
Только рассвело, я уж на ногах. Повертелся волчком по двору — даже словом не с кем обмолвиться. Старуха моя померла, сын в солдатах… Глянул вниз, на деревню, — все спит. Илия, говорю я себе, что ты ходишь кругами, запряги лучше кобылку да отвези навоз в поле! Был у меня клочок земли, его если не удобрить навозом, ничего не родит. Вывел я, значит, кобылку, запряг и погнал к куче навоза. Пока нагружал, показалось солнце, аж лиловое от холода. Спустился я вниз по дороге. Когда деревней ехал, все по сторонам оглядывался, как бы кто из жандармов меня не забрал. Но никто даже носа не высунул. Проехал мимо последних домов — и опять гора началась. Сам видишь, на какой верхотуре живем: то вверх надо, то вниз. Сплошные горы, местечка ровного нет. Кобыла с трудом переставляла ноги, еле тащилась, того и гляди, жилы лопнут. Чтоб подсобить ей, и я подталкивал телегу. Проехали Ждрело — гиблое место. Это вон там, на перевале, выше и нет у нас. Чуть недоглядишь — прямиком к святому Петру отправишься. Одолели первый подъем. Я попридержал заднее колесо телеги, потому что крутой спуск начинался — прямо на заднице съехать можно. Где-то посреди пути кобылка моя дернулась в сторону — еле ее удержал.
Гляжу — впереди, шагах в десяти, лежит кто-то. Успокоил я лошадь, колесо камнем подпер и кинулся к человеку. Подбегаю и вижу — тот самый паренек. Лежит ничком, под лопатками кровь, а в рюкзаке ломоть хлеба и кусок брынзы, что я дал. Перевернул его, а он не дышит и не шевелится. Если сейчас его эти найдут, думаю, отрубят голову и на коле по деревням носить станут. Я все это, милок, собственными глазами видел, и пусть лучше я останусь без глаз, только не приведи господи еще раз такое увидеть. Вернулся я к лошади, подогнал ее так, чтоб загородить парнишку, и прямиком к полю. Разбросал кое-как навоз — и обратно. Положил партизана, накрыл его мешком. Еду и думаю: нужно в гроб его спрятать. Ты скажешь, зачем мне все это надо было? Так-то оно так, но я уж тебе говорил — не могу обойти человечность. Мы еще подъема не одолели, а кобылка уже выдохлась, ну я и остановил ее. Не успел глазом моргнуть, как появились жандармы. Тронулся я, но они заорали, чтоб их подождал. Хотели, чтоб подвез. Куда деваться — остановился. Подошли они, залезли на телегу. Я думал, не станут рыскать под мешком, но они принялись ворошить подводу и нашли партизана.
— Кто это? — посмотрел на меня косо их главный.
— Ты что, сам не видишь? Парень убитый, я его на дороге подобрал.
— Ну и куда ты его тащишь? — ощетинился другой.
Подвода моя уже неслась вниз по дороге. Я придержал лошадь и говорю:
— Как куда? Хоронить.
— Никаких похорон партизану. Голову на кол, а остальное — собакам! — разорались они и давай стаскивать с него рюкзак и туристские ботинки.
Раздели его догола — просто срам! Слез я с телеги, схватил поводья и сказал:
— Оденьте человека, грех ведь!
Они меня и не слышат, делят добычу меж собой. А их начальник вытащил нож, чтоб голову парню отрезать.
— Стой! — взревел я что было мочи.
Тот остановился.
— Ты что ерепенишься, старый хрыч! Попридержи-ка лучше язык за зубами, пока башка цела!
Я принялся его упрашивать:
— Спрячь нож! Мертвому могила, а живому человеком надо быть!
Жандарм достал револьвер. Кровь ударила мне в голову. Собрался я с силами и заорал:
— Ты кому это грозишь, деду Илие, молокосос несчастный? Дед Илия в прошлую войну семь раз на штыки бросался!
Стал он в меня целиться. Не знаю, что со мной случилось — ведь мы остановились над самым Ждрело, — толкнул я назад кобылку, и зад телеги повис над пропастью. Жандарм тотчас забыл про свой пистолет и побелел от страха. Остальные ухватились друг за дружку. Я нагнулся, подложил под переднее колесо камень, чтобы кобыла могла удержать телегу, да говорю:
— Пошевелитесь мне только — не пожалею ни лошадь, ни подводу!
Жандармы как язык проглотили. А я командую:
— Одевайте парня!
Они двигались еле-еле — так в церкви свечки зажигают. Одели партизана, обули его, даже шнурки завязали. Я вынул камень и потянул кобылку. Она поднатужилась и вытащила телегу на дорогу. Сел я в подводу, огрел скотину, и она понеслась вниз, к деревне. Я хотел поскорее добраться до сельской управы, а там — будь что будет! Боялся, как бы жандармы не набросились на меня сзади. Но они ничего, видать, не пришли в себя после того, как мы повисли над Ждрело. Остановился я перед управой — тут они и накинулись на меня. Староста, понявши, в чем дело, отозвал в сторону их начальника и что-то ему сказал. После я понял, что он ему сказал. Чтоб меня от смерти уберечь, полоумным представил. А я и не серчал на него: что он еще мог сделать?
Жандармы оставили меня в покое, но от партизана отступиться ни за что не хотели — голову ему отрубить собирались. На счастье, выбежал старший ихний и объявил, чтобы они срочно шли в управу, потому как их к телефону требуют по очень важному делу. Убрались головорезы, а староста мне и говорит:
— Дед Илия, забирай парня и похорони!
Одолел я подъем, осадил лошадь перед своей хибаркой и принялся сколачивать гроб. Потом выбрал место и выкопал могилу. Уже смеркалось, когда я закончил работу. Стал снимать партизана с телеги, а он вдруг зашевелился. Меня аж холодный пот прошиб. Обомлел просто. Парнишка поморщился и чуть слышно застонал. Да-а, Илия, сказал я себе, ты что, не видишь — человек-то живой! Тощие люди, милок, самые выносливые. Огляделся я по сторонам и перенес партизана в дом. Дул ему на руки, клал на голову мокрые полотенца — он и очнулся. А к вечеру воды попросил. Напоил я его и пошел во двор, чтобы пустой гроб зарыть.
Две недели этот парень был у меня. На моем уходе жил, да на страхе моем, но все же выкарабкался. На третью неделю дал я ему ломоть хлеба, кусок брынзы и проводил честь по чести. Он даже не сказал, как его зовут. Таков порядок — скрывать свои имена.
До сих пор все шло гладко, но шила в мешке не утаишь: жандармы снова наведались в деревню, зашли к старосте и спросили, где похоронен партизан. Староста — и так и сяк, выкручивался, но пришлось привести их ко мне. Показал я им могилу. Их начальник, что собирался отрезать парню голову, приказал копать.
— Что вы делаете? — упрекнул их староста. — Он уже сгнил.
— Не сгнил, — огрызнулся жандарм. — Его голова как раз созрела для кола.
Роют живодеры проклятые, а я слово боюсь обронить. Когда стукнула крышка, открыли они гроб, я похолодел. Такого, милок, тебе не доводилось видывать! Стоят перед пустым гробом и староста, и жандармы — окаменели. Потом их главный цап меня за горло:
— Отвечай, где партизан, а не то душу вытрясу!
Староста оттащил его от меня, я перевел дух и говорю:
— Партизан там, где нужно, — в лесу!
Навалились они на меня — хотели тут же, на месте, прикончить. Староста едва их уговорил:
— Так нельзя, существует закон!
Повели меня в околийский суд. Староста тоже пошел — боялся, как бы чего со мной по дороге не учинили. Он был не из наших мест, этот староста, но человек был душевный. В околийском суде я рассказал все с начала до конца. А закончил, следователь спрашивает:
— Выходит, ты, старик, коммунист?
— Я не коммунист.
— Если не коммунист, то партизан!
— И вовсе не партизан я.
— Значит, нет? Так почему ж ты все это делал?
Смотрел я на него, смотрел, а потом и говорю:
— Из-за человечности, господин следователь, все это, из-за человечности! Придут, бывало, ребята, мокрые, голодные, а я думаю: не от хорошей жизни блуждают они по ночам, — и так жалко их станет!
— Значит, жалко? А если я забреду к тебе голодный, ты меня тоже пожалеешь?
— Брось ты! — отвечаю я. — Тебя вся держава жалеет, на что я тебе! Человечность нужна человеку, а ты — начальство!
Ох, как подскочит ко мне этот следователь, как двинет мне по зубам, я и упал. Видишь — до сих пор след остался… Отдали меня под суд, да пока судили, пришло Девятое сентября. Но что было, то было. А тот паренек — жив ли он, здоров, не знаю. Вот и жду: если жив, то придет ко мне повидаться. Иначе и быть не может, милок. Пусть ты самый сильный, но если нет в тебе человечности, на кой леший эта сила? Пусть ты честный-пречестный, но если повернулся спиной к человечности, ты уже не человек!..
Я клятвенно заверил старика, что если парнишка остался в живых, то он непременно даст знать о себе. Потом взял бидон и вернулся к машине — впереди меня ждал долгий путь.
Перевод О. Басовой.
Илия Богданов
ДУША КАМНЯ
© Илия Богданов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
Осень была сухая и теплая, долго держались листья на деревьях. Река, обмелевшая и тихая, будто с трудом протискивалась между огромными холодными уступами скал, спускавшимися к училищу каменотесов. Новенькие, только что поступившие в училище, еще не умели распознавать камень, не знали, как держать долото и молоток. С нетерпением ждали они субботы, когда можно сесть в поезд и поскорее умчаться домой — хоть одну ночь провести под отчим кровом. И хотя только старшекурсникам разрешалось околачиваться возле уборной во дворе, где они курили и громко галдели, всем — и даже новичкам — стало известно, что в училище назначен новый директор, Иван Гарванов. Он долго болел туберкулезом, процесс приостановили, и он попросил перевести его в училище.
Гарванова знали все — одни помнили тревожные новости, приносимые сельскими глашатаями, другим запомнились его портреты, повсюду расклеенные полицией, с призывом выдать за солидное вознаграждение, а кто помоложе помнили рассказы взрослых или позже самим довелось на митингах и сельских сходках слушать его. Иван Гарванов был легендой, и какие бы чудеса ни рассказывали о нем — всему верилось. Старшекурсники боялись, что их застукают возле уборной с окурком в зубах, учителя же собирались небольшими группками и нервно курили одну сигарету за другой. Дни медленно катились и исчезали неизвестно куда, сухая осень зябко ежилась во дворе училища, нетерпение и беспокойство витали над всеми, будто хищные птицы.
Однажды, когда первокурсники работали в мраморном карьере и собирали годные для обработки камни, послышался громкий голос учителя Стефана Куновского:
— Вы чего здесь слоняетесь, черт подери! Так целый день и будете баклуши бить?
Тяжело дыша, ребята подбежали к нему и свалили к его ногам целую кучу красного камня. Куновский продолжал курить, время от времени сплевывая на землю.
— Вот придет этот, тогда узнаете, что такое дисциплина! У него держи ухо востро! — Он злобно усмехнулся и как бы про себя добавил: — Раньше он в этом карьере сам камни таскал, теперь будет вас ремеслу учить… Политическая фигура!..
Стефан Куновский — сын Петра Куновского, а у того были две водяные мельницы на Вите, большой свинарник и паровая мельница в Росново, молотилка с тракторной тягой и гостиница в Плевене. Сыну принадлежали карьер и печи для обжига извести и кирпича, которые стояли чуть ниже, среди известняковых холмов на окраине Роснова. Там, у прохладных вод Виты, утопая в волнистой зелени большого сада, белела вилла Куновских. Ее и сейчас так называют — «Куновская вилла», но перед ней высится мачта со стягом, и детский смех звенит в саду и у реки. А теплыми летними ночами по саду тихо бродит немая Радка Куновская.
Сын Христо Гарванова сызмальства работал в карьерах у Куновских — отец отдал его в подмастерья. По пыльным дорогам скрипели запряженные волами телеги, нагруженные мрамором и известняком, за ними следом шли годы. В сшитой из лоскута, заштопанной торбе таскал с собой Иван бедняцкий свой кусок хлеба и горькую науку. Босые его ноги, израненные острым камнем, уверенно шлепали по прохладному полу училищного коридора.
Так и время бежало — из училища в карьер, из карьера в училище. Шагая каждый день туда и обратно по этому пути, Иван иногда останавливался перевести дух перед желтого цвета домом Куновских, его три балкона нависали над шумной корчмой и пыльными верхушками шелковиц, что росли на улице. А за железными воротами с двумя львами, от которых веяло ледяным холодом, на широкой асфальтовой аллее, обсаженной гвоздиками и крупными хризантемами, одетая в белое платье, обутая в белые чулочки и белые туфельки, с белыми лентами в волосах, играла девочка — она то изображала даму, то подбрасывала большой резиновый мяч, то брала на руки и обнимала пушистого желтого кота. Иван осторожно протискивался сквозь решетку меж тяжелыми холодными гривами львов и радостно глядел на белую девочку. В эти мгновения сердце в груди у него трепетало, как маленький голубок, жизнь тонула в едкой пыли карьеров, в тяжелых ударах каменотесных молотков, комариное эхо «та-а-у-у, та-а-у-у…» от стальных ударов звучало, как песнь матери, и он видел сны наяву… Но рядом с белой девочкой вдруг возникала какая-то ведьма, она хватала прут — и била его по лицу!
— Убирайся прочь, цыган вонючий! — верещала ведьма и снова пыталась стегануть его, но он увертывался, и прут хлестал по львиным гривам.
Однажды ведьмы в саду не оказалось, и белая девочка подошла к железным воротам. Она была так близко, что Иван протянул руку и хотел погладить ее, но она сердито отпрянула назад:
— Ты цыган!
Иван будто проснулся от светлого сна и как можно более взрослым голосом ответил:
— Нет, я не цыган!
— А почему же ты такой черный?
— А я из Гарвановых…[1]
— А, так ты ворон, ворон!..
Оба рассмеялись и смеялись долго, пока с балкона не увидала их ведьма и не выскочила в сад. Она снова схватила неведомо откуда взявшийся гибкий прут, но белая девочка остановила ее:
— Он не цыган! Ты обманула меня!
— Это кто же тебе сказал, Радка?
— Он! Он — ворон! — И Радка засмеялась.
Вскоре ведьма умерла, вместо нее появилась старая злая гувернантка, она тоже все мешала Ивану погладить русую косичку белой девочки.
В тяжком знойном мареве карьеров, на сухих полевых ветрах, под злыми языками зимних морозов парень рос высоким и гибким, тяжелые камни вытянули его руки, сделали их крепкими и неуклюжими, согнули спину. Иван уже давно знал силу львов возле железных ворот Куновских, но все ему мечталось погладить белый мир Рады. Годы не прошли и мимо нее, и однажды осенью она уехала в город учиться.
Каменотесам Иван нравился — он был старательным и молчаливым, и каждый готов был взять его себе в пару. Понравился он и мастеру Цветану, тот взялся ему в каменоломне подсоблять и ремеслу учить.
Цветан был человек без роду-племени — куда ветер дунет, туда он и покатится, что заработает, то и пропьет. В Росново он пришел весной, забрел в корчму и уселся на свой плетенный из ломоноса сундучок. Потом вышел и громко объявил крестьянам:
— Я мастер Цветан! Дома строю — легкие, как голуби!
Некрасивый он был — низенький, худой, с щербатым ртом и плешью на голове, вот крестьяне и не поверили ему и засмеялись в ответ. А как взялся Цветан за работу — понравился всем.
Иван любил мастера — под его долотом камень дышал, как живой. Когда он, бывало, кончал строить какой-нибудь дом и хозяйка звала на угощение, Цветан любил приговаривать: «Вот камень, что ни говори, да и тот душу имеет». И брал большой камень, становился перед ним на колени и начинал обстукивать его со всех сторон долотом. Потом будто стирал с лица следы вечного похмелья, руки у него переставали дрожать, а в глазах, казалось, проглядывала сиротливая душа его. Он выпрямлялся, гордо оглядывался на Ивана, на растерянных хозяев нового дома и легким своим молотком ударял по большому камню. И разрезал его надвое — как режут брынзу.
Очарованный этой силой, Иван время от времени уединялся, втайне постукивал долотом по камню, слушал его голос, а потом ударял молотком, да только впустую. Мастер Цветан казался ему волшебником. Правда, он обещал и Ивана научить понимать и раскрывать душу камня.
Как-то летом, когда хозяин только что отстроенного дома угощал мастеров в корчме, к Цветану пришел Петр Куновский.
— Цветан, — изрек богатей, — завтра приходи с напарником, будете у меня работать. Хочу, чтобы ты выстроил мне виллу у мельницы на Вите.
— Ладно, Куновец, — гордо ответил в наступившей тишине Цветан. — Но тебе придется дорого платить.
— Торговаться не будем. Что запросишь — то и получишь! Из белого камня возведешь ее!
Хотя было это в середине лета, Куновский собрал работников из сел, привез камень, и стала подниматься, расти вилла, белая и теплая, как каравай. Часто вечерами, когда работники спешили по пыльным дорогам в свои села, Иван пропадал на реке. Мастер Цветан пил холодную ракию и все ждал его — и никак дождаться не мог. И сказал ему однажды утром:
— Ты что, парень, девку заимел уже? Мой тебе совет — не спеши. Беден ты еще для этих дел…
Иван усмехнулся, взял долото и молоток, оседлал камень — этому он уже научился, но до души камня все никак добраться не мог. Скрывался от Цветана, долго прислушивался, как отзываются удары долота и молотка, потом замахивался с радостью в сердце — но молоток отскакивал от твердого камня.
Было это после полудня, от реки тянуло легкой прохладой, а поле дышало тяжким зноем; конь вертел мельничное колесо у верб, вода стекала в деревянный слив, а оттуда расползалась под деревья сада. Все спали в тени, а Иван, скрывшись в ветвях акации, стоял на коленях возле большого камня и постукивал по нему молотком. Вдруг сердце у него забилось, он поднял голову — и увидел на берегу тоненькую русую девушку в белом платье, белых сандалиях и белых носочках. И сразу день засмеялся, и поле засмеялось, и весело заревели гривастые львы, и вербы радостно замахали ветвями. Дрогнула душа у Ивана, нежностью наполнились глаза, и взгляд его обласкал бледное девичье лицо.
— Эй, Гарван-ворон, ты хочешь обнять камень?
Иван выпрямился и сунул посиневшие от напряжения руки в карманы.
— Какой ты смешной…
Девушка глядела на него синими холодными глазами, а сердце Ивана билось так сильно, что даже в ушах звенело.
— Радка, ты где?! Я жду тебя! — послышался со стороны виллы визгливый женский голос.
Смех улетел сквозь деревья, вслед за ним умчались белые сандалии и белые носочки, тень от верб отяжелела, а Иван оперся о камень. Весь оставшийся день он бродил по излучинам у реки, ночью долго глядел в сонный омут, видел там белую девушку и разговаривал с ней.
Устало влачилось время, мастер Цветан оживлял мертвые камни, среди запорошенных горячей пылью деревень взрастала белая голубица. И снова вечерами пропадал Иван у реки, мастер медленно тянул ледяную ракию и все не мог дождаться парня. Никто не знал, когда он возвращался в такие ночи.
Однажды в полуденном пекле загромыхал впряженный в тройку гнедых желтый кабриолет Куновских и остановился у самой виллы. Кони храпели, возница вытер потное лицо, закричал:
— Куда вы все провалились, черт вас дери! Работы у вас нет, что ли?
Испуганные работники повскакивали с земли и кинулись к своим рабочим местам; мастер Цветан медленно выпрямился под тенью ореха. И тогда на ступеньках кабриолета показалась русая девушка в темных очках, она была в легком платье, с белой сумочкой в руках. Возница ловко подскочил, чтобы помочь ей сойти на землю. Она стала еще красивее, потому что это была уже не просто девушка, а настоящая городская мадемуазель.
И вот тут — никто не заметил, откуда появился он, — перед взором Радки вырос Иван. Он долго и мечтательно глядел на белое чудо, горячее сердце его витало над полем, над смеющимся днем. Мастер Цветан дернул его за рукав.
— Это ты обнимал камень, а? — засмеялась Радка. — Погляди, какой он черный и страшный, — обернулась она к вознице, а тот весь изогнулся от хохота.
— Ворон!
— Ты, девушка, шла бы домой. Нечего тебе здесь делать, — сердито произнес мастер и, обернувшись, увидел, как Иван медленно и тяжело шагает сквозь зной к мельнице.
— Я здесь у себя дома! А вы с Гарваном должны работать, а не валяться в тени! — отрезала Радка, аккуратно подобрала подол длинного платья и скрылась опять в кабриолете.
Иван вернулся под утро, но на этот раз мастер дождался его. Небо светлело на востоке, веяло утренней прохладой, в густых ветвях пели птицы.
— Что, нравится она тебе?
— Нравится… — признался Иван.
— Не для тебя она! Холодная, как речной камень. Да и силен ты очень, погляди-ка на себя, еще кости ей переломаешь… — Мастер засмеялся, а потом продолжал серьезно: — Я ведь все знаю про тебя. Ты из тех, кто приколотил красный флаг к дому старосты… Собираетесь вы в Черниковой долине, только смотри — поосторожней…
Ничего не ответил ему Иван, и они молча взялись за работу.
Кровавая заря разливалась на небе. Подходили работники со своими торбами. Мастер с Иваном курили за стройкой на припеке. Через горбатый каменный мост над Витой два всадника промчались и осадили коней в саду.
— Который из вас Иван Гарванов? — Полицейские зло глядели на работников.
— Эй, Иван! — позвал кто-то.
Иван вышел вперед, встал перед запыхавшимися всадниками, а мастер не отставал от него.
— Так это ты, мать твою так!.. — заорал старший и шашкой ударил его по плечу.
Мастер Цветан подскочил, схватил под уздцы бешеного коня и плюнул в старшего полицейского.
Иван ринулся под деревья, и, пока полицейские опомнились, мастер и его ученик уже стояли на коленях возле большого камня. Мастер постукивал по камню и что-то объяснял Ивану; старший хотел добраться до них, но ему преграждали путь густые ветви деревьев. Мастер постукивал по белому камню, а ученик слушал. Потом они оба выпрямились, и солнце обагрило их лица, крепкие и строгие. В косых лучах взлетел, сверкнул молоток — и срезал камень…
— Теперь понял? — прошептал мастер Цветан. — У камня голос есть, это ты запомни…
— Запомню!.. — Иван сжал руку мастера и направился к полицейским.
Прошла целая неделя, а Иван не возвращался, и мастер Цветан, остановив стройку, обосновался в корчме. Надвигалась осень, и Петр Куновский бесился от злости, посылал людей, они уговаривали мастера, но тот — ни в какую. В конце концов пришел Куновский в корчму собственной персоной и давай пугать мастера:
— Пойдут дожди, и вся моя вилла развалится, а тебя отдам под суд и в тюрьме сгною…
— Замолчи ты! — Цветан нахмурил брови. — Вздумал слона блохой пугать. Если парня не выпустят, я к твоей вилле пальцем не прикоснусь…
Кричал, стучал по столу, пугал его Петр Куновский, но мастер спокойно потягивал свою ракию. На другой день явился богатей с предложением — если начнет мастер работать, ему разрешат увидеться с Иваном.
В подвале училища в Росново пахло мхом и плесенью, сырость разъедала каменные стены. Мастер шел вслед за стражником, сердце у него сжималось, а тот бубнил:
— Ты скажи этому оборванцу, ты ему близкий человек — может, хоть тебя послушает. А то ведь в карьерах вырос и сам на камень похож — души у него нет…
— Я скажу ему, скажу… — И мастер со страхом ступал дальше по скользкой земле коридора.
— Вот и околийский начальник говорит ему: «Сообщи мне, где они скрываются, я тебя тут же выпущу!»
Глухо загрохотал замок, звякнул тяжелый засов — дверь открылась. Ужасом повеяло из подземелья, мастер опустил голову и заплакал. В кромешной тьме, в каменном углу на тонкой соломенной подстилке лежал человек, и кровавые пятна будто розы алели на его ногах.
— У вас есть две минуты — пока я схожу по нужде! Ясно? — Голос стражника разорвал на миг ужас, сковавший сердце.
Рухнул Цветан на колени перед Иваном, глядя на него, как на икону; глухой звук удалявшихся шагов не давал мастеру сосредоточиться. Он потянулся было обнять своего ученика, но Иван не шевельнулся и даже глаз не открыл — лежал весь черный, избитый. Мастер полез за пазуху, быстро достал оттуда молоток и сунул в солому. Потом встал, перекрестил Ивана и тихо вышел.
А через неделю, когда белая голубица поднялась над тяжестью созревших плодов, когда солнце падало за зеленую радугу углом сходящихся лугов и мастер устало курил в глубине сада, когда в веселом шуме пирушки стояла тишина, когда Радка танцевала под деревьями с франтоватым околийским начальником, по мосту над Витой проскакали четыре всадника. Запыхавшись, они придержали коней возле праздничного стола:
— Господин капитан, Иван Гарван убежал!
Эх, и тишина же наступила!.. Только кони храпели.
— Как это случилось? — картинно помахивая стеком, спросил околийский.
— Да вот так, господин капитан! У него был молоток, ударил одного конвойного — и бежать. Другие стреляли, но…
Радостный кашель заглушил слова полицейского, и еще долго слышен был в саду и у реки пьяный хохот мастера Цветана. А на рассвете на речной мели рыбаки нашли тело утопленника…
Истаяла мягкая осень, с рассвета подул северняк, золотисто-багряный дождь обнажил деревья; стаи ворон летали над крышами и громоздились на теплых навозных кучах по дворам. Небо нависало все ниже, и вечером выпал первый снег. Долгое напряженное ожидание нового директора утомило всех — и о нем будто позабыли.
И вот в один из таких дней, когда ученики вышли во двор на перемену, кто-то крикнул: «Идет, идет Гарван!» Все столпились у входа и напряженно глядели на улицу — там по узкой белой тропинке медленно, слегка сгорбившись, шел новый директор. Он подошел к ученикам, улыбнулся, вытянулся по-военному и громко произнес:
— Здорово, ребята!
В ответ раздался нестройный гул голосов, ребята расступились, освободили проход к двери — там замер Стефан Куновский. Директор направился к нему. Тот вздрогнул, сделал шаг вперед и протянул руку.
— Добро пожаловать, товарищ Гарванов. Очень приятно видеть вас.
Они поздоровались и вошли в училище…
Зима стояла белая и злая. Коротки были учебные будни. Иван Гарванов в первые дни обошел все классы, потом закрылся в своем кабинете и нигде не показывался. Старшие классы поредели — много было больных, а три ученика схватили даже воспаление легких. Но в один из дней был объявлен приказ: после занятий всем построиться во дворе!
Шел мокрый снег. Ребята выстроились перед входом в училище, учителя стояли впереди, ученики прыгали на месте, чтобы согреться. Вышел директор, кто-то скомандовал, все подтянулись, он с улыбкой кивнул и оглядел ряды.
— Ребята, — мягко начал он, — хватит ли у вас сил начать летом строительство студийного павильона для училища? Ведь так, на открытом воздухе, мы не можем вести практические занятия круглый год…
Ученики молчали — некоторые даже не знали, что такое «студия» и «павильон».
— Я хотел бы знать ваше мнение. — Лицо директора стало серьезным, учителя переглянулись. Ряды оживились. — Так как, будем строить студию-мастерскую и учиться там обрабатывать камень?
И, будто по команде, все закричали:
— Да! Будем!
— Я принимаю ваше согласие как слово настоящих мужчин. Спасибо.
Он снова обвел взглядом оживленные ряды, потом опустил голову, подумал немного и строго сказал:
— Курящим выйти из строя!
Шеренга выпускного класса заколебалась, послышался шепот, двое сделали шаг вперед.
— Вот, оказывается, есть среди вас смельчаки! — оживился Гарванов. — А кто еще отважится?
Медленно, нагнув головы, вышли еще несколько человек. Директор внимательно оглядел их. Ребята будто забыли о снеге, пощипывающем замерзшие уши, все ждали, что же скажет директор.
— С сегодняшнего дня будете курить в коридоре возле моего кабинета, в тепле! Те, кто сейчас болеет, — курильщики. Вы простуживаетесь в этом клозете!
И учителя, и ученики очень удивились — все ожидали разноса, а директор предложил теплое место для курения. Торжествующие улыбки победителей расцвели на лицах старшеклассников…
В карьере близ училища зацвел подснежник, земля оттаяла, теплые ручьи растекались по улицам. Веселый трепет весны уже ощущался и на уличном дворе. Гарванов привел техников, и те вбили рейки в глубине двора, где должна была строиться студия. Директора совсем перестали бояться — смотрели на него с молчаливой симпатией и уважением. И вот однажды пришли в училище два инспектора, направились прямо к деревянному ящику в коридоре, вынули блокноты и переписали тех, кто курил там. Потом стали с пристрастием допрашивать — кто разрешил курить в училище, а те изо всех сил пытались вывернуться и притворялись: «Я не знаю, все здесь курят, и я тоже…»
В коридоре постепенно собралась большая толпа, окружившая инспекторов и «преступников». Подошел и Стефан Куновский, голос его был полон злорадства:
— Так их воспитывает директор Гарванов! Но это не все — он хочет незаконно использовать детский труд для строительства студии!
— Мы знаем об этом, товарищ Куновский. Мы прочли ваше письмо и пришли сюда проверить…
В коридоре, пахнувшем пылью и крашеными полами, наступила тишина, потом послышались тяжелые шаги, толпа расступилась — и директор оказался в центре.
— Мы построим не только студию, Куновский. Ребятам нужна столовая, общежитие…
Инспектора спрятали блокноты, директор открыл двери своего кабинета и пропустил их вперед. Куновский со жгучей злобой смотрел им вслед.
И тут вдруг ребята поняли — они полюбили Гарванова. Может быть, дело было в его легендарной славе или их проняла его тяжелая неуклюжая походка, застарелый кашель и улыбка? Они поняли и другое — кто́ против него. И готовы были со всей своей ребячьей наивной верностью помочь ему.
Синее воронье рыскало по лесам и вырубкам, забиралось в ложбины между тутовыми холмами и граяло в широких долинах. А следом долетали слухи и про Ивана Гарвана: вот он появился тут и связал двух полицейских, а там разогнал целый взвод солдат; пока его искали в Пеловской пади, отряд Ивана реквизировал брынзу у Мургавцевых в Каба́ре. Шпионы совали носы за каждый плетень, а Гарван шел от села к селу. Полиция в страхе и злобе попросила в помощь солдат, преследовала отряд днем и ночью. Села завернулись в зимние кожухи и притаились, холод вымел улицы — полиция с солдатами обложили Черникову долину, а Гарван скрывался там. Переворошили листья, прострелили насквозь деревья, вычерпали воду из колодца, даже месяц пулями изрешетили — и, окоченевшие, ни с чем вернулись в Росново.
А в корчме, привязанный к балке, трясся сельский староста. Околийский лично отвязал его и, сообразив, что Гарван был в корчме и даже речь держал, ударил одного из своих офицеров. Потом выхватил пистолет и только направил его на корчмаря, как увидел, что ведут к нему усатого стражника — в кальсонах.
— Господин начальник… — забормотал усатый, — как я после акции это… по большой нужде отлучился… И тут будто с неба что-то свалилось! Только я за ружье схватился — а Гарван тут как тут…
— Убью, скотина этакая! — набросился на него околийский и ногами его, ногами. А стражник кричит из-под ног:
— И говорит он мне: скажи околийскому, что народное войско приговорило его к смерти!..
— В карцер! В карцер скотину! — заревел околийский.
С этой ночи околийского всюду сопровождали два конных стражника и еще двое сидели с ним в кабриолете.
Иван Гарванов не забросил каменотесный молоток, подаренный мастером Цветаном в тот памятный сырой день, не забыл он и его уроков. Часто во время коротких партизанских привалов он недалеко уходил один, выбирал камень, ложился около него и мечтал. Потом ударял молотком — и откликалась душа камня… Тогда сердце его пело, радость витала над обрывами и рвами, проникала в тайные уголки лесов.
Был жаркий полдень — скошенные поля дремали в желтом мареве, деревья едва слышно шелестели, пугливые хлопья облаков гляделись в реку у заброшенного карьера. Иван, будто веселый и беззаботный ребенок, перебегал от камня к камню, постукивал по ним молотком и радовался их любовным голосам. Он и не заметил, как одолел скалу, и река блеснула между белыми вербными ветвями. На лугу, под стогом сена, он увидел девушку. Иван подошел поближе и узнал ее — это была Радка Куновская. Теплые воспоминания затрепетали в сердце Ивана, он улыбнулся, вздрогнули белые вербы, карьер запел тоненькими каменными голосами… Он медленно засунул молоток за пояс, где был револьвер. Радка читала книгу, улыбалась и казалась ему красивее, чем прежде. Тут и она увидела его — потного, улыбающегося, со спутанными вороньего крыла волосами и густыми бровями. Все потемнело вокруг, она уронила книгу и с ужасом глядела на Ивана.
Лицо у него запылало, радость застучала в ушах, тепло и сила наполнили до краев. Он приблизился и обнял ее за плечи.
Студеный ветер свистел в Радкиных волосах, она дрожала от страха и ненависти, и злые слезы катились у нее из глаз. Все тело Ивана покрылось холодным потом, руки обмякли и соскользнули с ее плеч. Он обернулся, на секунду прислушался к счастливой каменной песне и двинулся к вербам. Река остановилась, он нырнул в ее ледяные объятия, чтобы укротить бешеный бег горячей крови.
Радка все еще дрожала под холодной тенью среди мертвого темного луга. Она хотела крикнуть — батраки работали поблизости, — но голос ее замер в груди…
На утро следующего дня в села пришла радостная весть — околийский начальник убит. К вечеру полиция расклеила повсюду объявления с фотографией Гарванова и обещанием заплатить большие деньги тому, кто видает его, живого или мертвого, в руки властей… Крестьяне читали объявления, оглядывались по сторонам и, перешептываясь, тихо смеялись:
— Ну наконец-то избавились мы от этого… Вот тебе и власть, вот тебе и сила… — и шумно вваливались в корчму.
В корчме кто-то рассказывал:
— Ночь была светлая, как день. Кабриолет поднимался на Родорию, длинные тени ложились вокруг — там же голая пустошь и нет даже кустика терновника. Впереди трусили на лошадях два стражника, копыта цокали, а двое других сидели с околийским. Пискнул выстрел, пуля попала прямо в голову — даже не шелохнулся… Стреляли, шарили, землю перерыли — никого не нашли…
Такой рассказ выслушали крестьяне в тот день, а позже опять новость: Радка, дочь Куновского, купалась в Вите, вылезла водяная змея и обвилась вокруг ее шеи, а девица со страху голоса лишилась. Ее даже в Вену возили, у какого-то профессора лечиться…
Весна проложила свою зеленую дорожку в училищном дворе, на припеке жужжали пчелы. После посещения инспекторов Гарванов исчез — говорили, что уехал в город и больше не вернется. Грустно стало ребятам, перемены проходили тихо, никто уже не решался курить возле деревянного ящика в коридоре. Только красный пуловер Стефана Куновского победно и нагло пересекал двор и классы.
Во время одной из таких перемен большая группа учеников, лениво переговариваясь, стояла вокруг глыбы мрамора в дальнем углу двора, где собирались строить студию. Вдруг ребята заметили — Куновский стоит сзади и слушает. Они замолчали. Своей подпрыгивающей походкой он подошел к ним.
— Ну как, курильщики? — с издевкой процедил он в тишине. — Если бы можно было всего добиться политикой…
— А где твои печи для извести? — крикнул кто-то из ребят.
Куновский нервно переступил с ноги на ногу и с желчной усмешкой просверлил ребят взглядом.
— Я могу сказать, где они, но не это важно. Вы должны помнить, что пришли сюда не для того, чтобы заниматься политикой, а для того, чтобы стать мастерами. — Он подошел к большому камню. — Такой камень, и даже еще побольше, настоящие каменотесы срезают одним ударом молотка…
— Покажи им, как это делается! — Все обернулись. Сзади, скрестив руки на груди, стоял Гарванов. Потом он снял черную фуражку, подошел к камню и обратился к одному из старшеклассников, доставая ключ из кармана:
— Петр, сбегай в мой кабинет и принеси молоток, он лежит на столе…
Тут подошли и другие ученики — постепенно во дворе собралось все училище. Стиснутый со всех сторон теплым дыханием ребят, Куновский жалко улыбался. Гарванов стоял с напряженным лицом. Мальчик принес молоток, директор взял его, поднес Куновскому — тот резко оттолкнул руку с молотком. Тогда Гарванов опустился на колени перед красным камнем, медленно оглядел его, и ласковые удары растаяли в тишине. Потом встал, спокойный и красивый, взмахнул молотком — и две ровные половины камня ткнулись в молодую траву. На миг стало совсем тихо, и вдруг все рванулись к директору, подхватили его, стали подбрасывать в воздух и кричать «ура-а!». Когда ребята немного успокоились и опустили директора на землю, он поднял руку. Все замолчали. Красный пуловер Куновского уныло и одиноко жался к стволу дерева. Теплое лицо Гарванова потемнело, челюсти сжались.
— С завтрашнего дня, Куновский, вы не работаете в училище! Мы здесь учим и политике…
По коридору, пахнущему пылью и крашеными полами, директор направился в свой кабинет.
Перевод Е. Фалькович.
Димитр Коруджиев
ВЫСОКО СРЕДИ БЕЛЫХ ЛАМП
Андрей проснулся, но на этот раз сон не освежил его. А ведь он спал больше восьми часов. Иногда и во сне человек разговаривает сам с собой — тяжко и серьезно. Андрей знал: его мучило что-то важное, что-то, в чем он не успел разобраться с вечера. Но что же все-таки, не вспоминалось.
Он умывался долго и шумно — жена ушла на работу совсем рано, еще до рассвета. Эти ее ранние уходы всегда причиняли ему боль. И не оттого, что ей приходилось рано вставать, — невыносимо было то, как она едет в самых первых автобусах среди тягостного молчания мрачных, невыспавшихся людей. Жена любила свою работу, наверное, любила и эти уже ставшие для нее привычными утренние рейсы, но в его воображении постоянно вставала картина, о которой он никогда не рассказывал ей: дом с огромной, невиданно огромной неогражденной террасой, даже и не с террасой, а просто с такой открытой звенящей площадью, жена выходит из стеклянных дверей на эту площадь и долго, может, пять, может, десять минут идет до самого края. То, что она должна увидеть потом, представлялось ему не совсем ясно, все его фантазии вдруг начинали казаться недостаточно красивыми. И все же он знал: там обязательно должно быть небо без солнца, роскошное, усталое, бескрайнее небо, заливающее все вокруг сумеречным сиянием; он воображал себе это небо и огромную террасу и сколько раз, оказавшись на открытом месте, измерял взглядом пространство, но горизонт всегда виделся ему слишком близким. А ему хотелось далекого, очень далекого горизонта, не того, обычного — до леса, до поля, а совсем-совсем другого, объединившего красотой плавных неправильных линий странно разбросанные среди трав и цветов деревья. Хотелось, чтобы земля дышала темной прохладой…
В этих мечтах он никогда не представлял себя рядом с женой, не думал: а где же будет он? Терраса появлялась в его воображении и тогда, когда он видел жену усталой, с покрасневшими от выжатого белья ладонями или с нервным, неспокойным взглядом, после того как она проверяла уроки их капризной дочери.
Сейчас дочь спала, шум в ванной не мешал ей. Девочка отличалась здоровым сном, но во всем остальном была своенравной и упрямой. Она заканчивала третий класс, и Андрей иногда тихо разговаривал по ночам с женой о том, что пройдет еще несколько лет — и характер их дочери, наверное, станет более уравновешенным. Он даже спрашивал об этом научного работника, философа, регулярно читавшего лекции у них на заводе. Философ ответил, что обычно такое поведение — признак сильной воли и что ребенок может несколько стеснить родителей, но зато в итоге добьется в жизни многого. Лектору и в голову не приходило, что, возможно, девочка попросту избалована. Когда он смотрел на грубо очерченные лица мужчин в испачканных спецовках, ему казалось невероятным, чтобы эти люди баловали своих детей.
Андрей собрал и сложил в сумку рабочую одежду, порылся в карманах, проверяя, не забыл ли он талоны для столовой и билеты на автобус, внимательно прочел длинную записку с различными наставлениями, которую жена оставила дочери, наскоро поел и вышел из дому.
В ожидании автобуса он немного рассеялся, но все равно чувствовал себя так, будто ему предстояло улаживать какое-то неприятное дело. Может, это вчерашний лектор заморочил ему голову? Толковал о смысле жизни и прочих серьезных вещах и, — на то он и философ — отклонился в сторону… Забыл, что перед ним простые рабочие. Сказал, например, такое: «Человек должен жить так, чтобы ему казалось — с его смертью мир осиротеет!» Эти слова очень смутили Андрея. Не то чтобы мысль была неясна, но как-то не воспринималась, не мог он почувствовать ее правоту. С детства ему внушали, и сам он не раз повторял привычное: будь скромным, пусть другие тебя оценят… Но в словах лектора была какая-то влекущая сила — глядите, каким может быть человек! Глубокая мысль, даже голова заболела от напряжения… Андрею казалось, что он бы чувствовал себя так же, стоя перед бесконечно высоким зданием: голова все запрокидывается, запрокидывается — без памяти упадешь, а крыши не увидишь… Философия! Наверное, ученые пытаются все осмыслить по-новому, каждый раз придумать новые объяснения; а вот ведь тяжело ему сейчас, и сам он не знает отчего.
Как добрался до завода, Андрей не помнил, это была серия автоматических движений, автоматических восприятий: две автобусные ступеньки, толчок в спину, теплота прикосновений чужих тел, кислый запах одежды столпившихся людей, две автобусные ступеньки, бодрым шагом — через проходную (независимо от твоей воли ноги будто видят вокруг себя чужие торопливые штанины и подражают им), двадцать ступенек на второй этаж, по-собачьи чуешь свою кабинку-раздевалку, не глядя на номер, входишь, раздеваешься, оставляешь одежду, облачаешься в синие доспехи, запираешь кабинку и никогда не путаешься, хотя она четырнадцатая слева между тремя десятками кабинок-близнецов. Потом начинается дорога в цех — широкое пространство, в котором люди теряются, выглядят маленькими, как бы распыленными, разбросанными, а соленый утренний ветер одаривает тебя силой… Конец минутам размышления, минутам, которые тело так добросовестно предоставляет мозгу, — минутам между домом и заводом.
Андрею необходимы были такие минуты. В это короткое время он отделял действительно дурное от панического страха перед ним, а хорошее очищал от напыщенности, и скопившиеся в памяти еще не осмысленные события обретали смысл. Ему казалось, что он приводит в порядок самого себя.
— Каждый человек нуждается в мгновениях созерцания, — сказал как-то их философ. — Созерцать самого себя и окружающее. Иначе, какой бы яркой ни была его жизнь, тысячи мелочей все равно затопят его. Он никогда не сможет уловить какие-то поворотные моменты, те моменты, когда надо что-то изменить в своей жизни. Жизнь его будут направлять механические толчки извне, а не он сам… Желание задуматься должно возникать перед вами, как те таблички у железнодорожных переходов: «Оглянись, прислушайся и тогда переходи». И вы должны спокойно, не спеша оглядываться, а не бросаться вперед очертя голову, не зная, что вас ждет — тишина или грохот удара.
Андрей с удивлением наблюдал за людьми: глаза их блестели от азарта, когда они болтали в утреннем автобусе о выпивке или о футболе. Это казалось ему таким поверхностным, что он пугался за них. Он мечтал об автобусе, в котором царило бы мудрое и глубокое молчание. Андрей был скромен и только смутно догадывался, что постиг то умение размышлять, о котором говорил философ. Но даже самому себе он не признавался в этом. Может быть, считал, что ему и не нужно что-либо менять в своей жизни, совершать какие-то особенные повороты, что переживания его мелки. Наверное, философ просто из вежливости сказал «каждый человек», а имел в виду совсем других людей. Вот, например, Андрей: пятнадцать лет проработал на одном месте, любит только одну женщину — свою жену, за границей не бывал. О каких еще поворотах может идти речь? То, что он уже несколько лет бригадир и получает награды, — не поворот, а скорее, как выразился лектор, «механический толчок». Пришло время, вот и все. И другие становились бригадирами, и других награждали. Андрей знал, что всегда будет хорошо работать и вряд ли будут у него столкновения с директорами и инженерами. Но тогда что же особенного может с ним произойти?
Взошло солнце, но казалось, по-настоящему освещал завод лишь нарастающий человеческий гул. Андрей давно уже заметил связь между заводским оживлением и светом. Доковая камера была полна пущенной с ночи воды, и огромный некрашеный корабль из листового железа, стоявший до того на дне, теперь поднялся высоко над головой Андрея. Вода в камере лежала неподвижная и покорная, воспринявшая цвет корабля, — красная вода, которую ему захотелось показать своей дочери.
Когда он видел что-то необыкновенное, такое, чего не встретишь каждый день, ему сразу хотелось показать это дочери. Сам он казался себе очень заурядным, ничем не отличающимся от других, и его мучила мысль, что и девочка вырастет такой же — незаметной и неинтересной для людей. Он мечтал, чтобы дочь выросла уверенной в себе, чтобы совершала необычные поступки и говорила необычные слова и повсюду вызывала восхищение и чтобы все понимали, что ее слова и поступки очень умные, редко встречающиеся. Если бы у нее был такой отец, как лектор-философ, это получилось бы само собой… Подобные мысли заставляли Андрея неизвестно почему чувствовать себя виноватым, он напряженно вглядывался в жизнь, в людей и неожиданно для себя научился открывать такое, чего люди обычно не замечают. Когда он ходил с дочерью на пляж, то показывал ей странную светлую полоску, оставленную на его загорелой руке ремешком от часов (он даже нарочно не снимал часы, чтобы получилась такая полоска); показывал лицо сторожа, ставшее похожим на морду гончей собаки, потому что тот целыми днями гонялся за мальчишками, норовившими перескочить через ограду, и кричал на них охрипшим голосом; предлагал девочке вслушаться в крики маленьких продавцов мороженого, в ударения, в особенные интонации, особое построение слов (для остальных эти крики были просто сообщением о том, что можно купить мороженое). Мальчишки выкрикивали: «Моро-о-женое!», «Кому моро-о-женое!», «Эскимо-о!»… Постоянно вслушиваясь в эти возгласы, он проникся их красотой. И представлял, как в послеполуденные часы смуглые мальчишки со своим дневным заработком погружаются в какой-то чудесный мир пыльных городских киношек, каруселей и тиров. Он не рассказывал дочери об этом мире, хотелось, чтобы она сама вообразила его…
Стоян из его бригады — он еще и в армии не служил, а уже был отцом двоих детей, двойняшек, — обнял его за плечи и оторвал от красной воды.
— Шеф… Опоздаешь — дурной пример нам подашь.
Андрей рассмеялся и шагнул вперед, чувствуя, что утреннее его настроение испарилось, исчезло, как тяжкое, но несбывшееся предчувствие. Трудно сохранить плохое настроение, когда видишь цеховые ворота, и стальные листы, разложенные в углу, отведенном для твоей бригады, и лицо Стояна. Он никогда не говорил в бригаде о прогулках с дочерью, а рассказать о своих воображаемых беседах с лектором или о любви к жене представлялось ему совершенно невероятным. Его считали очень добрым, но скучноватым, лишенным воображения человеком. Никто не догадывался, что истинной доброте тоже нужно воображение, ведь она окрашивает мир в свои особенные цвета, по-особому воспринимает его звуки. Впрочем, мнение Андрея о себе самом не отличалось от мнения товарищей. Он восхищался Стояном, всегда находившим интересные слова, не стеснявшимся показать свои чувства и умевшим выражать их так, что никто не считал их сентиментальностью. Стоян открыто говорил о своей любви к жене, и когда холостяки, из тех, что гуляют с несколькими девушками зараз, подтрунивали над ним, отвечал:
— Тебе этого не понять. Она просто параллельна моей душе.
На такие слова ответить было нечего.
Пока готовили листы, Стоян рассказывал, как вчера вечером они с женой оставили детей на бабушку и отправились в ресторан и там официант здорово обсчитал их.
— Не бог весть что съели, а заплатить пришлось больше, чем если бы в покер продулся.
Все засмеялись. Никто не знал, как играют в покер, и Стоян — меньше всех, они предпочитали стучать костяшками домино, и само слово «покер» казалось им каким-то чуждым, напыщенным и смешным. Явно было, что, произнося это «покер», Стоян съязвил по чьему-то адресу.
Андрей привстал на носки у края красного стального листа, потом нагнулся. Лист раскинулся перед ним — пустой, безликий. В первый момент это всегда вызывало раздражение. Чуть ли не дрожащими руками он развернул тетрадку, в которой вычислял размеры деталей. Положил тетрадку перед собой, вынул линейку и резец и начал водить им по листу. Он чертил детали корабля и обводил прочерченное белой краской. Бригада принимала расчерченный лист и вырезала детали.
Андрей двигался по листу в каких-то причудливых, на первый взгляд беспорядочных направлениях. Бросался то в один, то в другой конец. Но через час-два можно было с изумлением увидеть, как плотно прилегают один к другому обведенные белой краской участки, как многочисленные, различной формы детали располагаются на листе в стройной необъяснимой системе и совсем не остается незаполненных мест. Разве что какой-нибудь маленький уголок…
Андрей не мог объяснить, как он все это делает. «Отличный работник, но не умеет делиться опытом», — говорили инженеры. Он самозабвенно двигался по листу, с наслаждением составляя разнообразные комбинации; обычно он начинал заполнять лист с края и продвигался к центру, мгновенно определяя, какую вычертить деталь, чтобы не осталось пустого места. Когда он был молод, от его листов оставалось много металла. Со временем работа увлекла его, он открыл для себя, какой она может быть интересной, если в нее углубиться. Быстро двигаясь по листу, он не думал о словах директора на собрании, не думал об инженерах, все убеждавших, что металл надо беречь. Они говорили об этих вещах напыщенно, приводили огромные, государственного масштаба цифры, и это не могло взволновать Андрея, казалось ему далеким. Зато он испытывал просто ненависть ко всякому строптивому, оставшемуся вне белых линий куску металла, нарушавшему глубоко укоренившееся в сознании чувство гармонии, разрушавшему уже достигнутые красивые сочетания (никто не знал, каким красивым видится ему расчерченный лист); волновало Андрея и удовольствие, доставляемое неожиданными удачными комбинациями. Случалось, он в глубине души даже пугался своего волнения, своей радости… Все вокруг думали или по крайней мере заявляли, что работа — это серьезно, очень серьезно. А он торопился в цех, как будто ему предстояла замысловатая, но интересная игра. Наверное, многие не боялись бы так работы, если бы о ней говорили какими-то иными, более точными словами… Он все собирался посоветоваться об этом с лектором, но потом стал сомневаться, что когда-нибудь решится. Он был уверен, что не сможет ясно выразить свои мысли и лектор не поймет его.
Оклик Стояна заставил Андрея вздрогнуть.
— Пошли, шеф… Обед…
Андрей вышел в проход, оглядел работу своих ребят. Неплохо, хотя нет ни одного листа, похожего на его. Непонятно почему, но это не раздражало его. Он ненавидел лишний металл только на своих листах, а о чужой работе честно говорил себе, что расчерчено неплохо и что не все такие одержимые, как он.
Вышли наружу. Солнце стояло высоко. Только сейчас Андрей ощутил накопившуюся в пояснице усталость. Вот уже пятнадцать лет сгибается он над листами…
— Шеф, обедать вместе будем? — спросил Стоян.
Андрей кивнул, но тут кто-то тронул его за плечо, и обернувшись, Андрей увидел главного инженера.
— Мне надо с тобой поговорить, Андрей… Давай прокатимся на лодке…
Андрей удивленно посмотрел на инженера, но молча пошел за ним. Бригада смотрела вслед. Они влезли в одну из моторок, и инженер направил ее но каналу вдоль кораблей к бухте. Вышли из бухты, завод остался позади, но Андрей не оглядывался, просто всем телом ощущал этот беспорядочный лес труб, кранов и антенн, ставший как бы частью всего его существа. Показалось море, и оба загляделись, потому что море было прекрасно. Возбуждающая летняя жара уже уходила. Небо в солнечном свете выглядело таким прозрачно чистым, таким добрым, несущим покой и радость. Природа словно отмерила все идеальными для человека дозами: солнце не обжигало, а грело, морской ветер нес не холод, а прохладу. Море, отражая лучи солнца, искрилось светлыми бликами, люди на пляжах казались озаренными благодатью счастливцами, купающимися в солнечной воде. Невозможно было представить их озабоченными, бранящимися, нечистоплотными… Горизонт затеняла нежная красноватая дымка, далекие корабли с дымящими трубами были как ожившие миражи из странных юношеских романов. Андрею казалось, что такими их видит только он, а инженер видит что-то совсем другое, но тоже прекрасное.
— Хорошо здесь… — нарушил молчание инженер. — Не место для серьезных разговоров.
Андрей посмотрел на него и почувствовал, что мгла в воздухе начала сгущаться. Смутно возникло в памяти сегодняшнее утреннее настроение.
— В соседнем цеху иностранцы смонтировали большую машину, — сказал инженер. — Рабочие еще не знают, что это за машина, потому и тебе не говорили. Сегодня все закончено. Машина с разными там электронными устройствами, я в них не разбираюсь. Не моя это специальность. Сама вычисляет, что ей делать. А потом вычерчивает и режет корабельные детали.
Инженер замолчал, и тут Андрей заметил, что моторка идет обратно. Завод стал ясно виден, Андрей смотрел на него, хотел что-то сказать о нем и не мог, ничего не приходило на ум, двух слов не мог сказать о таком громадном заводе, где каждый день случается тысяча всяких событий. Нельзя было молчать, неудобно — ведь инженер его начальник, интеллигентный человек, но почему же ничего, совсем ничего не приходит в голову… Андрей словно и не догадывался, что, по логике, нужно говорить о машине, мысль его будто проскочила и машину, и завод, он подумал об автобусной толчее, но и здесь мысль не задержалась, вспомнил о нормах, которые должна выполнять его жена (им повысили нормы)… И все больше отвлекался, не сознавая своего безумного желания забыть слова инженера, сделать их ненастоящими. Моторка остановилась недалеко от цеха.
— Пойдем посмотрим, как работает машина, — сказал инженер мягко. — И еще… Это действительно тяжело… Обдумай, кого из ребят ты можешь отпустить. Двоих. Дадим им другую профессию. Машина будет выполнять не только их норму, но и гораздо больше…
Андрей поднял глаза, не сознавая, что смотрит на инженера так, будто тот совершил нечто страшное.
— Тебе и другим опытным рабочим пока нечего опасаться. — В голосе инженера послышалось смущение. — Производство будет увеличено…
Андрей покраснел от стыда перед этим человеком, который не понял его. Но разве можно его понять, если он ведет себя как глухонемой.
— Они любят свою работу, — сказал Андрей, машинально шагая вслед за инженером.
— Кто? А, да… — Инженер не обратил внимания на слова Андрея, вроде бы немного неуместные.
Вошли в цех, и Андрей неожиданно для себя очутился в толпе возбужденных людей, кто-то воскликнул: «А вот и наш главный мастер!» Подошел директор, улыбаясь, пожал ему руку. Было шумно, и директор улыбался не конкретно ему или кому-нибудь другому, а каким-то своим директорским мыслям.
И тогда Андрей увидел машину. Увидел и замер, изумленный, оглушенный. Она была огромна, наверх, в кабину, вела лесенка, за стеклянными дверями чернели кнопки и светились лампочки. Внизу двигалось тяжелое металлическое устройство, завершавшееся словно бы карандашом с огненным грифелем. Оно ползло медленно, безжалостно и самоуверенно, как ленивое животное. Огненный грифель вырезал на распростертом под ним стальном листе деталь за деталью. Лист казался маленьким, беспомощным и обреченным, совсем не таким, каким всегда был в бригаде Андрея. Там по листу двигался один человек, между человеком и листом велась нелегкая, но достойная борьба. А здесь… Впервые Андрей испытывал жалость к стальному листу. Машина работала непрерывно, с ужасающей методичностью, и он почувствовал, что ему может стать нехорошо. Растолкал окружающих и вышел…
После обеда он работал немного, без нужды прошелся несколько раз по цеху. Ребята были молчаливы, они тоже все поняли, только не подозревали, что двоим из них придется сменить профессию. Никто не обращался к Андрею — он привык ни с кем не делиться своими тревогами. Лицо его стало замкнутым, исчезло обычное приветливое выражение, и даже Стояну казалось неловко заговорить с бригадиром.
Только когда Андрей после работы вышел из проходной и впервые за много месяцев отправился домой пешком, ему пришло в голову, что, возможно, кое-кто из его ребят не так уж привязан к металлическим листам. Это казалось ошеломляющим в своей простоте открытием. Значит, достаточно было поговорить с бригадой и чувство вины у него исчезло бы?.. Глупо до сих пор предполагать, будто все только и мечтают расчерчивать листы. Вдруг вспомнилось, что в других цехах не хватает рабочих.
Андрей решил вернуться обратно и поговорить с кем-нибудь из бригады, например со Стояном. Но было уже поздно. Тогда ему стало очень обидно за себя, такого нелюдимого, упустившего сотни возможностей поговорить с самыми разными людьми, просто поговорить по-мужски, — сотни возможностей, которые уже не вернуть.
Ему стало так грустно, что он даже представил себе, как разговаривает со Стояном; он легко мог это представить, ведь он хорошо знал своих ребят.
«Стоянчо…»
«Тебе, мастер, самого себя жаль больше всех, — ответил бы тот, лукаво поглядывая на бригадира. — Конечно, ты жалеешь и нас, но разве ты можешь знать нас, как себя знаешь… Ты боишься, что когда-нибудь везде установят такие машины и придется тебе на старости лет переучиваться, менять профессию. Разве могут всего одну машину выпустить, кто знает, сколько их в той стране…»
Да, он боялся, теперь можно было признаться себе в этом. Боялся, что придет день, когда он уже не будет стоять на носках у края металлического листа, впиваясь глазами в его пустоту, забыв все на свете — вкус воды, лицо жены; боялся, что станут ненужными сложные комбинации, которые его мозг привык создавать на протяжении стольких лет; боялся, что уже нельзя будет испытывать чудесный трепет перед плотными фигурами, очерченными белой краской…
Поворот… Какой умный человек этот лектор, говорил про всякую там философию, подготавливал их. А он-то думал, что ничего в его жизни не может произойти.
Андрей поравнялся с католической церковью. Каждый день, сойдя с автобуса, он проходил мимо нее. В церкви бывали только иностранцы, и почему-то именно это подавляло в нем всякое желание увидеть ее изнутри, делало совершенно чужим здание, рядом с которым он прожил двадцать лет. Запомнилась одна лишь табличка с латинскими буквами. Ему казалось, что написано: «эклесия католика», но какая-то глубокая незаинтересованность мешала все эти двадцать лет спросить кого-нибудь из образованных людей, так ли читаются эти слова.
Только одно волновало его в этой церкви. Иной раз, проходя мимо, он замечал большеголового карлика, запирающего дверь. Карлик бросал на него быстрый взгляд и исчезал, тонул в каком-то своем мире — полутемном, загадочном и душевно нездоровом… Андрей был уверен, что карлик очень любит эту дверь, этот медленный ритм, с которым она затворяется…
И сейчас, вспоминая карлика, он постепенно осознал, какой поворот совершился в его жизни. Если он всем сердцем не примет эту машину, он станет похожим на карлика — его любовь к металлическим листам будет всего лишь маскировать его тайное нечистое озлобление. А почему бы не принять ее?..
В нем постепенно подымался восторг, сметающий все прежние ощущения; все отодвинулось, потому что прямо перед его глазами, зримая, работала она — машина. Уверенная в себе и прекрасная, совершенная, отлитая из металла, мечта всех на свете корабельных закройщиков, всех тех немногих, напрягающих свой разум над стальными листами. Рожденная их трудом, их горячим желанием увидеть свою работу исполненной в совершенстве. Теперь этот день пришел. Какое значение может иметь все остальное?.. Машина теперь странным образом станет причастна к его мечтам о жене, к тому необычайному миру, которым он окружал свою дочь…
Девочка, наверное, не поймет его. И не захочет увидеть машину… Андрей внезапно представил себе, как скажет дочери, что она умеет создавать маленькие озера, над неподвижной ярко-зеленой водой которых склоняются деревья; маленькие озера с висячими мостиками, под которыми плывут счастливые дети в маленьких светлых лодках с носами в виде жирафьих голов… И это совсем не будет ложью.
Андрею захотелось поднять девочку на эту машину и увидеть, как она улыбается сверху, высоко-высоко, на фоне бесшумно мигающих белых ламп.
Перевод Ф. Гримберг.
Коста Странджев
ОТ УДАРА ДО УДАРА
© Коста Странджев, 1980, c/o Jusautor, Sofia.
Удар! Труба впилась в обрушившуюся землю. Ее железные стенки мелко задрожали от удара вагонетки, и дрожь эта передалась всей рухнувшей горе земли. Тесное нутро трубы наполнилось воздухом, таким густым, что можно было протянуть руку, схватить его и сжать в комок. Так только казалось, на самом деле воздух был как воздух, только забит пылью от обрушившейся земли, густым запахом нефти и ржавчиной, сыпавшейся со стенок трубы. Минута, другая — и грязь медленно выползла из трубы наружу.
Теперь пришел черед Спаса. Он сполз в трубу и заработал руками. Пальцы его впивались в обрушившуюся землю, остервенело разравнивали ее и откидывали назад, под живот. Оттуда коленями он отбрасывал ее дальше. И все. Об остальном позаботятся товарищи.
Удар! Вагонетка опять ударила своим железным кулаком по трубе, и она со всхлипом подалась вперед. И опять все сначала. Пальцы роют, колени отбрасывают, товарищи там, сзади, выгребают… Ему становилось все хуже. Он и раньше частенько мучился от горечи во рту, но то, что чувствовал сейчас, было чем-то иным, словно он проглотил кусок трубы.
Надо было другую трубу взять, думал Спас. Эта же вся в нефти. И ржавчина с нее сыплется…
Он расстегнул ворот рубашки и жадно вдохнул воздух широко открытым ртом. Такую сильную горечь он чувствовал еще только однажды. Тогда он пошел в отдел кадров, где как раз в тот день врач проводил осмотр новичков. Там было полно парней, пахло домашней снедью, гуталином и поездом. Спас сказал врачу:
— У меня горечь во рту…
И не успел он толком ничего объяснить, как из угла раздался голос одного из новеньких:
— Так купи себе сахару!
Комната взорвалась смехом. Спас обернулся. Он забыл и о своей болезни, и о враче — ноздри его раздулись от гнева. Здесь, на водонапорной башне, впервые насмехались над ним. И кто! Какой-то желторотый птенец. Он подошел и двумя пальцами взял парня за подбородок:
— Полегче на поворотах, детка!
Но парень все так же спокойно ответил:
— А ты бы повесил знак «Осторожно! Крутой поворот!». Вот сюда, себе на шею…
Теперь даже стекла задрожали от дружного хохота.
Спас так и не успел ничего сказать, парня позвали к начальнику отдела кадров.
Кадровик отпускал новобранцев быстро, Спасу не пришлось долго ждать.
— У тебя профессия-то есть?
— По кондитерской части. Рахат-лукум делал!
— Да-а… А хочешь, я тебя к себе в бригаду возьму?
Парень немного помедлил:
— Ну, коль уж я тебе так понравился…
Спас вынул сигареты и протянул новенькому. Тот закурил, задохнулся и долго откашливался. Тут уж Спас совсем растаял:
— Ладно. Будем пахать вместе.
И назначил Параско машинистом.
В трубе еще оставалось немного земли. Нужно отгрести ее до следующего удара. Чем глубже врезалась в обвал труба, тем темнее в ней становилось. А могло быть светло! Ведь еще там, наверху, ребята предлагали ему взять электрический фонарик, но он отмахнулся:
— Не иголки лезу собирать!
Казалось, темнота душит его. Она состояла сплошь из густой пыли, тяжкого запаха нефти и ржавчины, которая сыпалась все больше и больше с каждым потрескиванием трубы. От всего этого кружилась голова.
Удар! Тело Спаса сорвалось, он зарылся головой в землю. И обрушилась темнота — долгая и страшная.
Ах паршивец! — мысленно обругал он Параско. Сколько раз ему говорил, нельзя машину так резко бросать вперед!
А вообще Параско быстро овладевал специальностью. Спас был доволен и хотел было уже доверить ему звено. Вот если бы не этот дурацкий французский. После смены Параско не играл ни в карты, ни в шашки. Он раскрывал общую тетрадь и до поздней ночи что-то записывал в ней. Купил даже чернила разного цвета: одним цветом писал слова, другим их подчеркивал, третьим вырисовывал какие-то замысловатые знаки. Сначала Спасу это не понравилось:
— Ты что, в шпионы подался? Шифром каким-то пишешь… — Он отобрал у Параско тетради и пригрозил: — Брось эти каракули. Если действительно что-то такое, я из тебя самого рахат-лукум сделаю…
Но потом не только вернул тетрадь, но даже сам как-то купил ему чернила в городе. Это было после первой стычки с Владо. Тогда разбирали заявление Спаса о приеме кандидатом в члены партии. Владо выступил против.
— Да, Спас много работает, но за это он получает зарплату. Коммунисту нужно еще и другое. По-моему, Спас еще недостаточно классово сознателен.
От обиды Спас искусал губы в кровь. Он знал, что государство не зря наградило его столькими орденами. Кто бы ни приезжал из начальства, сначала искали его, а потом уж директора или парторга…
Сейчас Спас вдруг озлился на самого себя. Почему, прежде чем залезть в трубу, он не поручил Параско накормить кроликов? Трава уже приготовлена, только бросить ее в кормушку. И еще нужно было сказать Параско, чтоб, если поедет в город, ничего не говорил Кине об этой трубе.
Всю землю, какую мог, он уже давно сдвинул руками под живот, потом к коленям. Теперь Спас ждал, когда вагонетка грохнет своим железным лбом по трубе. Он раздвинул руки и ноги, чтобы закрепить тело и не удариться еще раз головой о землю. Распятый так, он ждал. Минуту… Вторую… Удара все не было. Руки и ноги слабели. Он старался не думать о них, думать о чем-нибудь другом… Он повезет Кину за границу. Только бы это был сто́ящий доктор, а не шарлатан какой-нибудь. Еще вчера он попросил Параско написать доктору.
Удар! Труба продвинулась вперед еще на пядь. А вместе с ней и тело Спаса. В ушах стоял сплошной гул. Спас размахивал руками, как будто плыл саженками. Потом потерял сознание, а когда пришел в себя, начал все сначала. Его пальцы по-прежнему впивались в землю, но в них уже не стало той силы. Он ощупал голову. Волосы были липкими. Кровь! — вздрогнул Спас, но тут же понял: на голове, кроме здоровенной шишки, ничего нет. Кровь — из пальцев. На указательных пальцах обеих рук ногтей нет. Вместо них какая-то короста из рваного мяса, земли и засохшей крови. Но почему же он до сих пор не чувствовал боли? И сам себе ответил: потому что думал о другом. Так всегда. Задумаешься — и не чувствуешь боли. О чем он думал до этого последнего удара? Вагонетка Параско толкнула трубу. Параско знает французский… А о Кине он думал? И что общего у Кины с французским языком Параско? Спас мучительно напрягал память. Пальцы слушались плохо. Только сейчас он почувствовал, как ему больно. И вновь ухватил потерянную нить. Кина больна, Параско где-то во французском журнале прочел о раке и о докторе, который его излечивает… И восемь пальцев снова впились в землю. Он обязательно повезет Кину к этому доктору. Продаст новую квартиру, мотоцикл с коляской, радиоприемник, электрокамин… А что, если не хватит? И впервые Спасу стало жаль денег, которые он расшвыривал в ресторанах. Решил: брошу пить! И курить брошу! И тут как раз ужасно захотелось курить. Сделать всего одну затяжку, глотнуть чуть-чуть табачного дыма, может, тогда металлический привкус во рту исчезнет. И он, достав портсигар, закурил сигарету. Немножко полежать, немножко отдохнуть, пусть те, наверху, самую малость подождут. Пусть подождет и Владо. Правда, он живьем засыпан в забое, но выдюжит. Опытный горняк и не из пугливых. Вот глотну коньяку, и все будет в порядке… Спас ощупал карман штанов, где лежала бутылка коньяка для Владо. Цела! Но все же он вынул ее и ощупал со всех сторон. Ему безумно захотелось быть не в этой трубе, а дома, на уютном диване. Что может быть лучше! Лежишь, покуриваешь, знаешь, что стоит протянуть руку — и коньяк вот он! Спас открыл бутылку и выпил. Глоток. Потом еще один. Ничего страшного. Сколько там и нужно-то Владо! Полбутылки за глаза хватит. Он сунул бутылку в карман. В руке остался портсигар. Чудно! Хоть темно, а он прекрасно видит этот портсигар. Даже те маленькие царапины, что остались на нем в тот день, когда Кина его подарила. Она была в городе, вернулась вся какая-то раскрасневшаяся. Протянула ему портсигар, совсем смутилась и выронила его. Вот тогда-то и остались царапины. Но Спасу было не до царапин. Важнее было другое: после долгого лечения жена его наконец-то забеременела. Эти царапины на портсигаре он заметил потом, через несколько месяцев. Как-то вечером он пришел домой пьяный. Кина с трудом, чуть не волоком, втащила его в комнату. Но ничего не сказала. На лице ее играла смущенная улыбка, которая делала ее еще красивее и моложе. Вот эта-то улыбка и взбесила Спаса. Ему хотелось, чтобы Кина взъярилась, разоралась, заплакала, наконец. Тогда бы он приласкал ее, поцеловал руку и пообещал, что никогда больше не будет пить. Но Кина не поняла его настроя, и тогда Спас злобно прошипел сквозь зубы:
— И ты такая же тварь!
Кина враз опустила руки.
— Тварь?
— А кто же? Раз бросила первого мужа и прибежала ко мне!
— Спас, замолчи!
Но его уже понесло. Он стал бросать в Кину всем, что попадется под руку. Бросил стакан, пепельницу, часы со стола. Бросал и ругался.
Потом схватил охотничье ружье. Кина смотрела и на его ярость отвечала лишь светлой и мягкой улыбкой. Она протянула руку и подняла ствол ружья вверх:
— Осторожней…
А глаза ее все так же улыбались. Спас, уже ничего не соображая, дико заорал и нажал на курок. Лампочка разлетелась вдребезги, и в комнату ворвалась ночь. Грохот выстрела отрезвил его. Он отшвырнул ружье. Но поздно — Кина уже выскочила в открытое окно.
Ее отвезли в больницу, а Спас очухался лишь утром. Тогда он и увидел царапины на портсигаре. Тогда же ему и сказали, что Кина жива, но детей у нее никогда больше не будет. Он не пошел на работу. Перед глазами у него все время стоял портсигар. Портсигар и улыбающееся лицо Кины. Только она могла так. Как бы ей ни было тяжело — она все равно улыбалась. Так было и в тот вечер, когда она пришла к нему. А он сдуру спросил:
— Чего надо?
— Ничего.
Хотя сам он и ненавидел тех, кто пробавляется чужими женами, но подумал: а почему бы ей, в самом деле, и не остаться у него?
Кина тогда все-таки плакала, хотя лицо ее и улыбалось.
— Со Станоем страшно. У него вся жизнь грязная и круглая, как старая монета. Обкрадывает вас в лавке, а потом всю ночь считает деньги… Бьет меня и заставляет улыбаться, когда я вам выдаю зарплату…
Спас молчал.
— Спокойной ночи, — сказала она.
— Останься!
Она встала в дверях:
— На одну ночь? Или на сколько?
— Навсегда.
И она стала его женой.
Потом, в больнице, Спас не знал, что ей и сказать. Но успокаивала его она. Как будто не она, а он болен.
— С желудком у тебя что-то. Обязательно завтракай. Купи себе шерстяные носки. Застудишь ноги, а у тебя от этого все болезни. Меньше ходи. Больше сиди дома. Работа у тебя тяжелая, так что больше отдыхай.
Спас смотрел на темное пятно на стене прямо над головой Кины. Оно очень напоминало букет цветов. Кине он никогда не покупал цветов, а когда купил, так и не сумел их принести. В больницу идти было еще рано, и он зашел в кафе. К нему подсели два шахтера, заказали мастику. Так и засиделись втроем допоздна. Когда вышли из кафе, на улицах уже горели фонари, моросил дождь. Как Спас ни торопился, но когда, запыхавшись, он примчался в больницу, вахтер лишь выразительно покрутил пальцем у виска: дескать, ты что, парень, спятил? Времени-то сколько! В следующее воскресенье он купил огромный, шикарный букет и отнес в больницу. Кина была потрясена. И, по обыкновению улыбаясь, сказала:
— Больше цветов не покупай. Эти простоят десять дней…
Спас вздрогнул. Впервые ему захотелось сказать ей что-то ласковое и нежное. Но она опередила его:
— И хватит делать глупости. Деньги будут тебе еще нужны, а ты их не умеешь ценить…
Как она обо всем узнала? Ведь врач только ему одному сказал, с глазу на глаз:
— Рак у нее. Ничего нельзя сделать. Жить ей осталось не больше десяти дней…
Сигарета уже догорела. Догорела дотла, превратилась в пепел до самого конца, а он даже не почувствовал ожога. Теперь уже и на средних пальцах не было ногтей, была лишь засохшая каша из крови и земли. А огонь не может сжечь землю, и кровь тоже не горит. Спас опять открыл бутылку и на сей раз не стал считать глотков. Пил, как будто он в кровати и Кина ему поднесла бутылку.
Удар! Он и не заметил, как быстро на этот раз прошло время от удара до удара. Земля уже вползла внутрь трубы, а он еще не отбросил назад ни горстки. Теперь труба потрескивала все чаще. Это уже не были тихие, замирающие скрипы, как вначале, а отчетливые, долгие стоны. Спас знал: над его железной кровлей нависла целая гора земли. Интересно, сколько нужно, чтобы труба прогнулась и сплющила его тело? Пальцы уже нащупывали мягкую землю, и чем дальше он продвигался вперед, тем больше земля походила на жидкое месиво. Спас перестал чувствовать свои руки. Они у меня как маленькие экскаваторы, роют и роют, думал он. Какие экскаваторы! Так роют норы мыши, когда ожидается приплод. Но мыши никогда не роют нор в мокрой земле. А здесь сплошная грязь. Ее легче стало копать, но труднее отгребать. Грязь липла к ногам, растекалась по трубе и обволакивала полуголое тело Спаса. И все же хорошо, что пошла грязь. Значит, до забоя осталось не больше метра. Метр… Если с каждым ударом вагонетки труба продвигается на пядь, нужны еще три удара. Три удара… Самое большее три… И руки, шесть здоровых пальцев, вновь вгрызлись в вязкую землю.
Со сводов забоя все время течет вода. До этого места пробилась бригада, когда Спас еще был бригадиром. До этого места! А теперь бригадиром Владо. Жив ли он еще там, в забое? Что за вопрос — конечно, жив. Продержится. Он с характером, Спас это знает. Владо поймет, почему он полез в эту трубу. Потом кто-нибудь, может, подковырнет Спаса, что он-де выручал Владо, потому что тот бригадир, начальство.
Но Владо так не подумает.
Конечно, Спас не без боли уступил бригадирство. Сколько лет он возглавлял бригаду! На людях, конечно, сам говорил, что надо бы Владо поставить бригадиром. Он партийный, к его словам прислушиваются и инженеры, и снабженцы, да и начальство с ним считается. Но это только на людях. На самом деле было так: поняв сразу, что Владо станет вместо него бригадиром, Спас решил схитрить и предложил ему:
— Слушай, а что, если тебя сделать освобожденным партсекретарем бригады? Можно так сделать?
— Как это «освобожденным»? По уставу не положено.
— Ну зачем тебе, в самом деле, лазать в забой? Будешь заниматься снабженцами, сменными техниками…
Владо усмехнулся и молча пожал плечами.
— Бригада зарабатывает хорошо. Заработаем и на твою долю…
— Ну-ну, — махнул рукой Владо. На том разговор и кончился.
В ту же ночь Спас напился, тогда и случилось несчастье с Киной…
Честно говоря, Спас до сих пор простить не может Владо этот разговор. Он опять достал бутылку из кармана и выпил.
Владо умеет командовать, причем так, что люди слушаются его беспрекословно. И без всяких обид. После того как он обвинил его на собрании в недостаточной классовой сознательности, Спас три дня не разговаривал с ним и все искал повод выгнать его из бригады. На четвертый день, когда бурил один Владо, а остальные занимались крепежным материалом и подгоняли стойки, Спас подошел, посмотрел на его работу и вырвал бур.
— Вот как надо работать! — заорал он, хотя и сам работал ничуть не лучше. Бур шел хорошо, но вдруг врезался в скальную породу и загремел, как пустая жестянка по булыжной мостовой. Спас напрягал все силы, водил бур вправо, влево, вниз, вверх, но сверло,-плотно врезавшись в камень, не двигалось с места. Подошел Владо, взял бур, мягко подал его на себя, и он вновь застрочил, как швейная машина.
И ведь никто его этому не учил…
Удар! Труба вошла в мягкую землю, как нож в масло. Спас уже давно не чувствовал своих рук. Он не мог их увидеть в темноте и поэтому дотронулся до щеки пальцами — они оказались липкие, словно намазаны клеем. То ли это земля мокрая, то ли сорваны ногти и с остальных пальцев… Важно, что нет боли. А резь в желудке все еще есть. В таких случаях Кина обычно высыпала какой-то порошок в стакан минеральной воды. И он выпивал. Хорошо, когда человек выпивает. Спас терпеть не мог тех, чистеньких и правильных, которые пьют только лимонад. Не зря же люди изобрели ракию! Особенно хороша сливовая. Выпьешь — и душа радуется, все кажется интересным, новым. Не зря и корчму изобрели. Как может здоровый мужик обойтись без корчмы? Ну, а раз нет ракии, можно выпить и коньяку. Спас вновь достал бутылку. Выпил. Но и коньяк уже не помогал. Голова трещала, губы пересохли.
Воздуха не хватает, и в груди горячо, как в печке. Последний удар здорово смял трубу, и теперь он в ней не может даже повернуться. Отгребать землю под себя! Сколько еще? Два удара? Две пяди. Два глаза. Два человека. Он и Параско. Параско сейчас бьет с разгону вагонеткой по трубе. Параско сейчас занят. Вокруг него дым коромыслом. Люди орут, бегают с носилками, трезвонят телефоны, подъезжают машины с врачами и с кислородными аппаратами… А если труба еще раз сомнется — конец! Завтра появится некролог. Два! На них обоих. А может, и один. Только на Владо. Нет, один не может быть. Один! Спас не выносит этого слова. Что значит один? Разве может быть человек один? Ведь люди же! Не говорится же «один людь»…
Удар! Теперь Спас ощутил его не руками, а всем телом. Руки ему отказали, не выдержали. Они словно связаны веревкой, цепью. Цепь, цепь, цепью… Да, именно так он и сказал Владо на этом самом месте. Ну, может, чуть подальше, в конце забоя.
— Принимай бригаду!
Владо молча взглянул на него.
— Ясно?
— А ты что, на пенсию собрался?
— Хватит! Я уж какое-нибудь другое место найду. Что я — цепью здесь прикован?
Вот откуда эта цепь. Конечно же, он уйдет с этой дурацкой водонапорной башни. Можно и в город перебраться. Уж сколько времени там квартира пустует. Квартира — это очень важно. Он купил ее ради Кины.
А что, если труба промнется еще? А, черт с ней, пусть проминается. Не страшно… Вот только нужно было что-то сказать Параско. Что же? Ах да — о кроликах. Травы-то им сегодня не дали. Кролики… Что-то еще нужно было сказать. Чтобы не ставили бригадиром Рангела. Не ставили. Ни за что на свете! Сегодня, когда сообщили, что произошел обвал и Владо засыпало в забое, Рангел ощерился такой улыбкой, о которой только и можно сказать: мерзкая.
— Везет тебе, — сказал он Спасу. — А вот ему не повезло с бригадирством. Ты теперь держись меня. А я — тебя. Вместе наведем порядок.
— Да ну? — прищурился Спас.
— А как же? Ты что, не видишь, какое сейчас время?..
Спас размахнулся, хорошо, что Рангел успел пригнуться и отскочить в сторону…
Рангел! Гнида этот Рангел. Или скорее таракан, из тех, что лезут изо всех щелей в полу и потом расползаются в разные стороны, аж блевать хочется при одном их виде. Что он знает о Владо? Или о самом Спасе! Да Спасу наплевать на бригадирство. Важно, что Владо человек! Он и себе знает цену, и людей умеет ценить. Спас сам, всем нутром своим понял: Владо лучше его. Ему от бога дано руководить людьми…
Новая порция земли так и осталась в трубе, надо же выгрести. Он протянул руки — ничего не вышло. В голове было пусто, как пусто бывает на ночных улицах, чисто выметенных ветром. Ни одной мысли. Ни одной-единой, за которую можно было бы зацепиться. В висках бьется, да какое там бьется! Виски сами теперь бьют, как кувалда. И лицо все в поту. Горячий пот хлещет, как настоящий дождь. Жжет. Потому что это не пот, а кровь, она течет по лбу, струйками сбегает по щекам, губам, плечам, к кончикам покрытых коркой пальцев.
Тишина. Как в склепе! Смолкла и вагонетка, раньше толкавшая трубу. Так! Это, наверное, потому, что люди там, наверху, думают, что Спас уже проник вместе с трубой сквозь завал, что он уже в забое. Да нет же! Он еще в трубе. Сил отгребать землю больше не осталось, Спас решил таранить ее головой. Боль пронзала все тело страшная, но он, отталкиваясь локтями, полз. Нет, не полз, а волочился на животе. Вдруг голова его, до сих пор упиравшаяся в грязь, повисла в пустоте. Но в тот миг он еще не понял, что это конец. Что это действительно конец. И застыл, не веря себе.
Потом стал медленно и мучительно выбираться из трубы. Он не смог даже сесть, просто рухнул, раскинув руки в стороны. Что бы теперь ни случилось — не страшно. Потому что он не один. Он нащупал ногу Владо, вспомнил о бутылке и достал ее. Поднес ему к губам, но из нее не вылилось ни капли коньяка. Весь выпил сам… Он оперся спиной о камни и потихоньку сел. Грудь Владо судорожно вздымалась и опускалась. От удушья. Спас заглянул в трубу. Пусто и темно. Лишь где-то очень далеко светилась белая точка. Там свет. Там люди.
Спас с трудом поднял отяжелевшее тело Владо и просунул его в трубу. Потом влез и сам. Начался мучительный путь назад. Руками Спас ничего не мог: они превратились в кровавые ошметки. Поэтому он отталкивался ногами, ноги двигали тело, а тело — голову. Головой он и выталкивал Владо наружу. Вдруг Владо медленно протянул руку и коснулся лица Спаса. Оба замерли.
В голове у Спаса все гудело. А ему так много еще нужно было сказать Владо, много хорошего, много важного. И он прошептал:
— Параско где-то читал, что человеческое тело на пятьдесят пять процентов состоит из воды… Ты в это веришь? А?
Владо молчал.
Лишь руки его ощупывали воздух и искали Спаса.
Спас вновь подогнул ноги и головой уперся в голову Владо. Так он и толкал его к белой точке, которая становилась все больше. Оттуда уже доносились голоса людей.
Перевод В. Ерунова.
Васко Жеков
БЕЛАЯ АУДИТОРИЯ
Скоро придет Диньо Крик. И пока профессор Икономов не закончит лекцию, он будет шагать по коридору. Старшекурсники начнут расспрашивать, что его сюда привело — сын или дочь? Уж не исключают ли? И почему? Попытаются посочувствовать. Он взглянет на них исподлобья, а сам будет мерить шагами коридор, такая уж у него привычка, и ни слова не скажет в ответ этим прилипалам. Будет видно через синий хлопчатобумажный костюм, как сгибается и разгибается при каждом шаге протез и стучит о каменный пол. Желваки на скулах задвигаются, сильно выступающий кадык начнет ходить вверх-вниз по своему привычному маршруту. Бригадир Диньо Крик пытается унять волнение, сейчас его ждет дело — важное и сложное, — и он подбирает слова, с которых нужно начать разговор, чтобы профессор тут же согласился…
Икономов даже не подозревает о существовании Крика. Он сейчас разворачивает чертеж, вешает его на классную доску и направляет указку к точке A. Всегда, при любых обстоятельствах, он начинает именно оттуда. Потом проходит через сложные лабиринты нагнетательных насосов, масляных выключателей, переключателей скоростей и подъемных механизмов, называя их буквами латинского алфавита.
— Механизмы и функции блока A, — говорит он, пытаясь привлечь внимание студентов.
Петьо старается уловить смысл профессорских слов, но они куда-то уплывают, бледнеют и доходят до него чистыми и неразгаданными…
Вчера вечером Петьо переборщил, но было так хорошо, что он забыл графики, планы, пусковые сроки, которые кричат в письме Крика. Он нарочно оставил письмо дома, сделал вид, что забыл. Хотел обмануть себя, потому что знал, стоит ему вспомнить про письмо, как он тут же полезет в карман, вытащит его и начнет читать своим друзьям сбивчивые слова Крика. А те не захотят слушать, может, даже посмеются, и он, Петьо, понимая тревогу бригадира, умолкнет. А ему так не хотелось этого делать. Игривые взгляды Шеллы манили его и обещали открыть ему совсем еще не знакомый мир. И он был готов идти за ней. Пусть она ведет его. Ускользает, а он за ней. Но письмо Крика… Бригадир зовет его, и он не может не ехать, не имеет права. Хочется только отложить отъезд на несколько дней, на неделю, побродить в горах, уединиться где-нибудь с Шеллой…
Профессор Икономов продолжает лекцию. У Петьо все еще не хватает сил сосредоточиться, разгадать побледневшие слова. Он думает о Диньо Крике, который в любой момент может появиться, и о Шелле. Она и сегодня не явилась на лекцию. Спит сейчас, наверное, чуть откинув одеяло, а из-под него виднеется нежный овал ее груди. Вчера вечером пришлось поспешить, ведь потом они расстанутся, она — в горы с друзьями, а он, хочешь не хочешь, вернется в бригаду. Сейчас там горячие денечки, приближается пуск, им нужны люди, люди…
Он ведь их, и они его зовут.
Петьо, когда поступал в институт, получил от них наказ: вернуться инженером и сказать Икономову, чтобы тот дело свое хорошо делал. Что касается первого, то Петьо старается, но вот насчет второго — все никак не может решиться. А тогда был убежден, что сможет… Первый раз они услышали фамилию профессора после серьезной аварии. Той самой, когда Крику размозжило левую ногу.
В день пробного пуска бригадира нельзя было узнать. Носился вверх-вниз по металлическим лестницам и все расспрашивал юного инженера: как будет это, а как сделать то? Тот раскрывал толстый учебник, копался в нем, рассматривал схемы, читал и разъяснял, но бригадир был недоволен. В чертежах, белых и чистых, что-то не нравилось ему. В сердце Диньо Крика закрались сомнения: что-то недоделано, что-то упущено, и даром это не пройдет. Студенческие записи могут сыграть плохую шутку. Крик спешит предотвратить опасность. Осматривает все узлы, проверяет несущие части машины. Но уже поздно.
Из толстого шланга бьет вода, смывая грязь во дворе литейной, и огнеупорные кирпичи празднично блестят.
Начинается!
Барабан огромной машины уже двадцать часов вертится на холостых оборотах. Ненасытное горло машины глотает бревна, они скользят, скрипят в ее огромном брюхе и уже без коры подаются по транспортеру к лесорубу. Тридцатитонный маховик быстро и методично поднимает и опускает нож, и по желобу скреперного конвейера сыплются измельченные щепки. Рабочие берут их горстями, радуются. Монтажники из бригады Диньо не верят в плохие предчувствия своего бригадира, суют носы в измельченные щепки, чтобы почувствовать запах дерева. Диньо тоже забывает о всех своих сомнениях, забывает и про то, что крутятся стрелки часов, которые хотят во что бы то ни стало привлечь его внимание и прокричать: «Зачем ты здесь, разве не видишь, что целые сутки не выходишь отсюда?»
Крик не замечает их, он готов обнять юного инженера, простить ему споры, извиниться за недоверие. Вот он уже бежит к операторам, следящим за дрожащими стрелками контрольных приборов, заглядывает в иллюминаторы и напряженно вглядывается, как бурлит целлюлозная масса…
Отступает ночной мрак, прогоняемый вспыхнувшим огненным заревом, ворота цеха гостеприимно распахиваются, как для приема. Цех наполняется шумом…
И вдруг все перекрывает чей-то крик. Предчувствие опасности возвращается к Диньо. Два прыжка — и он уже на месте аварии: пробило левый держатель, он судорожно дергается. Диньо бросается к нему, забыв, что силы неравны. Хочет закрепить. Прижимает, подсовывает ногу, чтобы уменьшить вибрацию.
— Остановите машину, остановите машину! — кричит он.
Тело его сотрясается вместе с корпусом механизма. Он слышит множество голосов. Какая-то суета вокруг, но ему кажется, что все это где-то далеко. Забыл и о юном инженере, и о белых чертежах. Диньо ничего не чувствует, ничего не видит. Он знает только одно — соскочит держатель, котел с горячей пульпой перевернется, и раскаленная масса, нагнетаемая по трубопроводам, со свистом вылетит огненным кнутом и начнет хлестать по сторонам, ища виновных, чтобы наказать их. Будет ли он среди них? Грохот машины неожиданно обрывается. Барабан останавливается. Держатель больше не дрожит в руках, он неожиданно оседает, и Диньо Крик чувствует обжигающую боль в ноге…
Икономов уже перешел в сектор C — туда, где как раз находится этот держатель. Петьо оглядывается по сторонам: Кольо Плевенец угадывает судьбу по широкой грубоватой руке Лили. Бичи углубился в свое любимое занятие — кроссворды. Сула потихоньку читает романчик о любовных приключениях и вздыхает о несбыточных мечтах. Доре крутит косичку, а Шелла… Шелла спит на даче. Белое одеяло чуть откинуто, и видна ее белая грудь. Болезненная белизна завертелась перед глазами Петьо — белая аудитория, белая грудь, белый чертеж, белый профессор, а потом — белая больница, белая койка и на ней Диньо Крик. Парни из бригады сгрудились вокруг него. Тумбочка у койки стала похожа на прилавок овощного магазина. Они все молчат. Но в ушах у них звучит голос, и на язык навешен тяжелый, замок. Это от неловкости. Не знают, что ему сказать, как успокоить. Они никак не могут начать разговор ни о благодарности директора, ни о юном инженере, ни о следователях. Все знают, что вместо ноги появится звезда, но никто об этом не говорит. Разве она может возместить потерю?
Крик — тоже ни слова. Больничная палата наполнена тревогой, которая в любой момент может прорваться и громыхнуть как взрыв.
Диньо сосредоточен. Морщит свое бледное лицо. Что-то обдумывает. Бригада понимает и ждет.
Все вздрагивают от крика:
— Она двигается, она двигается!..
Люди в больничной палате поражены. Что такое?
— Она двигается, она двигается!
Звуки голоса отдаются в коридоре. Крик поднимает голову.
— Петьо, откинь одеяло!
Он машинально выполняет приказ. Одеяло откинуто — они видят забинтованный обрубок ноги. Он медленно, толчками поднимается и опускается — возвращается жизнь.
— Двигается! Двигается! Все в порядке! Все в порядке! — раздается голос Крика.
Медсестра открывает дверь и смотрит, как больной делает то, чего делать нельзя и чего никто не ожидал. Потом подходит к койке, накрывает Крика одеялом. Смотрит на парней из бригады и старается выполнить свои служебные обязанности — делает выговор. Бранит, а они терпят. Мужчины всегда молчат, когда их беззлобно ругают. Просто не знают, как поступать…
Вчера Шеллу раздражало, что он только и думает о Диньо Крике. Петьо был там, на их «спевке-выпивке», ему захотелось прочесть, что пишет Крик, зашелестеть страницами письма. Но почему-то это вызвало у них раздражение. Сначала подняли его на смех, а потом Муци позеленел. Лицо его стало такого же сине-зеленого цвета, как и глаза. Его гордость и оружие — в победах над женщинами.
— Слушай, кончай со своим Криком, а то тебя с криком вышвырнем отсюда!
Петьо не ожидал такой реакции и даже стушевался. Они встали друг против друга, но два поцелуя Шеллы, запечатленные на щеках враждующих сторон, были равнозначны примирению…
Петьо пытается забыть о письме бригадира, но оно не дает покоя. Ведь только он знает, что такое планы-графики, пусковые сроки. Вот почему слова Крика говорят ему о многом. Говорят о таких вещах, которые непонятны его друзьям.
Джони Ванков продолжает орать благим матом. Он дерет глотку, восхищаясь собой, потому что Шелла однажды неосторожно заметила, что он второй Армстронг. Из расслабленных струн гитары вылетают вымученные звуки, бьются о стены, от них звенят стекла. Душно, но окна закрыты, потому что город спит. Порядочный город всегда предпочитает ночную тишину нестройной музыке. Ведь город — это не завод, не стройка, чтобы бодрствовать всю ночь…
Петьо потягивается на диване, усталые веки смыкаются. Одолевает скука. Он собирается уходить, но Шелла склоняется над ним. Длинные нежные пальцы касаются его лица, ласкают. Усталость превращается в приятную истому. Он хватает губами ее длинные волосы, упавшие на его лицо. Шелла встряхивает головой, и они закрывают его всего, засыпают, душат. Лицо Шеллы приближается к его лицу. Ее дыхание, прерывистое и нежное, не позволяет ему перевести дух — иначе не хватит воздуха ей.
Неожиданно она быстро отстраняется, ее волосы легко потрескивают, скользя по губам.
— Эй, глупыш, вставай, потанцуем.
Обидевшись, Ванков перестал надрывать свои голосовые связки. Кто-то поставил новую пленку, раздался голос Эдит Пиаф. Шелла повисла на шее Петьо, но он не чувствует ее тяжести. Для его крупного загорелого тела, набравшего сил на стройке, она кажется пушинкой. У него чуть неповоротливая шея, но он прямо держит голову, улыбаясь смуглым, обгоревшим лицом. От ветра его брови и волосы выгорели, кажутся неестественно пепельными, словно их кто налепил. Как-то он попытался их пригладить, но ничего из этого не получилось. Шелла заметила и с присущей ей циничной откровенностью высмеяла его. И вдруг почувствовала, что перед ней мужчина.
— Ух, ты какой, — вызывающе сказала она. — Мускулы как у тебя налились…
Она прижалась, и он тут же продемонстрировал свою силу.
— Полегче, прошу тебя. Оставь на потом…
Петьо понимал, что последует потом. Прочитал это в погрустневших и злых глазах остальных ребят, почувствовал, что между ними шла невидимая схватка за вечер с Шеллой и он побеждает. Никогда он этого не подозревал. Шелла пригласила его, и он пришел, потому что не мог не прийти. Она не из тех женщин, которым отказывают. Интуиция подсказывает Петьо, что она его разыгрывает. Он понимает это. Убежден в этом. Но ему хорошо. И он весь во власти ее эксцентричности.
После полуночи она везет его на дачу своей тети — маленький замок-особнячок в двенадцати километрах от Софии.
Такси разворачивается, трогается с места вниз, повороты прячут свет мигающих фар, и на пустынной дороге остаются они вдвоем, Петьо и Шелла. Она — бледная Дульцинея. Он — бесконечно влюбленный рыцарь. И овеянный старинными легендами замок. И сумрак истаявшей луны.
— Устала! — стонет «златокудрая красавица». — Неси меня, мой повелитель!
Рыцарь откидывает плащ, протягивает руки и подхватывает ее, словно «легкокрылую бабочку». Сердце ее учащенно бьется, как у испуганной серны. Он спешит! Вот перед ними огромные ворота, закованные в броню. Они стучат, но слышен только храп пьяных пажей, спящих мертвым сном. «Маленькая хозяйка большого дома» топает каблучком о каменный настил, чтобы показать, как она рассержена.
— Я их проучу, — грозит она.
Влюбленный рыцарь совершенно уверен — она выполнит свою угрозу. Но пусть это будет завтра. А сейчас?
— Неужели ты оставишь меня здесь! — всхлипывает она. — Лезь!
Рыцарь обходит замок. Сторожевые башни и бойницы недружелюбно смотрят на него с высоты, и только проржавленная водосточная труба вселяет надежду. Он хватается за нее. Упирается ногой в стену и делает первый шаг к спасению «маленькой хозяйки большого дома». Труба, почувствовав тяжесть, скрипит, но неустрашимый рыцарь, сохраняя хладнокровие, медленно ползет вверх. Водосточная труба качается, стонет, протестует, это ведь не ее дело, и угрожает в любой момент обвалиться. Наконец она обрушивается, и неустрашимый рыцарь летит вместе с ней на балкон второго этажа, где он превращается в обыкновенного Петьо с ободранной ногой и порванными штанами.
Петьо нажимает на дверь, она скрипит и с треском открывается. Но в этот момент сноп света слепит ему глаза, он поднимает руку к лицу и отступает на шаг.
В пустой даче раздается смех.
— Ну ты даешь, вот это да!
Шелла держит в руках ключ и радуется как ребенок. Холодные мурашки обжигают его будто огнем. Он готов кричать от обиды. Она понимает это и спешит его успокоить. Нежно касается рукой, ласкается с осторожной преданностью котенка. Все это длится лишь несколько мгновений. Его сильные руки хватают ее за талию, высоко поднимают и опускают в кровать на болезненно белую простыню…
Профессор Икономов продолжает лекцию. На классной доске появляется новый чертеж.
— Сектор E, — поясняет профессор. — Общее устройство.
Сейчас Кольо спокойно держит руку Лили. Бичи продолжает отгадывать кроссворд. Сула читает роман и вздыхает. Доре привязывает к косичке красную ленточку… Шелла, наверное, еще спит на даче. Белое одеяло откинуто, белеет ее белоснежная грудь.
Первое, что он увидел, — поразительную белизну ее груди — два возвышения, поднимающиеся на бесконечном холме.
Ему не до пуговиц. Легкий треск — и белизна становится бесконечной, привлекательной.
— Не спеши, глупыш!
А глупыш спешит. Платье летит на персидский ковер. Шелла ищет его губы, горячая рука Петьо скользит по ее спине, ему становится трепетно и радостно…
Петьо придвигает подушку, облокачивается. Шелла ерошит его волосы. Ничем не поддерживаемое пламя гаснет так же быстро, как вспыхнуло. Кажется, на даче кто-то есть. Незнакомые портреты смотрят со стен. В пепельнице окурки, выкуренные другими. Петьо взглядом окидывает комнату, через дверь рассматривает холл, замечает позолоченную статуэтку: два голубя протягивают друг другу клювы и не могут дотянуться. Потом он поворачивается на спину, разглядывает белый лепной потолок…
К возвращению Диньо Крика тетя Мара побелила общежитие и уселась в ожидании на солнышке. Она думала, что когда Диньо это увидит, то обрадуется и скажет ей: «Благодарствую».
Крик вошел, осмотрел подсыхающие стены и с досадой смял сигарету:
— И как ты могла так опростоволоситься?
Тетя Мара стала оправдываться:
— Да я так, для красоты, Диньо…
— Для красоты, для красоты, — рассердился он. — Побелила. Да разве здесь нужен белый цвет? Белое — это больница. И что за оттенок. Когда-то мать клала в побелку синьку. Получалось что надо.
На другой день общежитие синело, будто была собрана вся синева неба.
Петьо не знает: возможно, это Диньо Крик внушил ему болезненное отношение к белизне. Гипсовый белый потолок, белый чертеж раздражали его своей бесцветностью.
— Должно быть что-то еще, — объяснял Диньо.
— Что-то должно быть, надо уплотнять цвет, — повторял Петьо.
Это произошло на третий день после побелки общежития.
Третий день — пятница — навсегда вошел в летопись стройки. Председатель профкома потирала руки.
— У нас рождается новое начинание, — восклицала она.
Сверху им все вбивали в голову, что от них должны поступать разные инициативы и идеи. А это всего-то была одна из бесконечных фантазий Крика…
В то утро Петьо опоздал на работу, он и не подозревал, что все было заранее срежиссировано, что невидимая рука дергала нить событий. Он выходит из комнаты бухгалтеров, которые не могут вспомнить, кто и зачем его искал. Смотрит на часы. Перепрыгивает через канаву, спускается по дорожке прямо к цеху, и вот он врывается в общежитие и останавливается в дверях. Петьо думал, что все уже на стройке, а они, оказывается, здесь, сидят за столом.
— Входи, — говорит Диньо. — Садись!
Петьо подчиняется приказу.
Бригадир молчит. Петьо пытается понять, что происходит. Праздника никакого нет, а все нарядные. Ордена и медали прикреплены к лацканам. Наверное, будут отмечать возвращение Крика из больницы. Нет-нет, он ничего подобного не допустит. Только почему все молчат?
Крик встает. Он еще не привык к протезу, но костыли не берет, опирается о стол. Поднимает голову и поворачивается к Петьо. Значит, они собрались здесь из-за него. Какое-то неясное чувство вины охватывает Петьо.
— Это ведь твой отец, да? — спрашивает Крик, указывая на сидящего справа от него мужчину с посеребренными волосами.
Петьо не знает, что отвечать. Да, это действительно его отец, но зачем понадобилось напоминать ему об этом, да еще таким необычным образом? Что за выдумки? Наверное, что-то неожиданное, догадывается он, какой-то подвох. Надо быть осторожным. Бесконечные штучки Крика ему знакомы.
— Это ведь твой отец, да? — опять спрашивает Крик.
— Да!
— А это его брат, то есть твой дядя, — отмечает Крик. — И этот твой дядя, и этот тоже. Четыре брата. Посмотри на ордена и медали у них на груди. Они — гордость нашей стройки…
Петьо чувствует, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал. Неизвестность настораживает его. Что случилось? Что надумал Крик?
Петьо мысленно вспоминает все плохое и хорошее, людей и события. Хочет понять, к чему клонится это странное театральное представление, чтобы уберечь героя от неожиданности.
Диньо Крик подает реплики:
— С тех пор как они себя помнят, все четверо были строителями. А в последнее время строят всё химические комбинаты. Всё химические… Слышишь?
Диньо уже кричит. Петьо не выдерживает.
— Да! — только и вырывается у него из груди.
— Да, — повторяет Крик, — им нужен инженер. Свой! В бригаду! Наш человек, наш наследник, а не как тот, что по слогам разбирал чертежи.
Стул заскрипел на кирпичном полу.
— Мы решили… этим инженером будешь ты.
— Чудесное новое начинание, — бормочет председатель профкомитета в клетчатой блузке, молчавшая до сих пор. — Это…
Крик зло смотрит на нее, и она замолкает. Нет-нет, это не почин, это как заклинание. Это наказ. Диньо чувствует, но не может выразить. Оно родилось там, в его душе, как крик, все превозмогая и заглушая. Может быть, это пришло, когда вибрация огромного барабана сотрясала его тело, или в больнице, когда кричал: «Она двигается, она двигается», а может, при виде белизны побеленных стен в общежитии. Он сам не знает когда, но понимает: то, что предлагает, хотя и бессознательно, совершенно необходимо…
— Ты должен, слышишь? — снова кричит Диньо. — Должен! Дети обязаны продолжать дело своих отцов, но на более высоком уровне… Слышишь!.. Стать их наследниками…
Бригадир снова в своей стихии, и все молчат.
— Осенью, как приедешь в институт, первым делом скажи Икономову, чтобы он дело свое хорошо делал…
Диньо встает, снимает со спинки стула свою куртку и молча выходит. Только теперь Петьо понимает, что решение принято и обжалованию не подлежит…
Скоро придет Диньо Крик. И пока профессор не закончит лекцию, он будет шагать на своем протезе по коридору. Белый гипсовый потолок, наверное, будет страшно раздражать его, но он не произнесет ни слова. Только удивится, как это у людей хватило ума поместить над головами такую бесцветность. Петьо тоже не выносит белого. Вот и вчера вечером его больше всего раздражал именно этот гипсовый потолок. В темноте он просто резал глаза, не давал ему спать. Петьо вертелся в чужой кровати. От чужих окурков дача пропиталась осевшим зловонным табачным дымом. Портреты представителей незнакомого родословного древа смотрели на него со стен. Шелла откинула одеяло. Ее белые пальцы с красными ногтями впились в его мышцу, они напоминают ему крупные капли крови. Он слышит ее голос:
— Ух, ты какой. И мускулы как налились!
Кровать жесткая и неудобная, будто снизу пружина впилась в спину. Он встает. Выбрасывает из пепельницы чужие окурки, садится и закуривает свою сигарету. «Мелник», второй сорт, — к ним он привык еще на стройке. Их курит и Диньо Крик. Ими затягивается вся бригада. Если под столом валяется пачка, ее владельцем становится тот, кто первый поднимет.
Сигарета успокаивает его. Ее алеющий огонек придает ему немного уверенности — он не один, есть о чем подумать. Он идет откуда-то издалека через пространство, время и воспоминания…
Шелла ворочается в кровати и постанывает. Теплая ночь сделала ее раздражительной. Она сбрасывает одеяло на пол, где валяется их одежда.
Черные волосы Шеллы тяжелым снопом падают на плечи, спускаются по ложбинке вдоль спины, останавливаются, замирая, на тонкой талии, ее талию Петьо может обхватить ладонями, потом они скользят вниз к бедрам. «Длиннобедрая» — так ее прозвали в группе. И она гордилась этим. Петьо понимает, у нее есть для этого все основания.
Он никак не может поверить, что Шелла, обольстительная Шелла, лежит рядом с ним. Она предпочла его другим. Почему? Ей не давали проходу гордые мужчины, а потом превращались в мокрых куриц.
— Пошли, — звала она. И они шли.
— Убирайтесь. — И они уходили.
— Иди ко мне, глупыш. — Она приподнимается на локте.
Веки его вздрагивают. Петьо чувствует, что стул, на котором он сидит, как горячая печка, он готов немедленно вскочить.
Он вынимает из пачки сигарету, чиркает спичкой.
— Брось и мне одну.
Он машинально щелкает, и пачка, описывая круг в воздухе, падает на влажную от пота девичью грудь. Желтоватый табак высыпается и прилипает к нежной коже.
— Где ты такие берешь? — И она торопливо стряхивает табак.
— Где ты такие берешь? — в первый же день спросил его Диньо Крик, когда он вытащил ароматизированные сигареты. — Кури мужской табак, — добавил он, — если хочешь быть вместе с мужчинами…
«А с кем хочет быть Шелла?» — Эта мысль внезапно обожгла его. Действительно, куда она стремится?.. Она не глупа, экзамены спихнет, институт окончит и… Разве она сможет найти общий язык с Диньо Криком? Разве ей удастся заслужить его доверие? Разве она сможет стать его руководителем? Глупости! И что же? Будет по слогам разбирать чертежи, как тот белый юный инженер? Как бы не так, с Криком второй раз такой номер не пройдет. У него осталась всего лишь одна нога.
Петьо снова вспоминает о письме Диньо Крика.
«У нас сложный монтаж. После экзаменов приезжай немедленно, нам нужны люди, будешь помогать и учиться. Если можешь, привози с собой своих друзей. Мы им заплатим. Польза будет двойная».
Двойная польза! Неужели Шелла нуждается в ней?..
Петьо встает с кресла, поднимает с пола одеяло и набрасывает его на Шеллу.
— Я хочу тебя спросить.
— Не о чем спрашивать, глупыш, — смеется она. — Иди. Обними меня посильней. Посильней, слышишь? Вот так, так…
Петьо кажется, что время остановилось, растаяли все мысли…
Немного погодя раздается ее голос:
— Спрашивай.
Петьо не знает, с чего начать. Трудно так, вдруг. Он приподнимается, пытается освободиться из ее объятий:
— Скажи, что ты собираешься делать после института?
Шелла прыскает:
— Нашел время спрашивать.
— Нашел.
— Могу сказать — не знаю. Не знаю, глупыш. А ты?
— Я вернусь в бригаду Крика, я ему нужен.
— Хватит с этим твоим Криком, если еще раз произнесешь его имя, между нами все будет кончено.
Петьо одевается. Шелла удивленно смотрит на него. Впервые мужчина сам уходит от нее. Неужели уйдет? Нет! Он ей нужен. Она вскакивает с кровати. Черные волосы рассыпаются по спине. Да он и мечтать не мог о такой спине, о таких волосах.
— Ты слышал, что в Америке на концертах выступают голые женщины. Они исполняют Баха и Бетховена, Моцарта и Мусоргского. Хочешь, я тебе сыграю «Лунную сонату»? Хочешь? — растерянно спрашивает она. — Я могла бы стать великой пианисткой. Могла бы потрясать публику своей игрой, но меня не приняли в консерваторию. Отрезали все пути… Сказали, нет способностей… Но у меня есть красота, и, если бы это была Америка, я бы выступала обнаженной и стала бы тем, кем хотела. Слышишь? Но у нас так нельзя. Прошу тебя, будь моей публикой. Умоляю…
Шелла бежит к пианино. Поднимает крышку и плачет.
Петьо спускается по лестнице. Но у входной двери останавливается. Наверху раздается музыка. То нежная, то бурная, то гордая, то грустная. Музыка — плач. Он стоит, вслушиваясь в мелодию.
— Может быть, — говорит он, сам не понимая, что хочет этим сказать, закрывает дверь и бежит вниз по аллее.
Звуки пианино догоняют его. Музыка толкает его, но он ничего не чувствует — думает совсем о другом. Мысленно возвращается опять в квартиру Джони. Ему хочется видеть глаза своих друзей, проверить сказанное, то, что они не назвали — может быть, оттого, что сами не понимали.
— Будет очень здорово, — сказал он им. — Крик — замечательный мужик. Будем помогать на монтаже, получим двойную пользу — нам заплатят и немного познакомимся с техникой.
— Не будь смешным и смотри, чтобы не узнала Шелла, она нам организовывает такие фиесты, что мы просто балдеем, но ее легко рассердить.
Тогда он попытался рассказать им о юном инженере, что притащил с собой белые чертежи Икономова, но они снова припугнули его Шеллой…
«Великая музыкантша» спит сейчас в том виде, в каком играла, — обнаженная или нет? Надела комбинацию? Одна бретелька спустилась вниз, и видна белая грудь…
На этот раз профессору удалось привлечь внимание студентов к кончику своей указки. Сула уже не читает роман. У Бичи остались невписанными два географических названия в Африке и фамилия известного французского физика, и тогда левый угол кроссворда будет заполнен.
Внизу на первых скамьях несколько человек старательно записывают, но это будущие аспиранты, кандидаты в кандидаты наук. Петьо чувствует, что голова кружится, становится тяжелой, того и гляди лопнет…
Скоро придет Диньо Крик. И пока не кончится лекция, будет шагать по коридору и ждать. Диньо знает, когда и что нужно делать…
Пересев утром из грузовика-молоковоза в первый трамвай, Петьо забыл все и всех. Даже человек, поднявшийся в темноте со скамейки, не привлек его внимания.
— Эй, — крикнула тень, — ты какой дорогой идешь?
— Своей, — ответил Петьо.
— Своей или чужой?
Петьо резко обернулся. Он узнал голос и понял, что Диньо Крик ждет его давно, но не сердится.
— Здрасте, у меня тут одна идея, — возник из темноты бригадир, — затем и пришел. Экзамены у вас кончаются в конце июня, первого июля ждем к нам.
— Кого? — спросил Петьо.
— Как кого? Вас. Твой курс. Примем всех, таково решение бригады. Мы как думаем: где несколько человек, там могут быть и все. Мы и общежитие подготовили.
Петьо и Крик идут рядом, входят в темный облезлый дом, поднимаются по лестнице. Диньо постукивает своим протезом по истертому каменному полу, и этот звук прогоняет сонную белизну.
Мансарда высоко, но бригадир не останавливается, привык уже. Петьо поворачивает выключатель. Они садятся, и только тогда Крик вздыхает:
— Что скажешь, здорово придумали, правда?
— Они не приедут…
— Как? — Диньо вскакивает со стула. — И это говоришь ты? Повтори!
— Они не приедут. Не хотят. Им бы только фиесты. Играют голые на пианино, и ничего их не интересует. Ни ты, ни твои решения, ни графики, ни планы. Они даже собой не интересуются…
Петьо умолкает, но его крик все еще висит в тишине мансарды. Диньо шарит по карманам:
— Дай сигарету.
Поблескивают огоньки сигарет. Два огонька рядом, чтобы не быть одинокими, как там, на даче, в «замке одиноких воспоминаний», по выражению Джони.
Петьо ощущает странную теплоту как бы вне себя. Он все еще мыслями на том дальнем пути, по которому шел все это время.
— Говоришь, не приедут, — вздыхает Крик.
— Нет, их ничего не интересует. Спешат жить.
— А ты случайно не спешишь? Разве мы все не спешим?
— У нас — одно, а у них — совсем другое…
— Что делать. — Крик гасит окурок, уголек чиркнул по мозолистой руке, но он даже не заметил. — И ими, и нами движет одно и то же, мы, как ты говоришь, спешим, спешим что-то делать. Чтобы что-то получилось.
— Получается ли? И одно и то же ли? — спрашивает Петьо.
— Ну, направления различные, а движение налицо. Поэтому я и зову. Завтра отведешь меня к начальству потолковать. Выйдет что-нибудь?
— Не выйдет.
Диньо Крик вскакивает. Кадык у него дрожит.
— Говоришь, не выйдет. А может, случайно с тобой ничего не выйдет? Уж не ошибаешься ли ты? Может, тебе самому не хочется ехать?
Только сейчас Петьо понимает свою ошибку. Ему хочется обругать себя, но что поделаешь, он же знает, знает своих друзей. В институте существует определенный порядок. К тому же через день после последнего экзамена Шелла устраивает экскурсию для тех, кому удастся отделаться от трудового семестра… Разумеется, не для всех, для избранных. И Петьо в их числе. Из-за мускулов. Но ведь и Крик здесь из-за них же. Тех, что едут работать, тоже в расчет нельзя принимать, они собрались куда-то во Фракию или Добруджу на сельхозработы. А Крик хочет забрать их с собой. Притащился сюда со своей «двойной пользой» и теперь ищет единомышленников. Петьо — первый и последний. Только он один со всего курса знает, что такое стройка. Как выполняется план, как выдерживается график. И что такое пуск!
Он боится, что слова Крика ударятся не о твердь, а о пустоту. Диньо поднимет оглушительный шум, а встретит смех и издевку. «Профессор Криков хочет нас учить», «Профессор Диньо Криков сказал…» Петьо знает, что он этого не стерпит, и поэтому спешит защитить себя и других.
— Все напрасно, — холодно говорит он. — Ректорат не разрешает никаких изменений, бригады сформированы.
— А разве они самые главные? Что, над ними только небо? Будет тебе…
— От них зависит…
— А от того, как его, профессора?
— Икономова, от него ничего не зависит. Он этими делами не занимается.
— Ну, ты не прав. Зависит, зависит, да еще как, и, если хочешь знать, именно он этим и занимается… Сегодня устрой мне встречу с ним… Встречу на высшем уровне! И с ребятами, которые поголовастей, понял?..
Скоро придет Крик. И пока не кончится лекция, будет шагать по коридору, стуча своим протезом. А Петьо все еще не решается выполнить просьбу бригадира.
Зачем вмешиваться, когда все уже решено, вернее, предрешено. Эти здесь — одно, а те там — другое, и им нужно время, страшно много времени, чтобы встретиться, пойти друг за другом или рядом. Пока рано. Диньо не может понять этого, он спешит, хочет опередить время. Он всегда так делает, потому-то часто и разбивает себе голову. И вот сейчас станет посмешищем. Кто его поймет?
Икономов уже заканчивает лекцию. Белые чертежи послушно свертываются в рулоны. Белая аудитория шевелится и шепчется. Скамьи поскрипывают. Петьо вздрагивает, откладывать больше нельзя, он приперт к стене. Деваться некуда. Невозможно не выполнить приказ Крика, но и сказать об этом профессору он не решается. Уж очень разные точки зрения у сторон. Хотя, если посмотреть…
Листок бумаги, сложенный вчетверо, перелетает по рядам и падает перед Петьо. Он поднимает его, разворачивает и в первый момент не верит своим глазам. Ему кажется, что с ним выкинули шутку. На белом листке — небесно-синие строчки, их цвет как стены в общежитии. И эта синева шепчет:
«Петич, вот какая штука, ты нас пронял своим Криком. Запал он в сердце. Мы согласны ехать с тобой. Посмотрим, что он за тип. Такой же, как мы, или нет. Но при одном условии: Джони берет гитару. Без гитары никак нельзя…»
Петьо перебрасывает белый прямоугольник, в нем синее небо, оно веет прохладой.
Теперь легче подступиться к профессору. Ведь несколько человек поедут с ним. Идея Крика уже не представляется Петьо такой безнадежной. Ну и что? Они поедут туда, где им надо быть. Стороны встретятся немного раньше, и может, именно тогда, когда нужно, а кто-нибудь даже сочтет, что с опозданием. Это же совершенно обычное дело.
Профессор Икономов заканчивает лекцию. Благодарит за внимание и направляется к выходу. Аудитория встает и опускается. Именно в этот момент дверь открывается, и входит Диньо Крик. Он направляется прямо к профессору.
Джони Ванков машет Петьо рукой:
— Это ведь он, да?
Петьо утвердительно кивает.
Бригадир и профессор Икономов пожимают друг другу руки. И Петьо кажется, что в этом нет ничего странного, даже совершенно все нормально. Он не совсем уверен, но ему кажется, что они смотрят друг на друга так, как будто давно знакомы.
Вот они идут по коридору рядом. Лакированные ботинки профессора поскрипывают, стучит об пол протез Крика. Петьо оглядывается по сторонам, не зная, что делать, а потом спешит за ними.
Перевод Л. Хлыновой.
Димитр Начев
СИГНАЛ
© Димитр Начев, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
Вечерний концерт окончился, известная певица, залитая светом юпитеров, допела самую эффектную свою песню, и на экране появился диктор, серый и безликий. Он начал читать последние известия, но гости поднялись и стали прощаться. Холл, полный табачного дыма и усталости, опустел.
Вытряхнув пепельницы, муж распахнул балконную дверь, сменил костюм на старую уютную пижаму и расположился в кресле со свежей газетой. Жена выключила телевизор, налила рюмку коньяка и, обращаясь скорее к себе, чем к мужу, сказала:
— Все прошло очень хорошо.
Он отметил, как она опрокинула рюмку — залпом, по-мужски, — и вновь склонился над спортивной рубрикой, в которой содержалась обширная информация о европейском первенстве тяжелоатлетов.
— В субботу приглашу Андреевых, — сказала жена спустя некоторое время.
— Зачем? — отозвался он.
Жена пропустила вопрос мимо ушей. Пододвинув банкетку, она положила ногу на ногу, закурила. Дым клубами окутал мужа, он отложил газету и вышел на балкон.
У него была эмфизема, он не курил уже два года и не выносил табачного дыма. А в доме вечно пахло табаком — курили и жена, и дочь, и многочисленные гости.
На улице дул сильный теплый ветер, в соседнем саду шумели ореховые деревья, фонари, раскачиваясь, мигали как-то слишком ярко. Он стоял на балконе минут пятнадцать, вслушиваясь во внезапные порывы ветра, потом вернулся в дом и собирался уже лечь спать, но прежде по привычке заглянул в комнату дочери. Заглянул, чтоб убедиться, что дочь еще не вернулась, и увидел на заправленной постели большой лист бумаги. Он взял этот лист.
«Я ухожу. Не ищите меня, это бессмысленно. Анна».
Он прочел записку еще раз и в тревоге оглядел углы комнаты, будто его дочь могла спрятаться за гардеробом или под столом. Потом бросился в спальню.
Стоя к нему спиной, жена рассматривала перед трюмо какую-то голубую комбинацию. Толстая спина жены показалась ему в этот момент отталкивающе розовой — он смотрел на нее какое-то время и вдруг закричал сдавленным, надрывным голосом:
— Где Аня?
Жена уронила комбинацию и испуганно обернулась.
— Что с тобой?
— Где Анна? — повторил он и бросил ей в лицо записку дочери.
Пока она расправляла листок, пока читала, он чувствовал, что задыхается, и, непонятно почему, кинулся к зеркалу, схватил голубую комбинацию и начал рвать ее в клочья.
— Коста! — укоризненно воскликнула жена, но, встретив его безумный взгляд, выбежала в холл и стала куда-то звонить по телефону.
Он истоптал голубую пену кружев и бросился одеваться. Одеваясь, он слышал, как жена говорит кому-то:
— Значит, вы с Аней сегодня не виделись? А вчера? По какому же телефону ее искать?
Он машинально одевался, повторяя последние слова из письма дочери: «Это бессмысленно, это бессмысленно…» Пока обувался, он успел немного успокоиться, приступ астмы прошел, и он спросил:
— Кому ты звонила?
— Пепи.
— Какой это Пепи?
— Высокий, — кротко ответила жена, продолжая накручивать телефонный диск.
— Высокий, низкий — какой бы он ни был, я ему голову оторву! Где он живет?
— Они сегодня не виделись.
Жена набрала еще несколько номеров, но везде ей отвечали, что ничего об Ане не знают. В конце концов, решившись, она высказала то, о чем они оба думали:
— Надо звонить в «Скорую помощь»…
Они позвонили, им ответили, что такая девушка не поступала, и только тогда жена расслабленно заплакала. Он ничего не сделал для того, чтобы ее успокоить, да и не думал об этом, механически шагая по холлу взад-вперед. Глаза его лихорадочно блестели. Наконец жена перестала всхлипывать, подняла голову.
— Что же делать, а? — спросила она.
Ее вид потряс его — он будто впервые ее увидел. И невольно сравнил эту беспомощность и выражение виновности и беспокойства с беззаботной нагловатой самоуверенностью, с какой она час назад, положив ногу на ногу и дымя сигаретой, рассуждала перед гостями о каких-то концертах и гастролях, неизвестных ему, совсем ему неинтересных… Но он слыл человеком дела, и теперь жена ждала от него каких-то решительных действий, поэтому он поспешил надеть плащ и вышел.
Он остановился на безлюдной улице, сознавая всю бессмысленность своего поведения: где искать Аню ночью в этом миллионном городе? Он не знал ничего — ни с кем она дружит, ни куда ходит. В кафе, в бары? Но в какие?
Ветер раздувал его плащ. На тротуар посыпались с дерева орехи.
Недалеко от трамвайной остановки навстречу ему сверкнули фары такси, и он поднял руку.
— Куда? — спросил шофер.
— В Пироговку[2].
В больничном коридоре он провел около часа, хотя ему неоднократно повторяли, что такая девушка в больницу не поступала. На длинных диванах сидели люди и так же, как он, ждали. В операционной шла работа, входили и выходили сестры, врачи. Внесли на носилках мужчину с окровавленным лицом, потом привезли ребенка, укушенного собакой, потом долго никого не было. Лампы светили устало, дежурный разговаривал с молодой женщиной, которая нервно курила, а на улице не переставая задувал порывистый ветер.
Он направился к центру города, всматриваясь в лица случайных прохожих, и очутился перед большим шикарным рестораном.
Настала полночь, закрывали, из ресторана посыпались посетители, в основном молодежь, но его дочери среди них не было. Город пустел, все реже и реже проезжали машины, утихал лязг трамваев, светофоры мигали бессмысленно.
Надо бы вернуться домой, но он решил позвонить. Жена ответила, что Анна не вернулась, а ему нет смысла скитаться по улицам, пусть возвращается домой. Малышка, наверное, сделала глупость, какую делают все молодые девушки. Какую глупость? — не мог понять он. Ну такую, объяснила жена, попалась какому-то лоботрясу и завтра приведет его к нам: делайте, мол, с нами что хотите. Так вот и бывает, когда не учатся, не работают, ну ладно, приходи скорей, а то я не могу заснуть, она уже не маленькая, пусть выкручивается сама.
Но он не пошел домой, он сел на скамейку в скверике и долго там сидел. Проходил мимо какой-то человек, подозрительно посмотрел на него, спросил:
— Ты пьян?
— Нет, — ответил он.
— Тогда чего ждешь?
Он только пожал плечами, человек ушел, а он подумал: действительно, чего я жду?
Вопрос был банальный, ответ на него тоже был банальный: человек всегда чего-то ждет, всегда, от рождения до смерти, но он впервые задумался над этими словами и вдруг остро и болезненно понял их значение. Чего же он ждал в своей, как ему сейчас казалось, так быстро пролетевшей жизни? Неделю назад его попросили написать автобиографию — его представляли к награде, — он просидел над нею битых два часа и написал всего десяток строк: родился тогда-то, учился там-то и там-то, женат, имеет одного ребенка. Дочь, прочитав, удивленно спросила: «И это все?» Может, написанное показалось ей обидно заурядным, куцым, но, сколько ни старался, он не мог выделить из многочисленных дней и лет ничего, что выглядело бы значительным и необыкновенным: дни и годы прошли как бы сами собой, в ожидании чего-то, что должно было произойти.
Шум первого трамвая вернул его к действительности, он встал и быстро зашагал к дому. Свернув в свою улочку, пожалел, что не пошел прямо на работу: жена, наверное, спит, а ее пробуждение будет сопровождаться мучительной сценой, ненужной, бессмысленной. Из дома кто-то вышел — скрипнула калитка, и он увидел фигуру в белом, она проделывала на тротуаре какие-то странные, непонятные движения: то шаталась, то кланялась. Он подумал, что все это ему снится, даже протер глаза, но фигура не исчезла. И тут он понял: это его теща вышла в ночной сорочке, спеша собрать сбитые ветром орехи, покуда не опередили соседи… Он уже не сомневался, идти ли ему домой или на работу, и решительно повернул к трамвайной остановке. Но тут вдруг услышал насвистывание, которое заставило его замереть на месте. Он даже вспотел от волнения. Этот сигнал — первая фраза детской песенки — был их сигналом, его и Ани, оба помнили мотив еще с тех лет, когда она ходила в начальную школу… Вокруг никого не было, сигнал доносился откуда-то сверху, он поднял голову и сразу догадался откуда — из нового, еще не достроенного многоэтажного дома. Он бросился в парадное. Он знал, что ее нужно искать на последнем этаже — неделю назад оттуда с балкона бросился юноша, ученик одиннадцатого класса, и умер по дороге в больницу…
Пока он бежал вверх по заваленной строительным мусором темной лестнице, бессознательно повторяя вслух: почему, почему? — сердце его стучало, дыхание вырывалось со свистом, он метнулся в какую-то квартиру без дверей, пахнущую свежей краской, с дырами вместо окон, потом выскочил на балкон, но Ани там не было. Он испуганно посмотрел вниз — тротуар, слабо освещенный фонарями, был пуст. Почти теряя сознание, он вспомнил, что на этом этаже есть еще несколько квартир, и обыскал их все одну за другой.
Он нашел дочь на балконе. Она сидела, закутавшись в пальто, подняв воротник, и курила.
— Что ты здесь делаешь?
Она не ответила. Ему хотелось спросить: «Почему?», но не хватило сил — он только сглотнул тяжелый комок, застрявший в горле.
— Пойдем! — сказал он.
Они спустились вниз.
— Можно я не пойду домой? — попросила дочь.
Он посмотрел на часы. В пять он должен быть на работе — в своей маленькой деревянной диспетчерской, откуда отправлялись автобусы по нескольким загородным маршрутам.
— Я с тобой, ладно?
Дочь сунула свою руку в его, они зашагали рядом. Можно было бы подъехать, но он всегда ходил до автостанции пешком, по одним и тем же улицам, мимо одних и тех же зданий: серых и мрачных зимой, нежных и светлых летом по утрам. Дочь молча шагала рядом, он тоже молчал, но в конце концов не выдержал, спросил:
— Ты всю ночь была там?
— Да.
— Почему?
— Так…
— Почему ты не хочешь вернуться домой?
— Не знаю.
— Вернись. Мама очень волнуется.
— А ты?..
Ему хотелось сказать ей что-то важное, что-то очень серьезное и большое, но он не знал что и только сжал ее ладонь.
Окна диспетчерской светились — значит, пришла уборщица, пожилая угрюмая женщина, она подметала пол, полив его водой большими правильными полукругами.
Дочь уселась возле батареи, он снял и повесил на вешалку плащ, прикрыл окна, вытащил из старомодного шкафа пачку бумаг, разложил на столе.
На остановке уже ждали первые пассажиры, в считанные минуты образовалась темная молчаливая очередь. С деловитым уютным урчанием подошел первый автобус. Шофер раскрыл дверцы, пассажиры хлынули внутрь. Шофер тем временем вошел в диспетчерскую, сказал громко:
— Доброе утро, бай Сотир!
— Здорово, Мишо. Как дела?
— Отлично. Я по третьему маршруту?
— По третьему.
Шофер закурил, взял за горлышко графин с водой и стал пить, жадно и шумно.
— Рано ты просолился!
— Бывает.
Он пил, а сам с любопытством поглядывал на Аню. Потом спросил:
— Девушка едет?
— Это моя дочь.
— А-а-а…
Шофер вышел. Вскоре взревел мотор, дверцы с треском захлопнулись, и автобус растаял в уходящей вдаль улице.
Уборщица принесла пакет совсем еще теплых пончиков.
— Бай Сотир, угощайся!
Они устроились на стульях возле батареи: он с дочерью и уборщица — и молча жевали пончики, а в это время за окном выстроилась очередь еще длиннее прежней. Показался следующий автобус, и все повторилось, только на этот раз шофер не пил воду, а взял у них два пончика.
Аня, согревшись, целый час сидела возле радиатора и смотрела в окно. На улице рассвело, но люди — и мужчины, и женщины, и старики, и ее ровесники — продолжали стекаться с обоих концов улицы, собирались, у железного парапета, громко о чем-то разговаривая, или молча жевали булочки и банички[3]. Все было ново для нее и непривычно, она никогда не бывала здесь, и утренние автобусы, и люди, которые куда-то ехали, как будто вовсе не существовали до сегодняшнего утра. И ее отец был сегодня другим, совсем другим — незнакомым. Она никогда не представляла себе, как именно он работает, знала только, что сейчас он работает на транспорте, а раньше был каким-то начальником, но что-то случилось, и он перешел на транспорт. Дома он никогда не говорил о своей работе, в отличие от матери, которая очень гордилась, что служит в каком-то «импексе», где торгуют с заграницей, что знает французский, что ее очень ценят и т. д. и т. п. … Она вспомнила, как однажды они обе набросились на отца за то, что он не сумел или не захотел — они так толком и не поняли — сделать что-нибудь, когда ей не повезло на экзаменах и она не попала в университет. Отец, пожав плечами, сказал: «А что могу сделать я?» Мать кричала: «Можешь! Побегай, найди старые связи! Может, ты хочешь, чтобы твоя дочь осталась без образования?»
Аня вспомнила и другие сцены — тогда они не задели ее, потому что все происходящее дома давно ее не интересовало. Ей думалось, что родители живут убого, неинтересно, бессодержательно — сама она никогда, ну никогда не стала бы так жить. Мелкой, незначительной выглядит и работа, которую сейчас выполняет отец: ну, приходит автобус, ну, берет шофер путевку, потом приходит другой автобус, другой шофер берет путевку и уезжает — и так будет целый день, целый месяц, целые годы… Зачем? Он ведь не дурак какой-нибудь, но, как ни странно, эта работа не угнетает его, напротив, здесь он совсем другой — спокойный, уверенный, добрый…
Она задремала, ее разбудил знакомый голос — громкий, веселый. Это был Мишо, тот, который уехал сегодня первым. Он снова пил воду из графина и смотрел на Аню хитрыми насмешливыми глазами.
— Да ты, кажись, заснула, а?
Отец обернулся.
— Может, пойдешь прогуляешься? — спросил он. — Я уже позвонил маме, чтобы она не беспокоилась…
— Хочешь, покатаю? — спросил Мишо, и лицо его расплылось в улыбке.
Автобус выбрался из города. Она сидела на переднем сиденье, рядом с Мишо, смотрела на пологие ржавые холмы, близкие, ясно различимые горы, и ей хотелось плакать, но она не могла. Мотор приятно урчал, входили и выходили на остановках люди. Мишо посвистывал, время от времени взглядывал на нее, подмигивал и с важным видом крутил баранку. На последней остановке перед разворотом он забежал в магазин и принес ей коробку шоколадных конфет.
— Любишь такие?
— Очень.
— Ну так улыбнись же наконец!
Аня улыбнулась.
Автобус, развернувшись, покатил обратно. Осеннее солнце ласково осветило город, и он вдруг засиял, поражая каким-то небывалым, необъяснимым великолепием.
Перевод И. Марченко.
Боян Биолчев
НА СКАЛИСТОМ ГРЕБНЕ
© Боян Биолчев, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
За поворотом открывается панорама. Держишь руль, слушаешь привычное шуршание шин по раскаленному асфальту. Стоит лето, поблекшее, иссушенное зноем. Впереди горная долина, острые скалистые гребни, спускающиеся к реке, словно доисторические животные к водопою, зеленые склоны, ложбины, в глубине которых уже притаилась осень. А позади, в рассеченном машиной воздухе, остается прямая лента шоссе, чуть подрагивающая в зеркале заднего вида. Нажимаешь газ, и теперь не слышно ничего, кроме свиста воздуха в разгоряченной морде машины… Но вдруг ты видишь себя, видишь как бы со стороны — будто стоишь на вершине горы и наблюдаешь оттуда за движениями собственных рук, лежащих на баранке. И вот машина резко сворачивает и летит в пропасть, ты с пронзительной ясностью видишь свое искаженное ужасом лицо, машина неуклюже переворачивается в воздухе, обрушивается в воду, взметнув тучи брызг, и с листьев растущего на берегу дерева начинает капать вода. А потом тишина, ужасная тишина, река течет по-прежнему лениво, выбрасывая на прибрежные камни грязную маслянистую пену.
Провожу рукой по лицу. Знаю, что не должен думать об этом, и все-таки вновь и вновь спрашиваю себя: каким же было ее лицо, когда она своими глазами увидела конец? Пытаюсь представить это ее последнее живое лицо, а в ушах звучит и звучит ее приглушенный смех…
Машинально встряхнув головой, я осмотрелся. Все это возбуждение — из-за долгого пути. Я слишком долго вел машину и потому в каком-то странном, перевернутом порядке вижу картины, в которые так напряженно всматривался. Я знал, открывшаяся мне панорама с острыми скалистыми гребнями будет преследовать меня, словно некий символический знак, на всем протяжении пути, но постепенно потускнеет и исчезнет.
Я сидел высоко в скалах, на площадке, тщательно огороженной железным парапетом. От нее спускались высеченные в камне ступени. По сторонам — железные, хорошо забетонированные столбики с натянутой на них проволокой. Безопасный оазис для туристов и слабонервных. Попытка цивилизовать дикие отвесные уступы. Наклоняясь над парапетом, испытываешь не страх, а одно только чувство высоты — в облагороженном, так сказать, виде.
Было около двух часов дня, скалы вокруг были пустынны. Лишь наверху, над дорожкой, расположились пожилые мужчина и женщина. Я видел их седые волосы и их лица, издали казавшиеся мне размытыми матовыми пятнами. Они о чем-то говорили. Я знал, что говорят они обо мне. Наверное, площадка, где я сидел, была связана с каким-то очень им дорогим воспоминанием. Может, лет тридцать назад, когда меня еще не было на свете, они бегали друг за другом здесь, на согретой солнцем площадке среди скал, а сегодня, спокойно усевшись рядом, спокойно показывают рукою на скалы, на долину внизу и говорят о чем-то своем — о том, что принадлежит только им двоим, что было до того, как родился я, чтобы разделить их и связать навсегда. Что же осталось у них от тех времен? Наверное, очень грустно сидеть вот так на скале, там, где бегали когда-то твои молодые ноги…
Горы связали их, и они любили эти горы. Я на протяжении всего детства слушал рассказы о невероятных историях, случавшихся в горах, и так привык к ним, что незаметно становился как бы их участником. Пока однажды сам не поднялся на настоящую скалу и не понял, что не решусь посмотреть вниз и настолько боюсь высоты, что от страха у меня начинает кружиться голова. Это была запоздалая схватка с реальностью, искаженной кривым зеркалом домашнего уюта.
Размышляя о том, как все-таки трудно научиться видеть обыкновенные вещи, как трудно научиться смотреть на мир открытыми трезвыми глазами, я ощутил вдруг запах пыли, а вместе с ним и дух старости и нафталина, насквозь пропитавший комнаты дома, где мы жили когда-то. В густых, сотканных из пылинок солнечных лучах мелькала моль…
Я бегаю за молью, хлопая ручонками. В моем детском сознании бьется мысль, что моль плохая, и я бегаю за нею, чтобы ее убить. Но ручонки мои малы, и я лишь аплодирую собственному бессилию. Темные стены, по углам следы от мокрой тряпки, которой мать снимала паутину…
Я бегаю внизу, едва возвышаясь над полосками половика возле больших и странных людей, таких непонятных. Мать стирает, что-то говорит через плечо, мыльная пена капает с ее рук на цементный пол. Отец лежит на кровати и читает газету, от его ступней на стену падают тени… Я иду к нему, что-то ему говорю. Он отстраняет меня, но я с упорством насекомого карабкаюсь на кровать. Я вижу его задумчивое бледное лицо, блестящие волосы. В гардеробе моль, говорю я отцу, но он мрачно смотрит в сторону, и мне становится обидно….
В гардеробе, в тайном уголке, лежат продуктовые карточки. Я сижу на половике, один в комнате. Залезаю рукой под стопку одежды, провожу ладошкой по шероховатой доске и под колючим свитером нахожу узелок с карточками. Я подношу их к свету — оттого, что они такие яркие, розовые, мне начинает казаться, что наша серая комната тоже становится яркой. Я знаю: эти бумажки почему-то очень дороги взрослым, они их прячут, они все время о них говорят, осторожно отрезают ножницами ровные талончики… Старательно заворачивая карточки, я засовываю их под стопку одежды и вдруг нащупываю там что-то еще, поменьше, завернутое в мягкий лоскуток. Вспотев от любопытства, вытаскиваю темно-красный завязанный узлом платок, пытаюсь его развязать, но узел тугой, и пальцам становится больно. Наконец на пол падают блеклая от времени прядь волос, засушенные листья и почти совсем заржавевшее колечко. Сам того не ведая, я держал в руках вещи, давшие начало моей жизни…
Внизу, под скалами, стоит наша красная машина. И вдруг с этой высоты я снова вижу свои большие, сильные руки на баранке и снова гоню машину по раскаленному шоссе, вслушиваясь в сумасшедший свист воздуха, — и снова машина летит в пропасть… Что же она подумала в последний миг перед тем, как ужас сковал ее сознание? Вероятно, есть какой-то последний миг, когда, прежде чем навеки угаснуть, мысль вспыхивает вдруг кристально чистым, ослепительным светом. Каким же было ее последнее лицо? Я помнил столько ее лиц. Обычное, спокойное — с чуть вздернутым носом и быстрой улыбкой; тревожно повернутое к зеркалу, в котором встретились наши взгляды; уткнувшееся в мою грудь; потемневшее в тени моего склоненного лица. И еще я помнил ее напряженное, опаленное любовью лицо в розовом свете зари… Я вижу все это, а машина летит в реку, словно неуклюжее животное, и с тяжелым всплеском обрушивается в воду…
И здесь, на этом теплом гребне, меня вдруг снова охватило чувство бессилия перед собственной памятью. Я посмотрел вверх. Опять они что-то друг другу показывают. Как они сумели сохранить способность радоваться мелочам? Как после тридцати лет совместной жизни могут они вернуться к самому ее истоку и стоять здесь? Их ноги, наверное, устали после напряженного восхождения. Вокруг все спокойно. Им есть о чем говорить и о чем молчать. С привычной нежностью смотрят они друг другу в лицо, протягивают руку, чтобы показать что-то, имевшее значение тридцать лет назад, имевшее значение только для них. Для меня это — всего лишь нагретые солнцем камни.
Я попытался представить себе смущенную улыбку мамы, когда она, вытащив заколку из волос и согнув ее в колечко — в обручальное колечко, — надела его на палец сильной мужской руки. Я попытался представить себе, как отец прикасается губами к ее темным волосам, от которых он только что отрезал блестящую прядку. Где-то здесь склонились они, чтобы сорвать неизвестно почему проросший на камне стебелек дикой герани… Все это был я — и колечко, и стебелек дикой герани, и прядка темных блестящих волос, и молодость, и ненасытность первых объятий. Как же красивы они были, когда я рождался — с каждой их улыбкой, с каждым объятием, с каждой секундой, проведенной ими вместе…
Помню, как впервые поцеловал ее — неумело, по-мальчишески.
Выходя из какого-то ресторанчика, мы столкнулись с пьяными, и она испуганно прижалась ко мне. Я взял ее за руку, мы быстро сели в машину. Выехав с проселка на шоссе, я вдруг остановился на обочине, склонился — и наши губы встретились, торопливо, неловко. Она немного отстранилась, и я сразу же выпрямился. Мы оба молчали. Тронув машину, я вглядывался в желтые полосы света фар, чувствуя, что она — рядом, что мы видим одно и то же, взволнованы одним и тем же, и на душе было очень тепло и хорошо. Где-то внизу открывалась панорама ночного города…
Мы не сорвали стебелек дикой герани, не выбрали для себя место, о котором потом можно было бы вспоминать. Радио наигрывало тихую мелодию, какую — уже не помню. Я сказал:
— Хочешь, это будет наша песня?
— Нет, — ответила она. — Не эта.
И я не спросил почему.
Размытые, сплетенные, словно пестрые обои, если смотреть на них сквозь аквариум, в ленивом послеполуденном воздухе проплывали перед моими глазами картины… Я видел то, чего никогда уже не увижу в действительности, и чувствовал, как в груди у меня все болит и жжет. Я видел поворот, черные следы шин на асфальте, крутой склон и машину на берегу журчащей реки. Худое лицо милиционера на фоне выгоревшего от жары склона. Милиционер показывает мне глубокий след от обода там, где вдруг лопнула шина, — нелепое пустое место, где нет ничего, кроме серо-черного асфальта. Я что-то отвечаю и вдруг начинаю спускаться по склону, сверху мне что-то кричат, но я спускаюсь, вглядываясь в камни, на которых остались следы краски от кузова, спускаюсь в свое прошлое, останавливаюсь около машины, она безжизненно торчит из воды, как столб, сбивший меня с моего пути. Все так обычно. Теплый воздух ласкает кожу, как в любой другой летний день. Люди останавливаются на шоссе, смотрят вниз и, когда им это надоедает, продолжают путь по раскаленной ленте асфальта. А я сижу возле воды и чувствую, как мое прошлое рвется и распадается в моей груди.
— Ей не нужно было нажимать на тормоз, — устало говорит лейтенант, а я думаю о ее тихой, легкой улыбке и о том, как с нею было просто и естественно…
Я остановил ее, взяв за руку, когда компания, в которой мы познакомились, расходилась.
— Хочешь, подвезу?
— Нет, — ответила она, улыбнувшись. Ее слегка вздернутый нос отбрасывал смешную тень на щеку. — У меня машина.
Когда мы садились в машины, я подбежал и придержал дверцу ее серого «рено».
— Ты выпила. Давай я тебя подвезу.
— Ты тоже выпил, — улыбнулась она. — Ты закроешь?
— Да, — ответил я, но не двинулся с места — У тебя есть телефон?
— Запоминаешь цифры?
— Нет.
— Дай на чем записать, — сказала она и вытащила авторучку из перчаточника.
У меня не было ни клочка бумаги. Я протянул ей водительские права.
— Напиши здесь.
— В кармане сотрется.
Она взяла мою ладонь и в скудном свете лампочки написала шесть цифр.
— Если забудешь сегодня переписать, так хотя бы не мой руки на ночь.
И резко тронулась с места.
Ничего не нужно было объяснять. С самого начала и до конца между нами все было так органично, так просто… Да, органично и просто для меня. А для нее?
Когда она сказала, что будет ребенок, она покраснела и отвернулась, спрятав лицо в тени шторы. Мы были в квартире одни. Простыня на широкой постели была смята, подушка, отброшенная в сторону, еще хранила форму ее головы, одеяло сползло на пол. Я ничего не ответил. Я вдруг подумал: мне двадцать восемь, если у меня родится сын, то когда мне будет сорок — ему будет двенадцать, а когда мне исполнится пятьдесят — ему будет двадцать два… Я не смотрел на нее, хотя и чувствовал, что она всем своим существом ждет ответа.
Я молчал, она этого не выдержала, слегка сжала мое плечо и сказала:
— Ну-ка, подвинься немножко, папочка…
И легла рядом.
Я не смотрел на нее, но видел изгиб ее губ, прищуренные, как от солнца, глаза и понимал, что люблю ее, люблю сильно и мучительно, но боюсь, что нас будет трое, хотя и не знаю, почему боюсь. Я говорил себе — рано, но не знал почему. Я думал, что еще ничего не достиг в жизни, но если б меня спросили, чего же я должен достигнуть, я не смог бы ответить. Я представил себе маленькое незнакомое существо, которое машет ручонками и щебечет радостно, когда я зарываюсь головой в его животик, — и вдруг ощутил в душе пустоту и странное чувство холодного отчуждения. Инстинктивно я прижался к ней, зарывшись лицом в ее волосы, и когда наши губы привычно встретились, я понял по ним, что она ждет ответа. Я продолжал молчать, хотя и знал, как это нелепо. И как подло, ведь я хорошо понимал, что она больше никогда не заговорит на эту тему. Я чувствовал, как течет время в сумраке комнаты, как блекнет в нем невидимый отзвук ее слов, чувствовал, что постепенно успокаиваюсь и становлюсь безразличным к этим невидимым отзвукам. Я понимал, что обманываю себя, но молчал, прижавшись к ней, как ребенок. Потому что хотел, чтобы сняли груз с моих плеч. Весь груз. Стоя на пороге мелькнувшей передо мною новой жизни, я поспешил спрятаться в старой, словно в скорлупе.
Она протянула руку, погладила меня по лицу. Ее пальцы положили на мои глаза прядь волос, потом убрали ее. Они были влажными. Тогда я склонился и прошептал:
— Ты очень хорошая, очень…
— Не надо, — сказала она, — не надо.
И встала с постели. Встала резко, но потом движения ее смягчились, и я понял, что она себя победила, все взяла на себя. Медленно, необычно плавно ступая, пошла на кухню. Послышался неприятный шум резко открытого крана. Потом, так же медленно и плавно ступая, вернулась — она не вытерла лица, и с бровей ее стекали прозрачные светлые капли…
Я не звонил ей три дня, но ждал, как собака, около телефона и, когда она позвонила, тут же схватил трубку. Услышав ее голос, я подумал: она поняла, что я ждал у телефона. Я чувствовал себя точно ребенок, разбивший дорогую вазу.
Она сказала, будто мы только что расстались:
— Можешь быть спокоен.
— За что?
— За все. Все уже позади.
Я понял, однако переспросил, и именно в тот момент в груди у меня снова стало пусто и холодно:
— Что — все?
— Все, — сказала она и засмеялась. — Ну, я тебе позвоню вечером.
Она не положила трубку, и я слышал ее дыхание. Потом спросил:
— Когда?
— Не имеет значения.
Мы помолчали. Потом она сказала:
— Я думала, что ты совсем меня не знаешь. Но ты меня… — Она запнулась. — Ты меня очень точно вычислил.
Я молчал, боясь, что разговор может оборваться, а потом тихо спросил:
— Ты любишь меня?
— Не глупи.
— Ты должна мне сказать!
— Вечером. Должны же мы будем о чем-то говорить вечером. Вот и будем говорить, что любим друг друга. Ну пока!
Она снова засмеялась и повесила трубку.
Я медленно положил трубку, поднял голову — с противоположной стены смотрели куда-то в сторону мои молодые родители, на этом снимке — мои ровесники. Казалось, они видели что-то такое, что было далеко, очень далеко позади меня — за стенами комнаты, за стенами города… Я смотрел на них бессмысленно — почти умиротворенный, готовый спокойно проспать ночь, а утром бодро вскочить с постели и отправиться по делам.
Уходя, я не взглянул на себя в зеркало. Конечно, это был всего лишь жест, я сыграл это, наблюдая за собой как бы со стороны. Но все равно я знал, что внутри, под выработанной ложью жеста, прячется что-то настоящее, что родилось от того холода в груди, может быть, презрение. Я хорошо знал это чувство и боялся его беспощадности. Я знал, как это больно — когда презираешь что-то, с чем ты связан навсегда.
Мучительно медленно выветривалось это в моих отношениях с отцом. Я возвращался к тому времени, когда мы должны были уезжать из Софии. Я был нервным ребенком, меня оберегали. Я привык к тому, что меня оберегают, обо мне заботятся… А сам видел только мрачное лицо отца. Меня не интересовало, почему он такой, просто я считал его нелюдимым, даже жестоким. Я убегал от него к маме, всегда готовой утешить меня и поддержать, хотя, в общем, ее чрезмерная заботливость порой раздражала.
Как же случилось, что я даже не подозревал о переживаниях отца — этого тридцатипятилетнего сильного мужчины, — когда он был уволен и отправлен в провинцию за что-то, что было мне непонятно?.. Мы уезжали, он разлучал меня с моими товарищами — этого было достаточно, чтобы считать его виновным.
Вспоминаю темный коридор, в который вынесли все наши пожитки, зашитые в тюки, и голые кроватные сетки, и старый радиоприемник «Кёртинг» (на ручках настройки все еще видны были следы сургучных печатей).
— Папа, а там есть горы? — спросил я.
— Нет.
— А где мы будем кататься на лыжах?
— Не будем кататься… Будем удить рыбу, там есть река, — отвечает отец и хрипловато смеется.
— Я напишу письмо, что это несправедливо, и отошлю его!..
Отец шлепает меня сильнее, чем обычно. Я плачу — слезы так и льются по щекам.
— Паршивец! — кричит отец. — Будешь писать? Письма будешь писать?! С таких лет жаловаться? Ты мне попишешь!..
Мать бросается между нами:
— Не смей его бить! При чем тут ребенок?
— Пусть лучше дома поревет, — огрызается отец.
Машины все нет. Мы допоздна ждем ее, а потом ложимся на голые пружины, потому что все матрасы зашиты в тюки. Мать целует меня перед сном, и я спрашиваю:
— Мам, там вправду много рыбы?
— Не знаю, — отвечает она и начинает плакать.
— Не плачь, — шепчу я. — Каждый день буду ловить тебе рыбу. Ты не будешь ходить на службу. Будешь сидеть дома и жарить нам рыбу…
Я ходил в провинциальную школу в вылинявшей, но чистой одежонке. Меня учили быть искренним и честным, и я старался быть искренним и честным; прежде чем научился видеть людей, я видел только самого себя.
Стыдно и больно вспоминать тот тихий вечер. Но я очень хорошо его помню…
— Чего ты святым прикидываешься! — крикнул я отцу, весь кипя ненавистью, которой и сам еще не понимал. — Чего ты прикидываешься честным! Все тебя давно раскусили, все!..
— Кто — все? — тихо спросил отец, а я еще не почувствовал, что он говорит как-то уж слишком тихо.
— Все — даже ребята у нас в классе всё знают…
— Ну и что же они знают?
— Знают, почему тебя уволили, вот! — задыхался я. — Мне все сказали…
Отец, перегнувшись через стол, вдруг ударил меня. Было больно, но сквозь слезы я видел, что щеки у него тоже мокрые. И, несмотря на это, я кричал осипшим от злобы голосом:
— Бей, бей!.. Ты только это и можешь — бить!
— Тебе всего десять лет, — тихо сказал отец.
Сгорбившись, он медленно вышел.
Вечером я лег с тяжелой от рыданий головой, включил покрытую газетой лампу и принялся читать «Павлика Морозова». Я читал эту книгу уже второй раз и уснул, уронив ее, не выключив света, и уже не слышал, как мать встала, погасила лампу и убрала книгу на полку, заложив страницу листочком бумаги. Вероятно, она погладила меня, когда укрывала, подтыкая мне одеяло под спину. Она всегда боялась, как бы я не простыл.
Она брала на себя всю боль, всю боль…
Лежа на площадке среди скал, вглядываясь в долину, где, словно утренний туман, клубилось мое прошлое, я понял, что это продолжается до сих пор. Мы приехали сюда, в эту долину (к которой я, хотя и веду от нее свое начало, не имел, в общем, никакого отношения), чтобы они смогли принять на себя всю боль. И меня пронзила мысль, что, быть может, они вовсе и не показывают друг другу памятные места, давно потерявшие ценность в их сознании, а взволнованы сейчас лишь одним — как помочь мне пережить все это… Потому и оставили меня одного: погода приятная, ленивая, располагающая к дремоте, а они, истинные люди гор, хорошо знают, как такая погода действует. Но стоит ли объяснять им, что они ошибаются?..
Старый человек поднялся, не отрывая взгляда от долины. Я всматривался в матовое пятно его лица, всматривался до тех пор, пока позади этого лица не возник иной фон — белая новая мебель, зеленоватые стены двухкомнатной квартиры, — и тогда черты лица прояснились, и я отчетливо увидел его усталые глаза…
На столе между нами стояли две керамические чашки, сбоку — чайник с горячей виноградной ракией. Его носик был заткнут трамвайным билетом. Я собирался куда-то пойти, но не пошел. Купил ракию, и мы вместе приготовили ее. Отец радуется, что я остался, — его выдают неловкие движения и то, что он все время толчется около меня. За окном снег.
— Очень хорошо, что ты не пошел, — говорит отец.
— Почему? Тебе скучно? — спрашиваю я с улыбкой:
— Зима. В холод вкуснее пьется дома…
Мы садимся. Около нас ненавязчивой тенью снует мать, стирает пыль со стола, и красный рукав ее халата трепетно мелькает возле наших лиц. Мы говорим о чем-то незначительном — впрочем, всегда ведь говоришь о чем-то незначительном, если на душе спокойно. Мы вспоминаем — каждый свою работу, свои дела. И неизвестно как и почему в этом хаосе слов вместе со вкусом горячей ракии всплывает то, чего я ждал и чего так боялся. Отец спокойно отвечает на мой молчаливый укор, на мучительный вопрос всего моего детства. Это происходит так естественно, что я не успеваю отреагировать и продолжаю болтать весело и непринужденно.
— За что же тебя оклеветали? — спрашиваю я, потому что мы вспомнили, сколько снега было на Витоше, когда мы покидали город с зашитым в тюки небогатым своим скарбом.
— Это была не клевета, — отвечает отец, потягивая ракию. — Это было гораздо серьезнее.
Я тоже отпиваю глоток.
— Они хотели, чтобы я забрал свою статью. Она не была нацелена против кого-то лично. Но очевидно, им в принципе что-то в ней мешало…
— Кому?
— Не имеет значения. Большинства уже нет в живых.
— Обычное дело, — говорю я. — На собрании кричали?
— Собрания не было. Все произошло в коридоре. Шепнули мне только: «Забери свою статью — не то раздавим тебя». Все просто — не нужно выступлений и никто посторонний не слышит. — Отец улыбнулся, не глядя мне в глаза.
— Ну и забрал бы! Тебе бы это дешевле обошлось! — смеюсь я.
Я смотрю на него, вижу его усталые глаза. Мои щеки горят — верно, от выпитой ракии. И вдруг мне становится тяжело, муторно, и в памяти вспыхивает мрачное молодое лицо отца, странная ночь на голых кроватных сетках, белая вершина горы, с которой мы должны были скоро распроститься. И тут я понимаю еще одну простую истину: отец не сказал мне этого тогда, когда я был ребенком, маленьким нервным мальчуганом (не сказал мне, что не сломался, что выдержал), чтобы не замутить мою чистую, наивную веру. Он предпочел, чтобы я осуждал его вместе со всеми, лишь бы не оттолкнуть меня от всех. Он все взял на себя, чтобы я не остался изолированным, озлобленным… Все для меня… для меня… для меня…
Как сказать ему, что у него большое сердце? Только вряд ли он захочет это слушать. Вот они сидят с матерью, склонив друг к другу седые головы. О чем они сейчас думают? Вероятно, опять обо мне, о том, как мне помочь. Но я понял… Я уже понял, и мне ничего не надо. Наверное, только тогда и начинаешь становиться человеком, когда перестанешь требовать…
Она ничего не требовала от меня. Даже тогда, когда имела на это право. Она хотела только быть рядом, только положить голову на мое плечо. Это мое плечо, говорила она, и никто не может его у меня отнять… Я лежу навзничь на площадке в скалах, закинув руки за голову, глядя в синее небо, такое же синее, как и в любой другой солнечный день. Жужжат в траве насекомые, ветер время от времени бьется об острые скалистые гребни и со свистом устремляется вниз… Она возникает из синего воздуха, улыбается, склонившись ко мне, и кладет мне на лоб нежную свою ладонь. Я закрываю глаза. От ее волос веет горным воздухом и запахом привядших на солнце скошенных трав. Она опускает голову на мое плечо — на «ее» плечо… Мне так хорошо… Из-под смеженных век вдруг стекают две капли, я поднимаю руку, чтобы стереть их, но рука застывает в воздухе, затем опускается, нащупывает пучок травы и срывает былинку. Зажав былинку в зубах, я пишу ею странные знаки на небе…
Вот так мы лежим вместе, и ее голова на моем плече, на ее, на нашем плече. Но ее уже нет. Я плечом ощущаю ее горячую щеку — но знаю, что я один…
И прежде чем машина снова тяжело рухнет в реку, я успеваю увидеть полутемную прихожую и вешалку, на которой висит ее пальто — значит, она пришла! — и мне становится хорошо. Она бежит к трамваю, вскакивает на подножку и оборачивается, чтобы махнуть рукой, и хочет что-то сказать мне взглядом, но она так устала от нашей бессонной ночи, что лишь улыбается, а трамвай уносит ее в просторы раннего утра… Ресторан пахнет болгарским рестораном первой категории в одиннадцать вечера. Глаза щиплет дым. Если надоест, сразу скажи, говорит она, мне не надоедает, говорю я, люблю тебя… Знаешь что, отвечает она, не говори мне этого слишком часто…
Где это все, почему этого нет, почему этого так нелепо нет?
Чего я достиг и чего еще не достиг? Что значит достичь чего-то и вмещается ли то, что я потерял, в рамки достигнутого и недостигнутого? Мне казалось, что рано иметь жену и ребенка, потому что я пока ничего не достиг в жизни. Я боялся, как бы они не помешали мне — а в чем? Сейчас все достигнуто — я получил ученую степень, студентки шепчутся, стреляя в меня глазками, когда я прохожу мимо по коридору. Как жадно я ждал, чтобы обо мне заговорили чужие, незнакомые люди. Да, все свершилось, все достигнуто. А ее нет… Былинка рассекает пополам солнце, теряется в ослепительном шаре. Я закрываю глаза. Она устало прижимается ко мне и, как всегда, не спрашивает, почему я грустный и о чем молчу. Наверху мои родители разговаривают о чем-то своем. Новая просторная квартира, гараж, троллейбусная остановка рядом, на соседней улице. Машина застрахована, она сейчас стоит внизу, у подножия скалы. От дома меня отделяет сотня шагов — столько, сколько нужно, чтобы спуститься по выдолбленным в камне ступеням и сесть за руль. Я лежу здесь и вижу: все уместилось в одной пригоршне. Как мало. Я с нетерпением ждал, когда достигну чего-то, чтобы порадоваться, а сейчас вот лежу здесь и знаю, что ничего нельзя достичь окончательно. Радость — только в нетерпении на пути к этому. В жизни не может быть одной-единственной цели, я знаю это, но это знание не повернет время вспять, и вдруг с пронзительной горечью я думаю: в мудрости есть что-то нелепое…
Если встать сейчас, и посмотреть в небо, и сорваться с высокой скалы, все равно не встретишься с ней. Просто не вернешься по той тропинке, которая привела тебя сюда. Впрочем, если это сделать, то разве только ради последних секунд самоанализа. Маленький эгоистичный жест перед самим собой, ограниченный сотней метров, которые отделяют тебя от подножия скалы, поросшей редкой травой. Я знаю и это. Обо мне, конечно, поговорят, покопаются в мелких подробностях моей жизни, которые уже не будут моими, потому что уже не будет меня самого. Я лежу на скале и вижу все это так ясно, как вижу собственные ладони, как вижу тонкую былинку на фоне синего неба, и мне вдруг становится смешно. Я научился читать свое прошлое — и отвечаю себе на многое, что тяготело надо мной. Я сумел овладеть им. Может быть, поэтому каждый мой новый день проходит спокойно, уверенно, просто… И пока я думаю об этом, в сознании вдруг снова проносится холодное дуновение — мысль о том, что я пытаюсь сделать близкими, своими банальные и многократно повторенные истины, потому что от безмерного чувства вины оберегают меня элегические размышления и печальная мудрость, потому что ведь лучше наблюдать со стороны, как ты несчастен. Да, конечно: ты — в центре, а все остальное — мимо тебя, около тебя… Кроме простой истины, что ее уже нет…
А нет уже многого, многого. Нет блестящих черных волос твоего отца. Встань, поднимись по красноватым камням, подойди к нему и, когда он удивленно поднимет свою поседевшую голову, скажи: «Папа, прости, я всю жизнь плохо тебя понимал, я вечно спешил, я вел себя как глупый мальчишка. Я был неправ, ты по-настоящему честный человек, ты самый честный человек…» Он притворится, что не понимает, ведь это ему уже не нужно, потому что сейчас он думает только о тебе.
Как много времени я прожил, не зная, что мрачное выражение лица может скрывать нежность и теплоту. Как, наверное, трудно было отцу сохранять это выражение на лице… Сейчас он, пожилой человек, сидит наверху, совсем близко, и если я подойду к нему, он улыбнется дружески-сочувственно. Многое из того, что в давние дни омрачало его душу, осталось позади — в старом доме, полном дорогих, незначительных, незабываемых мелочей. Сейчас, когда он меня видит, он не думает о выражении своего лица, и потому оно такое открытое, сердечное. Если я приближусь и скажу: «Прости меня — я только сейчас понял, так поздно», — он улыбнется и ответит, что это не имеет значения и вообще ничто никогда не поздно. Он скажет это, чтобы поддержать меня, и за мягкостью взгляда спрячет свое суровое, мужское знание…
Я понимаю это так ощутимо, как чувствую теплоту скалы. Лежу, закрыв глаза, и чувствую, как память прижимает, давит меня, словно другая скала, еще более горячая. Смотрю сквозь полузакрытые веки — у памяти синий цвет, и в этой синеве блестит солнце. Все синее и теплое… И в этом синем и теплом звучит, как в давней комнате моего детства:
— Можешь быть спокоен… Все уже в порядке…
А я неспокоен и снова слышу ее смех — приглушенный, горький. Я хорошо знаю, так смеется человек, подавляющий в себе сильную боль, и в этом смехе я слышу: я взяла на себя твою боль, люблю тебя, несмотря ни на что, все так, как ты хочешь, я отдала тебе все, что могла, можешь быть спокоен… можешь быть…
Но я неспокоен. Я чувствую, как тяжко, всем своим телом придавил меня камень, на котором лежу. И чувствую на своем плече ее лицо. Она медленно поднимается, смотрит на меня, но я закрыл глаза, и наши взгляды не встречаются. Она гладит мое лицо и уходит по скалам, поднимаясь все выше и выше по красноватому камню, словно тень летящей птицы. Оборачивается, машет рукой — ее рука струится в горячем мареве, а взгляд словно бы хочет мне что-то открыть, чего я не понял за все наши дни и все наши ночи, — но вот ее тень бледнеет и тает в синем воздухе…
А я — я снова остаюсь один на скале. Я знаю, что до сих пор я только брал, но ничего не давал взамен, и знаю, что теперь понял это. И хотя мой отец и скажет, что никогда не поздно, я знаю, что поздно и что он говорит это только из любви, желая мне помочь. Но я уже не нуждаюсь в помощи — это тот самый миг, когда с болью и мукой начинаешь становиться человеком…
Очнувшись, я услышал смех и неясный говор и поспешил встать. Мне показалось, по дорожке кто-то идет, но ступени были пусты. Однако где-то рядом были люди, потому что снова послышался девичий смех. Он несся откуда-то сверху, и я пошел на этот смех, на звук, так внезапно прервавший мое одиночество.
Выйдя из-за скалы, я увидел на отвесной стене юношу и девушку. Они карабкались вверх — запыхавшиеся, обвязанные толстой веревкой, о чем-то переговариваясь и смеясь. Они были так близко, что я хорошо различал их молодые разгоряченные лица. Наверху, на самой вершине, что-то дымилось — верно, их товарищи разжигали костер.
Им было самое большее лет по шестнадцати-семнадцати. Вот, подумал я, они такие молодые, а не боятся ни скал, ни высоты. Шутят себе, как ни в чем не бывало…
Я следил за ними взглядом, пока они не поднялись на вершину и не скрылись за гребнем. Я позавидовал этим ребятишкам. Отвесная скала казалась мне когда-то непреодолимым препятствием — но ведь они в таком же возрасте преодолевают ее играючи. Главное — то, что на скале всегда есть люди…
Тут только я вдруг обнаружил, что для того, чтобы видеть их лучше, я вышел за парапет, огораживающий площадку. Я не почувствовал абсолютно ничего. Я смотрел вниз и совсем ясно видел трещины в скале, пучки травы и красный верх своей машины. Шагнув вперед, я встал на самом обрыве и всмотрелся в долину. Голова у меня не закружилась. Все было ясно, до боли ясно и просто…
Махнув рукой родителям, я повернулся и пошел вниз по дорожке, по ступеням, высеченным в скале.
Перевод И. Марченко.
Радослав Михайлов
ВЗЯТКА
© Радослав Михайлов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
Охваченный тревогой и надеждой, ровно в восемь тридцать пять утра Гошо вышел из автобуса и сразу же увидел на противоположной стороне площади громоздкое здание комплекса, типичное для конца пятидесятых годов: безликое, но солидное. Безликим был и городок, скорее большое село, с двухэтажными домами, построенными как кому вздумалось и вольно разбросанными по склонам пожелтевших за лето холмов. Во дворах, огороженных сеткой и засаженных фруктовыми деревьями, не было видно ни кур, ни поросят, и городок выглядел бы опрятным, если бы не пыль, все покрывавшая здесь густым слоем. Октябрь стоял сухой, теплый, безветренный; легкое утреннее марево поднималось над окрестными холмами. Хоть бы все уладилось! — с замиранием сердца подумал Гошо, оглядывая площадь повлажневшими глазами: окружающее виделось ему нереальным, но милым, как бывает при любви с первого взгляда. Он постоял немного и, собравшись с духом, открыл дверь главного входа.
Кабинет Сергиева оказался на втором этаже. Прежде чем постучать в дверь, обитую искусственной кожей, Гошо оглядел пустынный коридор; за дверями слышалось ленивое пощелкивание счетных машинок, а из кабинета Сергиева доносились приглушенные обивкой голоса. Неожиданно для самого себя он успокоился: нужно подождать, пока выйдут люди, и это ожидание оказалось очень кстати. Он облегченно вздохнул и стал медленно прохаживаться по коридору, покрытому изрядно вытоптанной дорожкой из козьей шерсти. Хоть бы все уладилось! Невольно он начал даже подсчитывать в уме, сколько ехать сюда из Софии: час пятнадцать автобусом, плюс полчаса трамваем, в общем, примерно два часа в один конец; но тут же спохватился, суеверно отогнав от себя эти мысли, — устройся сначала! Он старался думать только о том, что было перед глазами: о пыльных улицах за окном, о домах с просторными дворами, о безликом здании, о коридоре с дорожкой из козьей шерсти, об этой обитой двери, за которой сейчас у председателя идет, наверное, совещание… Налево по коридору, направо по коридору, четыре двери по одну сторону, четыре по другую, и вот эта, в углу, обитая искусственной кожей. Шаг по дорожке, еще шаг, и каждый отдается в душе то тревогой, то надеждой, то мольбой: хоть бы… Дверь неожиданно открылась, и в коридор с шумом вышла группа мужчин. Обсуждают свои проблемы, заботы, проходят мимо, никто и не взглянет, а он прислонился к стене, ждет, пока пройдут, и, прикусив дрожащие от волнения губы, стучит в дверь.
Пока Сергиев читал рекомендательное письмо профессора Докторова, Гошо стоял перед его столом с застывшей любезно-вежливой улыбкой, стараясь скрыть ею снова обуявшие его страх и надежду; он сосредоточенно изучал то волосатые руки председателя, то широкий узел его галстука, изредка бросая робкие взгляды на строгое лицо. На темени Сергиева уже обозначилась лысина, но фигура подтянутая, рубашка с короткими рукавами, галстук: было в нем что-то от офицера, перешедшего на гражданскую службу, или от менеджера — весь облик его излучал энергию. Гошо, напрягшись в стойке «смирно», ждал вопросов. Сергиев прочел письмо, отложил, посмотрел на Гошо, но не прямо в лицо, взгляд остановился на уровне груди, там, где сходятся лацканы пиджака.
— М-да, Докторов звонил мне. — Короткая пауза, едва уловимое движение бровей (наверное, думает, что меня по блату хотят устроить, ужаснулся в душе Гошо), пальцы правой руки забарабанили по полированной глади стола. — Вакантное место у меня есть, я Докторову так и сказал, но на него уже три претендента, ты четвертый.
Гошо переступил с ноги на ногу и услышал какой-то не свой, жалостливо-трагический голос:
— Но профессор сказал, что все договорено! Он хотел оставить меня на кафедре, я на курсе второй по успеваемости, но сейчас все места заняты, пришлось бы ждать, а я…
Он хотел добавить, что к работе может приступить хоть завтра, потому что жить совсем не на что, но Сергиев, не меняя тона, прервал, словно бы отстранил от себя ненужные ему объяснения, точно так же как только что отодвинул прочитанное письмо профессора.
— Я не отрицаю — разговор был. Но ты должен ясно осознать, куда идешь стажироваться. Вот он, институт, в двух шагах, — широкий, резкий взмах рукой, и Гошо, как загипнотизированный, перевел взгляд на окно. Сквозь тюль занавесок проступали очертания домов просторно раскинувшегося городка, а за ними вдали — взметнувшееся ввысь новое здание современной архитектуры, облицованное анодированными алюминиевыми панелями, блестевшими в лучах солнца, — родной институт.
— Да-а, — произнес Гошо.
— Вот именно. Желающих попасть к нам — тьма, тебе это тоже известно, коли Докторов за тебя просит. К тому же в нашей отрасли это ближайший к столице комплекс, под боком у нее, половина твоих сокурсников были бы рады устроиться к нам.
— Да, — согласно кивнул Гошо, криво усмехнувшись, и его мечта попасть сюда, лелеемая целых три года, самому показалась чуть ли не приспособленчеством.
— Так-то, — легкая, обескураживающая улыбка, и снова брови строго сдвинулись. — А наш корпус еще и ближе других к остановке, — снова улыбка. — Ну а статус институтской базы дает неограниченную возможность проявить творческие способности. Этой осенью завершаем закладку фруктового сада на шесть тысяч декаров, и все опыты — под наблюдением института.
— Здорово! — воскликнул Гошо. — Я же… в сущности…
Ему хотелось как-то выказать свой восторг, чаяния, надежды, но сдерживало опасение, что человеку за столом он чем-то не понравился.
— Хочу, чтобы ты понял. — Сергиев приподнял письмо и снова положил на место. Его быстрые, резкие взгляды прямо-таки полосовали Гошо, но ни разу не поднялись выше уровня груди. — Хочу, чтобы ты осознал, где будешь стажироваться. У тебя какой балл?
Гошо рот разинул от удивления:
— Я говорил уже, я отличник, второй на курсе, в письме написано… и кроме того…
— Хорошо, — прервал Сергиев (слышал ли, понял ли, не ясно). — Кем работает отец?
— Отца нет, — Гошо вздохнул, и нотка плаксивости невольно проскользнула в голосе, — а мама болеет, из-за нее я…
— Хорошо. В армии отслужил?
— Да. До института еще.
Следующего вопроса Сергиев задать не успел: зазвонил телефон.
Гошо перевел дух, незаметно переступил с ноги на ногу — ноги затекли — и снова посмотрел через тюль занавесок на сверкающий под утренним солнцем институт. Там распоряжался Докторов, который с первых курсов отличал его (не за ясны очи, а за голову, в которой кое-что есть, как сам он говорил) и готов был взять на работу, да только не было сейчас вакантного места, и он перепоручил Гошо Сергиеву (для него мое слово кое-что значит, да и ко мне поближе будешь). Эх, хоть бы уладилось! И к остановке близко, и статус институтской базы дает неограниченные возможности выявить способности молодого специалиста Георгия Александрова. Но все-таки чем-то я ему не нравлюсь… Почему держится так сухо и не смотрит в глаза? Вдруг откажет? Трое претендентов, ты четвертый…
Резкие, полосующие взгляды, короткие «да, да», правая рука, густо заросшая волосами, сжимает трубку, левая нетерпеливо барабанит по столу, и от всей спортивной фигуры веет жесткой, холодной респектабельностью. Может, он вовсе и не бывший офицер? Если знаком с Докторовым, так, может, агроном? А может, Докторов и ему читал лекции, но не увидел в нем склонности к научной работе? Или они знакомы с тех пор, когда этот комплекс стал базой института? Гошо обводил глазами стены и окна кабинета, а в душе тоненькой струйкой трепетало жалкое чувство страха, перемежавшееся на мгновенья вспышками надежды: хоть бы…
— Слушай, Камен, — голос Сергиева стал напряженнее, в нем зазвучала угроза, — я тебе уже говорил: не получается, так ищи подход! Сколько можно учить? — немного послушал и… — Как это не можешь? Позови на дачу, познакомь с Мишо… — поджал губы, послушал и снова ровно, но с нажимом: — Ну хорошо, хорошо, и не таких видали. Людей без изъяна не бывает. Мишо его слабое место нащупает! Но сделать надо! Другого не дано. Идиотство полное! Пять колесников я должен годы ждать, я что, за тридевять земель от столицы? — нахмурил брови, помолчал секунду и разочарованно произнес: — Ладно, пусть Мишо зайдет.
Сергиев бросил трубку, посмотрел на Гошо, опять на уровне груди.
— Пять колесников я три года ждать должен, когда полминистерства — мои люди!
Гошо не понял, о каких колесниках речь, хотя старательно перебрал в уме все, что учил по машинам и что видел на практике, но в памяти ничего не всплыло. Может быть, какой-то новый и совершенно необходимый для этих шести тысяч декаров фруктовых садов агрегат?
— Так, — сказал Сергиев, снова глянув на Гошо, — что отслужил, хорошо. Где был на практике?
— В Долнем Дыбнике, Плевенский район.
— Там не понравилось?
В вопросе не было издевки, но Гошо почувствовал необходимость оправдаться, даже покраснел.
— Понравилось, но я вам говорил про мать, два инсульта у нее было, оставлять ее не с кем, а с собой брать… А то бы я…
На сей раз его прервал не Сергиев: открылась дверь, и в кабинет, шумно дыша, вдвинулся пузатый человек. Гошо сначала увидел его напористо торчащий вперед живот (нижняя пуговица рубашки расстегнута, из-под нее видно майку), потом лицо — крупное, интеллигентное, живое; и сразу видно — человек бывалый. Но самым примечательным, однако, были его глаза: они излучали и силу, и доброту.
— Мишо, — (так вот он какой, этот Мишо, умеющий отыскивать в людях слабые места!), — возьми дело со Спиридоновым в свои руки, черт бы побрал Камена с его щепетильностью, зла не хватает!
— Ничего не имею против. — Вошедший благожелательно глянул на Гошо, будто предлагая и ему участвовать в выполнении задания. — Но как на него выйти? Не просителем же являться?
— Позвони Гладнишке, он свяжет тебя с Хубенковым, Хубенкову передашь привет от меня л и ч н о и скажешь, что обещанное будет сделано; Хубенков представит тебя Спиридонову. Учти: Спиридонов над обоими стоит, как бы не вышло какой накладки.
— Знаем, не малые дети. — Мишо снова обвел своими добрыми глазами кабинет, и Гошо подумалось: вот бы у него работать!
— Узнай, чем увлекается: охотой, вино давит, ракию гонит — что-нибудь да есть! И позови на субботу, на своей машине не может, так мою пошлем.
— Заметано, — кивнул Мишо.
Сергиев на миг задумался.
— Сам сориентируйся. Если надо, позови Цецку. — Тут он впервые поглядел Гошо в глаза, будто говорил это ему или искал у него сочувствия. — Как знать, некоторые с милашками любят отдыхать, у каждого свой вкус.
— Без деталей, шеф, без деталей. Не разжевывай! Все будет о’кэй.
— Колесники нужны мне весной, а не через три года, не забудь.
— Ясно. Завтра с утра я уже у Гладнишки. Есть еще что?
— Нет. Свободен.
Мишо еще раз глянул на Гошо как на соучастника, подмигнул ему и медленно вынес свое пузо из кабинета. На миг наступила тишина, не хватало его шумного дыхания и какого-то домашнего тепла, возникшего с его приходом. Сергиев снова поглядел Гошо в глаза, словно извиняясь.
— Что делать… обычным путем не получается… — И, как бы ставя на всем этом точку, спросил: — Как зовут?
— Там написано, Георгий Александров, но зовут все Гошо.
— Хорошо, Гошо, приноси заявление, диплом и все, что полагается, а мы подумаем, посмотрим. И не забывай, куда идешь, это я тебе третий раз говорю.
— Да, — прошептал Гошо. — А рекомендация у вас останется?
Сергиев протянул ему письмо.
— Нет, письмо не нужно. Докторов большой человек, но в облаках витает. А тебе надо на земле стоять, на земле, хоть ты и отличник. Ну пока.
Гошо сказал «до свидания», слегка прищелкнув каблуками, и только когда осторожно закрыл дверь, начал постепенно приходить в себя. На остановке в ожидании автобуса он ни с того ни с сего разговорился с двумя местными, совсем деревенскими на вид, о городке, о комплексе и даже о Сергиеве и Мишо.
Целых три дня он не мог ни на что решиться, хотя знал, что с каждым днем число кандидатов у Сергиева растет и ничего странного, если их стало теперь, может, уже пять, не считая его самого. Две ночи он почти не спал, а когда засыпал, его преследовали тяжелые сны; мать обращалась с ним заботливо, как с больным, хотя больной была она и именно из-за нее он вынужден теперь решиться на такой унизительный шаг, а что шаг унизительный — так это яснее ясного: ведь снова придется стучаться в обитую дверь Сергиева, а надо, потому что комплекс рядом с Софией, хотя в любом другом месте его приняли бы с распростертыми объятиями. Он старался подавить свои колебания, и они отступали, но снова возвращались, решимость сменялась изматывавшими его сомнениями. Посоветоваться бы с кем… Он отыскал двух близких институтских приятелей, встретился за рюмкой водки сначала с одним, потом с другим и, пересиливая смущение, попросил совета: как бы они поступили… Оба были единодушны: надо — значит, надо, удивляться нечему, так принято, все так делают, не будь телком наивным, счастье раз в жизни выпадает. К профессору он не решился пойти, хотя верил ему больше, чем кому бы то ни было. Это тебе не Сергиев с его спортивной выправкой. Докторов внешне на отшельника похож, и взгляд мутных, старческих глаз отшельнический; многое он видел, передумал, переоценил, многое познал, но одному не научился — ходить по земле, а не витать в облаках. Да, не решился он посоветоваться с профессором, потому что был уверен: профессор поймет не только его душевный протест, но и нечистоту его помыслов — ведь была в них и эта сторона. А мать… мать, сострадая ему, сказала, однако, в первый же день: придется пойти на это, вот был бы жив отец…
Итак, после трех дней мучений, которые, то усиливаясь, то чуть отпуская, жгли душу, перебрав в уме несчетное число раз весь свой разговор с Сергиевым, все, что увидел и услышал в его кабинете: первое предупреждение (должен осознать, где будешь стажироваться!), потом короткая фраза о конкурентах, разговор по телефону с неким Каменом (не получается, так ищи подход!), вызов Мишо с глазами толстого добродушного божества, характеристика Докторова (большой человек, но в облаках витает) и совет на земле стоять, на земле, — Гошо принял решение. А приняв его, успокоился и даже сам себе подивился: о чем еще тут думать, если число кандидатов у Сергиева растет с каждым днем? Почему он, Гошо, должен быть глупее других? Конечно, у него есть плюс — ходатайство Докторова, но ведь для Сергиева это ничего не значит. А он-то верил, что слово профессора для всех закон! Гошо сложил документы в красивую папку: заявление, диплом, автобиография, справка о прохождении практики, рекомендательное письмо Докторова (пусть все-таки лежит!) — и заколебался: какой взять конверт — большой или маленький, с прокладкой или обычный. Наконец остановился на большом, сунул его в зеленую папку и с каким-то смутным чувством — то ли презрения к самому себе, то ли восхищения своей решительностью, то ли притворного равнодушия — лег спать, сказав матери, что завтра пойдет. Хорошо, сын, хоть бы все уладилось…
Проснувшись в шесть утра, он быстро побрился, оделся и зашагал к трамвайной остановке. Потом пересел на автобус, приходящий в тот городок в восемь тридцать пять, и сам автобус показался ему давним, хорошим знакомым.
Сергиева, однако, не было. Предположив худшее — опоздал, — Гошо сначала запаниковал, потом откуда-то появилась храбрость, и с решимостью человека, борющегося за правду, он постучал в соседнюю дверь и спросил, где Сергиев.
Уехал в Софию. Когда вернется? В комнате две женщины, столы завалены кипами бумаг. Неизвестно, может, к обеду, может, к вечеру. Как это неизвестно? Пожалуйста, гражданин, не мешайте работать, если вам председатель нужен, так ждите. Сколько ждать, если неизвестно, когда он вернется? Приходите завтра, может быть, застанете.
Гошо чуть не обозвал их в сердцах бюрократами, хлопнул дверью и постучал в другую комнату. Там двое мужчин что-то считали на электронных машинках и поначалу не обратили внимания на его вопрос (оглохли, что ли!), а потом один из них, не отводя глаз от машинки, спросил, зачем ему Сергиев. Нужен по важному делу. Когда вернется, это никому не известно, ответил тот же тип и поглядел на Гошо с ехидцей. Его дело ходить — и по верхам, и по низам, для того у него и «волга» и джип, он в кабинете редко задерживается, если очень нужен — подождите, а лучше всего приходите завтра, только пораньше… Что женщины, что мужчины — заладили одно и то же. Удовольствие им человека гонять! Гошо вытер пот со лба (от напряжения вспотел даже), вышел в коридор и остановился удрученный. Черт-те что, застопорилось все, и так глупо! К трем дням колебаний добавляется четвертый, и еще неизвестно, застанет ли он Сергиева завтра. У Гошо было такое чувство, будто его обхамили в магазине. В душе что-то надломилось, и все теперь в этом городке стало немилым, неинтересным. Дожидаясь автобуса, он даже не взглянул на залитое солнцем внушительное здание комплекса. Н-да, история…
На лице матери, открывшей дверь, он увидел боязливое ожидание: ну как? Все по-старому, ответил Гошо, председателя не было, завтра поеду пораньше, но неизвестно, застану ли. У человека работа, будет он каждого дожидаться! Швырнул зеленую папку и растянулся на диване, уставившись в потолок. Потерпи, сынок, подошла мать, завтра поедешь пораньше, так застанешь… Хоть бы застать, думал Гошо с тягостным чувством: еще целый день жить с этой грязью в душе. Застал бы сегодня — и все было бы уже позади…
На другой день, вскочив в пять тридцать, едва звякнул будильник, он, поеживаясь от утреннего холода, заспешил к трамвайной остановке; из автобуса вышел в семь сорок пять. Он был охвачен одним-единственным желанием: застать Сергиева, но увидев в длинной утренней тени, отбрасываемой зданием комплекса, «волгу» и джип, остановился — ноги обмякли, захотелось бежать. Тревоги вчерашнего дня показались смешными: страшное начнется сейчас, сегодня-то Сергиев здесь! Да, он здесь, и он сейчас один. Конечно, не потому, что ждет его, но и е г о примет. По лестнице Гошо чуть ли не бежал: очень хотелось еще подумать, взвесить, и он не был уверен, что не повернет назад, если хоть секунду помедлит. Еще ступенька, еще, и вот он — коридор с дорожкой из козьей шерсти, вот она — обитая дверь. Гошо облизал сухие губы, постучал и, не дождавшись разрешения, вошел.
Сергиев сидел за столом. В куртке из натуральной кожи, осанка прямая. Как и в прошлый раз, он походил на офицера в отставке или на западного менеджера. Перед ним лежала стопка бумаг, он быстро читал и подписывал. На миг оторвавшись от них, взглянул на Гошо (опять на уровне груди):
— Что у тебя? — Но тут же узнал: — А, ты…
— Я, — почти шепотом произнес Гошо. Продолжая читать и подписывать, Сергиев спокойно спросил:
— Что долго не шел?
— Да я… — Но Сергиев снова уткнулся в бумаги.
— Ах ты! — вдруг с досадой воскликнул он, но это относилось не к Гошо, а к самому Сергиеву или еще к кому-то другому, подписавшему документ. — Пять тонн дополнительно! По чужой спине и сто палок не больно! Каждый, Гошо, хочет получать, давать — никто. Тебя ведь Гошо зовут?
Гошо кивает, понемногу приходя в себя. Дело, однако, не в нем, а в ком-то другом, который хочет получить все, сам ничего не давая. Щемящая нотка страха и надежды снова, как в первый день, трепетно зазвучала в душе: хоть бы уладилось наконец!
Сергиев отбрасывает письмо за письмом, накладывая резолюции, что-то бормоча, иногда слышится ясно: да, каждому бы получать, давать — охотников нет. Гошо переминается с ноги на ногу, стопа писем немалая, а сесть его не пригласили. Стоит, смотрит, как работает Сергиев, энергичный, подтянутый, в куртке из натуральной кожи.
— Так почему, говоришь, не шел? — спрашивает Сергиев, заканчивая разбор почты. Гошо снова мямлит:
— Потому что… вот, вчера приходил, а вас не было.
Письма сложены ровно, аккуратно, может, и не бывший офицер, но аккуратности ему не занимать. Нажал кнопку где-то под крышкой стола, и в кабинет вошла женщина, одна из тех, с кем Гошо вчера разговаривал; председатель передал ей бумаги, и она вышла, а Сергиев внимательно оглядел Гошо:
— Так что ты надумал?
Вздрогнув, Гошо попытался выдавить из себя какие-то слова, не понимая, сердятся на него или нет, а если сердятся, то за что. Но говорить ничего не потребовалось. Сергиев протянул руку к зеленой папке, мол, давай документы, поглядим, кто ты и что ты. В бесстрастном голосе ни доброты, ни неприязни. Гошо протянул папку, совладав с новым приступом страха.
— Так, значит, надумал? — То ли осуждает, то ли нет… Странный все-таки человек!
— Ну-с. — Сергиев раскрыл папку несколько поспешно, но аккуратно, было заметно, что ему интересно познакомиться с ее содержимым. Поверх всего лежал диплом, он его взял и довольно долго изучал — и корочку, и вкладыш; потом поднял глаза на Гошо: — Молодец, у меня у самого такого нет, приятно, наверно, иметь такой диплом, а? Но я тогда тебе сказал и теперь повторяю: по земле учись ходить, по земле!
— Я понимаю, товарищ Сергиев. Я…
Сергиев не дослушал (неинтересно ему слушать обещания да заверения), положил диплом, взял заявление, потом автобиографию, посмотрел лист с одной стороны, с другой — очевидно, был удивлен ее краткостью, всего полстраницы, — медленно прочел.
— Та-ак, — сказал, словно упрекая, — биографии у тебя еще нет. Школа, армия, институт, и везде отличник.
— Да я, товарищ Сергиев…
— Ничего-ничего, будет и биография, — ободряюще улыбнулся Сергиев, — время у тебя еще есть, — отложил лист, взял следующий, но, увидев, что это письмо Докторова, не читая, тоже отложил. Теперь остался только конверт, больше стандартного, с прокладкой, новенький, не помятый, пустой на вид. В волосатой руке Сергеева он выглядел удивительно чистым и невесомым.
— А это что? — Сергиев открыл конверт, заглянул внутрь, поднял голову, их взгляды на миг встретились, и оба отвели глаза.
— Деньги? Что за деньги?
Гошо собрал всю свою храбрость и попытался улыбнуться:
— С почином, товарищ Сергиев, чтоб хорошо работалось, за удачу… друзья посоветовали, так принято, говорят, и я… — Он весь дрожал, словно только что перепрыгнул через пропасть. Улыбка-гримаса исказила его лицо, их взгляды снова встретились (ну что смотреть?!)… Гошо никак не мог согнать с лица застывшую улыбку, а Сергиев глядел на него спокойно, помахивая конвертом; наконец отложил его.
— Та-ак, сколько?
— Сто левов, товарищ Сергиев. На угощенье, с началом работы, как полагается, чтобы все заладилось, да и вы мне сказали, чтоб я осознал, куда иду…
Сергиев кивнул. Закрыл папку с дипломом, автобиографией и всем прочим, но тут же снова открыл, а конверт сверху лежит. Сам откинулся на спинку стула и стал с интересом разглядывать Гошо.
— Н-да… Ты тут пишешь, что отца у тебя нет, только мать. Мать кем работает?
— Я вам еще тогда сказал, товарищ Сергиев, что она больна, перенесла два инсульта.
— Два инсульта? Инсульт — это что?
— Кровоизлияние в мозг. Уже два было, она на инвалидности, а до того была учительницей.
— Та-ак, а отец когда умер?
— В пятьдесят пятом году, через несколько месяцев после моего рождения, от инфаркта. Я его вообще не помню.
— А он кем работал?
— Бухгалтером.
— Высшее образование имел или по опыту работы?
— Высшее. Мама говорила, что он был хороший экономист.
— Та-ак. А дед?
— Что дед?
— Когда умер?
— Через три года после отца, а дед по матери еще жив, живет в Ботевграде, один. К нам приехал, да у нас квартира маленькая, тесно, он назад вернулся, у него в Ботевграде свой дом, а вообще он из крестьян.
Сергиев кивнул понимающе.
— А дед по отцу умер, значит, сразу после отца?
— Да, я деда помню, хотя и смутно.
— А он чем занимался?
— Да как сказать… — Гошо замялся. — Вам это интересно?
— Да, интересно.
— До Девятого сентября у него была маленькая лавка где-то возле сахарного завода, где точно, не знаю, а после Девятого своим участком занялся, насадил много фруктовых деревьев, в сущности, я от него этим заразился. С раннего детства начал опыты проводить. У меня есть дерево, на котором привито пять сортов. Очень люблю это дело.
— Участок за вами остался?
— Да. Мама там подолгу живет, ей воздух нужен.
— А где он?
— Кто?
— Участок.
— В Драгалевицах.
— Дача большая?
— Нет, но красивая. Давайте поедем туда как-нибудь, сами увидите. Я пока учился, так ко всем экзаменам там готовился, от города недалеко, транспорт удобный, никаких проблем.
Сергиев причмокнул, словно во рту у него было что-то сладкое, оперся локтями на стол и снова нажал кнопку сбоку столешницы. Через минуту вошла та же женщина, что брала письма.
— Слушаю, товарищ председатель.
— Марче, позови Камена, Мишо, Стоянова, если не уехал, бая Марина, Сийку, — взмах рукой, — в общем, с этого этажа, на первый не ходи, у меня уже времени в обрез. Давай быстро! Да, и Цецку позови! — крикнул он вслед.
Женщина поспешно вышла (очевидно, выполняет при Сергиеве секретарские обязанности, подумал Гошо), и через минуту начали входить люди; некоторых Гошо уже видел, когда приезжал первый раз, а кто из них Цецка, сразу догадался: этакая «киса», красивая, в джинсах, волосы длинные, блестят, назад зачесаны. Лучше других запомнился, конечно, Мишо, добродушный толстяк; теперь он был в пиджаке, со смешно торчащими на животе пуговицами, последняя пуговица опять была расстегнута. Никто ни о чем не спрашивал — видно, подобные вызовы были в порядке вещей. Входили, садились, кому где хочется, а Сергиев все причмокивал, словно что сладкое во рту держал; когда все собрались, поднял голову и начал:
— Хочу представить вам одного из кандидатов на место Златкова. Вот он, Георгий Александров, или просто Гошо.
Гошо машинально поклонился.
— Только что окончил, диплом отличный, вот он. — Сергиев раскрыл корочки диплома и показал всем, что внутри, потом положил диплом и взял письмо Докторова. — Есть письмо от профессора Докторова, профессор, кроме того, звонил несколько дней назад, просил принять Гошо, он и сам бы его взял, но у него нет в данный момент вакантного места.
— Ну что ж, нам такой парень ко двору, — добродушно выдохнул Мишо, и в его синих глазах, обращенных на Гошо, засветились приязнь и одобрение.
Сергиев кивнул:
— Именно то, что нам нужно. Не агроном вообще, а садовод, и даже хобби его, если его увлечение можно так назвать, нам подходит: он с детства занимается прививкой деревьев.
— А ты уже сказал ему о шести тысячах декаров? — спросил Мишо тоном человека, которому дозволено вмешиваться в дела начальства во всех случаях, когда он сочтет нужным.
— Конечно, в первую же встречу сказал. Так вот, он пришел к нам, принес заявление и соответствующие документы.
Гошо стоял перед всеми этими мужчинами и женщинами, смотревшими на него с явной симпатией, потому что, кроме всего прочего, был он высок, красив, хорошо одет, а его чисто выбритое лицо было таким еще юным.
— Он и вчера приходил, — робко вставила женщина, которую Сергиев перед этим назвал Марче, — но не сказал, по какому делу, и я…
— Это не имеет значения, — прервал ее Сергиев. — Вчера не застал, застал сегодня. Вот, принес документы. А кроме них, и еще кое-что… — Он взял конверт (у Гошо мороз пробежал по коже, душа сжалась, рот открылся в немом крике), вытащил банкноты, пять штук, по двадцать левов каждая. — Вот что еще принес. — И Сергиев поднял их: новенькие, хрустящие.
Гошо снял деньги со сберкнижки на третий день колебаний, книжку мать завела «на черный день», осталось еще триста левов; он попросил кассиршу дать новыми двадцатками, и та удовлетворила его каприз, ведь она была все-таки женщина и не могла отказать милому юноше…
Бумажки торчали веером, как карты, в комнате наступила тишина, даже астматического дыхания толстяка не было слышно, только сердце Гошо билось оглушительно громко, так же громко стучало в голове, а перед глазами поплыли огромные черные круги; он готов был выброситься из окна, но к нему не подойти, готов был перерезать себе горло, но нечем. Ничего нельзя сделать, одно осталось — стой, обманутый, опозоренный, в парадном костюме, под безжалостными взглядами этих мужчин и женщин, затаивших дух.
— Боже, ну и лапочка, — протянула Цецка, а Марче, будто ждавшая, пока кто-нибудь начнет, тут же подхватила:
— Как можно…
Сергиев кивнул:
— Вот именно, как можно.
Громкий вздох Мишо его прервал:
— Подожди-ка, шеф, парень, наверное, что-то не так понял…
Но все это — тишина, изумление, медленно возрастающий шум голосов — враз оборвалось. Сергиев вскочил и грохнул кулаком по столу:
— Вон отсюда, выродок буржуйский! Я пяти кандидатам отказываю, место ему берегу, а он взятку мне сует! Вон! — схватил папку и в ярости швырнул ее в Гошо. Гошо поднял руку заслониться, но не успел, и папка ударила прямо в лицо, документы разлетелись по полу, он в панической растерянности нагнулся, собрал их, боясь прикоснуться к деньгам, и, втянув голову в плечи, бросился из комнаты. Дверь осталась распахнутой, пол в коридоре поплыл вверх, как земля при вираже самолета.
— Ну и поколение, — выругался кто-то за его спиной; он не понял, кто: Стоянов, Камен, бай Марин… И тут же раздался хохот, утробный, издевательский… Гошо показалось, что хохочет Сергиев, но он не был уверен. Это сомнение мучило его потом до конца жизни…
До конца жизни вставала у него перед глазами эта картина, каждый раз вызывая мучительный порыв исчезнуть с лица земли. А тогда, еще не осмыслив происшедшего, не решив, жить или умереть, он ждал на остановке автобус, стараясь держаться прилично, потому что рядом стояли другие люди и нельзя было допустить, чтобы они догадались о его позоре, сраме, ужасе и о желании умереть. Стиснув папку под мышкой, он, не сознавая, что делает, шагал взад-вперед в стороне от людей, уставившись на носки ботинок. Ничего не видя, не слыша от стыда, боли, унижения, растерянности, он ощутил вдруг легкое похлопывание по плечу и услышал шумное пыхтение Мишо.
— Возьми деньги, парень, они тебе еще пригодятся. — И Мишо, протянув ему конверт, снова слегка толкнул его в плечо. — И не убивайся очень-то. Пока жить научишься, и не таких шишек набьешь.
Перевод Л. Хитровой.
Лиляна Михайлова
ИДОЛ С ГАЛАПАГОСА
Дверь была обита добротной темно-зеленой кожей, крупные декоративные бронзовые гвозди, казалось, с трудом удерживали толстую прокладку. За нее, наверное, не проникало ни звука. На всякий случай он постучал еще раз, прислушался и, не дождавшись ответа, нажал на массивную медную ручку.
Прежде всего он ощутил тепло. За три года пребывания в Африке его тело стало необычайно восприимчивым к перемене температуры; не глядя на термометр, он мог определить прогрев воздуха с точностью до плюс-минус двух десятых градуса.
— Мне нужен главный архитектор, — сказал он.
Сидевшая за большим столом секретарша подняла русую голову. Она была из тех красивых женщин, которые, достигнув двадцати восьми, еще целое десятилетие выглядят не старше и пользуются этим даром природы, как другие — прирожденными математическими способностями.
— Я его друг, — добавил он.
Секретарша усмехнулась: так говорили большинство приходивших, и поначалу она доверчиво пускала их в кабинет, пока наконец Главный не объяснил ей деликатно:
— Друзей у меня всего двое, я и дал им прямой телефон.
Она поняла, она легко улавливала нюансы, и с тех пор люди, представлявшиеся ей как друзья Главного, встречали в ответ лишь ее тонкую, многозначительную улыбку.
— У него только что началось утреннее совещание, — солгала она, улыбнувшись незнакомцу.
— Надолго?
— Да. Мне жаль, но…
— И мне жаль. А когда он узнает, что приходил я и мы не увиделись, наверняка будет жаль и ему.
Секретарша посмотрела на него внимательно.
— Ведь мы с ним друзья, я уже говорил. Учились вместе в школе, потом в институте. Я привез ему сувенир из Африки.
И это было не ново. Сюда нередко приходили инженеры и архитекторы, вернувшиеся из Африки, и неизменно приносили подарки.
— Вы можете его оставить, — предложила секретарша, — я передам.
— Как раз об этом-то я и хотел вас попросить. — Он вынул плоский пакетик из кармана плаща и протянул ей.
— Как доложить, от кого?
— В этом нет нужды. Увидев сувенир, он и сам поймет от кого. — Мужчина улыбнулся. Между четко очерченными губами обнажился ровный ряд белых зубов. Говорил он легко, непринужденно, в движениях, в мимолетных жестах чувствовались свобода, уверенность в себе, что-то от привычки к атмосфере больших незнакомых аэропортов, куда этот человек приезжал, наверное, всегда вовремя и ждал свой рейс спокойно, не суетясь с багажом и не тревожась, что не поймет объявлений по радио.
Интересно, что он ответит, если я предложу ему кофе? — неожиданно для себя подумала секретарша. Внезапно ее охватило необъяснимое желание хоть ненамного задержать незнакомца. Если он учился с Главным, значит, ему примерно сорок пять, быстро прикинула она. Сорок пять, а выглядит очень молодо…
— До свидания, — решительно сказал мужчина.
Секретарша поднялась и подала ему руку. Рукопожатия не входили в ее обязанности, но ей захотелось ощутить прикосновение к нему, этому незнакомцу, который вряд ли когда еще придет сюда… во всяком случае, пока она будет тут работать. Рука его была горячей.
Оставшись одна, женщина загасила сигарету и медленно подошла к окну. Редкие снежинки кружились в воздухе, покачивались на месте и устремлялись вверх, будто оттягивая миг, когда им придется-таки упасть на черный асфальт.
Мужчина пересекал площадь широким легким шагом. Даже с высоты третьего этажа чувствовалось, что он торопится — торопится так, будто там, куда он идет, его ждет друг или дело, которое ему интересно довести до конца.
Секретарша не сводила с него глаз, пока он не дошел до перекрестка, потом вернулась к столу и заложила в пишущую машинку новый лист. Однако не работалось, и она долго сидела, уставившись в одну точку, безвольно опустив свои холеные руки на клавиши.
Много таких посетителей прошли через этот кабинет, и сначала она, мысленно окрестив их весьма неприличным словом, еле сдерживала раздражение. По долгу службы оформляла им документы на командировки, звонила в Софию, чтобы узнать, готовы ли их заграничные паспорта, а сама терпеть не могла всех этих архитекторов и инженеров, которые упорно, до самого дня отъезда, ходили к Главному, целые дни просиживали в приемной на диване, пряча радость за старательно изображаемой жертвенностью во имя долга. В глубине души она завидовала им, хотя даже самой себе не признавалась в этом. За границей она была один-единственный раз — в Бухаресте — и потому не могла оставаться безразличной, зная, что через каких-нибудь несколько дней вот эти лежащие перед ней на столе документы будут засунуты в чей-то карман и отправятся в путешествие по Африке.
Потом привыкла. Не совсем, конечно. Просто сумела приглушить свои чувства расхожей горькой мудростью: в жизни одним везет, другим — нет.
Через год-два те же самые архитекторы и инженеры снова приходили в кабинет, настроенные уже не так решительно, как в первый раз, снова просили о встрече с Главным, и почти каждый приносил сувенир из Африки.
Главный разворачивал пакеты всегда в ее присутствии — это были минуты особые, исполненные откровенности, взаимопонимания, доверия.
— Вглядитесь-ка, Вероника, — говорил он, поворачивая в руках очередную хрустальную вазу, — этот образчик искусства эфиопских стеклодувов ходатайствует о продлении загранкомандировки. Я угадал?
Она кивала. Архитектор, принесший вазу, действительно рассуждал с ней о необходимости продолжения работы за границей. Проницательность Главного вызывала у нес злорадство.
— А от кого эта уморительная лампа?
Лампа действительно была смешной: вместо абажура — кокосовый орех с просверленными дырочками.
— Ее принес инженер Марашев, — заглянув в блокнот, докладывала секретарша, — сказал, что он ваш друг.
— Так-так, Неделчо Марашев. — В уголках губ проскальзывала усмешка. — Знаете, чего хочет этот дырявый орех? Нет, Вероника, не новую командировку, нет… На этот раз он хочет, чтобы его назначили членом совета. Точно?
— Да.
— Значит, мой друг… Так и сказал? У меня только двое друзей, и у них есть мой прямой телефон. Вы не забыли об этом?
Она, конечно, не забыла, точно так же, как не забывала, что утром Главный пьет кофе с одной ложечкой сахара, а в послеобеденный кофе нужно класть пол-ложечки. Но вот уже четыре года она работает здесь, а ни разу не видела этих двух друзей Главного…
Распаковывая сувениры, он всегда краснел, его лысина покрывалась мелкими капельками нота, а желваки под полными выбритыми щеками начинали едва заметно двигаться — наверное, стискивал зубы. Во взгляде проступало что-то злое, мстительное, тяжелое.
Иногда, когда посетителей не было или чей-нибудь сувенир особенно выводил его из себя, Главный присаживался на несколько минут на диванчик в приемной и, скрестив руки на груди, говорил:
— Как меняются люди, Вероника, и как трудно, глядя на них, оставаться самим собой! Если сказать вам, скольких друзей потерял я с тех пор, как оказался в этом кабинете… — Тут он замолкал, а потом продолжал со вздохом: — Об одном мечтаю — вырваться на недельку в горы… несколько чистых листов бумаги да кусок угля, и больше ничего. Раньше я рисовал, и хорошо рисовал.
Она понимающе кивала, и, утешившись ее безмолвным сочувствием, он тяжело поднимался и шел в кабинет. Он не взял себе ни одного сувенира. Оставлял на ее столе, и она ставила их на книжные полки, равнодушно, не заботясь о какой-либо целостной композиции. Приходя снова, архитекторы и инженеры смотрели на отвергнутые дары за стеклом, и самые сообразительные из них безошибочно угадывали ответ на свою просьбу.
Но сегодня все было иначе… Посетитель не назвал своего имени, а ведь когда просят, то прежде всего представляются. За четыре года она это отлично усвоила.
Секретарша выдвинула ящик стола, вынула плоский пакетик, подержала на ладони. Не тяжелый. Что-то из дерева, подумала она.
Маленький идол и вправду был вырезан из темно-коричневого эбенового дерева.
Он увидел его случайно. До вылета в Болгарию оставалось еще целых два часа. Сдал багаж и вернулся в город. Он нарочно не взял с собой фотоаппарат — хотелось в последний раз пройтись по улицам спокойно, не как турист, выпить где-нибудь стакан холодного апельсинового сока и вернуться в аэропорт прежде, чем к сердцу подступит странная легкая грусть.
Посмотрел на часы: полшестого. В этот час на его стол в маленьком белом кабинете, куда он больше уже никогда не вернется, обычно падала тень от спущенной шторы. Вначале это ужасно ему мешало: не мог привыкнуть к чертежам, раскрашенным черно-желтыми полосками.
Из распахнутых дверей магазинчиков тянуло запахами фруктов, кофе, разогревшегося за день дерева. Не останавливаясь, он шел мимо. Хозяева, сидевшие под разноцветными тентами, лениво поднимали головы, их глаза загорались надеждой при его приближении, а потом, когда он, не взглянув на витрину, проходил, в них вспыхивала неприязнь.
И вдруг за узким пыльным окошком среди перламутровых раковин и позолоченных безделушек почудилось ему лицо учителя Христо Алтынова. Именно так подумалось в первый миг: лицо учителя Алтынова. Деревянный кружок был не больше ладони, ремесленник работал тупым резцом, торопился, ему было не до тонкостей.
Он остановился, наклонившись, чтобы рассмотреть получше. Вблизи сходство оказалось еще больше, и он усмехнулся. Такие же широкие скулы и узкие раскосые глаза, такие же толстые губы и покатый лоб с выступающими надбровьями. Не хватало только галстука-бабочки. Учитель Христо Алтынов преподавал рисование и единственный из всех мужчин в городке носил галстук-бабочку. По праздникам — красный в белый горошек, в будни — однотонный, черный. Он жил один в старом доме, доставшемся ему от отца. Никогда, ни разу они не видели, чтобы он рисовал. Обсуждать его жизнь было как-то не принято — очевидно, из уважения к нему, а скорее всего потому, что обсуждать-то было нечего.
Иногда, в теплые осенние дни, учитель вел ребят на один из окрестных холмов и предлагал им рисовать город — таким, каким он видится сверху каждому. Потом всматривался в рисунки, наклоняясь над мальчишескими головами, и его длинные седые волосы свисали на впалые щеки, а глаза блестели и будто хотели что-то разглядеть, открыть в этих несмелых набросках…
Из магазинчика выскочил хозяин — маленький, вертлявый араб — и, застегивая на ходу рубашку, залопотал по-английски. Он молчал, и тогда хозяин перешел на французский:
— Рассматриваете идола, господин? Я сразу понял: такой человек, как вы, может остановиться только из-за идола. Это искусство подлинное. Единственный оригинал с Галапагоса. Достался мне от итальянского моряка.
Он не слушал. Мысленно он был еще там, на холме, в той мягкой сентябрьской послеобеденной поре, сидел рядом со своим лучшим другом, и они рисовали дома городка. Учитель подошел сзади и тихонько, так, чтобы слышали только они двое, сказал:
— Вам нужно учиться архитектуре. Запомните, только архитектуре, ничему другому. Все другое будет ошибкой, и ваша жизнь будет сломана.
И еще много раз потом повторял им это — настойчиво, слово в слово, а лицо его в такие минуты становилось возбужденным и просветленным.
Позже, в моменты редких, случайных встреч после окончания института, оба всегда вспоминали учителя Алтынова и каждый раз решали поехать в городок навестить его, но так и не собрались, да в сущности, ни один из них не знал наверняка, жив старый учитель или уж нет его…
— Двадцать долларов, господин, — неуверенно произнес араб. — Ведь подлинник, и не откуда-нибудь — с Галапагоса.
Не был идол подлинником, и не был с Галапагоса, но он купил его. Собрал по карманам все оставшиеся деньги и, не считая, высыпал в смуглую руку араба.
Еще по дороге в аэропорт он уже точно знал, кому подарит этого странного идола, напомнившего об учителе Христо Алтынове. Его друг, так же как и он сам, сразу увидит сходство, сначала, конечно, усмехнется, а потом глаза его погрустнеют…
Звонок Главного раздался в одиннадцать десять. Вместе с утренней почтой и предобеденным кофе с одной ложечкой сахара секретарша взяла плоский пакетик и положила перед ним на стол.
— Это принес какой-то посетитель. — Она раскладывала почту чересчур старательно, хотела задержаться, чтобы быть в кабинете, когда Главный вскроет пакет.
— Фамилия?
— Он сказал, что, увидев сувенир, вы догадаетесь сами.
Главный вскрыл пакет и, держа в руке маленький деревянный кружок, рассматривал его, хмуря свои густые светлые брови.
— Больше он ничего не сказал?
— Сказал, что вы вместе учились в школе, а потом на одном факультете.
— Вот как, — кивнул Главный, и морщинка на переносице стала глубже. — Как меняются люди, Вероника, как меняются! Этот африканский сувенирчик, попомните мое слово, самое позднее через неделю попросит назначения в Центральное проектное бюро… Уберите. — И он, прежде чем взять чашку кофе, досадливо подтолкнул деревянный кружочек к краю стола.
Но незнакомец не пришел. Ни к концу первой недели, ни к концу второй. И вообще не пришел. Сначала Главный спрашивал о нем, никак не выказывая своей заинтересованности, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как бы между прочим, потом стал спрашивать напрямую, с каким-то растущим нетерпением и нервозностью, которые секретарша не могла понять.
— Этот, мой однокашник, не приходил?
— Нет, — отвечала секретарша.
— Придет — пустите тотчас… — Главный останавливал тяжелый взгляд на черном идоле. — Даже если будет совещание.
Идол стоял на полке, прислоненный к книгам, между вазами, раковинами, и пыль, покрывшая его, еще отчетливее обозначала выпирающие скулы.
— Знаете, Вероника, — сказал однажды утром Главный, — каждый день гляжу я на этого идола, и кого-то он мне напоминает. На кого-то он похож, но на кого…
Перевод Л. Хитровой.
Георгий Величков
АИСТ НА СНЕГУ
Ивану Цаневу
Путь их долог был и утомителен. Поезд часто делал длинные остановки, люди входили, выходили, на станциях покрикивали гудки, до хрипоты надрывались под окнами продавцы мороженого и всякой снеди.
Художник Коларов дремал в своем углу, иногда всхрапывал (одна-две раскатистые басовые ноты), а потом в сумерках неожиданно возникали его глаза и ввергали Александрова в то неприятное, беспокойное состояние, когда надо что-нибудь сказать, а ты не можешь, потому что в голове одна чепуха. Потом вдруг взгляд Коларова начинал кружить по купе, мгновенно охватывая все предметы. Удовлетворенный осмотром, художник возвращался к недоконченной беседе. Говорили о погоде, о посевах, о каких-то общих знакомых, об искусстве. Писатель говорил тихо, выстраивал ответы свои ясно, четко; он чувствовал, что собеседнику они неинтересны, но был, однако, уверен, что именно благодаря им и поддерживается разговор; и когда Коларов опять впадал в дремоту, писателю становилось легче, он потихоньку раздвигал на окне занавески, и его взгляд свободно скользил по долинам, залитым солнцем, по холмам… Но глаза напротив раздражали его, сводили на нет попытки вернуть бодрый настрой. Он удивлялся, что, несмотря на многолетнюю дружбу с Коларовым, лишь сейчас заметил в них какую-то особенность, и полушутя-полусерьезно принялся подыскивать для этих глаз точное определение. «Таинственные», «сверкающие», «притягательные»… До чего ж банальны подобные эпитеты! Он тихонько засмеялся. Смех этот, несколько принужденный, приглушил все же ощущение тоски и беспомощности и одарил его порцией бодрости и смиренной терпимости. Он поехал с Коларовым, чтобы разжечь в себе и затем поддерживать ощущение своей значимости, А кроме того, он чего-то ждал. Это «что-то» не складывалось в определенный образ, но очень его волновало. Оно пробудилось однажды вечером, в ресторане.
Они встретились с Коларовым, и художник попросил, чтобы он произнес вступительную речь на открытии его персональной выставки в одном довольно далеком провинциальном городке. В первый момент ему захотелось отказаться — на письменном столе в кабинете ждала незаконченная книга; и хотя какая-нибудь незаконченная книга всегда ждала его на письменном столе, и хотя какая-нибудь незаконченная книга наверняка останется и после его смерти, Александров, откладывая работу, всякий раз чувствовал, что она довлеет над ним. Да и кроме книги, полно было разных обязательств, выступлений, встреч, привычек, важность коих из-за нежелания ехать выросла вдруг до невероятных размеров, превратившись в серьезное препятствие. Но вопреки всему этому в нем вызревало противоположное решение, питаемое надеждой на некую перемену, которая хоть и обманывала его не раз, но по-прежнему жила в нем, не теряя своей манящей силы. Одолеваемый сомнениями, писатель пообещал, что позвонит на следующий день и даст окончательный ответ. Потом он вышел на улицу, но туман мгновенно загнал его в тесный кусочек пространства, в котором он, словно в лифте, двинулся назад, к дому. Он шел и с каждым шагом понимал все яснее, что никуда не поедет. Он вдыхал горький запах тумана и был убежден, что никуда не поедет. Он слушал звон трамваев, приглушенные голоса людей и уже знал, что никуда, никуда не поедет. На углу Графа Игнатьева и Царя Шишмана в его маленькое пространство неожиданно вступил другой человек. На мгновение он стал виден весь, с ног до головы, а потом исчез. Писатель не успел его разглядеть, но лицо, что промелькнуло перед ним, потрясло его, поманило за собой в туман. Придя домой, он, не раздумывая, сказал жене, что через несколько дней поедет в провинцию, и, сердясь на самого себя, заперся в кабинете. Незаконченная книга искушала переменить решение; он вдумался в природу этого искушения и понял: оно — лишь солидно мотивированное оправдание его нерешительности; и если он поддастся, то надолго будет выбит из колеи сожалениями о чем-то навсегда упущенном. Он изо всех сил старался преодолеть это искушение, он даже призвал на помощь классическое правило, которым раньше не руководствовался: прежде чем закончить книгу, нужно дать ей отлежаться; но на сей раз это правило его выручило, и теперь, в поезде, Александров подумал, что, если б даже и не встретился ему в тумане тот человек, он все равно бы поехал. Увидел бы дерево, или дом, или призрачный замок, или, наконец, придумал бы это все — и поехал бы. Он не упрекал себя за этот поступок и тем более не жалел о нем: он достаточно хорошо себя изучил и примирился с собою. Даже к легкомыслию, с коим пускался он в невинные свои приключения, Александров относился благодушно-насмешливо; это помогало ему выбираться из них без огорчений и с легкостью.
Последующие несколько дней он с приятным возбуждением работал над вступительной речью. Картины Коларова он знал очень хорошо, безошибочно узнавал их на выставках, бывал и в мастерской, так что отстукать пару страничек большого труда не составило бы, но ему хотелось добраться до сути, хотелось сказать об этих картинах что-то конкретное, такое, чего никто еще о них не говорил. Он напрягал память, ища в ней образы с картин Коларова, пока наконец они не слились в нечто единое. Теперь он и сам не мог бы определить, что создано художником, а что придумал он, Александров. И вот, перепечатанная набело, без зачеркиваний и исправлений, речь лежит в кармане пиджака. Время после окончания этой работы тянулось медленно, оставалась лишь психологическая подготовка к предстоящему путешествию, и он чувствовал себя опустошенным. Решимость покинула его, а всяческие предполагаемые неудобства показались ему, человеку, живущему удобно, чем-то совершенно непереносимым.
И только нынешним утром, когда необходимость действовать вызвала в нем смятение, он, преодолевая это смятение, почувствовал прилив энергии и на вокзал пришел в приподнятом настроении. А благодарность Коларова, который улыбнулся, жмурясь от солнца, сжал руку и с облегчением воскликнул: «Ну, вот ты и пришел!» — окружила его миссию ореолом дружеского самопожертвования.
…Путь их долог был и утомителен. На станции нужно было пересесть в автобус, но они все прохаживались по перрону, надеясь, что кто-то наконец выскочит из толпы и предложит волшебно-легкий способ добраться до места. Однако вместо неизвестного благодетеля подошел человек в фуражке железнодорожника и объяснил, что им нужно торопиться, если они хотят попасть в городок сегодня: автобус отойдет через десять минут, а следующий будет только утром.
К автостанции они прибежали вспотевшие, запыхавшиеся, особенно писатель: тяжелый чемодан, шляпа и зонт словно сговорились ему мешать. Художник, не замечая его мучений, несся впереди.
Автобус был полон, но они увидели два свободных места и стали к ним пробираться. Чемодан и зонт Александрова задевали за чьи-то колени, спины, головы; писатель непрерывно извинялся направо и налево, но вот какой-то здоровяк выхватил у него из рук вещи, плавным движением перенес их по воздуху и прислонил к кожаным спинкам сидений. Только теперь Коларов заметил, какой у писателя измученный вид, и, то ли с сочувствием, то ли с насмешкой над самим собой, то ли с саркастическим обвинением, проговорил:
— Ну и путешествие! Могли б уж с машиной нас встретить!
Писатель тоже понимал, что могли бы, но промолчал. С самого начала уже капризы, подумал он, хотя в устах художника это прозвучало абсолютно естественно и в высшей степени справедливо.
Они располагались в креслах с такой обстоятельностью, словно нужно было ехать еще целый день, и вдруг переглянулись: их обдало кислым запахом зверя. Напротив, через проход, сидел маленький человечек с обросшими почти до глаз скулами, а в проходе у его ног стоял грязный дощатый ящик, из которого высунулась обезьянка. Была она из тех, что выступают на ярмарках: неухоженная, с оскаленной мордочкой, с длинным хвостом. Она важно им кивнула и взвизгнула.
— Стефания приветствует вас! — проговорил человечек высоким тонким голосом… — Она рада, что вы пришли. Стефания, подай гостям руку, поздоровайся!
Стефания протянула лапку. Художник охотно ее взял, подержал в своей ладони, подмигнул зверьку и весело расхохотался, когда обезьянка ответила ему тем же. Александров едва тронул ее скрюченные пальчики, забился в угол и затих.
Человечек, казалось, только и ждал их появления. Его заросшие скулы расплылись в довольной улыбке. Он вытащил из брошенной в ногах торбы гудулку и подал обезьянке знак.
— Ну-ка, Стефания, покажи гостям, что ты умеешь. Покажи свои способности и таланты, чтоб рассказывали они о тебе повсюду.
С других кресел начали оборачиваться люди: одни — недовольные, что нарушают их покой, другие — и таких было большинство — с оживившимися лицами. Путешествие становилось интересным. Обезьянка поклонилась так низко, что передними лапками встала на пол, и опять взвизгнула. Обросший человечек коснулся смычком струн и гнусаво затянул какую-то медленную песню, сочиненную, наверное, им самим. Слова разобрать было трудно: в каком-то селе случилось какое-то чудо, а какое именно — так никто и не понял, потому что мелодия вдруг оборвалась и возник ритм старинной городской песни. Обезьянка, которая до этого момента подпрыгивала со свирепым удовольствием, принялась теперь плавно кружиться, обняв протянутой вперед правой передней лапкой воображаемого партнера. Когда мелодия сменилась, она подергала задом в ритме джаза, словно бы изображая сладострастный блюз, и закончила присядкой из рученицы, а вернее просто уродливым кривляньем.
Все вокруг смеялись и аплодировали, и Коларов тоже смеялся и аплодировал. Обезьянка опять поклонилась, взяла у маленького человечка деревянную тарелочку и пошла по проходу собирать вознаграждение. По тарелочке застучали стотинки.
— Блистательно! — воскликнул художник. — Лопнуть можно со смеху!
Александров смущенно молчал. С детских лет он привык относиться к животным по-житейски просто и с грубоватой нежностью, не переродившейся от долгой городской жизни в сентиментальность. Заточение в каменном мире города и отшельничество писательской работы только добавили к этой нежности оттенок дорогого воспоминания. Вот почему, вопреки настойчивым просьбам жены, а впоследствии и дочери, он никогда не держал в доме ни кошек, ни собак — нехорошо, несправедливо вырывать их из естественной среды…
Автобус несся по асфальту к городу. Свет заходящего солнца растекался по холмам, их голые золотящиеся вершины круглились, как женские груди, а за холмами были долины, скрытые белесоватой дымкой.
— Меня недавно водили на Джо Клемандора. Это фантастика! — с энтузиазмом проговорил художник. — Просто невероятно! Вот уж искусство так искусство! Человек сумел превзойти животное и в ловкости, и в силе, и в гибкости!
Александров смущенно молчал. Он тоже ходил поглядеть на знаменитого индийского йога, но ушел подавленный, с чувством, близким к отвращению, а точнее к стыду, словно присутствовал на непристойном зрелище. Йог мучился на сцене, в неимоверных усилиях напрягалось его тело. А может, он просто имитировал это напряжение, чтобы взволновать зрителей, вызвать сочувствие, восхищение…
— Не обыденность нужна людям, — сердился на несуществующего противника художник, — наш зачахший от цивилизации век может найти спасение либо в прошлом — у далеких предков, либо в будущем — в космосе!
В другое время и в другой обстановке писатель поддержал бы разговор и насладился возможностью высказать часть своих мыслей, которые за долгие годы образовали тяжелый пласт, под бременем которого он порою изнемогал. Не вмещались в книги, а оставались для дружеской компании, для кафе, для интервью слегка горчащие, заботливо взращенные плоды его жизненного опыта, побед, поражений, непрекращающейся борьбы, которые, безусловно, окрашивали и углубляли все им написанное, но в то же время хотели жить собственной жизнью, дабы искупить муки своего рождения.
— Я и выставку свою так назвал: «Прошлое и будущее», — добавил художник. — Так вот прямо и назвал!
Безапелляционный тон сковывал, вселял неуверенность. В категоричности собеседника Александров не находил никакой лазейки для собственных раздумий, поисков и находок. Коларов никому не позволял обсуждать свои раз навсегда выработанные взгляды. С ним ни о чем нельзя было спорить, ему нужны были только слушатели, только покорные, согласные кивки.
Свою беспомощность писатель воспринимал теперь как тупую, хроническую боль, к которой нужно привыкать. Маленькое приключение принимало неприятный оборот. Когда он отправлялся в путь, то ничего определенного не ждал, а просто мечтал о перемене, но, увы, пахнуло чем-то знакомым. Он опять замкнулся в себе, и опять захотелось ему избежать каких бы то ни было дорожных треволнений, хотя именно они и впечатления, ими порождаемые, могли освежить душу. А вот теперь он воспринимает их лишь как источник неудобств… Он опять пожалел, что поехал. Незаконченная книга вновь возникла перед глазами, на этот раз как символ постижения — без приключений, совершенствования — без тревог, трудолюбия — без иллюзий.
Человечек, довольный собранным в тарелочку, начал показывать новый номер со своей обезьянкой. Коларов смолк и весь подался вперед, увлеченный ужимками зверька.
Писатель прикрыл глаза. Автобус потряхивало; звуки, раздававшиеся вокруг, слились в сплошной ровный гул, и сквозь этот гул захлопал крыльями аист, проковылял по белому от снега полю и встал на обочине шоссе. В окна автобуса глядел его красный глаз, грустный красный глаз без ресниц, а в нем — ностальгия по южному теплу и уязвленная гордость покинутого. Перья аиста топорщились, нога подрагивала, как натянутая веревка…
— Восхитительно! — раздался голос художника. — Ух и страшна ж эта Стефания! Погляди-ка! Погляди!
…Долго, постепенно затихал стук промерзшего клюва по оледенелому полю, с крыши цедилась капель — редкая, тихая, как древесная смола; на низком небе был нарисован неподвижный синий дым камина. В графичной контрастности этого дня была больная красота, она порождала щемящее желание кого-нибудь приласкать и самому отдохнуть душой, оттаять…
— Да, восхитительно, — повторил писатель.
После многочисленных досадных и смешных недоразумений они и встречающие собрались наконец в вестибюле новой гостиницы. Среди кучки людей, бледных от духоты и суматошной беготни взад-вперед, Александров сразу заметил девушку. Ее вообще-то нельзя было не заметить, ибо она в буквальном смысле слова возвышалась над остальными. Рост у нее был несколько выше нормального, но в отличие от большинства высоких людей, которые обычно сутулятся, неосознанно стараясь уменьшиться, она держалась прямо. Казалось даже, что она хотела стать выше и нарочно поднималась на цыпочки, а высокие каблуки придавали ее фигуре устойчивую упругость цветочного стебля.
— У нас по дороге сломалась машина, — взволнованно объяснил молодой человек в сильных очках и с лицом, прорезанным глубокими складками, — заместитель председателя городского Совета, за экспансивными жестами и интонациями он пытался спрятать смущение. — Мы каждой машине махали, думали: а вдруг она вас везет, и автобусу вашему махали, но он не остановился. Представляю, как вы намучились… — Он сочувственно вздохнул и поглядел на них с покорностью и мольбой.
Вокруг девушки трепетало синее сияние — от синего платья и синих глаз, которые по временам приобретали зеленоватый оттенок глубокой воды. Сияние это озаряло и ее мечтательную улыбку, немножко надменную, немножко показную и словно бы не относящуюся ни к присутствующим, ни к их словам. Однако девушка чуть вздрогнула и насупилась, когда кто-то сказал:
— Мы приготовили для вас несколько мероприятий, но, но… может быть, вы устали?
— Эти мероприятия жалко пропускать, — вмешался низкорослый паренек, как потом выяснилось, журналист из местной газеты.
Коларов решительно и бодро повернулся на каблуках и, ни к кому в отдельности не обращаясь — главное, не обращаясь к этой девушке, — двинулся к выходу.
— Что значит «устали»? Мы сюда не отдыхать приехали. Пойдемте!
Все потянулись за ним, но догнали уже на улице и, посовещавшись, повели куда-то. Девушка пыталась присоединиться к свите художника, но ее все как-то оттирали в сторону, и она в конце концов вместе с журналистом оказалась около Александрова.
— Прежде всего посмотрим, как оформлена выставка, — сообщила она, — так пожелал ваш приятель.
— Хорошо, — согласился Александров, но тут же рассердился на эту свою уступчивость: он не собирался баловать себя и нежить, но он действительно устал и с удовольствием полежал бы в своем номере хоть десять минут. Такое невнимание, такое рассеянное пренебрежение обидели его. И дело тут было не столько в самолюбии, сколько в том, что никак не мог он привыкнуть к бестактности. Однако больше всего он злился на девушку. Шагая рядом с ней, он поймал себя на том, что, как и все остальные (кроме журналиста), старается выглядеть выше, чем есть. Девушка была примерно одного с ним роста, ну, может, на сантиметр-два повыше, и он заметил, как все подле нее пыжатся, тянутся, и выглядело это ужасно нелепо.
— Значит, осмотр экспозиции — мероприятие номер один, а какое ж будет номер два? — не удержался он от иронии.
— О, все мероприятия весьма интересные, — подхватил молодой журналист. — Открытие карнавала, потом факельное шествие, потом ночной кросс по городу, потом бал-маскарад в Доме молодежи, а после всего — дружеский ужин в ресторане. И заметьте, во всем мире только два города проводят ночные кроссы: Сан-Паулу и мы…
— Васко! — одернула его девушка.
Плохое настроение писателя вдруг съежилось, сжалось и постепенно отступило, а физическая слабость, вызванная утомительным путешествием, даже обострила восприимчивость. Он рассмеялся громче, чем хотел бы, и переключил внимание на паренька.
— Конечно, — не унимался Васко, — все эти мероприятия подготовлены не специально для вас, это общегородские мероприятия, их потом обведут кружочком как успешно проведенные.
— По-моему, вы весьма сварливо настроенный юноша, — сказал писатель, хотя и понимал, что иронический тон пора бы оставить.
— Он просто болтлив, — проворчала девушка.
— Ох, какая серьезная молодая дама! — улыбнулся Александров и тут же понял, что зря это сказал: девушка ускорила шаг, обогнала их и с независимым видом пошла впереди одна.
— Не сердитесь на нее, товарищ Александров, — испуганно зашептал Васко, — вы же ведь не сердитесь, правда?
…Наверное, потом, в тишине и покое своего кабинета, писатель не раз спросит себя, не раз попытается понять, что же произошло с ним в тот миг, что вдохновило его броситься, потеряв самоконтроль, в водоворот мечтаний и созданных его собственным воображением иллюзий. Дни и недели, что наслоятся на это приключение, придадут ему большую весомость, добавят подробностей, и, наверное, наступит момент, когда все вдруг встанет на свои места, вспомнится только главное, а боль утихнет, и писатель поймет, что опять обманут своей милосердной фантазией, которая позаботилась, чтобы его самолюбие не пострадало. И тогда, наверное, он сядет за свою старенькую «Оптиму» и охотно, с воодушевлением примется работать над неоконченной книгой, в которой появится совершенно не предусмотренная планом девушка с зеленовато-синим сиянием вокруг лица.
А сейчас он шагал, расстроенный тем, что девушка их покинула, — так и тянуло к ее стройной фигуре. Вновь проснулась в нем затаенная тоска по неиспытанным наслаждениям, и он заявил с мальчишеской самоуверенностью:
— Ее зовут Вера, так ведь?
— Вера? — удивился Васко. — Хотя да… Ее и Верой можно называть.
— У нее двое детей, и она скоро разойдется с мужем, — оракулствовал Александров, — а муж любит ее и ревнует.
Нервно рассмеявшись, писатель вошел в выставочный зал, быстро обежал его, почти не взглянув на картины, и хотя в крови колыхнулось неприятное предчувствие, он позволил ему раствориться в сиянии, окружавшем Веру. Близоруко щурясь, Вера чинно стояла перед каждой картиной по нескольку секунд и порывистым движением, словно очки поправляла, подносила к глазам руку.
— В живописи ничего не понимает, — подтрунивал над пареньком Александров, — и наверняка сочиняет слабенькие стишки.
То же самое писатель повторил и ей самой, когда неизвестно как и почему они оказались втроем на узкой улочке в старинной части города. Вокруг горели десятки факелов и как-то по-особому освещали лица, набрасывая на них движущуюся светотеневую сетку, из-под которой выныривал то прямой нос, то волевой подбородок, то завиток на лбу — словно ожившая коллекция мраморных обломков, пришедших из древних времен и несущих на себе приметы вечности. Пахло газом и горелой тканью, но сквозь эти сильные запахи пробивалось благоухание расцветших плодовых деревьев, напоминая нежно, едва уловимо, но вполне явственно о весне.
Они шли втроем под вакхические крики толпы, и когда писатель поравнялся с девушкой, он встал на цыпочки и спокойно, без всякого пафоса поцеловал ее в щеку. Поцелуй мог бы сойти за отеческий, но была в нем и нетерпеливая ласка, и девушка это почувствовала. Она остановилась. В движущейся сетке света блеснули ее глаза, но тут же уступили место раскрывшимся губам.
— Вы даже имени моего не знаете, — без упрека проговорила она.
— Вас зовут Вера, — настаивал на своей догадке писатель.
— Такое имя у меня тоже есть, — подтвердила девушка, — мама окрестила меня Верой-Надеждой-Любовью. Я оставила себе только Надежду.
— У вас двое детей, и вы скоро разойдетесь с мужем, — не слушая ее, продолжал писатель. — Я угадал?
— Вы что, издеваетесь? — Девушка помрачнела и, вглядываясь в толпу, крикнула:
— Васко! Где ты, Васко?
— Он в вас влюблен, — не сдавал позиций гадальщика Александров.
— Он пишет рассказы, — с вызовом сказала Вера.
Васко куда-то исчез.
Они побродили еще немного. Движущаяся навстречу карнавальная толпа разделила их. Вокруг нарастал шум — смех, болтовня, свист; за надежным этим прикрытием можно было молчать.
Дойдя до полуразвалившейся, вросшей в землю городской стены, у подножья которой торчали высохшие кусты, они остановились. Дальше домов уже не было. Начинался крутой подъем.
— Вот мы и потеряли дорогу, — вслушиваясь в бушующий позади праздничный гвалт, невесело проговорил Александров, — так случается во всех романтических историях.
— Почему потеряли? — удивилась Вера. — Вот он, город.
Из сгустившейся темноты, где, наверное, был лес, доносилось совиное уханье, пугающее, многозначительное. Для писателя это было как бой часов, отбивающих некое несуществующее время, и когда эти звуки поглотила тишина, он почувствовал себя словно бы обманутым.
— А теперь куда? — спросил он.
Ему хотелось сказать, что лучше всего вернуться в гостиницу и найти остальных, но он боялся обидеть девушку. Исчезновение Васко внесло в их общение робкую интимность, лишившую их непосредственности; впрочем, во всем этом чувствовалась недосказанность, но Александров не стремился докопаться до ее сути и вытащить на свет божий. Его не интересовало, что именно таила она в себе, достаточно было и того, что она возникла между ними. Он лишь за то упрекал себя, что опять заварил кашу. Дурацкий энтузиазм кончился, наваливалась усталость, идти стало трудно, на руках и ногах, казалось, повисли комья глины. Взглянув на себя со стороны, Александров подумал, что похож на человека, который только что избавился от серьезной опасности и хочет отдохнуть, набраться сил, а потом опять пуститься в очередную передрягу и уж на этот раз как следует в ней завязнуть.
Чтобы избавиться от молчания, которое с каждой секундой все больше его сковывало, он заговорил:
— Мы куда-нибудь пойдем?
— Здесь, наверху, есть римская крепость, — сказала Вера, и Александрову показалось, что он уловил в ее голосе просьбу, но уже в следующее мгновение девушка засмеялась и предложила: — Давайте возвращаться.
Невдалеке, как приманка, звенело карнавальное веселье, и они поспешили броситься в него, добраться до самой его сердцевины и спрятаться там от собственного бессилия. Они блуждали в толпе, словно в лабиринте, но шутовское веселье карнавала теперь казалось им истеричным и уже не развлекало, а подчеркивало их молчаливость, обнажало одиночество. Александров, торопясь, заикаясь, принялся рассказывать про какой-то карнавал в Венеции или в Рио-де-Жанейро (ни в том, ни в другом городе он не бывал), увлекся, насочинял подробностей — красочных, сочных. Подсмеиваясь над собой, он говорил и говорил, но вскоре почувствовал, что Вера его не слушает, и тогда, пришпорив своего Пегаса, забыл все на свете, взлетел в самозабвенном порыве и так в конце концов выдохся, что даже не хватило сил удивиться, когда Вера остановилась перед низкими воротцами и сказала:
— Здесь мои живут. Зайдем на минутку.
Он чувствовал себя виноватым, потому что пытался обмануть и себя, и эту девушку, и теперь духу не хватило ей отказать. Он покорно пошел за ней по выложенной плиткой дорожке мимо клумб и кустов самшита, которые в уличном свете жирно поблескивали глянцевыми листочками.
В доме их не ждали, но своим появлением они никого не смутили. Верина мать, щупленькая женщина, повязанная платком на старинный манер, поднялась из-за стола. Она поздоровалась с гостем и сразу, без суеты усадила его на миндер[4], на вязаную подушку. Мужчины, явно дед и отец, молча кивнули и опять склонились к своей работе. Никто из всех троих не коснулся Веры ни рукой, ни взглядом, да она, чувствовалось, и не ждала такой милости. Она поздоровалась с ними так, как здороваешься с людьми, которых видишь каждый день, но, несмотря на их холодность, Александров понял, что они давно не встречались. С уже знакомым ему независимым видом (еще одно подтверждение того, что они редко собираются вместе) девушка села на миндер напротив Александрова, устроилась поудобнее, готовясь слушать, а может, и дремать.
Как только он сел, вся энергия его кончилась. Он расслабился в теплой комнате, захотелось спать. Прикрыв глаза, он впал в оцепенение, и в этом оцепенении все — и как их встретили, и молчание, и сдержанность хозяев — показалось ему естественным. Никакой неловкости он не испытывал, ни о чем не думал. Ему было тепло, приятно, покойно…
Сколько длилось это затишье, он не знал; может, прошло несколько секунд, а может, и несколько часов, когда в нем шевельнулось странное, приглушенное ироничной двусмысленностью тишины любопытство, в котором не было, однако, желания открыть что-то новое или разгадать какую-то тайну, а было лишь стремление осознать себя в непривычной обстановке.
Дальше все происходило как во сне; увиденное запечатлевалось в нем четко, во всех подробностях, но общий смысл оставался неясен.
Александров увидел себя под вырезанным на потолке солнцем — пылающий лоб резного этого солнца лизали зеленоватые языки. Он осмотрелся: взгляд повсюду встречал обильно орнаментированные деревянные миски, пастушьи посохи, фигурки людей и животных, фляги, бочонки. Но вот, очнувшись от восторженного оцепенения, он понял, что глядит на посох, по которому извивается змея; голова с раздвоенным языком и темнеющими дырочками вместо глаз служила ручкой. И с такой тщательностью была выточена треугольная приплюснутая голова, что казалось, с языка того и гляди закапает яд. Как завороженный глядел он на это творение, порожденное мистическим ужасом и яростной верой в особую, нечеловеческую красоту, красоту, искупающую страх, или в красоту страха, признавшего свое поражение.
В комнате ничего не изменилось. Тишина все глубже продалбливала время, все больше втягивала Александрова в странное молчание. Но нет, что-то изменилось — исчезло спокойствие и тепло.
Стараясь ступать бесшумно, Александров переходил от предмета к предмету, и в каждом из них была какая-нибудь зловещая деталь, убивавшая веселость и непосредственность, свойственные народному искусству. Что-то подражательное, грубое было во всех этих вещах. Им не хватало чувства меры, чувства стиля. Обойдя все, он наконец остановился возле мужчин. Ничто не отразилось на их лицах, скованных фанатизмом, отрешенностью, прорезанных морщинами извечной суровости, хранящих следы красоты, что погибла в муках самоистязания. И хотя Александрова снедало любопытство, он не нагнулся, не посмотрел, что делают их руки, и ничего не спросил. С почти религиозным благоговением, к которому обычно примешивается робость, он двинулся к двери. Когда от неосторожного движения скрипнула половица, он вздрогнул. Вера сразу вскочила с миндера, и они вышли не попрощавшись. За их спинами еще плотнее сгустилась тишина.
Тишина проникла и в них, когда, глядя перед собой невидящими глазами, проходили они улицу за улицей, устремляясь к центру, и только на площади, залитой зеленоватым люминесцентным светом, смогли увидеть друг друга.
— Мне иногда кажется, что они не совсем… — проговорила Вера. Она больше не в состоянии была молчать.
Сквозь застывшее бесформенным куском черной лавы возбуждение просочилось в его душу, как тонкая струйка воды — сквозь щель в скале, желание сбросить с себя бремя непонятной тревоги.
Все еще находясь под воздействием причудливого сказочного мира, который только что покинул, он перенесся в другой, не менее иллюзорный, но чистый, светлый, раскинувшийся среди пестроцветных садов прошлого; его вполне можно было противопоставить настоящему.
— Много лет назад, когда я был еще ребенком, — заговорил Александров, — в нашем селе зимовал аист. Он чем-то поранил крыло и не смог улететь на юг вместе с другими…
Впоследствии, дома, когда, пытаясь заполнить пробел, образовавшийся в этой истории, Александров стал восстанавливать свой разговор с Верой, он с уже знакомым удивлением обнаружил, что память сохранила лишь отдельные, не связанные между собой реплики. Он не мог вспомнить ни своего состояния, ни, тем более, состояния собеседницы. Диалог, что звучал теперь в его памяти, был лишен реального фона, но фальши в нем не было. Воспоминание об аисте — это была его слабость — Александров использовал не впервые. Прячась за не относящимся к делу разговором, он преодолевал собственный гнев, избавлялся от страхов и разочарований. Но в этот раз он не собирался прерывать разговор с Верой, он хотел вернуться потом к ее словам и проанализировать их. Но «слабость» оказалась сильнее.
Александров: …Мой дед его подобрал и целую зиму выхаживал. Аист к нам привык, стал совсем домашний.
Вера: …Они свои изделия и не продают, и не дарят, копят их, словно скряги, а для кого?
Александров: Мы его гладили, и он ласки наши принимал. Дед лечил ему крыло какой-то мазью.
Вера: Это даже не хобби. Хобби ведь нужно человеку для удовольствия или хотя бы для забавы.
Александров: Когда становилось очень холодно, мы его брали в дом, и он дремал возле печки. А боялся он только кошку.
Вера: А может, они и правы, может, я их недооцениваю.
Александров: К весне он выздоровел и еще до того, как вернулись его товарищи, попробовал летать. Мы, ребятня, бежали рядом, подбадривали его криками…
В этот момент, созвучно с их подсознательным желанием, городские часы, словно в наивной мелодраме, пробили одиннадцать. Освещенные гостиничные окна одно за другим начали раскрываться, заманивая в свой уют.
— Мы пропустили и факельное шествие, и ночной кросс, и маскарад, — без особого сожаления вспомнил Александров, — нехорошо…
— Остался еще ресторан, — сказала Вера, — нас там, наверное, ждут.
Перспектива пойти в ресторан, пробыть там час или два, участвовать в каком-то разговоре ужаснула Александрова, хотя его мучил голод. И к тому же он понимал, что у Веры из-за него загублен вечер: ведь ей, наверное, хотелось побыть среди людей, развлечься. И все-таки он решил это предложение деликатно отклонить. Он хотел только покоя и был уверен, что утром обязательно возьмет реванш, но как именно — еще не знал.
— Боюсь, что я достиг предела своих возможностей, — проговорил с легкой самоиронией Александров.
Он не был уверен, что выкрутился наилучшим образом.
— Я пожилой человек, а сегодня так много всего было! Поэтому я устал и мечтаю об одном — поспать.
Вера, как ему показалось, подавила отвращение и поклонилась:
— Тогда спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказал Александров и пошел к гостинице.
С тяжелой, как после попойки, головой Александров выбрался из ночи; не открывая глаз, потянулся за стаканом с подслащенной водой, но обнаружив, что на обычном месте его нет, застыл в тихом недоумении. Извне обрушивались на него непривычные звуки. В коридоре гремели ведрами и швабрами уборщицы, скрипели двери, с ревом носился вверх-вниз лифт; и пока он располагал вокруг себя эти звуки, словно декорации, среди которых скоро придется действовать, начала болеть лодыжка. Видно, вчера перетрудил ногу. Боль в ноге отравила ему не одно утро, но на этот раз он почти обрадовался ей — единственной знакомой в незнакомом месте. Боль эта разбудила его окончательно, он встал и, не найдя домашних тапочек, пошел за ними босиком к чемодану. Солнце шло следом, грело спину и звало расслабиться, побездельничать, подурачиться. Босиком, в одной пижаме он подошел к окну. Площадь была пуста. Только что вымытая, она выдыхала прохладный пар, а за нею сгустилась краснота черепичных крыш, в которую вклинивались серые объемы бетонных зданий. Позади всего этого в воздухе парила синяя гора, ее вершина вонзалась в светлое небо. Яркие, подчеркнутые резкими утренними тенями краски ослепили его, и он поддался профессиональной привычке, начал подбирать слова, которые могли бы отразить эту красоту. Поплыли фразы, столпились эпитеты, глагол силился привести всю картину в движение. Но то был лишь миг, лишь мгновенно угасшая импульсивная реакция его обостренной чувствительности, не было условий, чтобы она стала началом процесса воссоздания. Предстоял напряженный день, богатый, быть может, новыми событиями, но наверняка не защищенный от возвышенных мучений творчества. В ожидании нового дня умственные силы сконцентрировались, и он заранее чувствовал, как истощатся они, когда неизвестная пока работа будет завершена.
Александров вполне примирился с вынужденной бездеятельностью и ходил по комнате, пытаясь привести в порядок и ее, и себя, вкладывая в это занятие куда больше старательности и внимания к мелочам, чем было бы необходимо, если б он не хотел обмануть самого себя.
Когда он доставал из чемодана новую рубашку в ярко-коричневую клетку и с модным удлиненным воротничком (за его одеждой следила главным образом дочь, заставлявшая его, хоть он и протестовал иногда, идти в ногу с модой), в дверь постучали.
— Кто там? — быстро распрямившись, с рубашкой в руках спросил Александров.
Он понимал, что у него смешной вид, однако не был ни удивлен, ни раздосадован, словно предвидел этот стук.
— Васко… журналист… Помните, вчера… — послышался из коридора голос. Чувствовалось, что Васко долго готовился к первым неприятным минутам этой необусловленной встречи, долго не решался заговорить, а потом набрался храбрости, произнес свою речь, но под конец запутался и смутился.
Было бы вполне естественно, если б он попросил журналиста подождать. Он бы так и поступил, но озорное настроение подстрекнуло его подшутить и над собой, и над обстоятельствами, чтобы хоть как-то использовать пропадающий без всякого применения душевный подъем.
— Входи! — крикнул он и, когда увидел, до чего смущен молодой человек, как он переминается с ноги на ногу и бормочет: «Я могу подождать, дело не спешное», — понял, что поступил правильно.
— Сядь! — величественно распорядился Александров, не заметив, что перешел на «ты», а ведь обычно это давалось ему с большим трудом. — Я сейчас оденусь.
Он пошел в ванную, пустил горячую воду, разложил на полочке под зеркалом бритвенные принадлежности, но, не начав еще бриться, почувствовал его самого удививший приступ сострадания к молодому человеку. И пока лежал в теплой воде, настроение совсем испортилось. Мысль о том, что Васко сидит и, наверное, не смеет шевельнуться, терзала его, хотя поначалу он именно такую ситуацию и желал создать, чтобы насладиться своим превосходством. Мнимое наслаждение! Да, показывало иногда рожки, и притом неожиданно, в самых неподходящих ситуациях, искореняемое, но пока еще крепко в нем сидящее нежелание окончательно примириться с бытием простого труженика, занятого в стороне от шумного веселья изнурительными поисками самого себя. Разумом он вроде бы со своим жребием смирился. Он подготовил себя к тому, что его жизнь есть смиренная жертва искусству, но временами, если самолюбие бывало чем-то задето, пусть даже по самому ничтожному поводу, червячок суетности выползал снова.
В таких случаях Александров впадал в уныние и, презирая себя, начинал рассуждать о том, сколь слаб человек.
Из ванной вышел не тот Александров, какой должен был оттуда выйти, не взбодренный, не посвежевший, а вялый, усталый, пожилой, по-стариковски щуривший близорукие глаза. Даже не взглянув на замершего от напряжения Васко, он прошел, шаркая ногами, через комнату и затих.
— Я пришел, чтобы взять у вас интервью, — поторопился нарушить мучительное молчание Васко, — меня прислали из газеты. Я боялся вас не застать, поэтому так рано и явился.
— Виновник торжества не я, — обернулся к нему Александров, — возьмите интервью у Коларова, ведь мы его выставку сегодня открываем.
— Я и с ним встречусь…
Торопливость, с которой он это проговорил, открыла вдруг Александрову причину его прихода. Может быть, при других обстоятельствах писатель бы позлорадствовал, да и сейчас вспыхнула в нем на миг мстительная жестокость к этому юнцу, обманутому и рожденному быть обманутым, и к иллюзиям его, но вскоре появилась жалость и легкая досада: все в конце концов повторяется.
— Прогуляемся, — решительно сказал Александров.
Они пошли к римской крепости не сговариваясь, словно это подразумевалось само собой. На свежем воздухе голова у Александрова прояснилась, неловкость прошла, но вместе с голодом — он не ел со вчерашнего обеда — проснулась прежняя тяга к курению, хотя это занятие он бросил уже лет десять назад, после того как перенес микроинфаркт. Он принялся шарить по карманам (от этой привычки, похоже, ему уже никогда не отделаться), прекрасно зная, что там и табачной крошки не найдет, и самым непочтительным образом над собой посмеялся.
— Жалкая картина! — сказал он. — Отказываем себе в одном, в другом, а под конец-то что останется?
— Под конец? — переспросил Васко.
— Нельзя курить, пить, поздно ложиться, а чего ради, смею спросить?
Ответа Александров не ждал и вообще не замечал Васко. Он слегка кокетничал: в его словах не было настоящего страдания, в них сквозила ирония, свойственная человеку, когда он уже свыкся с подобными ограничениями и лишь для того иногда бунтует, чтоб насладиться щекочущим прикосновением соблазна. Но журналист, как ни странно, ответил и тем самым снова привлек его внимание.
— Весь вопрос вот в чем: надо уметь так отказываться от удовольствий, чтобы не портить себе жизнь.
— Вы пишете рассказы, — вспомнил вдруг Александров, — значит, когда-нибудь этот вопрос встанет и перед вами. Вы уже думали, как будете его решать?
— Это я пришел взять у вас интервью, а не наоборот, — отшутился Васко.
— Да-да, конечно, — сказал Александров и замолчал. Он был почти уверен, что Васко напомнил об интервью не ради самого интервью, а для того, чтобы защитить свою внутреннюю независимость, уже приобретенную в одиноких бдениях над белым листом и столь ценную маленькими открытиями, которые, правда, были сделаны до него тысячами людей. Эта собственническая ревность была ему знакома, он испытал ее в юности, когда наивными своими деревенскими чувствами воспринимал чудо мира и когда в минуты вдохновения ему казалось, что до него никого не было. Ему была знакома и усталость неумения, которая медленно сдавливает, душит вольную фантазию, мешает состязаться с другими, подбадривать себя.
Чтобы хоть от чего-нибудь оттолкнуться, Александров попробовал допустить, что журналист хочет у него поучиться и что он, наверное, не имеет права обмануть его ожидания. Он помнил, с каким благоговением слушал когда-то самого первого писателя, которого встретил в своей жизни. Однако бессмыслица подобного начинания обрекала на провал все эти попытки себя обмануть, не шел к нему менторский тон, коим он в этом случае должен был изъясняться. Да и что бы он мог сказать молодому человеку? Конечно, за многие годы накопленные мысли стремились излиться хоть перед кем-нибудь, но именно в эту минуту писатель почувствовал, как они малозначительны, а вернее, слишком уж интимны. Они уместны только среди друзей, таких же, как он, рассеянно-самоуглубленных, не очень интересующихся смысловой стороной и куда больше — самими словами. Получился бы занятный разговор: каждый нашел бы в нем что-то ценное, исходя из собственного опыта. А такому вот пареньку нужны неопровержимые истины, изреченные классиком с неопровержимой категоричностью, чтобы он мог потом в своем уединении либо отвергнуть их, либо принять полностью; словом, так или иначе, эта беседа должна стать исходной позицией при формировании будущего писателя. Не годился Александров для подобной роли. Самовлюбленности не хватало, да к тому же мешала неуверенность в себе, мучившая его всякий раз, когда он выходил из-за письменного стола. В более молодом возрасте ему иногда приходилось проводить подобные беседы, и успехом они не кончались.
— Да, да, конечно, — повторил Александров, решив, что не будет поучать молодого журналиста. — Но мне почему-то не хочется давать интервью. Поговорим лучше по-человечески. Тогда, может, что-нибудь и получится.
Васко кивнул.
— Вчера вечером Вера водила меня к своим родичам. — Нить, туго в нем смотанная, выскользнула. Если б она размоталась, его намерение «поговорить по-человечески» провалилось бы. — До сих пор не идут у меня из головы все эти вырезанные…
— Она и туда вас водила? — перебил Васко.
Александров проклял себя за то, что сболтнул лишнее. Теперь придется строго придерживаться истины, а это лишало удовольствия дать хоть немножко пищи, какая б скудная она ни была, своему воображению; чтобы поперчить (в рамках приличия) старомодную романтику донжуанства, приходилось ограничиваться живописной подачей фактов — игра, может, и приятная, но пустая.
— Я ей до смерти надоел, — сказал Александров, — я все говорил и говорил, как новобранец; что ей было делать? Вот и потащила меня к своим.
Он хотел добавить: «в зловещую тишину их дома», но постеснялся столь эффектного выражения, к тому же почувствовал, что парень ему не верит. Всегда так получается! Ведь если б он решил обмануть Васко, то преподнес бы ему такой красочный вымысел, пролил бы такой бальзам на его раны, что тот был бы ему даже благодарен.
— Вы, значит, видели ее родителей? — сумел сохранить уважительный тон Васко.
— Да, и вещи, которые они делают, тоже видел, — стараясь припомнить побольше подробностей, говорил Александров, — меня поразила их, как бы вам сказать… ненормальность или, может быть, совершенство, которое, впрочем, из-за каких-то мелочей направлено против них же самих.
— Им мешает фанатизм, — спокойно объяснил Васко, — они воюют с любой новизной, никак не могут понять, что живут во второй половине двадцатого века.
— Вот-вот, — обрадовался писатель, — всякий фанатизм в искусстве…
— Они замучили Надежду, или, как вы ее называете, Веру, — опять перебил его Васко, и Александров был абсолютно уверен, что в этот момент парень стиснул у себя за спиной кулаки. — Когда она была маленькая, они пытались превратить ее в подобие своих изделий, а когда она уже могла себя защищать, ей не на кого было опереться.
Александров понимал, что журналист разоткровенничался невольно, под воздействием темы, которая была для него «постоянным раздражителем». Он понимал, что парню будет потом неловко, и делал вид, что не слушает. Он глядел на деревья в белом и розовом цвету, и его волнение растворялось в меланхолической созерцательности.
— При живых родителях на нее смотрели как на сироту, и даже хуже, — говорил Васко, — на ней выместили отношение к ее семье: она хорошо рисует, а ее не приняли учиться, потому что…
Не дослушав фразу, Александров остановился, словно увидел яму и хотел ее перепрыгнуть. Как перед прыжком, он огляделся. Метрах в двадцати от них на раскаленных камнях крепостной стены сидели, плотно прижавшись друг к другу плечами, Вера и Коларов.
Не раздумывая, даже не взглянув на Васко, Александров сложил ладони рупором, приставил ко рту и прокричал жизнерадостное горское «ойлариппи». Крик, хоть и не для того предназначенный, разорвал тишину на дразнящие отголоски, словно бы предвещающие веселье. Писатель кричал еще и еще, его голос, подхваченный эхом, как канонадой, поднялся до фальцета. Васко тоже принялся кричать, увлекся, волосы его слиплись от пота, жилы на шее вздулись.
— Ойлариппи-и-и! Ойлариппи-и-и! — выкрикивал он.
Ни удивления, ни суетливости не было в движениях Веры и Коларова, когда они не торопясь встали и пошли им навстречу. Рассеянные улыбки украшали, как цветы, их лица, на одежде были пятна пыли. Оба ступали под некий гимн, звучавший, наверное, у них внутри. По мере их приближения в прямой пропорции с их торжественным видом в нем росло нервное, желчное веселье. О, если б он мог сфотографировать эту сцену или запечатлеть ее на холсте! Его давнишний приятель, небезызвестный художник Владимир Коларов, который едва был этой девушке Вере по плечо, тянулся, важно пыжился, воображал, видно, что головой в небо упирается! Как же он был комичен, как похож был на клоуна: гибкий, шустрый и серьезный-серьезный. Александрову надоело сдерживаться, и он с удовольствием посмеялся бы, но — нельзя, ведь все остальные воспринимали всерьез эту пантомиму. И тени улыбки не было на их лицах.
— Вы чего раскричались? — сказал художник. — На два шага отошли от города и уже ведете себя как новички туристы.
— Тут есть духи, — прошептала Вера, — не надо их беспокоить!
— Духи? — неожиданно для себя включился в игру Александров. — Какие духи?
— Здесь некогда жила сказочно прекрасная патрицианка, — с пафосом проговорил художник, — классический профиль, под белой туникой — формы амфоры… Словом, Любу чем-то напоминала…
— Владо! — перебила его Вера, насупившись, как вчера, когда оборвала болтовню Васко.
Стараясь подавить раздражение, Александров говорил себе, что игру надо продолжить, ведь только тогда ее и можно будет уничтожить — разрушить изнутри, растворить внешнюю серьезность в ее же шутовской сущности. Однако поведение Веры совсем сбило его с толку. Девушка бродила среди полуразрушенных стен словно околдованная, словно впервые их видела, но стоило ей встретить взгляд Коларова, как она замирала с покорным, застенчивым видом. Снова убеждался он в притягательной силе коларовских глаз, наблюдая на этот раз, как действуют они на другого человека. Александров вынужден был теперь признать, что этим глазам действительно свойственна могучая сила и даже нечто большее… Ему вдруг захотелось оказаться в зоне их воздействия, чтобы абсолютно бездумно вместе со всеми принять участие в общем развлечении.
— Никаких духов здесь нет, — вступил в разговор журналист, и с Александрова спало вдруг и самовнушение, и воздействие извне.
— Это самая обыкновенная римская крепость, — продолжал Васко, — такие повсюду есть.
— Крепость построена в первом веке новой эры, — сказала Вера. В ее голосе сквозь имитацию манеры экскурсоводов проступало недовольство. — Здесь есть прекрасно сохранившаяся мозаика, типичная для периода расцвета прикладного искусства в Римской империи.
— Я смотрю, ты не забыла, чему тебя научили в музее, когда ты там работала, — иронически заметил Васко, — но вообще если каждый день повторять одно и то же…
— По-моему, вы не очень-то цените старину. — Александров попытался превратить насмешку в шутку. — А ведь она — наше национальное богатство. Мой товарищ подтвердит…
— Конечно! — с невозмутимой важностью откликнулся художник. — Мы знаем, что лежало в гробнице Тутанхамона, а что есть на нашей земле, нас не интересует!
С Верой словно бы что-то произошло. Казалось, она выбирает, чью сторону принять. Она смотрела на говорящего, потом, не дослушав, опускала голову и глядела себе под ноги, а когда начинал говорить следующий, принималась нервно ходить взад-вперед. Писатель, пока наблюдал за ней, пропустил несколько фраз, сказанных художником и журналистом, поэтому брякнул невпопад:
— Все важно: и Тутанхамон, и эта крепость, и то, что мы…
Он хотел закончить свою мысль словами: «и то, что все мы тут», но побоялся впасть в многозначительный тон, в данном случае неуместный. И без того слова его прозвучали излишне дидактично, а это вовсе не соответствовало его настроению, которое незаметно для него самого переменилось. Он об этом догадался лишь сейчас, поглядев на Веру. Возникло такое чувство, словно он наконец нашел в книге нужную страницу и почерпнул оттуда нужные сведения. Кто знает, быть может, соперничество с этими двоими, оттеснившими его на задний план, пробудило в нем борцовский дух, хотя, конечно (он это сознавал), момент был упущен. Он понял теперь, что кричал «ойлариппи» не ради Васко, а ради себя, что игру поддерживал не ради Коларова, а опять-таки ради себя, он понял, что Вера ему больше чем нравится.
— Ну что за люди, а, Люба? — услышал он голос художника. — Пришли и украли наших призраков.
— А давай, Владо, превратим их самих в призраков. Только не знаю, годятся ли они для этого, — с сомнением проговорила девушка.
Интимность, которую демонстрировали эти двое, подбадривала его — ведь и он мог бы этого достигнуть, но одновременно ранила тайное чувство, которое он испытывал к Вере: не бывать ему ни первым, ни единственным! Стыдясь, припомнил он, с каким презрением (он заметил это или только предположил?) глянула она на него вчера, когда расставались. Теперь он понимал почему. Вера водила его по кругам своего ада, чтобы очистить их встречу от налета легкомысленности, случайности и привести их к духовному единению, а он держался как надутый олимпиец, то бишь как дурак.
— Надежда, ты забыла провести гостя по подземному ходу, — услышал Александров голос журналиста. — Он тоже ведь уникальный. В середине какого века его прорыли?
— А может, мы там уже побывали, — как-то неопределенно проговорила Вера, — может, нам там не понравилось…
Ах вот как! Выходит, Коларов не терялся. Разыгрывал для камуфляжа возвышенные сцены с патрицианками, а потом этим пользовался. Нет, не смешной, не безобидной была его клоунада. Он все рассчитал. Он коварно обольщал свою наивную жертву. Он схватил ее мертвой хваткой, он…
Поддавшись озлоблению, Александров принялся перебирать в уме слышанные им когда-то истории о многочисленных женитьбах, разводах и изменах художника. Эти сплетни никогда раньше его не впечатляли. Он даже отстаивал право Коларова самому распоряжаться своей личной жизнью. А недавно Александров познакомился с его последней женой, какой-то балериной из миманса оперного театра, которая была вдвое моложе Коларова. Его называли иногда «вечный жених», впрочем, ничего, кроме констатации факта, не выражало это прозвище. Штамп, литературщина, да и только! Но сейчас Александрову хотелось обвинять, осуждать Коларова.
— Скажите, Вера, а какую должность дадите вы мне, если мы отправимся в прошлое? — услышал Александров свой голос. — С Коларовым ясно. Он будет придворным художником и доверенным лицом королевы, а кем буду я?
— Не знаю, — нерешительно проговорила Вера, — для вас нужно придумать что-нибудь особенное.
— Ну уж и «особенное», — усмехнулся Коларов, — придворные писатели раньше тоже были.
Не пристало Коларову ехидничать на манер юнца журналистика. Уж больно смешно это выглядело…
Да, дело тут не в глазах и не в очаровании забавных шуток. Конечно, Коларов прав. Будничность уничтожает искусство, и никакие риторические выкрутасы не убавят горечи этого утверждения. Сам он столько лет ведет праведную семейную жизнь и даже самому себе не признается, что порой хочется кричать и бить посуду. О его книгах говорят все меньше, критика все реже их замечает. Давно миновало время, когда он был «молодой», «одаренный», «подающий надежды». Впереди скалились старость и отчаянье. Его книги являли собой результат его будничной жизни. Прав, прав Владо… Александрову больше не хотелось его обвинять. Он ему завидовал. Между ними стояла девушка во всей своей призывной женственности. Писатель почувствовал вдруг, как сильно влечет его к ней, но не устыдился этого. Сквозь телесное желание пробивался восторг перед красотой и грозил навсегда оставить его в роли пассивного созерцателя.
— Меня, Вера, в расчет не принимайте, — с искренней горечью проговорил он, — я ни на что не годен.
— Врет, Люба, врет, — торжествовал Коларов, — номер известный: ах, не хочу, ах, не могу, а потом хлоп — и птичка в клетке.
— Для тебя, Надежда, понадобится довольно большая клетка, — вымученно улыбнулся Васко, — а то не сможешь в нее залезть!
— Пойдемте поедим, — взмолилась распятая на кресте Вера-Надежда-Любовь, — я очень хочу есть!
Чем ближе подходил писатель к концу своего выступления, тем больше убеждался, что не так говорит, как надо. Нельзя сказать, что его слушали невнимательно или что он был недоволен написанным на этих нескольких страничках, но не мог он избавиться от ощущения одиночества. Он как будто разговаривал с самим собой о том, что другим людям неинтересно; их присутствие смущало и чуть ли не обижало его. Собственные слова казались бессмысленной трескотней. Александров говорил все монотоннее, мямлил, заикался, делал неуместные паузы, а мысль о том, что он провалился, хоть и не очень удручала, но тоже портила выступление, вот почему так неожиданно прозвучали для него аплодисменты, раздавшиеся в конце. Послышались даже возгласы: «Чудесно!», «Браво!» Он начал уже бояться, что сейчас на него набросятся, руку начнут трясти, но все вдруг его покинули и устремились к картинам. Вслед за толпой пошел и он, несколько демонстративно вытирая лоб, и перед первым же холстом остановился в недоумении.
Картина представляла собой охотничью сцену: два всадника, повернутые спиной к зрителям, впереди три громадные собаки, преследующие оленя, — и могла бы сойти за произведение какого-нибудь академиста конца восемнадцатого столетия, если бы не современная манера деформировать фигуры людей и животных. Подчеркнуто увеличенные и огрубленные конечности, жилистые, бугрящиеся от мускулов, создавали впечатление первозданной мощи, кровожадности, наводили на мысль о рукопашных схватках, о торжестве жестокой силы. Благодаря экспрессии рисунка картина воздействовала так живо, детали скомпонованы были так мастерски, что зрителям казалось, будто и они участвуют в погоне, будто и они — преследователи, опьяненные ветром, треплющим их волосы, запахом конского пота, выстрелами, после которых, как маки, алеют в траве брызги крови.
Пока Александров стоял перед этой картиной, в нем снова, как на магнитофонной пленке, прокрутилось его выступление; слова звучали четко, ясно, в том же ритме, в том же отрывистом пустозвонном модерато, и он, стыдясь недавних слушателей, злой на самого себя, поспешил осмотреть другие картины. Они тоже изобиловали животными (в основном лошади и собаки) с телами, напружиненными в жестокой схватке за существование, а там, где виднелись человеческие лица, сквозила как атрибут средневековья высокомерная импозантность, явно нравящаяся художнику. Остальные холсты — «космические легенды» — представляли собой порожденные бесчувственной фантазией, мертвенные, навечно застывшие пейзажи. Коларов применил здесь новую технику, благодаря которой была в них какая-то невещественность, призрачность. Они словно бы затопляли все вокруг, как всепоглощающее время.
Мелко и абсолютно бессмысленно было б теперь упрекать себя за то, что явился открывать выставку, не осмотрев ее предварительно. Мелко и бессмысленно было б теперь пытаться искупить свое легкомыслие и сохранить «непогрешимость» при помощи дешевого трюка: обвинения против Владо. Конечно, можно прикинуться рассеянным человеком, который не помнит, что говорил, тем более ни хозяева, ни гости наверняка его не упрекнут. Но Александров не мог примириться с тем, что столько лет общался с художником, называл своим другом, верил, что так оно и есть, и при этом совсем его не знал. Когда и почему произошла с Коларовым эта метаморфоза? Когда и почему появились такие картины? Ведь он, писатель, должен был первым заметить перемену, а вернее, угадать ее по самым малозаметным признакам и осознать, хотя бы настолько, чтобы не удивиться, столкнувшись с ней лицом к лицу, иначе чего стоят его попытки осмыслить духовную жизнь страны, которую он стремится отразить в своих произведениях?
Предаваясь грустным размышлениям, Александров бродил по залу и вдруг столкнулся с Верой и Васко. Они его искали, он сразу это понял по их заговорщическим вопросительным улыбкам. Втроем провели они несколько молчаливых минут среди возбужденного гула, и Александров ощутил вдруг, как растет в нем симпатия к этим двум молодым людям, неожиданная для него самого, необъяснимая, смешанная с чувством вины, тоже необъяснимым, неясным, но усиливающим его доверчивую неясность к ним.
— Ну, вот и это позади, — сказал писатель, чтобы перекинуть к ним мостик через собственное смущение, — и речи, и аплодисменты, и все, что в таких случаях полагается…
— И мероприятие можно обвести красным кружочком, — повторил Васко то ироническое замечание, которое сделал при первой их встрече. Однако на этот раз Вера промолчала и только опустила ресницы, словно от несильной, но все же ощутимой боли.
— Вы говорили не про то, — сказала она.
— Я говорил о выставке Коларова, — попытался ускользнуть от разговора писатель. Вообще-то он сознательно прибег к столь примитивной уловке: чтобы оценить собственные аргументы, ему надо было услышать их со стороны.
— Вы говорили о гуманизме и о том, что искусство должно делать людей лучше и счастливее, но выставка совсем не такая.
— Почему? — заспорил Александров. — Разве, любуясь необычными цветовыми сочетаниями, вы не испытываете удовольствия? Разве эти пейзажи не заставляют думать о будущем?
— Бояться будущего! — бросил журналист.
— А хоть бы и так, — уже всерьез упорствовал Александров, — они негативным образом предупреждают об опасности и тем самым помогают ее преодолевать…
— А что стало с аистом?
Писатель изумленно взглянул на нее. Она не шутила. И Васко не удивился ее вопросу. Наверное, она рассказала ему эту историю. И опять почувствовал Александров, как шевельнулась в нем его безобидная слабинка. Крылья аиста прошелестели… Но он оторвал себя от этого призрачного звука, он знал, что сейчас навсегда прощается с живой девушкой Верой. Позднее она будет посещать его в мечтах и в снах, принося наслаждение, которого наяву не было, но такой — из плоти и крови — он никогда больше ее не увидит. Он понимал, что прощается со своим последним увлечением. Он понимал, что впереди его ждет только покорность перед жизнью и старость. Расставание превращалось в катастрофу.
— Аист — это другое, — смутился он, — а может, и нет, хотя…
Их обступили представители городского Совета, и разговор оборвался. А на улице были сумерки, теплый ветер сорвал натянутую на лица маску официальности, над древней крепостью висел луч прожектора… Или то было сияние сошедших вниз звезд? Леса шелестели тихо, ритмично, как волны…
В суматохе, пока все шли в ресторан на банкет, Васко успел сунуть Александрову его последнюю книгу, которую наверняка разыскал сегодня в магазине. Пришлось придумывать автограф. Писатель вынул ручку, встал под фонарь и, обливаясь потом, старался найти не банальные, но и не претенциозные слова. Давно вертелась у него в голове мысль исследовать автографы какого-нибудь писателя, которые говорили б о нем не меньше, чем его произведения. Наконец он написал:
«Будущему писателю Васко в минуту искренности и самоотречения».
Журналист поглядел на размашистую подпись, улыбнулся и сказал:
— Наверное, это прозвучит странно и нескромно, но у меня иногда действительно появляется надежда написать хорошую книгу.
…На банкете художник быстро напился. Похоже было, что он пил нечасто, алкоголя не переносил и не умел себя контролировать. Он водил по залу осоловелыми глазами и длинно, подробно рассказывал о своих гениальных замыслах. Потом, заметив, что Вера и Васко ушли, впал в безысходную меланхолию, но время от времени гейзерчики клокотавшей в нем ненависти вырывались наружу, и такой злобы полны были его порой метко попадавшие в цель замечания о коллегах художниках и о других людях искусства, что присутствующие совсем растерялись и уже не смели называть ничьих имен. Банкет кончился, как поминки.
В гостинице на лестнице Александрову пришлось поддерживать художника — тот обхватил его за шею и пьяным голосом бормотал:
— Ты один меня понимаешь… ты им показал… этим… всяким… тутошним… кто я такой! Ты им открыл глаза!
Наверное, он бы расплакался, если б Александров не поторопился съязвить (впрочем, язвительности его художник в тот момент уловить не мог):
— Не так уж плохо, если хоть один человек тебя понимает! А толпа — она никогда гениев не ценила.
Коларов поднял на него глаза. Он медленно переваривал услышанное, да, видно, так и не смог переварить, а потом вдруг брякнул:
— Сучка! Обещала прийти вчера вечером. Прижимается, ластится, кажется, она уже твоя, а в самый последний момент раз — и убежала… Стерва! Самого худшего образца. Такие сперва обнадежат, а потом обманывают. Эх, чтоб им пропасть!
С такими жалобами, обвинениями и ругательствами на устах он, едва коснувшись подушки, заснул и тотчас же захрапел. Александров, склонившись над ним, трясся от смеха. Он разглядывал лицо Коларова: с закрытыми глазами, обвисшими скулами, дряблое, желтовато-бледное, оно казалось совсем старым. Ничего удивительного: Коларов был его ровесник — приближался к шестидесяти…
Осторожно прикрыв за собой дверь, Александров отправился прогуляться. У окошка администратора он остановился, собрался уже наклониться, чтобы предупредить насчет своего друга, но не стал: а зачем, собственно? Коларов проспится и даже не вспомнит этот вечер, станет снова бодрым, самоуверенным Коларовым, вот только голова, может, немного поболит.
Площадь перед гостиницей была тиха и безлюдна и напоминала дно пруда с застоявшейся зеленоватой водой. Но и сюда доносились из старого города отзвуки ярмарочного шума. Александров шел навстречу ему. Овеваемый прохладным ветерком, петлял он по узким улочкам, и хотя за целый день он ни на минуту не остался один, ему все еще нужны были люди, чтобы не задумываться, не анализировать, не терзаться догадками, которые кружили вокруг него, жалили бесчисленными вопросами. Он гнал их от себя и верил, что займется ими потом, в спокойствии, за светлой дымкой минувшей боли.
На ярмарке, словно рождественские елки, блестели всевозможными побрякушками палатки и лотки, а в конце ее вертелось неизменное венское колесо. Из двух павильонов «пиво — шкара» доносился запах жареного мяса, слышались громкие голоса припозднившихся посетителей. Людей на ярмарке осталось совсем немного, они ходили между лотками, но больше смотрели, чем покупали. Продавцы с равнодушными, помертвелыми от сильного света лицами уже начали убирать свой товар. Не было больше ни праздничной кутерьмы, ни карнавального веселья. Александров бродил, останавливаясь перед каждой палаткой, раздумывая, не купить ли какую-нибудь побрякушку, дабы увековечить свое пребывание в этом городке, когда вдруг услышал знакомую песню и, ведомый ею, отыскал человека с обезьянкой. Вокруг него стояли несколько человек, но вскоре один за другим они ушли, и писатель остался единственным зрителем. Дождавшись паузы, во время которой зверек отдыхал, он спросил:
— Ну и как идут делишки?
Человечек едва ли его узнал, к тому же он был очень утомлен, однако профессия приучила его быть любезным, и он весь обратился в словоохотливость:
— Идут, как не идти! Ведь Стефания у меня — чудо из чудес! Мы с ней исполняем номера мирового класса!
— Так уж и мирового? — поддразнил его Александров и с облегчением обнаружил, что наконец заговорил по-человечески. Два дня высокопарных мудрствований! Как все это надоело! Ведь он для того и уехал из Софии, чтоб оторваться от литературщины.
— Не мирового, а сверхмирового! — обиделся человечек. — Стефания все может. Ну-ка, Стефания, покажи свои способности и таланты, а то товарищ сомневается!
Писатель хотел его остановить, чтоб избавить обезьянку от новых усилий, но та уже поднялась, неохотно, правда…
— Сейчас она тебе покажет, как Панов забивает гол! — с воодушевлением воскликнул человечек. — Самый последний номер! Стефания его сегодня только разучила. Я ей сказал: нужно делать так и вот так, она все сразу поняла.
Он щелкнул пальцами. Обезьянка подпрыгнула, повернула голову направо, потом налево. Прыгнула она вяло, едва от земли оторвалась и тут же присела, шмыгая носом, как человек.
Хозяин был недоволен: ему не хотелось, чтоб она опростоволосилась. Он снова щелкнул пальцами, свирепо зашипел и, схватив гудулку, заиграл марш. Зверек, словно его хлыстом ударили, заметался, подпрыгивая все выше, словно бы стараясь сорвать с себя ошейник, но Александрову почему-то показалось, что обезьянка сейчас выступает с удовольствием. Не дождавшись конца номера, он нащупал в кармане пять левов, положил на тарелочку и пошел, не слушая восторженных благодарностей. Музыка тут же смолкла: видно, хозяин все же берег зверька.
Ну, довольно на сегодня. Пусть приютит его гостиничный номер, где ждет приятный вечерний ритуал: легкий теплый душ, чистка зубов, десять страниц книги, которая лежит в чемодане.
Александров поплелся по улочкам старого города к гостинице, стараясь не расплескать переполненную чашу этого дня без происшествий и тем более без событий, но, если говорить словами Константина Константинова, «как всегда, с каким-то открытием». Перед сном его несколько минут укачивал красивый мираж: собственная деликатность, которая уберегла Веру от лишнего разочарования, — он был рад, что не рассказал ей, чем кончилась та история. Аист снова научился летать, но когда вернулись его товарищи, он к ним не присоединился. Однажды его нашли мертвым: то ли его убили, то ли он сам разбился… Александров помнил только, что очень долго тогда плакал. Пожалуй, потом он ни разу так не плакал.
Перевод И. Сумароковой.
Йордан Радичков
МАЛЕНЬКИЙ ЛЫЖНИК
Мы увидели его по дороге к лесосеке. Зимняя дорога была протоптана лесорубами и их мулами, разъезжена санями. Опустившись на колени, он пытался с помощью перочинного ножика приладить оторвавшийся ремешок. Лыжи у него были самодельные, вытесанные из буковых досок. Дерево по краям досок было грубо снято рубанком, и нижняя сторона лыж получилась не ровной, а выпуклой. На таких лыжах бегали в те годы многие и в самом городке Берковица, и в окрестных деревнях. Деревни, малолюдные и бедные, жались одна к другой, да и было их совсем немного в нашей убогой околии — Берковицкой околии, как она называлась при тогдашнем административном делении Болгарии. И повсюду отцы вытесывали зимой своим ребятам самодельные лыжи из буковых или дубовых дощечек. Вместо креплений к лыжам приколачивались широкие полоски сыромятной свиной кожи. Кожа в снегу намокала, растягивалась, и надо было очень глубоко просовывать ногу под ремень, чтобы держаться на лыжах и как-то ими управлять.
На лыжах этих можно было развивать большую скорость. Внешне они выглядели тяжелыми и неуклюжими. Однако на ногах маленьких лыжников тяжелые и неуклюжие дощечки с полосками свиной кожи, прибитой к их середине ржавыми гвоздями, превращались в сказочные снегоходы. Если кто-нибудь увидит подобные лыжи в наше время, он просто не поверит, что это примитивное приспособление могло служить ребятишкам и что с его помощью они съезжали с обледенелых холмов за околицей или с заснеженных и крутых горных склонов. Правда, это была привилегия одних только мальчишек, только им удавалось приручить дикие самодельные лыжи и съезжать на них с такой крутизны, от которой у взрослых кружится голова и волосы встают дыбом. Лично я ни разу в жизни не видел, чтобы взрослый сумел спуститься на таких лыжах по ребячьей лыжне. Уже в верхней части горы взрослые кувырком летели в снег, а лыжи, увлекаемые собственной тяжестью, неслись дальше, поднимая снежную пыль, и на деревенской улице нередко можно было увидеть, как мчатся удравшие от хозяина лыжи… Как ребятам удавалось управляться с этими своими снегоходами, остается для меня тайной до сих пор. Какой-нибудь мальчишка, точно блоха, прилеплялся к двум деревянным плашкам, и не было силы, которая могла бы его от них оторвать. Если он падал — а это бывало нередко, — лыжи точно приклеенные держались на его царвулях и ждали, пока герой встанет и отряхнется от снега, чтобы снова катить его по снежному склону. Таким был и маленький лыжник, которого мы встретили по дороге на лесосеку. Мы вдвоем с Петефи Сумасшедшим волокли к лесосеке тяжелый пустой каик (так называют в нашем краю самодельные сани), чтобы нарубить и насобирать там хворосту и спустить на каике в город. Петефи был мой одноклассник. Сумасшедшим мы звали его только за глаза, потому что он очень любил декламировать «Сумасшедшего» Петефи, а в глаза мы звали его просто Петефи. Все одноклассники относились к нему с великим почтением, и причиной тому была не только его физическая сила, но и старинный револьвер с одним патроном в барабане, который всегда лежал у него во внутреннем кармане куртки. В те первые послевоенные годы это страшное оружие оказывало на нас гипнотическое воздействие. Декламируя стихи, Петефи иногда так воодушевлялся, что вытаскивал свой револьвер и размахивал им над головой, а мы сидели оцепенев. Когда же Петефи не декламировал, он становился добродушнейшим парнем, душа у него была нежная, деликатная, легко ранимая. Сейчас мы с ним шагали, обливаясь потом, измученные крутым подъемом, тяжелыми санями, которые мы волокли, и неудобными деревянными башмаками.
Увидав, в каком бедственном положении оказался маленький лыжник — ясно было, что перочинным ножиком тут не обойдешься, — мы попытались ему помочь. Вернее, оторвавшимся ремешком занялся Петефи. Отвязав от наших саней топор, он вытащил с его помощью ржавые гвозди, тем же топором выпрямил их и стал прибивать ремешок заново. Петефи был мастер на все руки, а с такого рода работой справлялся шутя. Приколачивая ремешок, он расспрашивал парнишку, в каком тот классе, знает ли таблицу умножения и куда держит путь на своих лыжах. Парнишка учился в третьем классе, таблицу умножения знал назубок, а ехал он посмотреть на чемпионов. Поверх фуражки он был повязан шарфом, чтобы на крутом спуске фуражку не сорвал ветер и чтобы не замерзли уши, потому что ветер в Берковицких горах такой свирепый, что может уши просто оторвать. Штаны и пиджачок на маленьком лыжнике были из домотканого сукна, серо-коричневого цвета. Пиджачок явно был ему великоват — в те годы так обычно для ребятни и шили. Всю одежду кроили навырост, чтобы дите росло себе свободно и чтоб одежка, в которой малыш пошел в первый класс, исправно служила ему, пока он не кончит четвертый. На ногах у нашего лыжника были царвули из свиной кожи; щетина, подстриженная ножницами только по краям, на подошве оставалась нетронутой, благодаря этому царвули дольше носились.
Что же касается чемпионов, он не знал толком, кто они такие, но слышал, что в наши горы приехали чемпионы страны по лыжам и что уже несколько дней для них готовят дорожку в самой красивой местности. «Трассу, дружок, трассу, а не дорожку», — поправил Петефи. Потом он спросил мальчика, не собирается ли тот тоже принять участие в соревнованиях. Мальчик засмеялся, шмыгнул носом и признался, что хочет только посмотреть, а участвовать в соревнованиях не будет. А еще он слышал, что у чемпионов все фабричное. «Точно», — подтвердил Петефи. Усевшись на каик, мы с Петефи закурили и сидели так, попыхивая дымком и для пущей важности сплевывая в снег. Если разобраться, так и положено вести себя юнцам, которые уже перешли в последний класс Берковицкой гимназии. Табак у нас — самосад, мы запасаемся им в деревне, а там его нелегально выращивают в кукурузе, подальше от чужих глаз. Мы курим и объясняем маленькому лыжнику, что у чемпионов действительно все фабричное, что ботинки у них высокие и негнущиеся, а на лыжах специальные крепления, которые так устроены, что, если упадешь, лыжи автоматически отстегиваются и отлетают на безопасное расстояние. Кроме того, у чемпионов специальные костюмы и очки, и шапочки у них специальные, а не какие-нибудь фуражки или кепки, подвязанные шарфами, и отталкиваются они не одной палкой, втыкая ее между лыжами, как он, а двумя легкими палками — в каждой руке по палке, чтобы опираться на них и брать повороты. Мальчик слушал и весь расплывался в улыбке, глаза у него засияли… Мы встали с саней, Петефи потрепал мальчишку по щеке. «Такие вот дела, дружок!» — сказал он ему, и мы расстались.
Мальчик просунул свои свиные царвули под ремешки и, отталкиваясь палкой, покатил между буками в ту сторону, где, по слухам, должны были соревноваться чемпионы. Очень скоро мы потеряли его из виду.
Мы с Петефи потащили свой каик дальше к лесосеке. Идти было трудно, деревянные башмаки ужасно скользили. Производство таких башмаков было налажено во время войны, подметки их делались из букового дерева, а верх будто бы из кожи бизона, — насчет бизона, я думаю, это была чья-то шутка. Буковые подметки не гнулись, при сухой погоде башмаки грохотали по мраморным плитам городских тротуаров, а на снегу разъезжались, и походка у человека в таких башмаках становилась как у утки. А куда денешься, другой обуви в те времена почти не было, лишь изредка выдавали резиновые царвули. Кроме буковых башмаков, по селам распределяли еще маслины, отрезы бязи или другой материи.
Что делать, мой милый читатель, в то трудное карточное время мы держались не только тем, что досталось по распределению, а перебивались, как могли, и надежда, что как-нибудь да справимся мы с этой жизнью, нас не оставляла. При этом бедность ничуть не мешала нам жить вдохновенно. Именно вдохновение и мороз толкали нас с Петефи, когда мы тащили к лесосеке тяжелый каик, и не было такой силы, которая заставила бы нас сойти с пути — то есть с протоптанного мулами и лесорубами, разъезженного санями зимника. Лесосека была государственная, государство срубило то, что ему было нужно, но на склоне оставались кучи прекрасного хвороста. Этим хворостом берковицкая беднота и обогревалась, спуская его кто на собственном горбу, кто на муле, кто на санях. Издали казалось, что на лесосеке полно сушняка, но добравшись до нее, мы увидели, что она здорово обобрана, и нам пришлось обшарить ее всю, пока мы набрали достаточно хворосту. Обрубив ветки, мы нагрузили каик и крепко привязали свою добычу, потому что знали: дорога впереди крутая, вся в рытвинах, с неожиданными поворотами, которые подстерегают за стволами буков, словно кто-то нарочно расставил западни, чтобы перевернуть нагруженные сани и разметать по снежным скатам весь наш труд. У каика было две оглобли, так что мы могли вдвоем и тащить его, и, наоборот, притормаживать. Вообще-то нам предстояло больше притормаживать, потому что почти вся дорога до городка шла под уклон. В трех или четырех местах спуски были особенно крутые, но мы надеялись, что нам удастся, упираясь в снег пятками наших деревянных башмаков, придерживать тяжело нагруженные сани.
Осмотрев еще раз свою работу, мы решили, что все в порядке. Поклажа была аккуратно уложена, крепко затянута, сверху поблескивал привязанный к хворосту хозяйский топор. Под ногами у нас лежал укутанный снегом городок и укутанная снегом гимназия, которая вот уже столько времени пыталась нас обтесать. По нам, думаю, видно, что работала она грубым теслом. Снег укутал и лесную школу для детей с замедленным развитием — несколько домиков на окраине, — и расположенное недалеко от них одинокое здание студенческой турбазы. Турбаза дымила всеми своими трубами — в ней разместили участников лыжных соревнований. Мы с Петефи тут же вспомнили нашего маленького лыжника: сумел ли он добраться до чемпионов и поглазеть на них или ремешки порвались у него еще раз, пока он пробирался буковым лесом? Когда мы выходили из городка, группа ребятишек из лесной школы попросила покатать их на каике — дорога там идет под гору, и мы их покатали, однако с условием, что на обратном пути они помогут нам толкать каик в гору. С лесосеки было видно, что ребятишки стоят на дороге и ждут — не забыли, значит, про уговор.
Пока мы волокли нагруженный каик с лесосеки на зимник, вконец запарились. Под снегом прятались пни, полозья на каждом шагу задевали за них, приходилось оттаскивать каик в сторону, объезжать, даже возвращаться назад, но потихоньку-полегоньку мы все-таки выбрались на проторенную в снегу дорогу. Зимний день короток; солнце исчезло за буками, снег стал синеватым. Далеко за деревьями мы слышали голоса — там была трасса соревнований. Наша дорога шла по склону дугой и пересекала трассу почти в самом ее конце. До этого места было еще далеко, и мы старались поосторожнее управляться с каиком, чтобы не упустить его на склоне.
Вначале все шло хорошо, нагруженный каик послушно следовал за нами. Тащить его не приходилось, он сам легко скользил на своих длинных полозьях по мягкому склону. Нам пришло в голову, что можно меняться: один будет придерживать оглобли и направлять сани, а другой в это время прокатится, только не забираясь на дрова, а стоя на одном полозе, чтобы в случае чего тут же соскочить и броситься на подмогу товарищу.
Так мы и сделали.
Некоторое время мы сменяли друг друга: то я направлял каик, а Петефи ехал на полозе, то он перехватывал оглобли, а я становился на полоз. Постепенно и едва заметно наклон делался все круче, я чувствовал, что уже с трудом торможу своими деревянными башмаками, удерживая груз за спиной, в ушах свистел ветер и доносились отрывки стихов — Петефи, стоя на полозе, свивал бичи и плети для глупцов всего земного шара. Каик, ускоряя ход, брал поворот за поворотом и вдруг перестал мне подчиняться, оглобли вырвались из рук, я успел только увидеть, как мимо меня промчался стоящий на полозе Петефи, и в следующее мгновение декламатор и сани со всего маху врезались в бук. Топор взлетел с таким страшным свистом, словно жаждал кого-то зарубить, и вонзился в снег. Петефи отряхнулся, сказал: «Кто там кукует на длинном суку?» — и мы принялись поднимать опрокинувшийся каик, заново укладывать хворост и привязывать поверх него топор. Топор мы привязывали с особым старанием, потому что при следующей такой аварии он мог кого-нибудь поранить.
Двинулись дальше.
Теперь уже никто больше не катился на полозе, мы оба шли впереди, крепко ухватившись за оглобли. Горный склон делался все круче, будто хотел сбросить нас прямо в городок. Повороты немного смягчали крутизну, но груз за нашей спиной давил все сильнее, и мы, чтоб его удержать, зарывались башмаками в снег. Таким образом мы гасили скорость, но остановиться уже не смогли бы.
И вот как раз в это время, когда нам приходилось так туго, мы увидели среди буков нашего маленького лыжника.
Он летел как стрела на своих самодельных снегоходах, коричневый пиджачок развевался за его спиной. Мальчик мчался, низко пригнувшись, держа меж ног деревянную палку. С помощью этой палки он, когда надо, сдерживал скорость, она же служила ему рулем, а на относительно ровных местах ускоряла его ход: он втыкал ее в снег и отталкивался. «Пацан, эй, пацан!» — закричал Петефи. Мальчик обернулся лишь на миг, махнул нам рукой и стремительно пронесся дальше вниз, лавируя между буками. Лыж его не было видно — только развевающийся пиджачок и палка, словно он летел, сидя на ней верхом. Все остальное было окутано снежной пылью, и наш маленький лыжник напоминал испуганного зайчонка, который катится кубарем с горы.
Как удавалось ему маневрировать между буками, как он исхитрялся не врезаться в стволы, уж и не знаю!
Мгновением позже с той стороны, откуда появился мальчик, послышался гул голосов. По следам мальчика неслась, растянувшись цепочкой, свора чемпионов. Они кричали маленькому лыжнику, чтоб он остановился, подождал их, они грозили ему, давали друг другу советы, где и как перерезать мальчишке дорогу. Мы не знали, почему чемпионы гонятся за мальчиком. Они мчались, элегантно изгибаясь между буками, словно выполняя групповые упражнения по слалому. Все у них было яркое, красивое, они размахивали легкими палками, а некоторые, низко пригнувшись, сжимали палки под мышками. Длиннющие их лыжи с загнутыми носами свистели по снегу, как змеи. За чемпионами неслась туча снега, а в туче видны были другие лыжники, тоже чемпионы, и они тоже что-то кричали — не то мальчишке, не то друг другу. Снежная туча, вероятно, мешала им видеть дорогу, и я каждую секунду ждал, что кто-нибудь из них сорвется со склона и повиснет на ветвях ближайшего бука. Но ни один из чемпионов не налетел на дерево и ни один не повис на ветвях. Элегантная свора продолжала с криками мчаться вдогонку нашему маленькому лыжнику, и мы с радостью заметили, что разрыв между ним и чемпионами постепенно увеличивается.
Однако же заметили мы и то, что склон становится все круче и наши сани, увлекаемые инерцией и собственной тяжестью, уже не замедляют ход, когда мы взрываем снег своими буковыми башмаками, а грубо толкают нас вниз или отбрасывают в сторону на поворотах, все более свирепо взвизгивая полозьями. Уже невозможно было ни бежать, ни остановиться. Переглянувшись с Петефи, мы еще крепче ухватились каждый за свою оглоблю и тут же прорезали снежную тучу, оставленную чемпионами. Преследуя мальчика, они пересекли наш зимник. Уже словно бы во сне видели мы, как они мельтешат в летящей снеговой туче и изо всех сил кричат что-то мальчишке. От скорости на глазах у меня выступили слезы. Каик уже сам несся по дороге, мы даже и не пытались направлять его ход, а летели вместе с ним по глубоким колеям. Спустя много лет мне довелось наблюдать состязания по бобслею, и только тогда я понял, что наш спуск был словно спуск на бобслее.
На одном из поворотов каик выбросило с дороги, и мы понеслись среди буков, а впереди, в снежном вихре, мелькали чемпионы. Петефи кричал им, чтоб они расступились, они тоже что-то кричали, и никто не знал, что все мы мчимся к глубокому и узкому логу, подстерегавшему нас в конце пути. Не думаю, чтоб мальчишка нарочно заманивал своих преследователей в западню, наверное, он просто надеялся от них ускользнуть. Мы уже слышали, как чемпионы один за другим врезаются в лог, в воздух летели лыжи и палки, все громче становились вскрики и проклятья, а вдобавок ко всему еще и мы летели в туче снега на своем каике, подобно Тунгусскому метеориту.
Ужас! Я думал, что никому уже не выбраться живым из этой переделки, и нам тоже не выбраться, потому что Тунгусский метеорит раздавит нас в мгновение ока.
Как и во что мы ударились, не помню. Когда я пришел в себя, снежная туча еще колыхалась и вилась над логом, а чемпионы, выбираясь из снега, окликали друг друга. Я ничего себе не повредил, только вывалялся в снегу и немного ушибся. Наш каик, пролетев зигзагами, по логу, выехал на зимник и теперь смирно стоял там, окруженный детьми с замедленным развитием из лесной школы.
Маленький лыжник бесследно исчез. Он свернул по-над логом, выехал на зимник, туда, где стояли дети с замедленным развитием, но когда позднее чемпионы стали их расспрашивать, куда же он делся, те ничего не могли сказать.
Что значила эта погоня, зачем чемпионы так яростно преследовали нашего маленького лыжника, точно стая волков — косулю или испуганного зайчишку? Выяснилось, что, когда лыжники отправились опробовать трассу, они заметили, что следом за ними спускается мальчишка на двух буковых дощечках, с палкой между ног. Как ни пытались лыжники от него оторваться, у них ничего не получалось, мальчишка тут же их настигал. Это здорово задело чемпионов. Они решили пропустить мальчика вперед, а потом догнать его и окружить. Хотя он держался как маленький дикарь и всячески сторонился лыжников, но в конце концов попался на их уловку. И вот, растянувшись в цепочку, они ринулись за ним, стараясь его поймать, потому что и они, и тренеры были страшно заинтригованы. Старались они изо всех сил, но мальчишка, увидев, что его преследуют, начал постепенно увеличивать разрыв между собой и чемпионами, увлекая их в сторону от трассы, туда, где надо было лавировать между буками. Чемпионы окликали его, просили подождать и в конце концов совершенно потеряли из виду. Теперь они собирали разбросанные по снегу лыжи и палки и говорили о мальчишке как о каком-то мираже, на их лицах можно было прочесть растерянность и бескрайнее сожаление о том, что такой исключительный талант ускользнул прямо из рук. С помощью двух грубых дощечек и корявой палки наш маленький лыжник обставил всех чемпионов. И чтобы читатель понял, какими же дикарями были мы в те годы — впрочем, вероятно, мы и теперь такие, — добавлю: когда нам рассказали все это, Петефи пришел в такой восторг, что вытащил свой револьвер, вскинул его над головой и нажал на спуск.
Страшный гром произвел тот единственный патрон, что был в барабане, половина чемпионов утонула в пороховом дыму, а дети из лесной школы все как один просияли и принялись изо всех сил толкать к городку наши тяжело нагруженные сани. Тогда я сказал Петефи, что он действительно сумасшедший, коли стал стрелять в толпе чемпионов, и признался ему, что мы только в глаза зовем его Петефи, а за глаза — Петефи Сумасшедший…
С тех пор прошло тридцать лет, но о маленьком лыжнике ни я, ни кто-либо другой ничего больше не слышали. Каких только усилий ни предпринимали тогда лыжники и тренеры, чтобы разыскать его, все оказалось напрасным. Мальчишка как сквозь землю провалился!.. Порой я с гордостью и волнением думаю о тех годах. Вспоминаю мальчишку, пригнувшегося над палкой, его пиджачок, развевающийся среди буков, свору чемпионов, элегантно лавирующих среди деревьев, наш каик, мчащийся, словно Тунгусский метеорит, выстрел из старинного револьвера и сияющих и в то же время грустных детей из лесной школы для детей с замедленным развитием, облепивших наши сани. Они помогали нам как только могли, каик двигался позади нас толчками, и полозья его протяжно скрипели… И еще я вспоминаю, как вечером мы с Петефи нарубили свежих буковых дров, затопили печку и буковые дрова весь вечер пищали, вздыхали, шипели и плакали настоящими слезами. При этих воспоминаниях в душу мне скатывается слеза, и больше всего я жалею о пропавшем маленьком лыжнике. Никому так и не удалось узнать, из городка ли он был или из какой-то убогой деревеньки старой Берковицкой околии.
Сколько еще таких маленьких лыжников исчезает безвозвратно! Самые быстрые, самые сообразительные, они вырываются из нашей среды и нас обгоняют. Но зачем, спрашиваю я себя, зачем они появляются и пересекают наш путь, если сразу теряются и пропадают бесследно?
Перевод Н. Глен.
Любен Петков
БЕССОННИЦА
В деле, которое я просматривал, было что-то не совсем для меня ясное. Нужно было вооружиться хладнокровием, отвлечься от некоторых чисто внешних деталей. Легко сказать! Похоже, ни в чем я сейчас не нуждался так остро, как в хладнокровии и терпении. Попробовать разве позвонить юристу Н.? Нет дома. Я еще раз перечитал стенограмму, перебрал в уме все обстоятельства. Бессилие душило меня. Ни следа когда-то столь свойственной мне ясности мысли. В конце концов, что тут сложного? Придерживайся закона, учитывай мнение начальства — за восемь-то лет такие дела пора бы распутывать с закрытыми глазами.
Я принял таблетку прениламина. Только что минула полночь. В этот час в форточку обычно заглядывает зеленая звезда. И меня охватывает страх. Непонятный, словно сползающий с мглистого неба, со стен. Скорчившись, я замираю, чтоб, не дай бог, не нарушить тишину, не разбудить кого-нибудь. За стеной раздаются странные глухие звуки; может, я все-таки задремал?..
В городок Б. я приехал по распределению. И ничуть не жалел, что не устроился в каком-нибудь другом городе, побольше. Потому что я люблю море? Не знаю, не могу сказать точно. Юридическую свою деятельность я начал с большим воодушевлением. Желтое здание суда высилось на берегу, на самом солнцепеке — передо мной расстилалась синева, которую с утра до ночи вытягивали на берег рыбаки.
— Рад вас поздравить, коллега, — говорил прокурор после первых выигранных мною дел.
Я принимал это как должное. Прокурора я раскусил довольно быстро: обычный педант. Ну и пусть. Я даже жалел его, видя, как он мучится от своих мигреней. Мне было хорошо среди этих людей, этих домов, нависающих один над другим. В первое же мое утро в суде сослуживцы заставили рассыльного рассказать историю с чайкой — «цайкой», как выговаривал тот на своем болгарско-греческом. Учительница велела его сынишке назвать какое-нибудь домашнее животное, а дурачок возьми да и брякни: «цайка». Я вместе со всеми покатывался со смеху. Даже прокурор разжал свой железный рот и тоже хмыкнул. Позднее я познакомился с самой учительницей и снова услышал про «цайку». В городок Б. учительницу занесло из Берковицы — с другого конца Болгарии. Красивая, черноволосая, она слегка подводила глаза зеленым, трепещущие ресницы делали их похожими на крылья бабочки. Прокурор, сжимая виски, не раз говорил, что ему хочется приколоть их к стене булавкой. Я сводил учительницу в здешний ресторан, в «Пещеру», познакомил с компанией доктора Рашкова. Весь вечер пели греческие песни. Эти люди нравились мне своей прямотой и еще чем-то, что трудно определить одним словом, — может быть, еле заметной застенчивостью. Не знаю.
На третий год в городок Б. на стажировку в районную прокуратуру приехала Елена Няголова, и в то же лето моя холостяцкая карьера потерпела крах. Защитив диплом, Елена вернулась в городок Б., но уже в качестве моей супруги. В том же году у нас родилась дочка. Мы были не в состоянии ни о чем думать: любовь делала нас слепыми к будничным заботам, разъедающим жизнь, словно ржавчина. И нам было так хорошо вместе, что не успели мы оглянуться, как завели еще одну дочку. До сих пор не могу понять, как при моей занятости Елене удавалось одной справляться со всеми делами, заботиться о детях, обо мне. И ни жалобы, ни упрека — удивительно!
Не могу заснуть, и все тут. Диктор «Би-би-си» комментирует сообщение об открытии урана в Австралии: его чрезвычайно волнует положение аборигенов — они же окончательно вымрут, когда начнутся разработки. Волнуют его и баснословные прибыли, которые сулит эта находка. Откуда-то сбоку доносится истерический возглас о том, что яростный уран, которым так бесконтрольно распоряжается современный мир, вскорости погубит нас всех. И упоминание о стране, купившей в Канаде уран якобы для атомного реактора, а на деле использовавшей его для изготовления ядерного оружия. Сенк ю, говорю я словоохотливому англичанину, мне и без вас известно, что мир сошел с ума. Сна по-прежнему ни в одном глазу. Зеленая звезда ведет меня по безбрежному небу, но чем глубже я погружаюсь в его беспредельную синеву, тем острей и непреодолимей становится мой страх. Словно преступнику с нечистой совестью, грозит он мне оскорблением, подлым ударом в спину, ледяными своими руками.
Я уже совсем было решил убраться отсюда куда-нибудь подальше. Одному? Ну нет, одного меня теперь никуда не заманишь. Только с семьей. Елена и слышать об этом не хочет? Ничего, уговорю. Признаюсь, что мне тут плохо, да и зарплата маловата для семейного специалиста с восьмилетним стажем. Неужто приятели, занимающие ответственные посты в Верховном суде, не подыщут для меня местечка? Может быть, уеду, избавлюсь от своего страха. А что? Не больной же я, в самом деле. Вот только бессонница замучила. Покажись врачу, каждое утро пристает ко мне Елена. Но зачем мне какой-то врач, когда я и так пусть не каждый день, но уж наверняка через день встречаюсь с доктором Рашковым, главным психиатром неврологического диспансера. Если кто и может мне помочь, так именно он. Пожаловался я ему на свои страхи, бессонницу, а Рашков наплел мне семь верст до небес — стань сам себе врачом, говорит. Сидим хлещем водку, а он: поменьше употребляй опиатов и даже кофе и кока-колу пей как можно реже. В общем, решил я никуда не уезжать. Побродяжничаю немного, и все тут. От одной лишь мысли об этом у меня перехватывало дыхание.
Несколько лет назад я ездил довольно много. Однажды не был дома целых три месяца. Увлекся неким милым созданием. Почему? Может, беременность Елены и перемены, происшедшие в наших интимных отношениях, толкнули меня на это приключение. Я был счастлив, но что-то слишком раздражителен. Когда мы расставались, мне показалось, что девушка страдает. Я же просто не мог придумать, что ей сказать, а выйдя из гостиницы, почувствовал явное облегчение. По крайней мере сначала. Тут же позвонил домой, предупредил о приезде. Дочки что-то мурлыкали в трубку, звали обратно к семейному очагу. Разум мой бунтовал, не желая признать, как глубоко проникла в меня эта тихая и ласковая девушка. Еще вчера совершенно неведомая, незнакомая, она стояла у меня на пути, путала все мои планы. В игре, которую я себе позволил, с самого начала не было ни легкости, ни веселья. В городок Б. я привез кучу подарков и преувеличенно радостные возгласы. Не знаю, заметила ли Елена, но вернулся я не один. Непонятная тяжесть давила сердце. Елена, похоже, решила, что я страшно устал с дороги, и тут же усадила меня обедать. Дом был полон жизни. Я смотрел и не верил своим глазам. Эти белокурые созданья — мои дочки. Рядом с ними самая красивая на свете женщина, моя жена. Стулья, стол, картина на стене, стиральная машина — неужели все это действительно мое? Странно. А эти окна, дверь, причудливая сухая ветка на стене — тоже мои? Нет, не может быть. Все это принадлежит не мне, а моей семье. Елене и детям. А я гость. Приехавший издалека гость, забегающий сюда пообедать, выпить чашку чаю и снова уехать.
Потом я пошел на службу и вернулся лишь вечером. Замороченная домашними заботами, Елена словно бы не замечала, что со мной происходит. Та, далекая, почти незнакомая, преследовала меня, не давала свободно дышать. Даже на работе. Меня все больше раздражала отвратительная манера прокурора сопеть и сжимать виски. Каждую минуту я готов был взорваться и наорать на него, потребовать, чтоб убрал он наконец свой дурацкий складной ножик, которым целыми днями чистил яблоки и ногти. Особенно невыносим становился он в компании с шефом Стоилом, когда оба начинали сыпать своими дурацкими остротами. В такие дни я искал спасения на том единственном островке, где меня ждали. А душа была как в тисках. Напрасно, запершись у себя в комнате, я работал как одержимый. Наказывал сам себя. Ту, другую, гнал прочь, оскорблял. Пока в один прекрасный день вдруг снова не сорвался с места. Очутившись в знакомом городе, я почувствовал, что не в силах справиться с желанием ее увидеть. Нам было необходимо сказать друг другу так много хорошего.
Но потом в городе Б. мне стало еще хуже.
Я поклялся никогда больше с ней не видеться. Иначе мне с этим не справиться. Было в ней что-то властное, влекущее. А Елена по-прежнему любила нас и не жалела себя. Я все чаще стал сидеть дома, хватался то за одно, то за другое — старался помочь, хотя на самом деле больше мешал. Вот старшая дочка — та действительно уже помогала матери. В общем, веселая получилась компания. Елена снова пошла работать, но заботы о семье по-прежнему лежали на ее плечах, как и раньше, когда она была занята только детьми и домом. Я восхищался ею. Если б не материнская любовь, думал я, никакая женщина не выдержала бы этого непосильного труда. Вытащить меня из дома стало почти невозможно. Я был невыразимо благодарен Елене за все, чем она меня одаривает, а тот проклятый чертенок никак не хотел оставить меня в покое. Я брал на себя домашние дела, помогал Елене, видя, что всей душой она обращена к нам… До чего же глупо и непрочно все устроено! И этот мой страх, от которого я никак не могу избавиться.
Может быть, я лунатик? Надо отметить в календаре ночи, когда я не сплю. Возможно, они и вправду совпадают с полнолунием.
Я отдернул занавеску. Белая ночь скользила по сонным гребням гор, высветив каменную церковь святого Николы на центральной площади. За холмом Меловой Круг дышали химические заводы, над ними красным платком бился на ветру огненный факел.
Луна — круглый, пристальный глаз. Я сделал пометку в календаре и тут же вспомнил, что вот уже месяц не смыкаю глаз. До чего все бессмысленно!
— Что бессмысленно? — раздался голос Елены.
Я оглянулся. В комнате никого не было.
— Ты зачем мне врешь, что работаешь?
— Только что кончил. Интересное дело.
— Но почему ты не спишь?
— Пришлось покопаться в одной старой истории…
— Почему ты не спишь, я спрашиваю?
— Сейчас лягу. И оставь, пожалуйста, меня в покое! — Не было у меня сил оставаться хорошим. Я чувствовал себя усталым, расстроенным. Да этак недолго и по-настоящему сойти с ума. Свихнусь, и все. Страх вылез из-под кожи, пополз, закачался на стене. Я с трудом поднялся в постели, замахнулся, хотел прогнать, уничтожить, но он по-прежнему был рядом — ни человек, ни тень. Что со мной? Пот крупными каплями стекал со лба. Нет, нет! Я готов был кричать, словно истеричная девица…
— Ты звал?
— Нет! — ответил я почему-то грубо. Я был отвратителен.
Елена нерешительно потопталась у кровати, поняла, что мне плохо, вышла и вскоре вернулась с чашкой и какой-то таблеткой.
— Что это? — Я недоверчиво взял чашку.
— Лимонный сок. — Елена ничем не выдала обиды.
— Не хочу. Дай холодной воды. Больше ничего.
— Сейчас. — В полной растерянности Елена направилась к окну.
— Там окно, а не дверь. — Голос мой звучал сухо и отрывисто.
В первое же воскресенье вместе с шефом Стоилом и городским начальством я отправился на охоту. Эта моя первая попытка оказалась вполне безуспешной, но вернулся я, чуть не падая от усталости. Выкупался и крепко уснул рядом с моими драгоценными созданьями. Проснулся я рано, сварил себе черного кофе. Елена почувствовала, что я встал, и тоже вышла на кухню.
— Тебе плохо?
— Нет, — ответил я.
— Ты никогда не вставал так рано.
— Я никогда так рано и не ложился.
Я сварил кофе и для Елены. Впервые с тех пор, как у нас появились дети, она позволила мне за ней поухаживать. И вдруг засмеялась. Но как! Словно нить, то и дело рвущаяся от усталости и нервного напряжения. Присмотревшись, я заметил в ее волосах благородные проблески, которые свидетельствуют о вступлении в другую полосу жизни. Что-то больно толкнуло меня изнутри. Целый день я чувствовал у себя за спиной что-то неуловимое. Потом мне пришло в голову, что если я останусь один, то пойму, что со мной происходит. А вечером вдруг позвонил в тот город. Ее не было. Тем лучше. Что я мог ей сказать? Звонил я туда редко и потом каждый раз об этом жалел. И после каждой встречи тоже — просто голова раскалывалась. Я-то думал, что кое-что о ней знаю, а выходило, что и там я был не с ней, а опять-таки сам с собой. Девушка была очень мила, терпеливо сносила мои капризы, а я никак не мог освободиться от сжимавших меня тисков, расслабиться, отдохнуть, наконец. До чего же я устал! Собственно, мое стремление переехать в другое место, в другой город, к другим людям, скорей всего, и возникло из постоянного, неотступного желания отдохнуть. Но где оно, то место, которое снимет с меня эту усталость? Глупости! Просто нужно быть внимательней и снисходительней к людям. И к черт ту себялюбие… Нет, так ничего не выйдет. Надо найти доктора Рашкова, рассказать ему обо всем. Прокурор купил себе эспандер и трехкилограммовые гири. Пусть хоть самолет купит! Все равно он стал бледнее и все чаще сжимает в ладонях голову. Верно, и облысел от этого. Я не жалел его. Его точность и аккуратность мне давно уже до смерти надоели. В конце концов, главным для него всегда было мнение начальства. И эти его жалобы на бессонницу, на мигрень! С утра до вечера готов занимать всех своими болячками. По-моему, я его и раньше ненавидел. Меня тошнило от его железных зубов, от строгого темного костюма, который он ни разу не сменил за те восемь лет, что я его знаю. Однажды я не выдержал и резко выступил против него по поводу двух, в общем-то пустяковых, дел. Осмелился. Прокурор потребовал максимального наказания для двух мальчишек, напугавших какую-то старуху. Прокурор заявил особое мнение, а потом долго и назидательно вещал о современном комсомольце. На что один из мальчишек ответил, что он еще не комсомолец, а только пионер. Прокурор разозлился, закусил железными зубами рот и потребовал самого строгого наказания. «Преступники» только хлопали глазами, слушая его громовую речь, но вряд ли что-нибудь понимали. В тот же вечер произошло еще одно отвратительное событие. Отец одного из подсудимых зверски избил свою жену. На моих глазах. Женщина даже не защищалась. Увидев, что она вот-вот потеряет сознание, я не выдержал и кинулся к ним. Негодяй было двинулся на меня, но испугался моего взгляда. Подойди он чуть ближе, я бы не удержался и пустил бы в ход кулаки. Разумеется, я никому не сказал об этом ни слова, но нашлись доброхоты, сообщившие все прокурору. Мы поссорились. Он хотел возбудить против драчуна дело, главным образом за то, что тот посмел угрожать представителю правосудия. Мне же ничуть не улыбалось оказаться в центре внимания всего городка. К тому же я и сам чувствовал себя виноватым. Ни в коей мере не оправдывая отца мальчишки, я пытался поставить себя на его место и даже отчасти жалел его, неотступно думая о том, что терзает его душу. Отказавшись дать ход делу, я спас его от суда, после которого он вряд ли стал бы лучше. Самое малое, что ему грозило, — это принудительные работы. Срок? Да не такой уж маленький, особенно если бы мы все выступили против него.
За все эти восемь лет я не мог припомнить такой теплой осени. Море тихонько ложилось на берег, осыпаемый золотыми монетами липовых листьев. Пушистые, совсем не осенние облака плыли по синему небу, тоже больше похожему на весеннее. Меж них проносились стаи диких голубей. Охотники знали, где они останавливаются на отдых, и по вечерам после работы тайком охотились на них. Я шел по берегу, совершенно ни о чем не думая. И вдруг почувствовал себя властелином всего этого простора. Душа моя впивала синеву, я почти летел, свободный и легкий. День уходил, как и другие божьи деньки, унося напряжение и одаряя надеждой, что завтра будет еще лучше. Когда мужчине за тридцать, ему часто кажется, что он вот-вот достигнет страны своих мечтаний; даже если твердо знает, что ничего такого нет и быть не может.
Солнце спускалось за холм Меловой Круг. Я шел без единой мысли в голове. Дойдя до виноградников, я вдруг почувствовал озноб и повернул назад. Какой-то пегий пес ринулся за мной, в клочья раздирая вечернюю тишь, изрыгая проклятья. Почему он так разъярился? Что тут такого, уговаривал я себя, нормальная собака, потому и лает, а сам то и дело подленько оглядывался — не укусит ли. Пес бежал за мной, пока я не выбрался из виноградников. Лай его еще долго звенел в воздухе, заставляя меня вздрагивать. Я решил не встречаться с доктором Рашковым. Хотелось домой.
Елена готовила ужин. Дети так расшумелись, что ни о каком разговоре нечего было и думать. Я повалил их на ковер, устроил «кучу малу». Елена стояла рядом и внимательно смотрела на меня. Ждала, что я заговорю? О чем? Последнее время — в тот вечер, правда, этого не было — я не раз замечал в ее улыбке что-то умоляющее, верно, хотела, чтоб я признался во всех своих грехах или вновь повторил те слова, которые нельзя, невозможно повторять. А может, что-то узнала? Что-то плохое? Хорошее долго скрывать невозможно. Или я ошибаюсь? Улыбка моя становилась все более глупой. Я успокоил детей, встал, вымыл руки, с аппетитом съел все, что она поставила на стол. И совсем не чувствовал себя дома, стремился неведомо куда. Разговор не клеился.
— Я хочу уйти из суда, — сказал я.
— Как уйти? — поразилась Елена. Я и сам был поражен своим заявлением.
— Не хочу работать с прокурором, этим шаманом. Терпеть его не могу!
— Но почему так вдруг? — недоумевала Елена. Не ждала она от меня таких скоропалительных решений.
— Не хочу его больше видеть!
— Между вами что-нибудь произошло? Ты теперь все больше молчишь, ни о чем мне не рассказываешь. И вообще непонятно, дома ты или еще где.
— Что? — Я подавился, глаза налились слезами, уши заложило.
— Выпей воды. — Елена похлопала меня по спине.
— Вовсе я не молчу. Не молчу… — простонал я. — Оставь меня в покое.
— Как хочешь. — Елена поднялась и пошла укладывать детей.
Я остался один. И вдруг почувствовал, какая стоит в комнате духота. Я распахнул окно. Никакого облегчения. Вышел на балкон, но и там не мог найти себе места.
— Елена! — позвал я. Раньше она так от меня не уходила. Неужели и нас не минуют отвратительные семейные мелодрамы?
Она прибежала испуганная. Попросила не говорить громко — дети спят. Но я вообще ничего не говорил, ведь она же сама только что упрекала меня за молчание!
Тяжелая была ночь. Луна освещала стены; по ним ползали морские чудища, насекомые, как степные табуны топотали стаи мышей.
Утром, собираясь в школу, старшая дочка что-то уж слишком вертелась возле меня. Явно хотела что-то сказать. Я поднял голову от бумаг. Девочка смотрела на меня пристальным взглядом. Неужели она тоже осуждает меня? За что? Догадывается? Но откуда ребенок может об этом знать? Неужели Елена делится своими горестями с приятельницами и дети кое-что невольно услышали? Стыд, страх, ожидание неминуемой кары охватили меня. День начинался плохо.
— Что тебе, малышка? — наконец не выдержал я.
— Это правда, папа, что Левский хотел, после того как мы освободимся, пойти освобождать другие народы?
— С чего это ты взяла? — Я даже вздрогнул от неожиданности.
— Нет, ты скажи — это правда или нет? — Девочка по-прежнему не сводила с меня испытующего взгляда.
— Зачем ему… мы… — Я окончательно запутался.
— Значит, неправда!
— Правда, но в те времена…
— Ой, папа, ты только скажи, да или нет!
— Да! — сказал я и замер в ожидании приговора.
— Гошко тоже пойдет освобождать другие народы, как Левский.
Хлопнула дверью и умчалась.
— Веди себя хорошо! — крикнул я вслед.
С лестницы донесся смех моей маленькой умницы.
Смех ребенка и холодный душ освежили меня. Пора было идти на работу. Но сначала я позвонил юристу Н. и сказал, что подыскиваю себе другое место. Договорились встретиться в кафе «Кристалл».
После обеда я съездил в окружной центр и к ночи был уже в Софии. Беготня по знакомым заняла у меня все воскресенье. Труды мои не пропали даром. В понедельник я уже звонил Елене, чтоб сообщить о новом своем назначении. Однако Елена вдруг категорически отказалась переезжать в окружной центр. Напрасно я говорил о квартире, о более высокой зарплате, о должности, обеспеченной ей в городской прокуратуре. Елена плакала, умоляла не срывать ее с обжитого места. Я просто не знал, что сказать. Все стремятся устроиться поближе к центру, одна моя Елена и слышать об этом не хочет. Конечно, она родом из Странджи, да и школьные ее годы прошли в городке Б., но что из того? Сколько ее земляков с радостью бросают все и уезжают из родных мест! Но почему, почему? — недоумевал я. В ответ Елена только стонала в трубку, да так, словно я покушался по крайней мере на ее жизнь. Нет! Нет! — всхлипывала она, и мне стало ясно, что по телефону я ничего не выясню. На свой страх и риск я все же оформил перевод, но, когда вернулся, Елена встретила меня с тем же отчаянием. Вот уж не думал, что у моей жены столько упорства. Она готова была на развод, только бы не уезжать в окружной центр. Якобы из-за детей. Можно подумать, что там нет ни школ, ни детских садов.
Само собой, без помощи друзей из моей затеи ничего бы не вышло. Как я им теперь объясню свой отказ? Не говоря уж о том, что я больше никогда ни за чем не смогу к ним обратиться. А это значит, что я, по существу, навсегда отказывался от всякой возможности роста, хоронил себя в глухой провинции. Хватит ли у меня сил все это выдержать? Я был просто в ярости. Мелькнула даже мысль все бросить и начать сначала. Новая жена, маленькие дети. Все сначала… Но зачем? Мне так хорошо с моими. Я знал, что ни с кем и никогда мне не будет лучше.
Через несколько дней я со скоростной почтой отправил в Софию свой отказ. Без всяких объяснений. Разыграл в суде небольшой скандальчик и ушел оттуда. Найти другую работу оказалось вовсе не трудно. Вскоре я уже был юрисконсультом на самом крупном предприятии городка Б. Стал больше зарабатывать, купил машину. Пользовался уважением и не отказывался от выпадавших на мою долю благ. Постепенно я выбрался из опутавших меня за восемь лет сетей и начал запутываться в новые. Перемены благотворно отразились и на моем сне. Не было никакой луны, и вечерами по стенам уже не ползали морские чудовища и насекомые. Я был бодр и как никогда работоспособен. По воскресеньям мы вместе с детьми отправлялись в далекие прогулки — мимо виноградников до самого монастыря. Я уже ловил себя на том, что думаю о здоровье, о диете. Жизнь шла своим чередом. Елену хвалили в суде, девочек — в школе. Постепенно я забыл обо всем, что когда-то так меня мучило. Кошмар кончился: я словно бы впервые увидел окружавших меня людей, чувствовал, что быстро мужаю. Елена слегка пополнела. Однажды она решилась и заявила мне, что с моей стороны нехорошо пропадать целыми ночами и что это ей надоело. Ночами? Где бы я ни был, ночевать я всегда возвращался домой. Пусть записывает, если хочет. Елена стала раздражительной, жаловалась на бессонницу. Странно. Я посоветовал ей обратиться к доктору Рашкову — безрезультатно. На тумбочке громоздились голубые и зеленые таблетки — швейцарские, немецкие, — добытые за валюту, через знакомых.
Может, она просто устала, думал я. А может, чувствует, что в нашей жизни чего-то не хватает. Чего? Я и сам этого толком не знал. Нет, знал! Я не слишком долго сердился на нее за отказ переехать в окружной центр. Наоборот, даже сам старался найти оправдание ее упрямству. Но все время жестоко, словно бы со стороны, наблюдал за ней. По какому праву? — спрашивал я себя. Неблагодарный, эгоист. Ты даешь ей несравненно меньше, чем она тебе. Неужели в каждой семье вот так же преступно растрачивается нежность? Или я просто-напросто отвратительное исключение? Но тогда — выдержит ли Елена?
Я не спал. Мыши шуршали на чердаке, за стенами. Казалось, стоит мне забыться сном, как стена треснет и все эти лапки с острыми коготками побегут по моему лицу. Я уже чувствовал, как они царапают мою кожу, ощущал отвратительное прикосновение хвостов, мягких животиков… И тут впервые донеслись до меня те глухие звуки. Елена? Плачет? Или просто бормочет во сне?
Я даже не попытался встать. Повернулся к степе и вновь отдался преследованию неуловимых мышиных стай.
За завтраком я пытался обнаружить на ее лице следы ночного бреда и бессонницы. Но ничего не сказал. Елена тоже молчала. Молчание это странно замкнуло ее красиво изогнутые губы. Не хочет говорить, и не надо, подумал я. Навязываться не стану. Мало, что ли, запутанных человеческих историй ждут моего внимания, моего решения? Тут уж мне никто не поможет.
Я решил принять душ, освежиться. Девочки, услышав, что в ванной зашумела вода, схватили полотенца и кинулись к дверям.
— Хватит, вылезай! — кричали они.
— Вымокнешь, утонешь, вылезай, хватит!
Перевод Л. Лихачевой.
Васил Попов
БРАТЬЯ
© Васил Попов, 1980, c/o Jusautor, Sofia.
— Пойдем отсюда, — сердито прохрипел Горан; он задыхался в этом гостиничном холле, битком набитом иностранцами. — Я-то думал, встретимся, посидим в холодке, поговорим, а тут сумасшедший дом какой-то.
Как из бани, выскочили они на улицу. Перед ними, разомлев от жары, лежал родной город, давно уже покинутый обоими. Громадные новые здания, новая площадь, множество людей — в глазах зарябило.
— Ладно, — сухо сказал Игнат. — Пошли теперь со мной. Тут нам все равно не найти места.
Братья уселись в голубую, слегка запыленную машину Игната, оставленную в боковой улочке под давно отцветшими необобранными липами. Обтянутые синтетикой сиденья, нагретый металл кузова тотчас вызвали у Горана прилив пота, а с ним и досады. Игнату что — сухой, костистый, у него и потеть-то нечему. По глухим окраинным улочкам машина выбралась из города. Впереди высились горы. Оба молчали. Грузный, с лохматыми бровями, Горан курил, задыхаясь в своем темно-синем липнущем к телу костюме. Полуразвязанный галстук давил шею. Игнату же, видно, ничуть не мешал подпиравший кадык тугой аккуратный узел, его поношенный бежевый костюм был чист и словно только что отутюжен. Горан покосился на ноги брата — черные ботинки, на два номера меньше, чем у него, блестят, будто начищены минуту назад. Боже мой, ведь они встретились здесь ради дома! Дом, родной, уютный, старый, перед ним две липы — сладостное, как виноградный сок, стихотворение всплыло из далекого детства, их общего дома, в котором росли они, сыновья бай Йордана, сапожника. Того самого дома, где сначала полицейские подстерегали ушедшего к партизанам Горана, а потом милиционеры — Игната и где мать их, Данка, дрожала за обоих — в разное время, но всегда с одинаково бьющимся сердцем.
Сердце матери остановилось в пятидесятом году, а в пятьдесят третьем и бай Йордан скрестил на груди руки, которые всю его жизнь строчили голенища и приколачивали подметки, чтобы прокормить и вывести в люди сыновей. Горан вздохнул, покосился на острый профиль брата, высеченный в густом раскаленном воздухе. Куда это он меня везет? Пот катил с него градом, грузное тело изнывала в распаренной синтетике. Горан вынул еще одну сигарету, вспомнил, что Игнат не курит, не пьет, и тут же вновь почувствовал озлобление против брата, против его безумной гордости, нечеловеческой выносливости, против жестокого его молчания там, в приморском городе, где он потом поселился. «Ты хоть раз побывал здесь за эти годы?» — спросил его сегодня утром Горан. «Ни разу», — нехотя, через плечо бросил Игнат. В том приморском городе Игнат похоронил своего первого ребенка, девочку, второму — мальчику — сейчас уже шел одиннадцатый… Двери передо мной захлопывал! — все больше распалялся Горан, вспоминая бесчисленные свои попытки свидеться с братом, поговорить, — что было, то было, в конце концов. Но дверь Игнатова дома или вообще не отворялась на его стук, или захлопывалась перед самым носом. И никогда ни слова. Игнат молчал, смотрел сквозь него пустым, ничего не выражающим взглядом. Несколько раз Горан видел его жену, Здравку: то в проеме захлопывающейся двери, то за витриной магазина тканей, где она работала, но поговорить с ней ему так и не удалось. Здравка тоже молчала, в ее глазах Горан видел лишь гордость и раздражение. Что же это, член партии, а с родным братом мужа, деверем своим, даже говорить не желает. Однажды он остановил ее на улице — дождался, пока магазин закроют. Здравка сощурила глаза — вот-вот бросится — и прошипела: «Пустите! Я вас не знаю!» — «Но я же Горан, брат Игната…» — сам удивляясь своему умоляющему тону, пробормотал он. «У моего мужа нет братьев, никого у него нет», — отрезала Здравка. «Постой, Здравка, не уходи так. Мы же все-таки не чужие, родня как-никак…» Но она уже торопливо бежала прочь, прохожие оглядывались на них. Вместе с ругательством Горан проглотил охватившее его бешенство и заполнившую рот слюну, махнул рукой и ушел. Сколько раз бывал он у директора предприятия, где работал Игнат, чокался сливовицей с ним и с бай Димо, секретарем парторганизации, добродушным пожилым человеком с усами под Георгия Димитрова, а толку чуть: «Работает человек, молчит себе, честен до невероятности — имеет дело с дефицитными материалами, и никаких комбинаций, и вообще все у него в ажуре». «В ажуре-то в ажуре, — мычал Горан, — я о другом. Что он за человек, что говорит?» И вздыхал, размякнув — немного от ракии и много от слабости перед силой родовой крови. «Нет, — покачивал головой бай Димо, часто мигая светлыми ресницами — стеснялся начальства, — ничего лишнего не говорит, только по делу. Иногда, правда, улыбнется, только разве ж то улыбка…» И бай Димо, испугавшись, не брякнул ли он чего лишнего, смущенно оглядывался на директора. Тот, откашлявшись, подхватывал официальным тоном: «Нет никаких оснований для беспокойства, товарищ гене… — улыбался, сверкал золотым зубом. — Семья у него хорошая, жена, знаете, наш человек, была делегатом окружной партконференции. Орден труда имеет, золотой. — Директор вздыхал, опускал под очками бесцветные глаза. — Любит она его, — он, казалось, удивлялся собственным словам, — из-за него кому хочешь глаза выцарапает. Живут скромно, бережливо, на машину откладывают, а зайди к ним — чистота, порядок, все на своем месте, телевизор, книжный шкаф, и, главное, книги эти читают, не то, что другие…» Зайди… повторял про себя Горан слова директора. Сколько уж раз заходил. Выгоняют…
— Куда ты все-таки меня везешь? — словно пот со лба, стряхнул Горан свои мысли.
— На Гайдуцкую поляну, — ответил Игнат, не отводя от дороги взгляда.
С каждым поворотом город оказывался еще ниже. Все было видно как на ладони: и торчащий в центре отель, и новая площадь, и бульвар, и река, и заводы, и магистраль, светлой лентой выбегающая на раскаленную равнину. Он то сверкал на солнце, то прятался в тени, окутанный знойным маревом, а горы вздымались все круче — по одну сторону дороги буйная зелень, по другую лишь голые, синевато-черные громады. И воздух здесь был совсем не такой, как внизу, — свежий, прохладный. Могучее дыхание гор проникло в машину, охватило Горана, высушило пот. Повеяло ни с чем не сравнимым запахом душистых трав, нагретой листвы, далекого детства, вновь вступившего в свои права. Когда-то они, босоногие мальчишки с окраины, бегали сюда, разбивались на отряды, один под началом Горана, другой — Игната, воевали, захватывали пленных, приговаривали их к смерти и миловали, а к вечеру спускались по еще не остывшим улочкам домой, где каждому поровну доставалось от тяжелой руки сапожника: в войну играете, лоботрясы этакие, нет чтобы помочь отцу на каникулах… Значит, вот зачем потащил меня Игнат на Гайдуцкую поляну, детство наше хочет вернуть, игры, в какие мы здесь играли, отряды, которыми командовали. И вздохнул Горан, выбросил в окно загорчившую сигарету. Неправдоподобным, невероятным даже показалось ему, что когда-то они были детьми, карабкались по этим кручам, бегали, размахивая деревянными саблями и нахлестывая воображаемых коней. Игнат свернул с дороги, переехал ручей, размывший колеи проселка, восемьдесят лошадиных сил слегка побуксовали, преодолевая грязь, потом машина вцепилась в жесткую траву, выбралась на ровное место и наконец остановилась под старым корявым дубом.
Горан вылез первым, тяжелый, задыхающийся — недавно пришлось ослабить ремень еще на одну дырочку, — выпрямился, заломил назад руки так, что хрустнули суставы — столько времени просидел, скорчившись, в тесной машине. Впереди была пропасть, за ней синевато-черные скалы. Горан оглянулся: брат, подняв капот, что-то проверял в моторе. Потом капот со стуком опустился и словно прихлопнул всякую память о том, что было после детства. Боже мой, да мы будто всю жизнь провели тут, будто и не разлучались никогда! — удивился Горан, жадно хватая пересохшими губами ветер, старый ветер детства, внезапно рванувшийся из пропасти.
— Все-таки зачем ты привез меня именно сюда? — спросил Горан, пытаясь за ироническим тоном скрыть смущение и растроганность. — Уж не детство ли захотел вспомнить, игры наши?
Игнат взглянул на него удивленно.
— Глупости, — сухо сказал он. — Просто не выношу я этих гостиниц, иностранцев. Хотелось посидеть где-нибудь так… без официантов.
В руках его появился большой полосатый арбуз. Стукнула крышка багажника, но резкий этот звук не мог спугнуть его воспоминаний о детстве, которыми здесь был пропитан даже воздух. Игнат достал из машины пушистое родопское одеяло в красно-фиолетовую клетку, разостлал на траве под дубом, сел, зажав в коленях арбуз, и неторопливо, ловко стал нарезать его ровными, точно отмеренными ломтями. Ярко-красный сок брызгал из-под ножа, черные семечки сыпались на траву. У Горана потекли слюнки. Он тоже опустился на одеяло.
— Ты все такой же, не меняешься, — сказал он.
— А чего мне меняться, — не глядя на него, ответил Игнат. Он с аппетитом вгрызался в сочный ломоть, выплевывал семечки. Горан тоже взял кусок в обе руки, захлебнулся теплым сладким соком, а в горло хлынула горечь тех тяжких, словно бы серых дней. Сколько раз ходил он, бывало, в тюрьму — то, говорят, Игнат в карцере, то голодовку объявил, зверь, а не человек, будто и не матерью рожден. Горан добивался свидания с ним, но тот всегда отказывался: нет, мол, у меня брата, не желаю никого видеть. Однажды его все-таки удалось насильно затащить в комнату, разгороженную двумя рядами решеток. Горан, взбешенный, старающийся подавить какое-то непонятное смятение, крикнул сквозь решетку: «Чего ты добиваешься, негодяй? Скажи наконец, чего ты хочешь?.. Кланяться, что ли, я тебе должен, идиот ты этакий, умолять, чтоб подписал просьбу о помиловании?.. Ах ты, сукин сын…» Ругательство застряло в горле — ведь это же о собственной матери! «Врежь ему!» — в ярости крикнул он охраннику. До чего же потом было ему от этого горько, да и знал Горан, что ничто не сломит Игнатова упрямства, а может, и воли, а за собственным его бешенством скрывается лишь слабость и удивление: в свое время мы тоже держались стойко, но у нас ведь были идеи, святые идеалы, а у этого что? Игнат сидел, прижатый к стулу руками двух дюжих надзирателей, разрезанный решетками на маленькие железные квадратики, молчал, только желваки ходили на скулах. Голова его была острижена. «Подпишешь ты наконец бумагу или нет?» — снова заорал Горан, ярость сдавила горло, тяжким смрадом захлестнул стыд. Не выдержав, он повернулся и выбежал в коридор. Там и догнал его майор, высокий, узколицый, со светлыми, почти белыми глазами, почтительно провел Горана в свой кабинет. «Видите ли, товарищ полковник, — голос майора звучал ровно, на одной ноте, — от таких нужно было избавляться сразу. Извините, конечно, знаю, что он вам брат. Дай им волю, они с нас с живых шкуру спустят». — «Не будет им воли! — взревел Горан. — Никогда!» И опомнившись, замолчал — ведь он для того и приехал, чтоб заставить Игната подписать просьбу о помиловании. Умолк, подавившись этим «никогда!». Выпил мутного, горького от сахара кофе. Майор курил сигарету, воткнутую в деревянный мундштук, и все так же монотонно объяснял, что кофе у них варит один заключенный, армянин, — похоже, он даже гордился талантом своего подопечного. Горан взглянул на зарешеченное окно с облезлыми рамами, за ним вонзались в серое небо бездымные фабричные трубы. «Никакой просьбы он не подпишет, товарищ полковник, мы уже все перепробовали, даже карцер. Это камень, а не человек». Несмотря на монотонность, в голосе майора слышалось и почтение к начальству, и какая-то крохотная, не больше рисового зернышка, капелька иронии — Горан словно бы видел, как она растет, раздувается… Он встал. Через два года Игната выпустили — безо всякой просьбы. Выйдя на свободу, он тут же устроился на медный рудник и проработал там целых три года, пока не встретил эту женщину, Здравку. Она-то и вывела Игната из глубоких забоев на поверхность земли, на поверхность жизни: из бездонных глубин одиночества и молчания, из десяти лет заключения, во время которых он не проронил ни слова о прощении или хотя бы послаблении — словно язык откусил. Повсюду следовал за ним Горан, несмотря на круглосуточную свою занятость, на сменявшиеся одно другим порой неимоверно трудные задания и косые взгляды коллег и товарищей, намекавших, что интерес к такому брату может его скомпрометировать. Всюду побывал Горан: и в руднике, и на асфальтовом заводе, и в порту, — беседовал с директорами, партийными работниками, кадровиками, собственными своими коллегами, с кем только не говорил. «Уведомляйте меня обо всем, звоните по таким-то и таким-то телефонам, ищите там-то и там-то», — говорил он, если имел хоть какую-нибудь возможность сообщить, где и как его можно найти. Ни на один день не переставал Горан думать о брате, следить за его жизнью, помогать. Хотя чем он мог ему помочь? Игнат брался за самую тяжелую работу и всегда выполнял ее добросовестно — нет, «добросовестно» не то слово, — с нечеловеческой выносливостью, упорством, словно робот, лишенный нервов и людских слабостей. Лишь встретив Здравку — Горан проверил и ее до девятого колена и только дивился, чем она прельстилась в Игнате, — он мало-помалу стал пробуждаться к жизни, разговаривать с людьми, улыбаться. Горан знал об этом из устных отзывов, служебных докладов, из полуграмотных характеристик, сочиненных бригадирами и техниками, из штампованных фраз личного дела. Все знал Горан: и что они получили квартиру в том приморском городе, и что Здравка родила девочку, которая умерла через полтора года, что Игнат не курит, не пьет, что друзей у него нет, что после работы он никуда не ходит, сидит дома и много читает — Горан даже знал, что именно: о Французской революции, научно-фантастические романы, книги о птицах, о животных, об охране окружающей среды; знал, что Здравка снова ждала ребенка и затем благополучно разрешилась в таком-то родильном доме, на таком-то этаже, в такой-то палате; знал, что Игнат с женой как-то провели отпуск в Вершеце, что его премировали книгой «Как закалялась сталь», а Здравку наградили золотым Орденом труда и выбрали делегатом окружной партийной конференции; знал Горан и о том, что Игнат несколько раз получал анонимные письма с угрозами, знал их авторов и знал, что брат его не испугался угроз, хотя и не сказал о них никому. Так жизнь Игната стала для Горана его второй жизнью — он думал о нем гораздо больше, чем о себе, и знал его тоже гораздо лучше, чем себя самого. И знал, что Игнат никогда не узнает об этом.
Сегодня утром Горан ничего не ел, только курил и, насквозь прокопченный табачным дымом, наконец увидел брата у порога отцовского дома. Игнат сидел в машине, лицо его ничего не выражало. Черная служебная «волга» Горана, качнув тремя антеннами, остановилась напротив. Слезы закипели в пересохшем горле, в груди что-то оборвалось. Он велел шоферу скрыться до вечера, выбрался из машины. Ноги подкашивались от волнения, но Горан овладел собой и — большой, тяжелый — остановился посреди улочки. Игнат тоже вышел из машины. Они стояли в пыли, поднятой умчавшейся «волгой», в пыли прошедших в безмолвии тридцати лет. Было так тихо, что оба услышали, как во дворе упала с дерева груша, из чьего-то окна донесся плач ребенка. И никого вокруг: ни любопытных соседей, ни старушек с кошелками, ни самозабвенно играющих детей.
Несколько секунд Горан не решался пожать протянутую ему сухую горячую руку, — несколько секунд, в которые вместилась вся их жизнь. Казалось, вот-вот бай Йордан отворит железную, некрашеную, вечно скрипевшую калитку, а бабушка Донка, спрятав под фартуком руки, окликнет их с порога. Калитка не скрипнула, заброшенный садик зарос бурьяном, над ним торчал огромный темно-красный георгин, давно отцветший и засохший. Яблоня еще пыталась плодоносить, яблоки на ней всегда были вкусные, кисловато-сладкие, но наполовину червивые. Может, и в нашем роду есть какая-то червоточина, подумал Горан и вдруг, напрочь забыв о яблоне, вновь увидел себя во главе милицейского отряда, окружившего этот самый дом. Парабеллум, горячий от сжимавшей его руки, оттягивал карман. Мать, закрыв руками лицо, рыдала в соседнем дворе в объятиях какой-то женщины. Рядом — бай Йордан, низко опустивший встрепанную ветром белую голову. «Есть кто-нибудь в доме?» — рявкнул Горан. Было тихо, никто не ответил ему ни словом, ни выстрелом — лишь мать отчаянно всхлипнула, и ее «Боже!» вонзилось в небо. Горан распахнул дверь ударом ноги. Толчок оказался слишком сильным, и дверь снова захлопнулась. Сквозь чириканье воробьев Горан слышал свое дыхание, стук сердца. «Есть кто-нибудь в доме?» — крикнул он снова. Молчание, тишина. Верный одной лишь своей правде, познавший горные партизанские тропы, подполье и ежечасную готовность погибнуть, Горан овладел неистовым своим сердцем, снова толкнул дверь и вступил в темную прихожую. Скрипнули половицы, под ноги попала скомканная дорожка, он отшвырнул ее сапогом. Вошел в крохотную кухоньку, остановился перед ведущей в кладовку дверью. Рядом с кольцом на старой щеколде зияла дырка, через нее была пропущена веревочка. Тишина. «Есть тут кто?» Молчание. Горан отошел от кладовки. — медленными, ровными, словно патроны в пачке, шагами, — поднялся по внутренней лестнице. Наверху, в зальчике, подошел к столу — ветхая, вылинявшая скатерть, пепельница, полная булавок, и среди них перламутровая пуговка. Он стоял среди обступивших его расшатанных стульев, под взглядом богородицы, следившей за ним с иконы поверх горящей лампадки, вокруг — четыре двери, как четыре направленных в грудь дула. Подождал немного, крикнул: «Есть тут кто? Выходи лучше сам, сдавайся!» Никакого ответа. Одну за другой Горан обошел все комнаты — безрезультатно. В комнатке, где они когда-то жили с Игнатом, лежали на столе несколько пыльных книг и обернутая в голубую бумагу тетрадка. Горан раскрыл ее — братова тетрадь по арифметике. Столбики цифр и записи уравнений заплясали перед глазами. Он скомкал ее, швырнул на пол и вдруг рядом с ножкой стола заметил железный наперсток матери. Вот, наверное, обыскалась! — ударило ему в голову. Горан поднял наперсток, положил на стол. Нигде никого: ни в комнатах, ни в стенных шкафах, ни в чулане, где отец хранил свои кожи — этот запах останется с Гораном навечно. Из-за отдернутой белой занавески выглянул во двор — милиционеры стояли перед оградой, нацелив на дом пистолеты. Поискал глазами мать в соседнем дворе, но за зеленью ее не было видно; где-то там с трудом переводил дух и отец, склонив от стыда белую голову. Горан медленно спустился по лестнице, понимая, что может оказаться отличной мишенью, но главное — что одному из них под этой крышей больше нет места. Снова остановился в темной прихожей у двери в кладовку. Поднял щеколду, скрипнули петли, дверь качнулась внутрь, открыв прячущиеся в полумраке мешки, какие-то жерди, ящик и стоящую на нем квашню, ударили в нос знакомые с детства запахи — Горан скорее вспомнил, чем увидел все это в темноте. Потом в груди все словно бы окаменело, не было в ней больше ни воспоминаний, ни жалости; он вытащил пистолет, нацелил его на тьму и сказал глухо: «Если ты здесь, стреляй!» Молчание, тишина. Он слышал свое дыхание и рядом — или это только показалось? — чье-то еще. Подождал секунду и совсем уж глухо добавил: «Тогда буду стрелять я!» И вдруг поднятая рука налилась тяжестью — мать рванулась из глубины сердца, повисла на ней, заполнила собой прихожую, кухню, темную кладовую, прогнала былые и теперешние запахи. Железный партизан дрогнул, снял палец с курка, сунул в карман пистолет и вышел, чуждый всему, и больше всего самому себе. «Никого здесь нет! — крикнул он милиционерам. — Я все проверил. Пошли!» Милиционеры построились, и оцепление растаяло, как мыльный пузырь. Мать, громко рыдая, кинулась к дому, снова выглянули из листвы яблоки, и соседки, шаркая шлепанцами, разошлись по домам, перешептываясь, проклиная, зажимая руками рвущийся из горла крик. Ушел с чужого двора и отец, сгорбившись, склонив голову, — той же зимой Игнат был схвачен в заброшенной кошаре, раненый, брошенный своими… — так что выпрямился отец только в гробу.
Братья доели арбуз. Трава у их ног была усыпана семечками. Земля впитывала красный сладкий сок, золотисто кружились над их головами неведомо откуда налетевшие пчелы и стремительно пикировали вниз. Из ущелий, из пропасти веяло прохладой, усталое солнце играло с листвой и тенями старого дуба. По одеялу гуськом торопливо ползли черные муравьи.
— Не знаю, что и сказать, брат. — Горан с трудом перевел дух. — Ты за тридцать лет ни разу рта не раскрыл, братом не хотел меня признавать. Столько воды утекло… — Игнат молчал, профиль его четко вырисовывался на фоне скалы, лишь стальные желваки ходили на скулах. — Я уж совсем было перестал надеяться, что свидимся мы на этом свете. — Горан снова вздохнул, астма душила его. — Когда получил ответ, глазам не поверил…
Он замолк, воспоминание о матери комом застряло в горле, перехватило дыхание. Материнская рука окатывала его теплой водой, а он, стоя в деревянном корытце, шлепал себя ручонками и верещал от восторга. Опомнился, носком черного ботинка отшвырнул черные семечки.
— Я знаю, дело, конечно, не в том, что дом нужно продать… — Горан на секунду остановился, попытался встретиться взглядом с Игнатом, но у того словно вообще не было глаз — только профиль и за ним медленно гаснущая пропасть. — Но, раз уж мы встретились, скажи хотя бы, за что ты меня так ненавидишь?
Игнат молчал, он сидел, почти не дыша, всей тяжестью тела опираясь на руку — кожа коричневая, вены вздулись, когда-то на ней была — да вот она! — родинка с рыжеватыми волосками. Сейчас волоски побелели.
— Да отвечай же! — почти закричал Горан.
— Ничуть я тебя не ненавижу, — сухо отозвался Игнат и тоже вздохнул, еле слышно, как будто наконец-то снова родился, боролся против кооперирования, отсидел десять лет в тюрьме, работал на шахте и уехал так далеко. Сейчас он словно бы возвращался.
— Тогда…
— Что тогда?
— Тогда почему ты молчал целых тридцать лет? — прохрипел Горан. — Зачем они были нужны, эти тридцать лет? Зачем?.. Что тебе от меня было нужно, чем я перед тобой провинился?..
— Ты — ничем. — В голосе Игната что-то скрипнуло, Горан услышал, как открывается дверь в кладовку.
— Кто же тогда виноват? Кто?
— Никто.
Горан закурил, веки у него нестерпимо жгло. Оба сидели не двигаясь, казалось, само время забыло их здесь в незапамятные времена и сейчас старается отыскать. Нашла их одна из пчел — оторвавшись от сладких арбузных семечек, она кружила над их головами, выписывая золотые ореолы, а может, просто проверяла, живы ли они еще, дышат ли. Горан махнул рукой, и пчела растаяла в густом прохладном воздухе, в котором еще звенели былые листья, птичьи песни, облака.
— Хочу и я тебя спросить, — заговорил Игнат и впервые повернулся к Горану. Глаза у него были прежние. Это был он.
— Спрашивай, — почти всхлипнул Горан.
— Почему тогда, у нас, когда ты искал меня и вошел в кладовку, почему ты не выстрелил?
Железная рука сдавила шею, но Горан все-таки оторвал ее от себя, выкрикнул:
— А ты? Ты почему не выстрелил?
Молчал Игнат. Горан тоже молчал. Круживший над скалами орел, из тех, что не совсем еще перевелись в нашем старом гордом Балкане, высмотрел их с высоты, покружился над ними, потом круто взмыл вверх и стал подниматься все выше и выше, туда, откуда и горы, и люди, и арбузные семечки кажутся одинаково мелкими.
Перевод Л. Лихачевой.
Ивайло Петров
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Нанко я встретил в ресторане. Мы не виделись давно и, как водится, выпили за встречу, вспоминая далекое детство, ведь мы были односельчане, соседи и сверстники. Когда стали прощаться, Нанко пригласил меня в гости — в новый городской квартал «Чайка». Это тебе не развалюха, говорил Нанко, куда ты приходил когда-то; теперь у меня двухкомнатная квартира со всеми удобствами, на третьем этаже. Тошко уже лейтенант, дочь в этом году окончила гимназию и успела выскочить замуж. Словом, дети пристроены, сам работаю сменным мастером на судоверфи. Приобрел небольшой участок с виноградником, теперь есть где покопаться на старости лет. Чего еще желать?
…У Нанко было три брата. Самый старший умер рано, второй пошел примаком в семью жены. Сам Нанко женился еще до армии, а как вернулся, решил отделиться и жить своим хозяйством. Отчий дом достался меньшому брату, а другой недвижимости, годной для дележа, просто не было. Получил Нанко свой пай за дом, взял пару волов да десяток декаров земли. Клочок нивы, то ли четыре, то ли пять овец дали за женой, и принялся Нанко ставить свой дом. Расчистил место в верхнем конце сада и начал стаскивать туда камни, кирпичи, балки, песок. Много раз я видел, как Нанко со своей молодухой, измазанные по самые уши, месили в яме глину для кирпича. Несколько лет кряду они сновали, как муравьи, туда-сюда, волоча на себе материалы для будущего дома. В это время произошла революция и, как говорится, мир перевернулся с ног на голову, а Нанко все продолжал возиться, как будто ничего не случилось, или ему просто не хотелось, чтобы на него обращали внимание. И только когда пришла пора кооперировать землю, он словно очнулся от глубокого сна, оглянулся вокруг и завопил: «Как это я отдам свой надел?!» Половина крестьян вошла в кооператив, а другие уперлись, превратившись в болячку на теле родного села. Им была предоставлена возможность «пораскинуть умом» и в то же время испытать, как чувствует себя рыба, вынутая из воды. Эти люди тешили себя надеждой, что время идет, глядишь, все и само уладится.
Нашлись в селе и такие, кто не видел перед собой ничего светлого, а воспринял грозные события как конец света, — они тихо умирали, скрестив руки на груди. Один наш сосед, мужик вполне справный, не выходил из дому семь дней и семь ночей, таял как свеча, а на восьмой день взял и преставился. Говорят, в окрестных селах тоже бывали подобные случаи. Многие середняки, уже войдя в кооператив, долго пребывали в состоянии лунатизма. Внешне они казались спокойными и уравновешенными, однако земля уходила у них из-под ног, а сами они словно двигались на ощупь по веревочному мосту, перекинутому над глубокой пропастью, и не знали, суждено им добраться до противоположного берега или нет.
В ту пору Нанко каждый день приходил ко мне бледный, с красными пятнами на скулах, то ощетинившийся, готовый разорвать всех в клочья, то обмякший, как жареный лук.
— Ну, сосед, говори, куда податься?
— Прямиком в кооператив, — говорил я.
— Ты человек ученый, я пришел к тебе за советом, а ты суешь меня волку в пасть.
— Как ни крути, ни верти, другого пути нет.
— Легко вам, ученым людям! — отвечал Нанко с отчаянием и ненавистью. — Глаза ваши смотрят в город, там ваше пропитание, а нам что делать? Отдашь землю — ложись и помирай! Чужакам мы не верим, а ты — свой, с нами поднимался до зари, с нами спину гнул на ниве, скажи ради всего кровного и святого: навечно все это или пронесется, как смерч, и скроется?
Никогда в жизни мне не приходилось говорить так много и с таким терпением, как в те дни и ночи. Я возвращался со сходок с одуревшей головой и осипшей глоткой, исчерпав до последней капли все свои знания и все доводы в пользу революции. Как-то во время жаркого ночного спора челюсть у меня свело от боли. Несколько раз пришлось пить воду, но сорванный голос не восстанавливался.
— Ступай домой, парень, и скажи матери, пусть поставит тебе на грудь горчичники, — великодушно посоветовал мне старик хозяин. — Онемеешь — так вся твоя ученость пойдет прахом!
Так что и я, агитатор, страдал, как страдали и те, кого я агитировал. В сущности, эти люди были правы по-своему, утверждая, что нам, ученым да грамотным, легче. Мы если и не знали о революции всего, то в одном были уверены до конца — революцию вспять не повернуть! Как мы могли объяснить это людям, которые понятия не имели о науке и политическом предвидении? Я наблюдал однажды, как один крестьянин-агитатор, бросив шапку оземь, истерично топтал ее ногами и орал:
— История, значит, трудное дело, она желает с вашей помощью родить мировую правду, а вы жметесь, мать вашу кулацкую!
А из толпы ему ответили:
— Пусть сначала тебя выродит — будет еще один телок на куперативной ферме!
Между тем случилось так, что этот крестьянин стал нашей первой жертвой в борьбе за мировую правду. Односельчане прозвали его Дачо Философ. Был он неграмотным, но любознательным, общался с нами, «учеными», поднабрался высокопарных выражений и любил употреблять их по своему уразумению, где надо и где не надо, чтобы придать больше веса своему агитаторскому слову. Но крестьяне, как известно, испокон веку не любят тех, кто отбивается от стада, и Дачо стал предметом насмешек и издевок — односельчане высмеивали его неуемную страсть к агитации. И правда, Дачо Философ, хотя сам был середняком, где бы ни появлялся, начинал распространяться о кооперативе с фанатизмом мессии. Он ходил из дома в дом, убеждая людей в преимуществах новой жизни и не давая им покоя. Сам Дачо был одним из основателей кооперативного хозяйства, первым сдал в общее пользование свою делянку, но без инвентаря и скотины, и это оказалось его ахиллесовой пятой. На его увещевания односельчане в один голос ответствовали, что вот когда он вовлечет в кооператив собственного сына, тогда и они вступят. А сын Дачо, тридцатилетний детина, был самым лютым противником объединения. Выходит, Дачо подписал заявление самовольно. Как узнали потом, сынок денно и нощно стоял у хлева с дубиной в руке, и когда бай Дачо попытался увести со двора двух волов, сын, доведенный его легкомыслием до белого каления, якобы желая только припугнуть отца, ударил Дачо по голове и убил…
После этой истории мой приятель Нанко и еще кое-кто решили бежать из села. Они скитались по лесам несколько недель и, чтобы не помереть со скуки, плели из ежевики корзины. Беглецы вернулись в село уже поздней осенью, когда кампания по кооперированию затихла. Но весной дело разгорелось с новой силой, в лесу еще было голо и холодно, и несогласные стали прятаться, как раньше нелегальные, по чердакам и подвалам.
Снова появился Шипар из околийского комитета, выведенный из себя неразумным поведением голытьбы. В то время я как раз приехал в село дней на десять. Мой приятель Нанко все еще играл в прятки, не высовывал носа.
— Ну, я покажу ему кузькину мать, — ярился Шипар. — Ткну в морду пистолет — и будь что будет! Ладно уж те, у кого землица, как ни говори, им есть за что цепляться, таким будем читать евангелие до аминя. А эти-то — ни кола ни двора, по нужде сходить нечем, а туда же, артачатся. Нет ничего хуже, когда тебя облаивает своя же пролетарская собака! Ему указываешь путь истинный, а он в лес тикает, кулакам на руку.
Шипар был из тех людей, которых создает и выдвигает революция, чтобы бескомпромиссно осуществлять свои предначертания. Он был апостольски предан новым идеям, превратившись в фанатика социальной справедливости. Шипар мог говорить часами, обрушивая на людей словесные потоки. Он увещевал, просил, объяснял одно и то же с воловьим долготерпением, но уж когда срывался, был грубым, злым и неумолимым, и тогда людишки бежали от него, как от нечистой силы, хоронясь по своим норам.
— Вот вы сидите, как крысы по темным углам, а мы не будем ни есть, ни спать, будем караулить, когда вы высунете свои морды на белый свет. Но ничего, мы подождем, это наш долг коммунистов! Мы будем вас ждать столько, сколько потребуется, но вам историю не переплюнуть! — надрывался Шипар. — Если бы мне раньше сказали, что есть люди, которые убегают от правды и добра, как зайцы от охотничьего пса, я бы ни за что не поверил.
В один прекрасный день его разбитая легковушка пересекла сельскую площадь и остановилась в Нанкином дворе. На веранде стояла жена Нанко, а рядом с ней — его мать, семидесятипятилетняя старуха, сухая как жердь, но все еще крепкая и здоровая. Звали ее Упрямая Балканджийка, потому что она спустилась с Балкана, а нравом и характером сильно отличалась от наших женщин. Мужа у нее не было давно, но она больше не пытала счастья и одна подняла на ноги четверых сыновей. Не ожидая вопроса, Балканджийка сказала, что Нанко дома нету, и по привычке спрятала руки под фартук. Соседи, в том числе и я, подсматривали из-за ограды. Шипар переминался с ноги на ногу, не зная, что делать дальше. Теперешний лейтенант Тошко, тогда шестилетний сопляк, впервые в жизни увидал машину и не сводил с нее глаз, мечтая коснуться чуда своими руками. Шипар погладил мальчишку по голове, может, вообще из любви к детям, а может, хотел продемонстрировать свои миролюбивые намерения в отношении Нанкиного семейства.
— Что, когда вырастешь, хочешь стать шофером, а? — спросил он Тошко и усадил за руль.
— Хочу! — сказал Тошко.
И тогда настоящий шофер, как бы между прочим, поинтересовался у мальчишки, где его папа.
— Вон там! — сказал мальчик, обласканный добрым дяденькой. — В печку залез, а мама ветками его закидала.
Шипар посмотрел туда, куда показал Тошко, и нос его, и без того горбатый и острый, подскочил, как хищный клюв. Представитель власти сдвинул фуражку на затылок, и мне показалось, что от его головы идет пар. Привычным жестом он потрогал кобуру и направился к печи. Печь была большая, хлебов на десять, и, как все сельские печи, обмазана снаружи желтой глиной.
— Вылазь и посмотри революции в глаза! — крикнул Шипар, и его голосом завопили тысячи басов. — Я пришел поговорить с тобой, а не скандалить!
Он взывал к Нанко еще и еще, но тот молчал. Тогда Шипар махнул шоферу, взял у него коробок, зажег спичку и поднес к хворосту; Сухие ветки затрещали и взялись огнем.
Балканджийка сошла с веранды, встала как вкопанная возле печи и снова сунула руки под фартук, а молодая жена Нанко, закрыв лицо платком, медленно сползла на землю. Соседи, прилепившись к ограде, глядели на все это с бледными лицами. Шипар стоял вполуоборот к печи с такой гримасой, точно ему в этот момент резали палец. Ветки разгорались, охватив пламенем все устье печи. Двое соседей не выдержали, перескочили через забор и принялись орать:
— Он настоящий горец, живым сгорит, а не сдастся! Товарищ Шипаров, большой грех на душу берешь!
В это время раздались пронзительные автомобильные гудки. Тошко обнаружил кнопку клаксона, нажимал на нее и при каждом звуке хохотал, как дикарь. Все это напоминало театральные эффекты: гудки нагнетали напряженность и подводили нас к развязке. Одна из соседок с криком бросилась через двор и прибежала с ведром воды. Тогда Балканджийка сказала ровным и спокойным голосом:
— Когда я была еще в девушках, однажды пришли турки, связали отцу руки и потащили под орешину, чтобы повесить. Тогда он говорит мне: «Марийка, сбегай домой, возьми из сундука чистую рубаху и принеси!» Я дала ему чистую рубаху, он переоделся, турки накинули на шею петлю, а я пошла в дом и перекрестилась.
После этих слов Шипар как подкошенный бухнулся на колени и стал разгребать огонь голыми руками. Никто не спешил ему на помощь, а сам он, видимо, был настолько возбужден, что не догадался схватить хотя бы кочергу, которая лежала рядом. Повалил густой дым, и Шипар потонул в нем. Когда через минуту или две он поднялся на ноги, брюки, рукава и руки у него обгорели, а лицо покрылось слоем пепла. Шипар деловито отряхнул дымящуюся одежду и сел в машину. Шофер завел мотор, подав машину задним ходом. Только теперь Балканджийка вынула из-под фартука руки и наклонилась к печи…
Не прошло и недели, как Нанко добровольно вступил в кооператив. Помню, день был будничный, а он вышел из дому нарядный, шествуя к Совету, как Шибил[5], по середине улицы. На обратном пути я приметил его издали и вышел навстречу.
— Поздравляю! Что это ты разоделся как на свадьбу!
— К врачу обычно хотят в новом да чистом, — ответил Нанко и прошествовал дальше.
А примерно через час я увидел, что он стоит посреди двора — руки за поясом, волосы растрепаны, бледный как полотно, глаза остекленели. Из домочадцев никто не показывался, и Нанкин дом казался пустым и печальным, как после похорон.
— Сосед! — вдруг крикнул Нанко. — Это конец! Конец! В печи меня жгли, а теперь сердце вынули. Завтра пусть царем сделают, золотом осыплют — все равно не обрадуюсь, нет у меня больше сердца!
— Какой тут конец, — ответил я Нанко. — Все только начинается.
Но он меня не слышал, все мотался по двору из угла в угол, руки за поясом, и повторял: «Это конец! Конец!»
Года через два после этой истории Нанко продал все, что мог, сдал свой надел в кооператив и подался в Варну. Поначалу ютился с семьей в комнатушке на окраине города. И Балканджийка к нему переехала, за внуками присматривать. В ту пору я тоже жил в Варне и однажды оказался по делам в их квартале. Балканджийка сидела на стульчике перед домом, я окликнул старушку, и она пригласила меня в гости.
— Сынок! — сказала она, угощая меня айвовым вареньем. — Нет здесь простора. Глаза мои плохо видят, а все равно простора ищут! Будь проклят этот город! Ни скотины тебе, ни куренка, ни грядки с чесноком! Наказываю Нанко — хоть когда умру, пусть отвезет меня в село и там закопает. Да где уж, это денег стоит!..
А много позже, когда мы встретились с Нанко в ресторане, он рассказал, что Балканджийка так и умерла на своем излюбленном месте — прямо перед домом. Она лежала, припав лицом к земле.
Перевод Е. Стародуб.
Димитр Вылев
СМЕРТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В субботу, далеко за полдень, позвонили к нам в больницу из Армудова. Трубка трещала, будто сало на раскаленной сковородке, и прежде чем голос пропал, я успел разобрать слова:
— Сноха помирает у Юрдечки…
Уже неделю белый ветер хлестал снегом, точно мокрой тряпкой, в оврагах поднялся такой гром, что от него содрогались ущелья, дрожали окошки, словно артиллерийская часть взрывала землю по обоим берегам Тунджи. В оврагах, а их восемнадцать между Варницей и порубежной межой, летом дремлет замшелая вода. А весной и осенью бывает непролазная топь.
Деревенька Армудово связана проселочной дорогой с верхним отрезком Гечлерского шоссе. Проселок этот во время весеннего паводка исчезает под водой. Сколько раз говорил я своим друзьям-приятелям Александру Вангелову — Сашке — и Павлу Пашеву, что давно пора через овраги навести переправу. Вы ведь знаете небось: Сашка председательствует в варницком сельсовете, а Павел заведует агропромышленным комплексом в нашем районе. А приятели и отвечают: состарился ты, Мишо, да ума не прибавил. Того не сообразят, что поживи чуть подольше старый Постолов и ротмистр дедушка Орач, они непременно бы покрыли овраги гатью. Видно, пришло время вмешаться небезызвестному вам Борису Дражеву, третьему нашему дружку, что следователем работает в городке Боляри.
Набил я полную медицинскую сумку, зарядил термос горячим супцом и в полной амуниции зашагал в Армудово. Не удивляйтесь, друзья мои, что я тут не в строку вроде бы про супец какой-то упоминаю. С самого обеда, хоть и был он сытным, думал я про этот супец, мать обещала сварить его из щавеля с рисом и молодым луком. Я насчет еды большой мастак, но не чревоугодник, конечно! По дыму из трубы могу определить, что готовят. Жена моя, человек городской, врачом у нас же работает, ничего в этих делах не понимает и частенько надо мной насмехается. А я вам, друзья, одно скажу: работник и по еде узнается. Если заметаешь что попало, точно свинья помои, какой из тебя трудяга?
Когда я вышел за Варницу, мартовское солнце пригревало еще холмы и овраги. Овраги теперь не гремели, а выли, будто волчья стая. Травы пахли так остро, что у меня под ложечкой засосало… ладно, не буду об этом. Солнце совсем подошло к Сакар-горе, остывающие лучи его сжались, стали как медная проволока. Вот уж пятый десяток мой кончается, серьезные подошли года, а я, странное дело, все себя мальчишкой чувствую, как в ту пору, когда с Павлом, Борисом и Сашкой под флагом старого Постолова и ротмистра деда Орача бурлили мы в нелегальной работе.
В Армудово притащился я к ночи — и пешком шел, и на коне ехал, и на осле, и на муле, на лодке плыл, на пароме и на плоту — на всем, что по пути попадалось. Пятнадцать километров всего, а за океан, в Гавану, и то быстрее на самолете слетаешь.
Маленькую площадь, посреди которой постанывал больной вяз, обступило домишек пятнадцать, точно утиный выводок, притулившийся у болота. Вокруг темнели заросшие виноградником холмы. Между конторой и сельмагом помаргивал электрический тусклячок, и мне вдруг, верьте не верьте, почудилось, будто выплывают на конторское крылечко де́вицы в узорчатых елховских сукманах, сбоку выстраиваются пожилые женщины, покрытые чемберами, за ними старики в расшитых галунами потури[6]. Даже звонкая волынка кинулась в уши. Была, была здесь когда-то жизнь, да пропала, до боли близкая жизнь, близкая даже вам, друзья мои из многоэтажных кооперативных домов, ведь небось и по вашим кладовкам догнивает какой-нибудь отставший от пары царвуль[7].
Армудовские угодья входят в виноградарское хозяйство, получившее имя по соседнему селу Юрт.
Простучал где-то поблизости батожок сельсоветчика, и сам он появился — старик в лохматой козьей шапке.
— Дядя Пройко, ты в больницу звонил?
— А кто же еще, об чем разговор, доктор Мишо? — ответствовал он, опахнув меня сильным запашком виноградной ракии. Губы едва пошевеливались на сухом лице под надвинутой мохнатой шапкой. Подошли к крепкому одноэтажному дому, освещенному яркой лампой.
— Вот оно, Юрдечкино царство, — сказал старик и повернул назад к площади.
Я нащупал засов, ступил в чисто прибранный двор. Стукнула балконная дверь, и стук этот тотчас поглотился душераздирающим женским криком. На ступеньках появилась низенькая и округлая, точно утка, старушка в сукмане. Поднесла ладонь ко лбу, сердито окликнула:
— Кого несет?
— Участковый врач, тетушка…
— Баба Гораница я по мужу, зовут Еличкой, по фамилии Габарова. Только все меня кличут Юрдечкой. Ты, что ли, доктор Мишо?
— Собственной персоной, тетушка Гораница.
— Чего-то ты опозднился…
— Что у вас там, наверху, делается? Будто с жизнью кто прощается.
— Рожаем мы, а вовсе не помираем, сына рожаем.
— Как рожаете? А я к больному иду.
— Начальство-то рази путем растолкует, мелет не разбери чего.
Обмениваясь на ходу дипломатическими любезностями, мы прошли через просторные освещенные сени, где еще слышней стал истошный крик, в натопленную кухню. Только тут я заметил, что весь я потный и грязный, и нитки сухой на мне не осталось. На печке грелась в медном чане вода, побулькивала алюминиевая кастрюля. Я мигом унюхал, что готовится курятина с кислой капустой. В ящике со стружками попискивали беленькие пушистые цыплята, точно приговаривали: «Иди, иди, иди!» Бабка, вовремя углядев плачевное мое положение, засуетилась над сундуком, приставленным к топчану с белым домотканым одеялом.
— Делать нечего, доктор Мишо, скидавай свою мокреть, обряжу тебя в шахтерскую робу, от сына осталась. А ты, сношенька, потерпи. Она у нас первым мучается, сердешная. Все одно потерпи! Мишо пришел, недолго ждать. Расквохталась, чисто несушка. Все мы неслись, да только так не квохтали. Господи, куда ж это я, растрясуха, одежу-то запропастила? Хоть бы впору тебе пришлась, доктор Мишо. Уж больно ты раздобрел, сынок. Один, чай, у отца с матерью, а? Носются с тобой, как с пасхальным яичком? А как же, вот и мой тоже один, взрывником работает в варницком руднике. Там и живет на квартире. И сноха моя, Ганка, кричит-то которая, и она в руднике работает. Только под землю не лазит, а все наверху бумажки пишет. Какие там есть бумажки, все она и пишет. Сынок-то, в меня он пошел, навязал жену на мою голову. Мама, говорит, пусть у тебя рожает, я хоть дух переведу. Мы в апреле ждали, а малец заторопился. Дай-ка я тебя оботру полотенцем, продеру хорошенько, а потом уж к Гане пойдем. А в суме-то этой у тебя чего? Еда!.. Ты что ж это, гостенек, осрамить меня хочешь? Будто уж у Юрдечки и чем попотчевать не найдется, такая она прижимистая? Этот поди баламут меня оплел — Пройко?.. А одежа-то у тебя больно хороша цветом. Овощем отдает: не то баклажаном, не то свеклой.
Разыскивая одежду, растирая мне влажную спину и помогая натягивать робу, бабка молотила языком без остановки. Да к тому же успела домыть тарелку, попробовать мизинцем воду в чане и помешать в кастрюле еду. Говорок из нее сыпался бойко, будто подсолнечная лузга. Мне стало уютно и радостно, словно я не десять минут провел в этой кухне, а целый год прожил в Юрдечкином доме. Голос у Юрдечки слегка позванивал, как старинное клепало, морщинки на лице казались веселыми и живыми, только зубы сильно покривились, будто по ним проехался подкованный конь, прямо плакали они по зубному врачу.
— Когда началось? — спросил я, губкой оттирая руки над раковиной.
— Второй уж день пошел. Трудится, бедная, как божья матерь, трудится.
— Только вот я не гинеколог…
— Куда еще волок! Тоже, образованный, а плетешь невесть что. Куда бабок-то подевали? Я, что ли, их извела? Не дам Ганку с места трогать!
— Да уж, изведешь вашу породу, — ворчал я, пока не догадался, что она говорит о повитухах, что в прежние времена пользовали женщин по деревням.
В комнате под слабой лампой лежала на смятой постели роженица с подсунутой под талию подушкой, отчего и живот, и вся верхняя часть тела были вздыблены кверху. Увидев нас, она замолчала напряженным усилием, кусая губы. Я скинул подушку на пол и опустил женщину на кушетку. Может, вы скажете, привирает Мишо, но верьте слову, перышком положил я ее на постель. Осунувшееся от мук девчоночье лицо и обильные росинки на мочках ушей до того резанули по сердцу, что я отвернулся к свекрови. А у той морщинки у глаз, похожие на поджившие кошачьи царапины, вдруг набрякли: сильно, видать, изменилась сноха со вчерашнего вечера. Роженица уставилась на меня затуманенным взглядом.
— Гана, доктор пришел, доктор Мишо. Это она за Любо тебя принимает, на тебе одежа его, — пояснила свекровь и поднесла фартук к глазам.
Роженица попыталась улыбнуться растрескавшимися губами.
— Ну как, получше тебе теперь, молодушка? Не бойся, вот увидишь, еще немного, и запоет человечек.
— Полегчало немного. — Голос ее, наверно богатый, но выцеженный в недавних криках, задрожал печально, точно у отлученного ягненка. — А то меня будто пилой пилили.
Я принес из кухни шприц и сделал женщине укол камфары, с трудом нащупав вену на ее левой руке. Потом, сдвинув рубашку, принялся массировать живот. Под моими ладонями будто каленый кирпич зашевелился — до такой степени затвердел и напрягся живот, точно перезревший плод, что вот-вот разорвется. Бока у нее были сильные и широкие, редкие при таком нежном маленьком теле, и я порадовался, что роды будут легкие. По капелькам пота, стыдливо заблестевшим на расслабившейся коже, стало ясно, что схватки отпустили. Бабка зорко караулила в дверях, словно боялась, что я проглочу ее сноху.
— Ну а теперь как? — спросил я женщину.
— Пошел уже? — Глаза ее блеснули, будто солнышко из-за туч.
— Скоро пойдет. Вот только не туда вы его направили, не через пупок же ему выходить. Ты, тетушка Гораница, неужто не рожала?
— Как не рожать, доктор, рожала, чего спрашиваешь? А вот роды принимать не довелось. Кровь у ней пошла… У меня раз летом на ниве пошла кровь носом, дак я нос-то кверху держала. Дай, думаю, невестушку приподыму, — не сдавалась бабка. — А ты чего на меня подумал? Что я родную сноху уморить хотела? Вступит же этакое в голову!
— Мама, ты с доктором не ругайся, — отозвалась ожившая Гана, — он нам как лучше советует.
— Ничего-ничего, — успокоил я обеих, — подремлешь сейчас, молодушка, часок-другой, и пойдет человечек. Поплутает немного и на свет выберется.
Голод выскребывал мне желудок, точно скребок квашенку. Старушка, запрятав куда-то термос с весенним маминым супом, вывалила мне в белую тарелку дымящуюся кислую капусту с двумя куриными бедрышками. Я приободрился и заорудовал вилкой. Хозяйка, подпершись ладонью, любовалась на мой аппетит. Я вообще-то специалист по внутренним болезням, но сельский врач, друзья мои, через десять лет практики в чем только не начинает разбираться — и в гортанях, и в ушах, и в глазах, и в поясницах. Правда, роды я принимал обычно вдвоем с акушеркой. Врачом я стал по настоянию отца, ветеринара, да и старичок Оклов пророчил, что из меня выйдет великий диагност. Дело известное, ничего особенного не вышло из Михаила Михайлова — Мишо, но одно хотя бы могу сказать себе в похвалу: не загасло во мне сочувствие к людям. Вы там себе что хотите болтайте, а только изо всех талантов самый ценный — сострадание. Я его ставлю выше гениальности и не ропщу на то, что скромный у меня дар. Вот хоть и сейчас, кто меня принуждал бодрствовать в этом доме, среди темной и шумной ночи, вдали от ваших музеев, театров и ресторанов?..
В сенях хлопнула дверь на балкон. Мы подумали было, что это ветер сбивает петли. Заглотнув кусок, не доевши, я выскочил вслед за старушкой в сени — двое стариков внесли на носилках для кирпича кого-то под домотканым одеялом. Передний старик, щупленький, одетый в буроватую антерию[8], держал носилки низко, а задний, как палка прямой и важный, в пальто с широкими отворотами, явно с сыновнего плеча, вздымал ручки слишком высоко. Будто эти двое собирались спустить свою странную ношу в могилу.
— Вы кого это ко мне в дом тащите? Тихо! У меня сноха насилу заснула, — бранчливо встретила бабка диковинную процессию.
— Еличка, кума, Каракачанина мы к тебе несем, разве не видишь? — загнусавил высокий важный старик, опуская носилки на пол. — Сноха, говоришь, а что с ней такое?
— Ой, кум Герго, родами мучается, уж так мучается, сердешная, полегчало вроде, да того гляди опять начнется, — отвечала старуха с невольным уважением.
— Кто тут из вас будет доктор? — вопросил вдруг маленький старичок, продолжая в одиночку влачить носилки.
— Тебе что, дед Нейчо, повылазило, разобрать не можешь, сколько мужиков перед тобой? — осадила хозяйка маленького дедка, у которого верхняя губа сильно смахивала на заплатку под носом. — И чего ты его волочешь ногами вперед? Тут тебе не погост, а дом, в нем люди живут подобру-поздорову. Как звала, чтоб он в этот дом своим ходом взошел, так он закобенился, а теперь на́ поди, на носилках жалует. Да на что он мне сдался такой? На засол рази пустить.
— Ну, Гораница, мало, видать, Горан тебя учил, гляди, как бы я тебе бока не наломал, — загрозился маленький старикашка.
— Нейчо, не цепляй ты ее, из этой пасти щелястой, кроме помоев, сроду ничего не дождешься, — отозвался Каракачанин, со свистом выпуская воздух сквозь стиснутые зубы.
За разжавшимися губами проблеснули острые зубы, их казалось так много, не меньше ста штук, будто кто-то щедрой рукой забросил ему в рот полную горсть.
Каракачанина занесли в чулан. Жилистый крепкий старик со скулами, словно бы сведенными в мстительную гримасу, бревном растянулся на кровати под круглым оконцем. Я загасил электричество, чтоб ему не мешало, зажег фитилек керосиновой лампы и присел перед кроватью на корточки. Голос с трудом выцеживался из Каракачанина. Челюсти лязгали, как у обозленного волка. Семь-восемь месяцев назад пошел он в хлев сена подбросить своему мулу. Черный выпал денек! До той поры здоровье его не покидало, а тут вдруг поджилки затряслись, три раза споткнулся, пока до хлева дошел, тыкался то в подпорки, то в двери. Подумал тогда: старость ли уже на подходе, беда ли в сердце стучится, знак подает. Она самая и оказалась, беда, с пятки зашла, воткнулась ржавым гвоздем. Гвоздь-то он вынул, ранку перевязал, боль и пропала вроде. А недавно совсем, неделю, две ли назад, белого света не взвидел, стало челюсти сводить. Позапрошлым днем чуть ли не рука пролезала, а нынче уж и мизинец промеж зубов не проходит.
Я сразу понял, что у него уже дней десять столбняк. Оставь он ранку на воздухе, открытой, может, и обошлось бы, подумал я, а теперь смерть стоит у него за спиной. Спасти его можно только в больнице. Я пощупал пульс, выслушал сердце — в живых его держала энергия могучего тела и по-молодому здоровые внутренности. Сделал ему укол камфары, потом еще один — жидкого анальгина.
— Доктор, а я у тебя тут ноги не протяну? — умоляюще глянул на меня старик.
— Дядюшка, никак сейчас невозможно тебя в больницу везти, — как можно мягче объяснял я. — Да и роженица в доме. Но ты не волнуйся, к утру поутихнут овраги — вызовем машину. А уж в больнице, дядюшка, мы живо с твоей болезнью расправимся. Ты ведь, как я погляжу, вон какой кряж, продержишься небось до тех пор?
— А что у меня за хворь?
— Да так, пустяки, кровь у тебя малость отравлена.
— Если мне вдруг чего занадобится, ты ведь прислужишь мне, парень? Больно неохота Юрдечку просить. Не ко нраву она мне пришлась: занозистая такая, все поперек, а мне надо, чтоб жена шелковая была, мягше ягнячьего пуха.
Мольба в суровых глазах старика до того меня защемила, что я поспешил скрыться в кухне. Юрдечка, убрав со стола, чистила возле печки проволочной мочалкой горшок. Под сукманом колыхалось ее моложавое крепкое тело. В сумрачных глазах ходили задорные вспыхи, но этого словами не опишешь, друзья мои.
— Доктор, чего там старый козел пыхтит, чего высвистывает? — спросила Юрдечка, грубостью прикрывая нежность.
— Плохи у него дела, тетушка Гораница.
— Ничего с ним не станется, это такой сук, что ни одним топором не возьмешь, — возразила Юрдечка позвончевшим голосом, и морщинки на щеках полыхнули. — Я к нему вдовому в жены ладилась, да он, проклятый, ядучий — горчее редьки.
Вымыв руки, я пошел к роженице. Она вытянулась на постели, ритмично дыша. И одеяло, и подушка лежали ровно, значит, этот час она провела спокойно. Между тонко извитыми шнурочками бровей, точно в продолжении носовой кости, была небольшая выпуклость, придававшая лицу легкую сердитость. Постоял я там, если быть точным, не больше минуты. Заметил, что левый бок у нее нет-нет да и вздрогнет судорожно. Человечек, судя по всему, решил тронуться прямиком. Сон пока что не дает разыграться болям, но схватки уже подступают, скоро и в помине не будет ни сна, ни покоя.
Вернувшись к Каракачанину, я увидел, что он крепко зажал пальцами уши. Потом разжал и принялся жадно, точно рыба на песке — только рот прикрыт, — вбирать в себя домашние шумы. Шумы эти его терзали, но он, видно, радовался тому, что хоть уши у него работают, что не все нити, связывающие его с жизнью, порваны. Я присел на дощатый табурет, взял его крупную руку и стал проверять пульс.
— Доктор, как там Юрдечка, во всю меня костерит, старая ослица, а? — спросил он чуть не шепотом, и в натужном, срывающемся голосе я уловил просьбу ободрить его.
— Напротив, дядюшка, очень она тебя хвалит. Занемоглось ему, говорит, вот он ко мне и пришел. К кому ж и идти Каракачанину, как не к Юрдечке, да, точно так сказала.
— Ну уж нет, убей меня бог, коли она не сказала, что вдарят скоро по Каракачанину колокола, — возразил старик с острым огоньком в глазах. — А-а-а, где они, эти колокола? Крест на церкви набок покачнулся, хуже горького пьяницы. А и колокол-то прошлым годом трактористик один умыкнул. Я, говорит, звукалку вашу национализирую, вам что поп, что в лоб, один черт, безбожники, А нам, говорит, на винограднике в самый раз будет — к обеду звонить. Ну а какая молва по Югу идет о Каракачанине, солоно про меня говорят аль сладко?
— Все тобой не нахвалятся, дядюшка, — посластил я старику.
— А-а-а, доктор, добрая ты, видать, душа. — Судя по всему он надолго решил дать волю своему верезжащему голосу. — А знал бы, с каким лиходеем сидишь, небось бы загнушался. Чего только я ни делал, чтоб люди меня добром поминали! Было когда-то вокруг нашего села с десяток сладководных родничков. Каждый из них носил имя какого-нибудь человека. Жил-пожил человек — кто его помнит, а тут имя его из уст в уста переходит, вроде бы он все еще живой. Потом провели нам воду прямо во дворы, роднички-то и заглохли. Поплевал я на руки, взял да все их вычистил. Пойдет, думаю, человек в поле, напьется водицы сладкой да студеной. А уж села-то обезлюдели, протащится иногда бродяга какой, так у него вода в термосе. Псу под хвост пошли мои роднички. Тогда стал я высаживать фруктовые деревца, в том месте посажу, в другом. Вызреет плод на них — все кто-нибудь да полакомится. А тут виноградные поля затеяли, потонули в них мои деревца. Ладно, говорю себе, Каракачанин, возьми-ка тогда замости овражки. Наделал я из тополя тесин и накидал мосточков, все честь по чести, и настилочка, и перильца — картинки, а не мосты. Только кто теперь мотается по оврагам? Разве что на осле кто-нибудь проедет. А осел — он и на скалу вскарабкаться может, плевать он хотел на мои мосточки. Охотник какой промелькнет, так у него одна дичь на уме, он и глядеть не глядит, куда своими бахилами ступает. Ладно, я своего все равно не оставлю, принялся навесы устраивать. Любое случись непогодье — буря ли, метель ли, град или ливень, — будет бедолаге какому-нибудь где голову приклонить. А тут базы туристические пошли, дачи, какой же дурак на мою городьбу польстится. Разве что зверь когда-нибудь забежит. А я ведь не для зверя старался.
Тогда, доктор, говорю я себе: ну, раз не принимают от тебя добра люди, по-другому к ним подступись, займись-ка ихними душами, да полегонечку подбирайся, приманивай, точно кошек, по шерстке сперва погладь. В конторе нашей вертелся один человечек, сам старый, а пальтецо новое. Сверху, как полагается, шляпочка с голубым ободком, обувка лаковая. Фасон держит, а сам дошлый-предошлый — зубы заговаривать мастер. Все-то суетится, и под локотком портфель зажатый. Вид у него — будто вот перестань он суетиться, и вся Болгария в тартарары провалится. А сам загребущий — такой себе в Ямболе дом отгрохал, что туда и в швейцары не возьмут. Ну, мне до его дома какая печаль, только он, пескарь эдакий, больно уж и у нас разыгрался, что тебе конь в люцерне. Мало того, и сыночка своего к кормушке привел, точно борова к рождеству откормить решил. А сыночек его, лупастый такой парняга, усишки под носом вроде мышат, в сто лошадиных сил мяса носит и передом своим, извиняюсь, сильно гордится. Шахтер наш один, Баримчев, насмелился да и говорит: чего ты все под себя гребешь, надо и о других подумать. А Панков знаешь чего ему в ответ вывез? Сроду тебе, доктор, не догадаться, чего он отчекрыжил: не выступай, говорит, каждому по удойности! У кого, значит, вымя уемистей, тому и корма. А у самого, сукина сына, проверить — так шиш один, кошка не позавидует. Так вот, этой-то сволочи и решил я порастрясти душонку. Подстерег его утром у дверей и все его прошлое по косточкам разложил. Думал, как вытащу я на свет его подноготную, другие, вроде него, потише станут. Соображения-то в башке что у меня, что у ослицы… Доктор, чего-то у меня во рту точно уголья горят, и дом каруселью пошел, как на ярмарке. Мне б сейчас молочка кислого ложку.
Юрдечка будто специально оставила мой термос на ржавой печурке в углу чулана. В шкафчике отыскалась деревянная щербатая ложка.
— Давай, дядюшка, я тебя покормлю. Да много не говори, утомишься.
— О-о-о, садочком запахло вскопанным, будто вот-вот жена покойница появится. — Деревянная ложка с трудом продиралась сквозь густой частокол зубов. — Доктор, ты гляди, там в больнице-то в угол меня какой-нибудь не запихни. Брат мой помер в позапрошлом году в больнице. Бросили его одного в комнате, он ночью свалился на пол да помер. Они, лишь, бабу его оставили за ним ходить, а она, аистиха, взяла да в село умоталась. Так одинешенек и помер, через шесть часов только нашли. Знаешь, доктор, жить в одиночку куда ни шло, а помирать одному — последнее дело. А баба его, так ее, на другой день после похорон явилась ко мне. Драгинко[9], говорит, наш бочонок тут у вас остался, брат твой, как помирал, забрать его наказал. Какова гадина, а, доктор?
Закричала роженица, и словно лавой горячей обдало Каракачанина, даже жилы под кожей напружинились. Он поглядел на меня ободряюще, хотя сам нуждался в успокоении и помощи.
— Парня она родит, видал я ее на рождество, живот большой и пегота возле носа сильная, мужик будет красавец, мать-то вон какая пригожая, точно яблочко, — засвиристел он из последних сил, вслушиваясь в собственный голос, словно на куски раскромсанный частыми зубами, довольный, что хоть голос у него жив и здоров. — И у меня жена была, точно яблочко, белая да румяная, царство ей небесное. Тихонько ведь стараюсь говорить, доктор, а рычу, точно зверь, знаю я, отчего рычу. Так же вот, как эта молодайка, кричмя кричала. Дети, дети… Пятерых она мне принесла, сколько на руке пальцев. И все парни, мои отростки. А я, ихний корень, в скудной землице вырос, вот и захирели мои веточки. Ну чего стоишь, не слышишь, что ли? — зыкнул он на меня так строго, как даже отец отродясь не зыкивал, будто он только за тем сюда и явился, чтобы облегчить рождение Юрдечкиному внуку.
— Да ведь как же ей не кричать, дядюшка, она сейчас непременно кричать должна, — оправдывался я, точно мальчишка.
— Иди-иди, нечего тут прохлаждаться. Как пойдешь обратно, будильник мне прихвати. Который теперь час? — Размахивая ладонью, как флагом, он гнал меня из чулана.
— Девять набежало.
— Рано. Есть еще время, — промолвил он так загадочно, что у меня мороз пробежал по коже.
В комнате у снохи Юрдечка подбавляла дров в печку. Роженица то замирала, хрипло клокоча, то выла в полный голос, словно разъяренная волчица. По лбу без остановки тек горячий пот, родильные пятна вокруг заострившегося по-покойницки носа налились краснотой.
— Охо, охо, спешит вихрастенький человечек. Вот-вот на ножки вскочит да девицам подмигнет, — забалагурил я, притворяясь веселым и беспечным, глядя, как Юрдечка вытирает снохе полотенцем мокрый лоб. — Вот уж он и ручонку к сердечку приложил, ах ты, негодник, рано тебе еще в любви клясться. Рано, послушайся дядю Мишо.
Мускулы живота работали нормально, с учащенными ритмичными сокращениями. Не пройдет и получаса, получит Юрдечкин род потомство: парнишку или девчонку. Повоет еще, покричит страшным криком женщина, и явится жизнь — она без смертной боли никогда не является. Я оставил старуху караулить появление внука. Не обращая внимания на истошные крики, закурил сигарету в сенях. Слышал я, друзья, про три сладкие затяжки: после завтрака, обеда и ужина. А я вот напомню вам про четвертую, самую нужную: затяжку после смертельной усталости.
Сколько раз ни случалось мне бодрствовать ночью или на самой заре, всегда появлялась в душе необъяснимая приподнятость — казалось, что принимаешь участие в бесконечном празднике. Ночью начинается утро, играет кровь, а утром, когда рождается день, и сам себя новорожденным чувствуешь. Мне вспомнилось утро в детстве: пробуждается дом, мама готовит завтрак на печке, отец, навернув обмотки, наскоро перекусывает и мчится по своим ветеринарным делам, дедушка, дряхлый, светящийся, словно осенний лист, уютно устроился в уголке, к печке поближе, зовет меня: «Мишка, Мишка, поди-ко сюда, я тебе свой сон расскажу». С отцом я встречал зарю над Кадерик-курганом: синяя ночь борется с розовым рассветом над Татарским лесом, в травы падает лиловая мгла, благоухает весь мир. А ночи, проведенные с Борисом, Сашкой и Павлом по нелегальным квартирам! И потом — короткие рассветные сходки, старый Постолов и ротмистр дед Орач раздают задания, а мы уже легализованные, и фанфары победно звенят в молодой крови…
Убедившись, что мать и ребенок вне опасности, я все свое внимание перенес на Каракачанина. Спасти его можно только в окружной больнице переливанием крови, как при лейкемии. Если выдержит до завтра, самое позднее в девять часов будет лежать на операционном столе. Я был возбужден и как-то по-детски уверен, что Каракачанин выживет. Только бы продержался! Как ему помочь — лекарствами, физиотерапией? Нет, одна надежда — на его стремление жить. Он, кажется, нашел в моем лице исповедника. Исповеди, судя по всему, двигают его волю, как зубчатое колесико — храповик в часовом механизме. Придется применить психотерапию, то подогревая, то охлаждая его излияния, чтоб не прекратилось движение, чтоб не слишком быстро провернулись считанные нарезки.
Дом горел всеми огнями, будто здесь готовились к празднику или к восстанию. Я обошел все комнаты — хотелось сродниться с этим незнакомым домом. В шкафчиках и кладовках были запасены компоты, яблоки, сушеный виноград, айва, орехи, свисали два копченых свиных окорока, колбасы, среди них и увесистая, килограммов в тридцать, знаменитая по всему Югу свиная колбаса под названием «старик». А к одной из балок были привязаны сухие снопики зверобоя, чебреца, мяты. Словно все времена года собрались и задышали в этом доме.
— Заведи его, доктор, чтоб зазвонил… — начал Каракачанин, стараясь быть кратким и категоричным, точно от этого зависела его жизнь.
— Во сколько тебе надо, чтоб зазвонил, дядюшка? И куда это ты собрался?
— Куда я собрался, тебе еще рано, парень! Когда новый день начинается? — спросил он опять многозначительно.
— Считается, после двенадцати. Вот пройдет полночь, и будет уже воскресенье.
— А-а-а, есть еще время. Ты садись, доктор, садись, — пытался он собрать свой обрывистый голос. — Чего молодайка так надрывается? Гляди, коли с ней случится беда, головы вам поотрываю. Парнишка ли родится, девчонка ли, как-то заживется дитенку? Да по нынешним временам чего не рожать! А мои ребята повисли у меня на шее — шагу не ступишь. Да и куда ступать-то? Времена стояли крутые, пропади они пропадом. Куда ни ткнешься, везде колючки одни. В отход не пойдешь, захирели ремесла, фабрики позакрывались. На Юге у нас Деветчия орудовал, девятью головорезами верховодил. Они скот перекидывали через границу. Ходко у Деветчии дело пошло, лет бы десять ему еще, и он шайку свою до тыщи бы увеличил. Пришлось бы его перекрещивать в Тысяцкого. А нашим-то детям уж и делить чего не осталось. Земля на кусочки раскромсана, тесно в деревне, а город нас не хочет. Одна и оставалась дорожка — к Деветчии. В те поры другое у меня прозвище было: Келеме. Знаешь ты, доктор, что такое келеме? Проклятая земля, на которой ничего не родится. Во мне буйства на троих, силушки на десятерых, а доля досталась скудная — по одежке протягивай ножки. Только на таких-то, какой я был, с треском одежка лопается. Будут они меня келеме называть!
Дети мои в Варнице начальную школу окончили, вернулись в Армудово. Кинулись было к плугу, а для моей полосы и одних рук хватает, без дела остались сыновние руки. Поглядел я на эти руки пустые, и такая меня горечь взяла, что надумал я к Деветчии податься. Купил себе старый манлихер, рассчитал: покумлюсь года два с Деветчией, голов этак двести скота перекину и детей своих подниму. Деветчия днем по болотам крылся, в Мутаровом долу. Отсиживался там, как в крепости, потому как знал через болота тайные тропки, а кто словить его хотел, хуже мух гибли.
В то как раз время шли мимо Армудова каракачанские стада. Тут я и придумал, что Деветчия мне не свет в окошке, и без него обойдусь. Стал за стадами за этими следить — по утрам они по нашему плоскогорью проходили. Одни говорили, что каракачане овец своих на пастбище перегоняют на ту сторону Тунджи, другие — что гонят на продажу в свиленградские села. Я-то смекнул в самую точку: каракачане со своим скотом расстаются. Если пастбище свежее ищут, то подальше от сел идут и скот так не гонят. Овцы у них не паслись, против ветра шли, только пыль висела, невысокая такая пыль, влажный воздух вверх ее не пускал. Прошло одно такое стадо — я и сон потерял. Все ждал, когда каракачане назад пойдут, все смотрел на деревеньки под Сакар-горой. Утром однажды вижу: трое каракачан перешли плоскогорье, стоят, на Татарский лес смотрят. Схватил я ружьишко, спустился к реке, змеей притаился промеж скал в ежевике… Доктор, споднизу мне дует что-то под самую спину. Будто и не в Юрдечкином я чулане, а снова в этих проклятых скалах торчу. Упираюсь в камни и плечами и пятками.
Он ошарашенно просунул большую свою руку под спину. Болезнь, как и следовало ожидать, начинала ломать его немилосердно. Свирепо лязгали челюсти.
— Дядюшка, я ведь не поп, чтоб исповеди твои выслушивать, — заругался я полупритворно-полуискренне: многословие и впрямь могло ему повредить. — Молчи, придерживай силы. Вот уж и полночь подходит, рассветет — поедем в больницу.
— Где же твоя сознательность, доктор? — Он саданул меня кулаком в плечо, пискнув, точно мальчишка, брошенный родителями. Густой ряд свиристящих зубов навис у меня над ухом. — Кабы остался я дома, пришлось бы тебе бегать то ко мне, то к Юрдечке. Пришлось бы, пришлось бы тебе побегать, ага! А знаешь, что бывает, когда под одним локтем два арбуза несешь? Сейчас бы уже и младенчик, и молодайка, и Каракачанин торкались к святому Петру в самшитову калиточку. Оттого я здесь, у Юрдечки. Не поп он! Ты-то, ясно дело, не поп, а я вот с тобой как на духу!.. Гляжу в щель среди камней — на полянке сидят двое каракачан. Разложили на суме хлеб и брынзу. Перекусывают, похоже, отец и сын. Отец спиной ко мне, только шарф его видно, чалмой вокруг головы обернут на турецкий манер. А парнишка — лицом красивый такой парнишка. Хорошо ли, думаю, людей из-за угла убивать? Перед хлебом и ругаться-то грех, а я душегубство затеял. А сам держу их на мушке. У отца пояс раздутый, сразу видать — деньги…
Острая боль резанула его в позвоночник. Он попытался припасть к кровати спиной, но тело не послушалось, изогнулось дугой.
— Дядюшка, коли есть тебе чего сказать, говори короче, — попросил я старика, опасаясь, как бы он вообще не прервал свой рассказ. Говорить перестанет — заглохнет воля, точно мельница без зерна, и конец наступит быстрее, чем я успею его в Варницу отвезти. — Ты говори, но полегоньку.
— Погоди, погоди, — прорычал старик сквозь стучащие зубы. — Есть еще время. Сколько там на часах-то? Навожу я на них стволик и минуту целую думаю, кого наперед убить: парнишку или отца? Парнишку! Пока злоба с меня не сошла, сразу его и порешить. Чтоб не видел мертвого отца, чтобы не терзался. А так он ничего не узнает, отойдет без боли. Выбираю местечко на его рубашке, а рубашка в полосочку, в синюю да в желтую. За Тунджей ребятишки такие рубашки носят. А у самого глаза застит, скачут перед ними желтые и синие полосы, будто жена на стану ткет одежду для сыновей. Сверху снопы какие-то опускаются да кленовые деревца. И уж чувствую, что из меня, окаянного, убивец не получается. И чтоб совсем мне не размягчеть, прижмуриваю один глаз. Закрепляюсь потверже в щели и провожу от прицела до парня тонкую-претонкую нить. Нажимаю спуск и сквозь эту нитку, что ни снопов, ни кленов, ни жалости не пропускает, вижу, как мальчишка кверху подскакивает. Знаешь, в самое сердце ему угодил, ага. Вскочил он, постоял так немного, а сам улыбается, потом уж и на землю упал. Отец-то выстрел слышит — думает, что охотятся где-то, смеется и мальчишке кричит: Коста, кричит, ты чего за землю схватился? А уж мальчишка-то, знаешь, и не шевелится, тут отец и понял, что мертвый он у него. Как закричит, закричит: Коста! Коста — и тут же смолк, догадался, должно, что и сам на прицеле. Шарит глазами по холмам, по поляне, пугает его, видать, открытое место. И знаешь, потащил он своего мальчишку прямо к моим скалам. Я в воздухе перевернулся, зарылся в песок. Бога молю, чтоб не привел он сюда отца и убитого сына. Пускай, пускай уходит себе, не нужны мне такие деньги!
А он, как на беду, прямо в тень под скалы идет, мальчишка ягненком повис на шее, и улыбка у него еще живая. Вот уж и лицо отцово прямо против моего. Знаешь, похожие они были, отец и сын. Только отец не такой молодой, как со спины на поляне казался. Что будешь делать! Гляжу ему прямо в лицо, и он на меня тоже смотрит да робко так усмехается, будто защитника во мне нашел. До того мне его жалко стало, я ружье-то и давай подталкивать к насыпи, в реку. И кой черт я тогда за оружие взялся? А тот увидал ружье, взревел дурным голосом и назад! Выскочил на полянку, совсем обезумел, бежит с мальчишкой через плечо, и все открытые места выбирает, боится прикрытий, кустов и камней сторонится. Тут и на меня жуть накатила, задрожал я и за детей, и за жену, и за себя, нацелился ему в спину…
На крови себе хозяйство поставил, а добром-то и попользоваться не успел — новые пришли времена. Земля в кооператив отошла, сыновья в город перебрались, жена умерла. Зачем, зачем я душу свою сгубил?
Лихорадочно затрещал будильник, наполняя дом заливистой трелью. Я и подумать не мог, что обыкновенный будильник способен в ночной тишине отдавать колокольным звоном. У Каракачанина зубы стучали, как камнедробилка. С широкого, точно плита, лба поползла вниз злобная столбнячная гримаса. Изогнув по-волчьи неподвижную шею, он со странной лаской глянул на часовые стрелки, а они обе сошлись на цифре 12. Вдруг он закричал и сразу же замер, словно ожидая: откликнутся ли ему люди? И тут в сени выплеснулся пронзительный плач. Я стоял дурак дураком, пока не догадался, что это заливается только что родившийся ребенок. Каракачанин, внимая ответу младенца, аж заскулил от удовольствия. Стало тихо, мне казалось, что лицо старика заливает улыбка. Слабеющими пальцами вцепился он в мою руку.
— Доктор, — свистящий голос вылетал из сведенного рта, точно пар из паровоза, готового ринуться с места, — ведь не псом же подзаборным я помираю, правда? Я тебе про дары свои вчера рассказывал, какими от греха хотел откупиться, пустые они оказались, эти дары. Но вот сейчас-то, скажи, неужто и сейчас я не человек? Не палачом же Каракачанину помирать.
Последние слова он сказал в потолок, может, принял его за небо? И тотчас извился обручем и затих, натянув одеяло на изуродованное недугом лицо. Кончилась, видно, и последняя нарезка. На ветер пошла моя психотерапия. А может, она сделала только то, на что способна всякая терапия…
А Юрдечка в комнате у роженицы пеленала вымытый и подсушенный верещащий комочек с головкой в мягком пуху. На полу стояла недомытая сковорода с песком и проволочной мочалкой. Роженица смотрела изможденно, словно после бредовой лихорадки, с тихой нежностью в усталых глазах.
— Доктор, девочка, внученька мне родилась, — звонко пропела Юрдечка, укутывая в пеленку розовые припудренные складочки младенца.
— Мама, дай же мне ее, — простонала, слабо улыбаясь, роженица, еле глядя на белый свет.
— Сейчас дам, Гана, доченька, сейчас, погоди, пока молоко спустится. Голодненькая она у меня, ягодка, — замурлыкала Юрдечка, — девять месяцев в темноте жила, вот теперь и сердится.
— Тетушка, мне бы прилечь где-нибудь, — попросил я старушку.
— Ой, Мишо, совсем мы тебя, касатик, забросили. Гана, поцелуй у доктора Мишо руку.
— Да что вы, тетушка Гораница, что вы, — испугался я.
Но Ганка уже тянула ко мне исхудалые руки, я склонился и поцеловал ее в щеку.
— Каракачанин-то как? Можно ему ходить? Пускай бы пришел на ребеночка поглядеть, — сказала Юрдечка. — Ах, и что это я, дурья башка, говорю, ведь три недели сюда мужчине нельзя входить.
— Он уже не придет, тетушка.
Старуха застыла над пеленками, но затем решительно перетянула сверточек крест-накрест и осторожно приложила его к материнской груди. Поглядев на недомытую сковороду, вымолвила:
— Настигла его божья кара.
И ринулась в сени, разметав сукман, стукнувшись плечом о притолоку. Я остался в комнате у роженицы, пусть Юрдечка попрощается с Каракачанином, пока он еще жив. Ребенок, прижмурившись, искал беззубым ротиком сосок налитой материнской груди. Склонившееся над младенцем Ганкино лицо с этой юной своей сердитостью начинало принимать мудрое и заботливое материнское выражение.
Каракачанин, выгнувшись дугой, опирался на кровать головой и пятками. Скулы не злобой уже, а точно яростью свело, а верхняя половина лица купалась в улыбке. Да, известно, какую страшную маску кладет столбняк на лицо человека, но мне показалось, что улыбается он не от болезни. Глупости, может быть, но так мне показалось. Он, наверно, и Юрдечку видел в полутьме. Страшно было слушать его рычащие стоны. Всю ночь меня насквозь прошибало это рычанье. Я уж не поминал об этом, не хотел, чтоб рассказ мой действовал угнетающе.
Юрдечка, почуяв меня за спиной, потеряла мужество, но быстро овладела собой и, закачавшись, словно птица на ветке, храбро приблизилась к Каракачанину.
— Э, Ташо, вот и тебе в кочевье, в вечный путь… С богом… — И пошла к сеням. — В воскресенье праведники умирают. В одну воду подгадал с моей внученькой… — обернулась ко мне старуха.
— Ташо?
— Ну да, Ташо Кайраков, люди уж и имя-то его позабыли. Как порешил он этих каракачан, стали Каракачанином звать. Одно время приступались к нему с дознанием, да ничего не открыли. Только прозвище это, как отметина вроде, на нем осталось. А мне он все рассказал, — добавила она шепотом от дверей.
Утро застало меня на Юрдечкином топчане в кухне. Утихший ветер разносил веселый дух щавеля и влажной земли. От теплого солнца запотело пыльное окошко. В раковине поблескивал керосиновый бидон. Все вокруг молчало, у меня сердце сжалось, когда я подумал, сколько приходится Юрдечке суетиться, чистить, скоблить, чтобы не прекращалась жизнь в доме, а все равно конец уже близок, скоро запустение одолеет и этот последний живой дом в деревне Армудово… Тут цыплята в ящике словно запричитали: «Иди, иди, иди!»
Натянув на себя просохшую одежду, я вышел через сени на балкон. Внизу в тумане дремала деревня, унылые столбики дыма мешались со мглой. Юрдечка, стоя возле перил, что-то высматривала среди крыш. Далеко за курганами начинался восход. Не сыскав, чего хотелось, во мгле, старая женщина перевела тоскующие глаза на ласковое мартовское солнце и перекрестилась.
Прощай, деревенька, родная.
Перевод Н. Смирновой.
Стоян Бойчев
СОК МУШМУЛЫ
© Стоян Бойчев, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
Женщина стояла на солнцепеке, защищая ладонью глаза.
Воздух дрожал, словно где-то далеко, за синими гребнями гор, неведомая огромная сила перемешивала воздушные пласты. Звук медленно нарастал, приближался, и вот в небе блеснуло длинное веретено самолета. Солнце играло на его гладкой поверхности, в этих сверкающих пятнах, стекающих с его серебряного тела, было что-то непостижимое, отупляющее. Случалось, самолет пролетал ниже, и тогда она могла различить окна — ровный ряд темных точек. А ведь там сидят люди — и, может, они тоже видят ее с этой головокружительной высоты. Господи, куда же они летят-то?.. Мир, знакомый ей с детства, так невелик. Она знает здесь каждую долину, и каждую гору, и каждую складку земли. А они все летят, летят…
Дрожание воздуха постепенно перешло в нарастающий вой, затем в этом вое послышался резкий, пронзительный металлический звон. Реактивные двигатели бушевали, бросая вперед сверкающее тело самолета. Женщина стояла на голом холме, словно деревянный идол, вросший в землю, и чувствовала, что этот звон, чужой, неукротимый, подчиняет ее себе… Железное веретено унеслось, пролетело, звук затухал вдали, но женщина все так же стояла и смотрела ему вслед.
Она не видела нас, пока мы с Фокой поднимались по заросшему травой проселку, но услышала, что ее окликают:
— Саба! Эй, Саба!
Она вздрогнула, как спугнутая птица.
— Тебе здесь будет удобно, — говорил мне Фока. — Она живет одна, в доме у нее можно расквартировать хоть целый взвод.
— Ну-у, вряд ли…
В удивленном взгляде, которым одарил меня Фока, можно было прочесть, что он, Фока, здесь представитель власти и дело свое знает, а вот я — дурак, раз позволяю себе в этом усомниться.
Черная собачонка бросилась ему под ноги, но Фока, невозмутимо оттолкнув ее грубым солдатским башмаком, прикрикнул:
— Пшла вон! Чтоб тебя хозяйка съела!
— Хорошо же ты меня угощаешь, — отозвалась женщина.
Она шла по огороду, и буйно разросшаяся лебеда почти совсем ее скрывала.
— И какая тишина! А?..
Фока глубоко вздохнул, прислушался, и на его худом подвижном лице удивление сменилось уверенностью.
— Будешь доволен, не сомневайся! — сказал Фока, и его усы, закрывавшие верхнюю губу, дрогнули.
С Фокой мы знакомы давно. Он всегда приглашает меня на охоту, а приезжая в город, звонит мне. Ясноглазый, нетерпеливый, шумный, бесконечно отзывчивый — вот и сейчас он добровольно занялся моим устройством, желая как можно лучше меня п р е д с т а в и т ь. Совсем другое дело, говорит он, когда власть вмешивается. Сразу налагается ответственность: гляди, мол, позаботься о человеке как следует!
Кликнув собаку, женщина обошла упавший плетень и медленно направилась к нам. Ноги ее, обутые в старые царвули, устало шаркали по земле. Женщина была невысокая, старая — из-под черного платка выбились седые волосы. Но лицо, покрытое сетью морщин, еще хранило следы былой красоты, осталось живым и выразительным, что так редко встречается у старых людей.
— Что ж, добро пожаловать, — сказала она и поздоровалась с нами за руку.
— Спасибо, — ответил Фока. — Вот привел гостя.
Женщина окинула меня взглядом, в котором было любопытство и, может быть, беспокойство. Но не это было главным. Там, в глубине усталых и скорбных глаз, таилось что-то невыразимое — целая бездна.
— Ну, — неуверенно сказала она, — проходите, что ли…
Сюда приезжали редко. Это было заметно по всему: по глухой тишине, мягко и плотно объявшей старый проселок и ржавые припеки, по тому, как была натянута паутина на кустах и траве, по кроваво-красному блеску листьев скумпии, застывшей на холме, и даже по небу — спокойному, синему, прохладному. Все в этот тихий осенний день казалось мне удивительно прозрачным, нетронутым, чистым.
Моя хозяйка была в юбке грубого сукна, неподшитой, доходившей ей до щиколоток, в суконной безрукавке и домотканой рубахе. Все, что на ней было надето, она, наверное, сама спряла, соткала, сшила.
— А что ж ты не поинтересуешься, зачем мы пришли, тетка Саба? — спросил Фока.
— Сами расскажете…
Дом был старый, в два этажа — такие дома строили себе когда-то жители гор. Он был врыт в крутой берег, террасой к югу. Рядом с домом гнили, врастая в землю, заброшенные хозяйственные постройки, крытые тяжелой черепицей.
Тетка Саба пригласила нас в прохладную комнату, поставила на стол ракию, положила переспелые груши.
— Ну, теперь рассказывайте.
Пока Фока рассказывал, она сидела, опустив на колени крупные жилистые руки, молча слушала, не глядя на нас, и было в ее облике что-то напоминающее усталого журавля: летел целый день над чужими странами — и вот остановился передохнуть…
— Пусть остается парень, — тихо сказала она и поднялась. — Будет мне компания.
А когда Фока ушел, молча повела меня по скрипящим деревянным ступеням.
— Вот здесь и устраивайся. Неси свои вещи.
Ночью я проснулся от какого-то внутреннего толчка. Где я?
Случалось ли вам внезапно проснуться от тишины — глубокой, первозданной тишины, словно простирающейся над всею землей?..
Скрипнула деревянная кровать. Подушка, набитая сеном, шуршала и пахла скошенными лугами. Я долго вглядывался в светлый квадрат окна. Из темных углов комнаты выплывали смутные очертания одежды, висящей на стене, шкафа, глиняного облитого кувшина, гладкая поверхность которого отражала лунные блики. На подоконнике лежали яблоки — от них исходил сладкий аромат и какая-то свежесть, проникавшая в мою грудь. Или это ночная прохлада вливалась в комнату из открытого настежь окна?.. Юркнула мышь — похоже, она задела орех, и он глухо прокатился по полу.
Не спалось. Я подошел к окну.
Мышь притихла, и теперь хорошо было слышно чье-то сонное дыхание — так дышат здоровые, усталые люди, проработавшие весь день. Внизу, под навесом, спала хозяйка. Я удивился, что она спит на дворе: ведь осень, и ночи прохладны.
«Десять лет минуло, сынок… Десять лет одна я, ровно кукушка, а все живу…» Я снова слышал ее голос и думал о том, как неестественно, несправедливо устроена наша жизнь. Ну почему, почему так обидела тебя судьба? В твои семьдесят лет тебе необходимы и отдых, и теплая комната, и отрадный гомон внучат…
«Хозяина моего придавило повозкой. Грудь ему раздавило. Два дня лежал, прикладывала я ему свежую шкуру баранью, однако не помогло. Повезла в больницу — от кровоизлияния, говорят, умрет, от внутреннего кровоизлияния… Вот и ушел он от меня, а такой был хозяин хороший…»
«А детей нет?»
«Были. Пока молодая была, каждый год рожала. Тринадцать детей родила, да только от пятерых дождалась, чтобы мне «мама» сказали. А сейчас и их нет. Никого…»
Луна медленно поднимается, ползет по невидимому своему пути. Ее холодный свет разливает вокруг серебряную, звонкую тишину. Силуэты построек ясно виднеются на фоне темных деревьев — так ясно, что кажутся нарисованными. Дальше тени сливаются в одну сплошную застывшую реку, плывущую к темным складкам горы. На поверхности этой реки то и дело вспыхивают перламутровые отблески листьев. А внизу, объятое мглой, спит село…
«Десять лет, сынок…»
Что так тянет меня из дому? Хочется спуститься во двор, и пойти по лунным дорожкам, и чтобы тень моя неспешно следовала за мной… А сухая осенняя трава от росы становится такой влажной, такой мягкой…
— Эй, эй!.. Да стой ты!
У каждого из нас есть какие-то свои, иногда совсем незначительные воспоминания, которые, однако, мы носим в себе всю жизнь, до последнего вздоха. Я вспоминаю маму, я слышу ее голос: «Вставай, сыночек… Коровы на солнцепеке, напечет их…» Но так хочется спать! Утреннее солнце нагрело постель и ноги, высунувшиеся из-под одеяла…
Тетка Саба доит корову, а та нюхает ее спину и норовит лизнуть платок.
— Ну, будет тебе! Всю меня обслюнявила!
Колодец старый. Ведро деревянное, позеленевшее, обручи его истончились от ржавчины. Но вода хороша. Умываясь, я хлебнул из пригоршни и ощутил холод ее и вкус — чуть терпкий, приправленный запахом намокшего дерева. На плиты возле колодца стекает вода. Трава вокруг зеленая, свежая. Интересно, прилетают сюда голуби?..
Солнце уже давно пытается взойти. На востоке огромным пестрым веером развернулась заря, потом острый золотой лучик выскользнул и замер над склонами — и вот уже вся земля засияла, праздничная, обновленная. Белый туман внизу над речной водой, безветрие, изумрудное кружение паутины — все в это прохладное сентябрьское утро предвещало еще один погожий денек…
Всадник подъехал незаметно — копыта коня мягко ступали по заросшему травой проселку. Мужчина склонился с седла; не спешиваясь, отодвинул прогнившую створку ворот. Его загорелое лицо от усилия налилось кровью.
— Эй, Саба-а-а!.. Хозяйка твоя здесь? — спросил он, поворачивая ко мне коня.
Собачка Лиско, очевидно привыкшая к этим посещениям, радостно повизгивала.
— Здесь я, здесь! — Хозяйка показалась на пороге.
— Собирайся, будем картошку копать на лугу.
— Поясница у меня болит, Лефтер. Хотела я отдохнуть нынче.
— Успеешь. Целую зиму что будешь делать?
— Ну, коли так, на том свете отдохну… Да ты что, — спохватилась она, — не видишь — гость у меня?
— А он небось знает, что пора у нас горячая, — не обидится. Давай знакомиться. — Лефтер все умел делать не сходя с седла; он натянул узду, конь покорно ко мне приблизился, Лефтер пожал мне руку: — Будем знакомы. Я бригадир. Фока мне сказал, что устроил тебя здесь.
Это был довольно молодой, преждевременно располневший мужик — видно было, как тяжело носит его конь.
— Мучаемся вот здесь, — продолжал Лефтер, лузгая семечки. — Людей не хватает. Дождь пойдет — и картошка, считай, пропала. Яблоки вот тоже не убраны. А вас, журналистов, развелось — только и знаете, что писать… Ну что, придешь?
— Ладно, езжай себе…
— Еду, да ты гляди не обмани.
В обед я пошел напоить корову и переставить ее. Заросшие бурьяном стены, заброшенные огороды окружили меня. Тракторы спустились вниз, на поля, оставив здесь тишину. Тетка Саба помнит каждый дом и людей, что жили тут раньше, и знает, где находятся покинутые их могилы. Вероятно, они остались только в ее снах, в ее памяти… Сухой бурьян, словно шелк, трещит и рвется под моими шагами и роняет мелкие семена, а остановлюсь — в ушах начинает звенеть тишина…
Вот она, одинокая мушмула.
Пылающий костер. Пламя его колебалось, переливаясь волнами, а внизу стлался по земле горячий жар листьев. Я подошел совсем близко. Плоды были твердые терпкие. Мой рот наполнился соком, и я вспомнил тихое осеннее утро, студеную воду старого колодца и — кто знает почему? — бригадира Лефтера…
«Вон как похолодало! Пора в дом перебираться, вечерами огонь разжигать… Без чего другого можно прожить, а без дров — уж никак. Пора, пора, нечего ждать. Лесок буковый вон как близко — знай себе руби. Оглянуться не успеешь — дожди зарядят, а после и снег… Человек, как состарится, зябнуть начинает. Сперва ноги. Помню свекра — все у меня теплые носки просил. Только богородицын день пройдет, он, бывало, говорит мне: уж свяжи ты, невестушка, старику носки тепленькие… Что ж, худо ли, хорошо ли, а старики уладили свои счеты с этим миром. Ушли покорно, тихо, будто свечечки угасли. Свекор мой вышел на солнышко — весна была, самое благовещенье, — уселся на припеке под стрехой да так и помер — ровно задумался о чем. Господи! Сыщется ли возле меня душа живая, чтоб глаза мне закрыла в последний час?.. Да-а, покуда здоров человек — и мысли его здоровые, и на душе у него светло. Встанешь, бывало, утром рано, перекрестишься на солнышко — и все тебе ясно. Опять ведь забуду про эту крышу. Протекает… А вот как занеможешь — только смерть и стоит перед глазами. Дай-то господи, чтобы как вот хожу, так бы и пала сразу. Господи, спасибо тебе скажу… Хватило бы только сил к людям спускаться. С людьми-то полегче. А ежели остаюсь тут весь день, так будто что внутри гложет, голоса слышатся — тех, покойных. А внизу и время бежит шибче, и за бабьими разговорами забываешься. Вот поди-ка, и к этому счастливчику Лефтеру, и к нему привыкла. Какая уж от меня работа, а все ж совсем иное дело, коли знаешь, что без тебя не обойдутся. Да, уродилась картошка, а выкопать всю не можем. И яблоки еще есть. Ежели не соберем за неделю, придется из них ракию делать, на что они еще будут годиться… Идешь по саду — и сердце болит: падают яблоки-то, добро пропадает… Ох, ногу что-то начало ломить. И фуфайка на мне, а все не могу согреться. В доме-то спать неохота. Когда звезд не вижу, ну будто что меня давит… Постояли бы еще погожие денечки… А мои-то весточки не подают, во сне только их и вижу. Погоди-ка… А-а-а, вспомнила: мизинец она мне во сне откусила, проклятая! Нет, про мизинец-то я в прошлый раз видела. А нынче — я, говорит, баш, вышитое покрывало тебе привезу. А парень мой приедет — в лес сходит, дров нарубит… Вышитое покрывало…»
Вчера почтальон Крыстю принес письмо. Тетки Сабы дома не оказалось. Крыстю очень настаивал, чтоб я передал письмо лично, и это меня до известной степени удивило и обидело: ведь мы с Крыстю были уже знакомы. Потом я понял: за письмо, принесенное так далеко, полагается хотя бы рюмка ракии. Если бы Крыстю хоть намекнул об этом — я знал, где у Сабы хранится бочонок.
Я отдал письмо тетке Сабе, но она не взяла, а попросила:
— Прочитай мне его сам, сынок.
Писала ей внучка Сабина. Сообщала, что скоро приедет на денек-другой, что у нее все нормально, были кой-какие неприятности, но об этом расскажет, когда приедет. Посылала большой привет и уверяла бабушку, что никогда ее не бросит.
Эта Сабина писала как-то уж слишком сухо и не признавала запятых.
Старуха избегала разговоров о своих близких, но еще в день моего приезда какие-то мелочи навели меня на мысль, что у нее бывают люди из города. Например, раскладывая свои вещи в шкафу, я обнаружил новую машинку для резки лука, явно чей-то подарок.
Тетка Саба резала лук ножом, утирая рукавом слезы.
— Младшего моего сына дочь, — сказала она тихо. — Того, что голову сложил в Венгрии…
Она села на краешек лавки и, взяв письмо, старательно разгладила его на колене.
— Она, Сабина, в честь меня крещена… А сноха ушла, когда Сабине минуло четыре годика. Ушла будто шить в городе, да снюхалась там с каким-то скорняком, однако под венец не пошла — пенсию чтоб не потерять. Так и живет, как сучка… Вот какие дела.
Гостья приехала, когда уже стемнело, вечерним автобусом.
Она была молодая, красивая, дом сразу наполнился шумным ее присутствием. Движения у нее были по-мужски резкими, но округлые линии тела и влажный блеск глаз придавали всему ее облику мягкость и даже чувственность.
— Это он твой квартирант? — спросила она свою бабушку и посмотрела мне прямо в глаза.
— Да, он! — резко, раздраженно ответила тетка Саба. — Ну-ка, одерни юбку!
Внучка не покраснела, однако колени прикрыла.
— Прекрасно, — сказала она непонятно о чем.
Огонь очага отбрасывал блики на ее пушистые волосы, и они казались светлее, чем на самом деле. Глаза у нее были большие, миндалевидные, с расширенными зрачками, смотрели они дерзко, но мне казалось, что где-то глубоко в них затаились усталость и печаль. Впрочем, подумал я, зрачки расширены, вероятно, оттого, что она закапывает в них белладонну.
Ужинали мы вместе. Говорила только хозяйка. Пару раз я невольно поймал тяжелый взгляд Сабины. Когда тетка Саба вышла, чтобы принести кислого молока, она сказала вдруг:
— Я приду к тебе сигарету выкурить.
— Ладно, — ответил я. — Приходи…
После ужина она поднялась наверх, с любопытством осмотрела мой стол и растянулась на постели. Подперев голову ладонью, она курила, медленно нанизывая мелкие колечки дыма одно на другое.
— Хорошо ты устроился…
Я не знал, что ей ответить.
— Что ж ты не садишься? — спросила Сабина. — Здесь ведь я у тебя в гостях.
— Сабина! — позвала старуха под окном. — Оставь человека в покое! Спустись вниз…
— Тревожится бабушка… Иду!
Но она не уходила — лежала все так же лениво, расслабленно, однако в ее взгляде была какая-то дремлющая, затаенная напряженность — она сознавала, что я смущен, и это, наверное, доставляло ей удовольствие.
— А ты негостеприимный, — сказала она наконец и быстро поднялась.
В дверях оглянулась и посмотрела на меня совсем откровенно…
Я долго не мог заснуть. Внизу говорили. Мне было слышно каждое слово.
— Ну, что дальше-то? — спросила старуха.
— Ну что! Дашь мне денег, — ответила Сабина.
— Как же ты те деньги потратила? Тысяча четыреста левов…
— Да не потратила я их.
— Где ж они?
— Я тебе сказала, недостача у меня.
— Какая недостача?
— Ну какая: сделали ревизию и установили, что не хватает товаров.
— Как так не хватает?
— Ну, баб, ты прям ребенок: что, как, почему!.. Ну обсчитали меня, ясно? Если не верну — судить меня будут.
— Тише. А все небось твой повеса…
— Ну да! Давала ему то одно, то другое. Так мы ведь пожениться собирались.
— Уже не собираетесь?
— Видеть его не могу.
— Хорошо же ты влипла.
— Что?
— Да то! Пятна вон под глазами…
— От солнца.
— Будет сказки-то рассказывать! Не порожняя ты, вот что я тебе скажу!..
— Ну, баб, ты даешь!
Сабина долго смеялась, как бы через силу, но старуха не поверила ее смеху.
— Что делать-то будешь? — спросила она.
— О чем ты?
— О ребенке, о том, которого носишь…
— И что ты ко мне привязалась!
— Не кричи. Человек спит уже.
— Очень уж ты его балуешь…
— Еще смеешься!.. Ну, а теперь знай: денег на то, чтоб ты опросталась, я тебе не дам.
— Сейчас за аборт деньги не берут. Отсталая ты, баб.
— Может, и отстала я, да догонять поздно. Раньше доктора на этом богатели.
— Ну хоть половину дай!
— Откуда же у меня деньги-то?
— Ты ведь теленка продала…
— Ух!.. Ну и хитра!
Я представил себе, как они укладываются во дворе на широкой лавке под навесом, как внучка прижимается к бабушке, пытается к ней приласкаться.
— Ну баб, ну ладно? — спрашивала она и смеялась.
— Завтра поглядим…
— Завтра я уезжаю.
Я вертелся как на угольях — не надо бы мне слушать их разговоры — и закрывался с головой, но до моих ушей долетал то шелестящий шепот старухи, то голос Сабины — молодой, сочный альт.
Утром Сабина уехала.
Хозяйка, проводив ее, вернулась тихо, словно мышка. От ее походки, от ее лица, от ее взгляда исходила кроткая печаль… Позже, вспоминая об этом, я думал, что всю жизнь она делала что-то для других: всю жизнь что-то давала, чем-то помогала. Наверное, именно эта самоотверженность поддерживала ее последние дни…
Мне было больно за нее. Не потому, что она лишилась сбереженных денег — все равно она их не тратила, — а потому, что лишилась надежды…
Сегодня мы ходили за дровами.
Я пытался уверить тетку Сабу, что для меня это прогулка, но она мне, конечно, не поверила. Держалась стеснительно — видно, решила, что помешала моим занятиям и потому в долгу передо мной.
Она шла впереди с топором в руке, а я за ней, неся на плече пилу.
Ноги по щиколотку тонули в опавшей листве. В воздухе стоял кисловатый пьянящий запах увядающих буковых листьев. Старая гужевая дорога вывела нас поначалу в широкую седловину, а после — в тенистый, сырой затишек, где в густых переплетениях ветвей чуть просвечивало низко опустившееся небо. Таинственная, изначальная, вековая тишина таилась в недрах букового леса, замершего под теплым осенним солнцем. Тетка Саба, ссутулившись, идет впереди, но я вижу не ее, а ее дедов, укрывавшихся здесь от врагов, а потом выходивших драться с теми, кто не хотел мира и свободы. Да, они шли по этой дороге, они видели вот эти же самые мраморно-серые буковые стволы, пили ароматную холодную воду из этого же ручья…
— Родник выше, — говорит тетка Саба. — В лесу вода никогда не кончается…
Я склонился к воде.
На дне лежат темные намокшие листья; сухие листья слетают сверху, покрывая камни — сквозь них ручей сочится тихо, едва заметно…
Господи! Сколько же всего мы не видим на этой земле! На берегу ручья, как раз около моей руки, остались следы двух острых копытцев… Серна, чутко прислушиваясь, вздрагивая лоснящимися эластичными мускулами, подошла и наклонилась к воде. Услышав шум, она вскинула голову, а с ее бархатных губ стекали капли…
— Хватает их. Пришли откуда-то. Одна с теленком своим все лето здесь паслась…
Скоро мы нашли упавший буковый ствол. Надо было распилить его, расколоть и перетаскать дрова к дороге.
Закончили незадолго до захода солнца.
Возвращаясь, мы пошли по течению ручья. Буки поднимались вверх, стройные и неприступные. Безмолвие предвечернего часа поглотило даже самые тихие лесные звуки. Мы продвигались, словно бесплотные тени…
— Помню, лес спускался аж до нашего дома…
— Вырубили его люди, — говорю я.
— Как начнут рубить в такое вот осеннее время — только к весне останавливались. Под пашню корчевали.
Лес постепенно редел, и скоро мы вышли на открытое место. Земля здесь была голая, сухая, от нее исходил дух тимьяна и тысячелистника. Старые межи поросли кустарником.
— Лес возвращается, сынок, погляди.
Заброшенные поля сначала зарастают бурьяном, потом их опутывают папоротник и ежевика, с краев подступает боярышник, а уж за боярышником поднимается граб. Люди спустились вниз — там у них новые дома с красными крышами, тротуары. И еще у них есть машины, которые, вгрызаясь под корни дерева, одним усилием сваливают его. Что ж, поле дает хлеб, и люди должны о нем заботиться…
Вчера, выйдя во двор, я заглянул в полуразвалившуюся пристройку. Крохотный вяз пустил там свои корешки. В будущем году он прорастет сквозь разрушенную крышу.
Лес возвращается…
Воскресный день и здесь, вдалеке от людей, тоже праздник.
Лефтер на своем коне не пожаловал, и тетка Саба занялась домашними делами: мыла, стирала… Сельские женщины всегда стирают на дворе. Даже зимой. Покрасневшими руками развешивают они мокрое белье и через час вносят его в тепло — замерзшее, хрустящее.
Тетка Саба трет белье в деревянном корыте, прислушиваясь к далеким неясным звукам, время от времени доносящимся из долины, — глухому рокоту машин, звону церковного колокола… О чем она думает?.. Она, никогда не роптавшая на судьбу, все испытания принимавшая смиренно, говорит: «Все есть как есть, и поздно хотеть чего-то другого». Мне казалось, что между ее словами и делами существует полное несоответствие. Но жизнь есть жизнь, а она — словно старое дерево из земли — впитала в себя всю ее бесхитростную мудрость.
Она знает, что я стою у окна, потому и не перекрестилась, как обычно, когда зазвонил колокол. Мне стало неловко, я поспешил отойти… Верует ли она? Может быть, но вера ее была какой-то древней, суровой, грубой — такой же грубой, как и ее бог, как и вся ее жизнь. В церковь она не ходит, но, я думаю, она говорит со своим богом, когда бывает одна в лесу. Наверное, он возвращает ее к истокам ее жизни, к ее предкам…
Я как-то даже спросил ее об этом, но она сухо ответила:
— Сейчас молодые не верят…
В словах ее не было сожаления: все есть как есть, что ж тут поделаешь.
А курице она отхватила голову топором спокойно, равнодушно. И невозмутимо смотрела, как та дергалась и билась на колоде, разбрызгивая вокруг кровь.
В обед мы выпили по рюмке ракии, а потом ели куриный суп.
Часа в два я спустился в село. Тетка Саба прилегла на припеке под навесом. Возвращаясь вечером, я заметил на дороге — там, где ее пересекали выбоины, заполненные водой, — свежие следы автомобильных шин. Кто-то к нам приехал. Еще издали услыхал я мужской голос, а вскоре возле колодца увидел зеленый «москвич».
— Приезжай ко мне, — говорил мужчина, суетливо стаскивая с багажника пустые ящики. — Я, тетя, сельский житель. И дом свой построил, как строят на селе, и двор у меня есть, и сад. Приезжай, поживешь…
Хозяйки нигде не было видно, вероятно, ушла в дом.
— Могу прислать Венче, поможет тебе собраться. Она, Венче-то, очень тебя уважает. Почему, говорит, Благой, не привезешь тетю? Добро бы не на чем было, а то ведь машина своя.
Этот человек не понравился мне с первого взгляда. Он был маленький, юркий, и рука у него тоже была маленькая и отвратительно мягкая.
— Вы мне не поможете? — спросил он, кивнув на ящики, которые лежали и на заднем сиденье.
— Пожалуйста, — сказал я и, взяв пустой ящик, понес его следом за Благоем.
— Прекрасно, — сказал он.
— Что прекрасно?
— То, что вы сюда приехали.
— Да…
— Я так понял, — продолжал Благой, — что тетя с вас много не берет за пансион?
— Ну, это уж наше дело.
— А вы не обижайтесь. Я ей племянник и, можно сказать, имею отношение…
На этом наш разговор закончился. Когда Благой подтащил к дому бачок с бензином, хозяйка, выглянув из двери, посмотрела на него строго.
— Убери! — сказала она. — Весь дом мне провоняешь.
Она была права. Племянник принес с собою чужой запах бензина, горелого масла и еще чего-то, пропитавшего его одежду.
Ночью меня вновь разбудили напряженно-тихие голоса под окном. Видно, и этот чего-то просить будет, подумал я.
— Оставайся, если тебе уж так их жаль!.. Я один поеду, — сказал Благой.
— Я же толкую тебе: три яблони, только вот не уродили…
— А те тоже наши! Ведь мой отец сам их сажал, я ему помогал! А эти дурни даже убрать не могут — ссыпали в кучи под деревьями и бросили!
— Ящиков не было…
— Все одно сгниют.
— Я тебе запрещаю!..
— Потише. Не то этот услышит…
Прорычал стартер, глухо хлопнула дверца, и фары обшарили стены моей комнаты. Шум мотора отдалился и постепенно заглох.
Тетка Саба наверняка стоит во дворе — одна со своими мыслями. Потом я слышу ее шаги, и мне кажется, что я вижу ее, медленно ступающую по двору: луна освещает седые волосы, а тень безмолвно следует за ней по земле. Вот она вздохнула, опускается на жесткую свою постель. Лежит на спине и широко открытыми глазами смотрит в лунное небо…
Я заснул, не дождавшись возвращения Благоя. Сейчас вспоминается, что в полусне я все-таки слышал звук мотора, стук осторожно захлопнутой дверцы и напряженно-тихие голоса. Племянник уехал до рассвета, а утром — еще не было восьми — пришли Лефтер и участковый, светловолосый молоденький лейтенант.
Бригадир был мрачным и отчужденным, а лейтенант из-за его плеча с любопытством оглядывал двор.
— Так, значит… — глухо начал Лефтер.
Тетка Саба молчала, перебирая пальцами фартук.
— Сколько яблок набрала нынче со своих яблонь? — строго продолжал Лефтер. — Этот разбойник говорит, ты ему все отдала.
— Подожди, — вмешался лейтенант.
— Ты ведь знаешь, Лефтер, немного было, — сказала тетка Саба.
— А все-таки сколько? — В голубых глазах лейтенанта было, казалось, только детское любопытство.
— Должно-быть, корзины две-три.
— Вот! — зашумел Лефтер. — А сын твоего деверя нагрузил двести тридцать килограммов! Вор!..
— Ты ему дала две-три корзины, — сказал участковый. — А остальные он откуда же взял?
Тетка Саба молча смотрела куда-то поверх голов своих собеседников, и, поскольку она была невысока ростом, в позе ее было что-то мучительное и неестественное. Сглотнув, она пошевелила губами. Скажет сейчас правду! — подумал я. Ну же!..
— Это я их ему дала, — медленно проговорила она.
— А у тебя откуда они?
— Приносила… понемножку… все лето…
— А-а-а! Вот, значит, как?! — взорвался Лефтер. — И ты, значит, воруешь общественное! Ну уж этого-то, тетка Саба, я от тебя никак не ожидал. Ты ведь сама это хозяйство создавала!
— Покажешь нам свой дом? — тихо спросил лейтенант, но в голосе его теперь прозвучала твердая, неумолимая нотка.
Происходило что-то отвратительное, нелепое, нужно было исправить глупость, сделанную старой женщиной, и я уже готов был вступиться, но тетка Саба так на меня посмотрела, такая мука и мольба были в ее сухих глазах, что я никогда их не забуду.
Участковый знал свое дело: обойдя сарай и комнаты в доме, он попросил стул и заглянул через слуховое окно на чердак. При этом тетка Саба стояла внизу, у его ног, тупо смотрела на его пыльные ботинки. Лейтенант приподнялся на цыпочки и, медленно поворачиваясь, обшарил электрическим фонариком темные чердачные углы. Потом энергично спрыгнул со стула и отряхнул ладонью свою фуражку.
«Ну?..» — спрашивали его глаза.
Старая женщина смотрела на него, словно онемев. На шее у нее под морщинистой дряблой кожей часто пульсировала жилка.
— Ты все ему отдала?
— Ага, отдала…
Участковый привычным жестом открыл планшетку и достал какие-то бумаги.
— А вы что скажете? — обратился он ко мне.
— Ничего…
— Ладно. А твое дело, тетушка, попахивает товарищеским судом… Раз общественное — значит, твое? Мне просто неудобно говорить все это тебе. Старая женщина, до седых волос дожила…
Я слушал молодого человека, смотрел на его румяное лицо и в его глаза, которые казались мне сейчас пустыми и жестокими… Тетка Саба стояла перед ним неподвижно, униженная, ушедшая мыслями во что-то далекое, свое, и только рука ее нервно вздрагивала — старческая рука с обломанными в работе ногтями, с крупными синими венами.
— Сейчас вот выставим вас напоказ перед всем селом…
— Да перестаньте вы! — не выдержал я. — Сколько можно мучить ее!
— Гражданин! — Участковый удивленно посмотрел на меня. — Гражданин, вы полегче!
Теплые осенние деньки подходили к концу.
Задул северный ветер, погнал к оврагам опавшие листья. Папоротники, тихо о чем-то шепчась, склонились до земли, укрывая ее коричневым своим покрывалом. Лес ощетинился…
Откуда взялся туман? Наполнив речное русло пышно клубящейся пеной, он разлился по седловинам и начал подниматься вверх — по старой дороге, по которой мы шли тогда с теткой Сабой; по этой дороге уходили Сабина, и Лефтер, и Благой, и светловолосый лейтенант; по этой дороге пришли когда-то поселенцы, обжившие здешние горы, отсюда по ней же ушли их внуки… Оторвется спираль от плотного лохматого тумана и, несомая воздушным течением, коснется, улетая, кроны старого дерева… И только там, над острыми гребнями гор, по ту сторону хребта, сияет кусочек далекого, чистого света. Там — солнце; там еще раздаривает щедрую свою красоту теплая осень…
Ты останешься здесь. Может быть, через неделю уже выпадет снег. Разве тебя не пугают одинокие зимние ночи и глухой стон леса? А тихий, едва уловимый звук, что издает червь-древоточец, — не пугает? Ты останешься, но зачем, если молодые не пустят здесь корней, а твои корни уж иссохли?..
Я говорю:
— Как только смогу, я снова к тебе приеду, тетя Саба.
— Приезжай. Да только далеко мы от дороги, вот что худо…
— Я тебе обещаю, что приеду.
Возвращайся домой, думаю я. Иначе туман застудит твои старые кости. Зачем ты меня так далеко провожаешь? Как ты пойдешь обратно одна?..
— Испортилась погода, — говорю я. — Дождь собирается.
— Ага, испортилась. Как эта пора подойдет — так и портится.
— Ты береги себя…
— От чего беречься, волков нет… Ну, в добрый путь, сыночек. С богом…
Ее глаза усталые и сухие, и снова в них немой вопрос и беспокойство, но не это в них главное. Там, в самой глубине этих усталых и скорбных глаз, огромная, неизмеримая бездна, у которой нет пределов…
Почему мы привыкаем не видеть того, что живет в стороне от больших дорог? Может быть, так нам легче?
Но ведь и в наше время, и еще, наверное, после нас будут плыть, словно айсберги, эти приметы нашего прошлого, нашей молодости…
Перевод И. Марченко.
Васил Акьов
ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ
© Васил Акьов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
На фотографии трое — мама, сестра и я. Мама сидит на стуле в черном креп-жоржетовом платье со сборчатым жабо и с сумочкой на коленях. Взгляд ее, мудрый, проницательный, выражает смирение перед жизнью и в то же время решимость не поддаться ей. Я ученик первого класса гимназии, в недавно сшитой форме, в новой фуражке, моя сестра ученица последнего класса, на ней берет, сатиновый гимназический халат с белым воротничком. Моя рука лежит на мамином плече. С той поры сжатый мальчишечий кулачок будет виден на всех ее фотокарточках для паспортов и удостоверений. И мама будет смотреть на него и нести на своем плече, как когда-то носила на руках меня. Потому что через несколько лет жизнь на четверть века разлучит нас и мы будем видеться лишь время от времени, не успевая сказать друг другу почти ничего. На всю жизнь черное креп-жоржетовое платье останется ее выходным платьем, в нем она будет и погребена. Она сшила его, когда умер мой отец. А снимок сделан через шесть лет после того страшного удара, в воскресный день янтарной осенью тысяча девятьсот тридцать четвертого года.
В нашем городе жила маленькая проворная женщина по имени Зорка, во дворе ее домика, спрятавшегося под ветвями деревьев, было фотоателье. За несколько дней до знаменательного семейного события мама сходила к ней и условилась о нашем визите. Зорка захотела сфотографировать нас при естественном освещении, не стоило в такие мягкие осенние дни, когда солнечные лучи ласкают землю, забираться в помещение и жмуриться от электрического света. Мы еле дождались воскресенья. После обеда в торжественном молчании шли мимо городского сада — мама, как всегда, посередине, между мною и сестрой. На улице не было ни души, люди отдыхали. Зоркий дом за дощатой оградой утопал в зелени, над оградой тянулись длинные стебли левкоев и мальвы. Все благоухало. Мама отворила калитку, и возле скамьи под виноградной лозой мы увидели Зорку, она проявляла новые снимки. Зорка с улыбкой встретила нас, поставила стулья в один ряд и предложила сесть. Потом снова занялась своим делом, беспрестанно что-то рассказывая. Она любила поговорить, и улыбка не сходила с ее лица. Солнце падало на толстые стекла ее очков, оставляя под глазами фиолетовые кружочки. Зорка ловко доставала щипцами мокрые снимки, рассматривала их и снова опускала в таз. Потом налепила их на стекло и оставила сохнуть. В этом дворе все было интересно: и цветочные горшки на окнах и лестнице, и распустившаяся мальва, и кориандр с его резким запахом, и клумба под вьющимся виноградом, и кошки, греющиеся на солнце, и фотоаппарат с черным рукавом на треножнике — он был всегда наготове, — и приклеенные к стенам ателье фотографии, на которых я узнал многих жителей нашего города. Зорка угостила нас вареньем из инжира и начала готовиться к тому, чтобы увековечить нас. Мама сказала, что ей хотелось бы иметь снимок единственный на всю жизнь. В такой прекрасный день, ответила Зорка, все должно получиться великолепно. Она усадила маму, приподняла ей голову, а руки и сумку положила на колени. Я встал слева, сестра — справа. Зорка опустила мою руку на мамино плечо. От волнения я сжал кулак, он так и вышел на фотографии. Потом Зорка подошла к волшебному ящику, засунула голову в сатиновый рукав, навела на резкость, приказала: не двигайтесь! — и нажала кнопочку на черном шелковом шнуре. Что-то щелкнуло — снимок был сделан. Теперь, глядя на фотографию, я преклоняюсь перед ее простотой и долговечностью. Для большей верности Зорка вставила новую пластинку и сняла нас еще раз. Через два дня пробы будут готовы. Интересно, какими они получатся? И днем и ночью я думал о снимках, ведь меня впервые по-настоящему сфотографировали. Я попросил маму, если карточки будут удачными, дать мне одну из них для удостоверения.
На третий день мы с той же торжественностью отправились в фотоателье. Зорка нас поджидала. Все вышло прекрасно, сказала она. На столе лежали две фотографии, чуть-чуть отличавшиеся по освещению и позам. Мы выбрали ту, которая и сейчас среди прочих воспоминаний о прошлом занимает особое место. Кроме нее, для каждого из нас мама заказала по шесть меньшего формата. Когда мы их получили, я любовался мамой, сестрой, но больше всего нравился себе сам. Находил, что я очень красивый и мужественный. Теперь, вынимая из пожелтевшего конверта фотографию, я вижу невзрачного, смешного в своей новенькой форме мальчугана, хмурящего брови, немного испуганного. Если кто на этой фотографии и выглядит чудесно — так это мама. Тогда ей было тридцать пять или тридцать шесть лет, и на ее лице отразилось все: гордость, достоинство, твердость, одиночество, страдание — она много пережила, и предстояло ей пережить еще больше. У каждого человека своя судьба, следующая за ним по пятам: есть люди, родившиеся в рубашке, есть люди, родившиеся для страданий. Мама относилась к последним. Жизнь ее — это сплошная череда ударов судьбы. В юности ей в глаз попал гвоздь, и ее тридцать дней держали в подвале, а еду передавали в дверь. Еще тогда она проявила железную волю, которая оставалась ей присуща всю жизнь. Помню этот глаз с чуть заметной отметиной в зрачке, белой, как кусочек льда. Глаз видел слабо, но никто этого не замечал. Да и я узнал об этом значительно позже, когда мне уже было за двадцать. Мама не любила ни о чем рассказывать и много тайн унесла с собой в могилу.
Не могу сказать, с каких пор я помню маму. Этого никто, наверное, не помнит. Я чувствую ее присутствие с того неопределенного момента, который остается в сознании каждого человека, как только он произнесет слово «мама». С тех пор как помню себя, помню и ее. И в моем сознании она всегда одна и та же — мама на той единственной фотографии. Она, наверное, чувствовала приближение новых ударов судьбы, когда решила, что мы должны запечатлеть себя на снимке. Поняла, что время для этого настало: хоть что-то должно сохраниться навеки. За свою жизнь она еще несколько раз снималась, но единственный портрет, который она нам завещала, был сделан с той фотографии. Одной нашей родственнице она сказала: хочу, чтобы смотрели на эту фотографию, такой меня запомнили; как раньше сказала: хочу, чтобы меня похоронили в белом гробу.
Вспоминаю маму, когда мы жили в полуразвалившейся лачуге: окна на уровне земли, стены покрыты пятнами сырости, воды нет, уборная — яма за сарайчиком без окон, называемым кухней. Воду мы приносили от соседей, а вечером слышали, как под ногами запоздавших прохожих скрипит снег. Мама поднималась в пять часов утра, месила тесто, клала его на доску, покрывала салфеткой, ставила доску на плечо и отправлялась в пекарню, а потом на табачный склад — она работала там с шестнадцати лет. К обеду она возвращалась с теплым хлебом, кормила нас и опять спешила на работу. Иногда она позволяла себе немного подремать и тогда просила нас не шуметь. Я свертывался на лавке клубком и тихонько играл в бабки. Мама лежала на спине. Я смотрел на ее лицо, побледневшее от табачной отравы, и думал: какая она усталая! Мне хотелось, чтобы она поспала подольше, но бил колокол, и она вскакивала, плескала в лицо пригоршню воды, поправляла волосы, давая мне указания, самое важное из них — учить уроки. Но я не мог устоять, когда звали товарищи.
В шесть часов вечера колокол звучал снова. Из железных ворот выходили женщины, пропахшие табаком, серые, покрытые пылью и табачными крошками. Они шли и разговаривали, на протяжении каких-нибудь ста-двухсот метров они спешили все обсудить — на складе разговоры были строго запрещены. Мама приходила и принималась за домашние дела. Иногда, работая, она пела, и я любил слушать ее песни. Она готовила, стирала, мыла пол, окна, и только к девяти мы садились ужинать. На стене потрескивала керосиновая лампа, от большой глиняной миски поднимался пар, и мы торопливо принимались за похлебку с чечевицей. Мы, маленькая семья, которая понесла столько утрат.
Это была удивительная женщина, ничто не могло ее испугать, даже нож, которым ей не раз угрожали. Мне она казалась самой спокойной из всех, кого я знал, так держалась она и с нами, и с посторонними. Но неожиданно я увидел ее другой. Как-то утром я проснулся рано, стал собираться в школу и услышал на улице тревожный гул. Я выглянул в окно и на тротуаре возле дома увидел маму. Она останавливала шедших к складу мужчин и женщин, что-то им горячо говорила. Если кто-нибудь вырывался, она его догоняла, хватала за пальто и тянула назад. И даже грозила кулаком. Каждый знал, что она не шутит. Я вышел и встал в дверях. Немного погодя подошел человек и спросил у мамы: ну как? Я вернула всех, ответила она. И в это время я увидел на стене плакат: в вытянутой жилистой руке — молот. Ниже было написано о страшных вещах. Меня бросило в дрожь: значит, это стачечный пикет! И я встал рядом с мамой. Склады были окружены жандармами, рабочие собирались группами. Забастовка продолжалась целую неделю, и мама все время стояла на посту. Это была стачка рабочих табачной промышленности сорокового года.
И сейчас, когда я смотрю на фотографию, я понимаю, что маму волновали очень важные проблемы. Что в ее жизни существовали не только мы, у нее было много других, серьезных забот. Прощаясь с убитым братом, она дала клятву продолжать его дело. Тогда я мало разбирался в этих вещах и воспринимал ее лишь такой, какой она была дома. Но она опиралась и на меня. Мне еще было чуть больше десяти лет, но когда в темноте надо было куда-нибудь идти, мама брала меня в провожатые. Ухаживать за табаком — труд бесконечно тяжелый, рабский, изнурительный. Наступало время окучивания, и мама поднимала меня в три часа ночи… Звезды мерцают, на дорогу ложатся тени больших деревьев, я иду вперед, босой, по острым камушкам, которые режут ноги, как бритвы. Тогда еще не было тапочек на резине. Я дрожу от холода в тонкой рубашонке, мотыга бьет меня по плечу, а мама утешает: еще несколько дней, и ты выспишься, пойдешь с ребятами на речку… Если лето было дождливое, табак рос буйно и без конца нужно было его окучивать, а я работал по колено в грязи и просто падал от усталости. Если наступала засуха, то табак надо было поливать. Мы отправлялись в горы, догоняли знакомых, и дорога становилась легче. Пускали воду по большой канаве, которая петляла среди елей, потом среди кустарников. Воду отводили от Маркова камня — говорят, Краль Марко из Прилепа забросил его когда-то на Рилу[10].
Мама чаще всего оставляла меня на попечение моего дяди Коле и возвращалась на работу. И я приступал к своим обязанностям… Вода стремительно бежит по пересохшей земле, а на ее пути уже появляются те, кто любит чужими руками жар загребать. Дядя мой курит самокрутку и кричит: следи за ним! Над кукурузными початками показался вор — голова его повязана платком, рубашка на груди расстегнута. Беги к канаве! По меже, по меже — и я в засаде под вербой. Вор озирается и поднимает мотыгу. Эй, дядька, оставь мою воду! А он разбивает запруду, ему хоть бы что. Дядя Коле! Воду забирают! Я поднимаю мотыгу. Брось мотыгу! — вопит злодей и гонится за мной, на чем свет стоит ругая мою маму. Но теперь уже и он попадает впросак: внезапно появляется мой дядя, слышит, как ругают его сестру, видит разбитую запруду и багровеет от гнева. Он замахивается мотыгой — вор начинает молить о пощаде. Дядя бьет его по роже, не мотыгой, а кулаком. Усы вора заливает кровь. Потом дядя хватает его, бросает в воду, окунает с головой и спрашивает, ходил ли он утром к Маркову камню, поработал ли в ледяной воде или лежал с женой в постели. Вот полежи-ка сейчас! А тот лишь знай себе булькает под водой. Дядя отпускает его и ругается что есть мочи. По всему полю передают: не ходите наверх, пусть Бельовцы попользуются водой, ведь они и так натерпелись.
Потом мы с дядей садимся перекусить, развязываем узелки и достаем что бог послал, а у дяди всегда находится бутылочка ракии. Кто-то нас окликает — неподалеку полдничает наш родственник. Он подсаживается к нам со своей едой, и мы начинаем разглагольствовать о политике: какое оружие у Гитлера, какое у Советского Союза. Я им рассказываю о каком-то новом типе самолета, который так и не появился за всю войну. От ракии нам становится весело. Птички от жары замолкают. Ни ветерка, воздух трепещет, а над полем слышится женский голос — грустная песня с нескончаемыми переливами, словно женщина плачет, склонившись над табаком. Мы прислушиваемся, а в это время с другого конца поля — другая песня. Песня за душу берет, говорит родственник. Берет-то берет, да не только, в этом вся соль, отзывается дядя, так вот и узнаёшь, что свободу завоевывают не с молитвой на устах, а с мотыгою в руках.
Среди этих людей и началось мое приобщение к революции. И когда на базарной площади я увидел рабочих с красным знаменем, услышал песню: рабочие, работницы, к нам, в наши ряды! — а перед ними на возвышении крепко сбитого, с орлиным взором будущего командира партизанского отряда Васила Демиревского, от слов которого вскипал гнев и сердце готово было выпрыгнуть из груди, а вокруг — полицейский кордон, то я сказал себе: вот оно, будущее. Моя мама тоже была в этих рядах, и какую гордость я испытывал за нее! Как и весь Бельовский род, она не склоняла головы.
Глядя сейчас на фотографию, я все это представляю себе. Есть люди, сотканные из стальных нитей. Моя мама была такой. Она все встречала с необычайным мужеством, для нее в жизни не существовало ничего страшного. Вспоминаю о болезни и смерти бабушки. Она жила неподалеку от нас, ухаживать за ней было некому. Мама после работы заглядывала домой и тут же торопилась к ней. Как-то вечером пришла и сказала: бабушка умирает, пойдемте, надо проститься. Мы с сестрой набросили пальтишки и, тесно прижавшись друг к другу, отправились к бабушке. Было страшно, да и мал я был. Мы поднялись по четырем каменным ступенькам, прошли темную прихожую и переступили порог комнаты. Все было тщательно прибрано, на постели лежала бабушка, желтая как воск, в прозрачных руках свеча, глаза закрыты. Мама наклонилась к ней и сказала: дети пришли, дай им прощение. Бабушка лишь простонала, хотела что-то сказать, но не смогла. Огонек свечи затрепетал, мы поцеловали бабушке руку — пальцы ее были закапаны воском. Потом мама отправила нас домой. Всю ночь мы не могли уснуть и говорили о бабушке: какая она добрая, все отдала детям, а теперь никого, кроме нашей мамы, возле нее нет, хоть она давно уже болеет.
В последнее время каждое воскресенье бабушка, возвратившись из церкви домой, садилась на пол возле печки, раздевалась и грела спину. Мама брала бутылку с керосином, натирала бабушку и укладывала в постель. К врачу бабушка не ходила, и неизвестно, отчего она скончалась. Уж так повелось в Бельовском роду — каждый умирал в одиночку. Так случилось и с моей мамой — приехала машина «скорой помощи», а она отослала ее.
Стойкость моей матери была известна всему городу. Она похоронила троих детей, потом брата, потом моего отца и своего мужа. Она просто не боялась смерти. Когда в каком-нибудь доме нужно было обмыть и одеть усопшего, за мамой приходили не только из нашего квартала, а из дальних. И она шла. Это стало ее долгом.
Я вспоминаю о том времени, когда за участие в антифашистской борьбе меня арестовали и предъявили обвинение по четырем статьям, из которых за две полагалась смертная казнь — рамки закона тогда были значительно расширены. На свидание мама пришла с моей сестрой. Адвокат разъяснил им все и сказал о главном — мне грозит смертная казнь. Сестра стала меня успокаивать: не бойся, у тебя будут два защитника. Но я ответил, что не признаю себя виновным и не буду просить о помиловании. Мама произнесла всего три слова: тебе лучше знать. И когда охранник крикнул, что свидание окончено, она сжала мою руку и прошептала: даже если смерть, не надо бояться.
Войдя в камеру, я с трудом удержался от слез. Не из-за смертного приговора, а из-за того, что мама разумом уже все постигла и видела меня навеки ушедшим. Ее сила меня потрясла. А Девятого сентября, когда мы встретились, она бросилась ко мне, надела очки, чтобы лучшие разглядеть, и крепко обняла. Я впервые в жизни увидел ее слабой, она плакала на моей груди…
Все это я вспоминаю, глядя на снимок, сделанный безвестным фотографом, может быть давно ушедшим из жизни, — добродушной, словоохотливой Зоркой. Ее искусство осталось бессмертным в нашем городке — фотографии, выполненные просто и непритязательно, превратились в навсегда дорогие семейные реликвии. Благодаря ей я вижу маму вечно живой, и такой ее должны сохранить в памяти и мой сын, и внуки — все.
Осталась только фотография женщины в черном — это был символ ее жизни, — женщины, которая и в семьдесят лет не утратила прирожденного стремления быть красивой и завещала похоронить себя в белом гробу, с белыми цветами. Все для этого она давно приготовила. И когда кортеж тронулся и зазвучал похоронный марш, белый гроб с золотой тесьмой поплыл, словно лодка.
Не знаю, была ли мама счастлива. Но знаю, что после ее смерти исполнилось хоть одно ее желание.
Перевод Т. Карповой.
Божидар Томов
ОДНА ВИНТОВКА НА ДВОИХ
© Божидар Томов, 1980, c/o Jusautor, Sofia.
Ефрейтор Парлапанов сошел на станции Хаджиево, помахал рукой поезду, миновал пустой зал ожидания и, насвистывая бравурный марш Шестого инженерного полка, двинулся к селу.
Дорога с глубокими колеями, где обычно грязи по колено, теперь подмерзла и была твердой, как асфальт. Ачо Парлапанов обрадовался, что не изгваздает своих до блеска начищенных ботинок. Навстречу показалась «волга» председателя кооператива, когда она поравнялась с ним, Ачо Парлапанов отдал честь. Председатель, подполковник запаса, аж вспотел от удовольствия.
— Остановись! — приказал он шоферу.
— Опоздаем на совещание, товарищ председатель.
— Стой, тебе говорят!
Он распахнул дверцу:
— Парлапанов?
— Я! — весело гаркнул солдат.
— Очень рад. Значит, уже ефрейтор?
— Так точно.
— Хвалю. Звание ефрейтора присваивается за заслуги. Отличник, верно?
— Так точно.
— Гордимся тобой, Парлапанов! Так держать…
Председатель стиснул ему руку, и «волга» снова запрыгала по ухабам. Ачо Парлапанову стало весело, и он зашагал дальше — уже с песней «О Марианна, ты прекрасна, Марианна…»
Во дворе суетился дед. Он увидел Ачо издалека:
— Да это, никак, ты?
— Нет, не я, — засмеялся Ачо Парлапанов.
— Вот сейчас как возьму хворостину!..
Они обнялись, похлопав друг друга по плечу, и Ачо удивился, каким худым стало плечо деда.
— Молодец! Совсем героем стал. Вылитый я. Я тоже когда-то таким был, хотя ты, может, и не поверишь…
— Почему не поверить?..
— Что ты знаешь-то? Разве у вас служба?
— Нет, курорт, — ответил парень.
— Во-во. И я так думаю.
Ачо Парлапанов вспомнил, что почти такой же разговор вели они, когда он в прошлый раз приезжал на побывку, только тогда у деда не были так заметны мелкие морщинки на тонкой шее. Как быстро летит время…
«Как быстро летит время, — удивился и дед. — Как же быстро летит время! Глазом не успел моргнуть, а этот сопляк уж вымахал под два метра. Вот так…»
Потом они пили джанковицу[11]. На маленьком столе в кухне, покрытом клеенкой в квадратик, стояли тарелки с баклажанами, квашеной капустой, маринованными грибами, стручками красного перца с чесноком и цветной капустой.
— Ну, как идет служба?
— Нормально идет, — солидно ответил Ачо.
— Бери побольше капусты, сам ее квасил.
— Знаю, ни у кого такой нет.
— Что нет, то нет, верно говоришь.
— На охоту ходишь?
— Хожу, и, знаешь, — оживился дед Парлапан, — все больше с этим твоим, как бишь его…
— С «флоберкой».
— Во-во, с ним. Бьет без промаха.
— Так ведь запрещено! Разрешение нужно, чтоб с таким ружьем ходить.
— Ну да? — лукаво усмехнулся старик. — Запрещено, значит. А ты-то стрелять научился?
Ачо улыбнулся. Вспомнил, как однажды не мог попасть с пяти шагов в какого-то глупого зайца. С тех пор дед над ним и издевается.
— Ну так научился иль нет?
— Могу показать.
Они выпили еще по глотку и, непонятно почему, прислушались к стуку будильника на белом кухонном буфете. А что-то древнее и мужское уже проснулось в душе ефрейтора Парлапанова, указательный палец правой руки так и играл на податливом курке ружья, и в воображении — бах, бах!.. — валятся подстреленные зайцы кверху брюхом. И ведь сидят сейчас эти самые зайцы в разных там кустиках, а может, и прямо на дорогу выскакивают, покуда они тут глушат противную, вонючую водку.
— Пойдем, что ли? — спросил парень.
— Пошли, — засуетился дед, — вот только время…
Он покачал головой. Нет, ничего они сейчас не подстрелят, не время. Сейчас все живое попряталось. Нужно либо к ночи, либо рано утром…
— Вставай, вставай, дед.
Старик потащил чашки к мойке.
— Да брось ты эти чашки! — почти закричал Ачо Парлапанов. — Оставь и чашки, и баклажаны — все оставь, потом уберем.
— Мать ругаться будет, — заколебался дед Парлапан, однако все бросил и пошел надеть резиновые сапоги.
Ефрейтор снял шинель, надел под куртку толстый домашний свитер. Потом вновь опоясался ремнем и достал «флоберку». Мягкой сухой тряпочкой — он всегда носил такую тряпочку в кармане — стер смазку, прочистил ствол.
— Я готов.
— Сейчас-сейчас.
Без всякой причины Ачо вдруг подумал, что, может, это будет их последняя охота вдвоем, и испугался. Неужели дед Парлапан в самом деле помирать собрался? Ачо посмотрел на старика: маленький, сухонький, со слегка замедленными движениями и подрагивающим подбородком. Да-а, другим он помнил своего деда: мчался зимой в санях, резко осаживал коней у ворот, выскакивал с кнутом в руке — дед Парлапан, бай Парлапан, дядя Парлапан, огромный, краснощекий, рано поседевший, в громадной волчьей шубе и волчьей шапке. Когда он ходил по дому, стекла в окнах звенели. Правда, было это в их старом доме, новый построили покрепче…
Они шли по-осеннему затихшим полем. Село давно осталось за спиной.
— Слушай, ну вы и охотнички! — сказал ефрейтор Парлапанов. — Всех зайцев перебили.
— Да какие мы охотнички, — возразил дед. — Не мы их перебили. Промышленность всех повывела.
Ачо Парлапанов посмотрел на слой дыма, висящий над тощим леском.
— И хорошо, что есть промышленность. Она хоть держит мужиков в селе. Не то ты бы уж давно поливал герань на городском балконе.
И продолжили свой путь два охотника с одним ружьем — «флоберкой». Картонная коробка с патронами оттопыривала карман парня. Без толку постукивал старик прикладом по стволам деревьев, по ветвям кустов. Среди редких ощипанных кустов нигде не видно было манящих заячьих ушей.
Когда вышли на открытое место, дед Парлапан вдруг остановился.
— Ачо, погляди-ка, — указал он на корявую, старую дикую грушу. — Кто-то недавно срезал ветку. Видишь сук?
— Вижу.
Старик кивнул, быстро зарядил ружье, прицелился и выстрелил. Ефрейтор Парлапанов слегка прищурился, сделал два шага вперед.
— А ведь ты, дед, попал.
— Конечно, попал.
Старик вновь зарядил ружье и протянул его солдату. Почти не целясь, Ачо Парлапанов всадил пулю в тот же сук.
— Молодец! — рявкнул дед. — Весь в меня.
И началась дикая и беспорядочная стрельба. Они шли полем, мяли сухую, подмерзшую, крытую инеем траву и стреляли во все, что попадалось на глаза: большой белый камень, бах! — пуля в камне; выброшенная пачка из-под сигарет «Ударник», бах! — дырка в желтой картонке, а через полминуты — уже две дырки, в сантиметре одна от другой.
— Да, здо́рово ты, Ачко, здо́рово.
— И ты, деда Парлапан, не подкачал, не дрогнула рука.
— Не дрогнула. И тебя глаз не подвел.
— Не подвел. Но и у тебя не глаз, а прям бинокль какой-то.
— Эх, какой глаз был в свое время, Ачко!
— Представляю, деда.
— Ничего ты, парень, не представляешь. Вот когда 28 ноября 1944 года немцы нас атаковали, а мы только что заняли высоту 207…
Ведь что такое воспоминание? Сидит себе закупоренное, словно игристое вино в бутылке. Можно и не открывать пробку: лишь встряхни посильней бутылку и смотри, что будет. А уж если забродило оно, ничто его не остановит: скала на его пути — оно и скалу одолеет, сойдется в схватке с ее основанием и хлынет с другой стороны стремительным потоком. Нет, воспоминания не остановишь: одно влечет за собою другое, третье, уступает место стремительно налетающему новому… А собеседник? Он только и ждет, когда ты переведешь дух, чтобы сказать: «А вот со мной, слышь, тоже такое случилось летом году этак в…» Но и собеседник человек, и у него во рту пересыхает, и тогда уже ты говоришь: «Да, все это прекрасно, но вот послушай, какая у меня была история…»
…Все плотней сжимается кольцо гитлеровцев, все тесней. Неужели с ротой покончено? В наши окопы влетает граната. Ее хватает старшина Парлапанов, дед Парлапан, хватает гранату, пока она не взорвалась, и бросает ее обратно. И вторую гранату, и третью…
…Так-так, дед, но это ты мне уже рассказываешь несколько лет подряд. А вот послушай, что у нас однажды стряслось. Тишину городка нарушил тревожный вой сирен, Во дворе Н-ского завода обнаружена неразорвавшаяся авиабомба, оставшаяся еще с войны. Ржавчина проела ее стальное тело. Но саперы с риском для жизни обезвреживают ее. И главное действующее лицо — ефрейтор Ачо Парлапанов…
…Так, так, молодец, здо́рово. Но вот послушай. Когда наши части ринулись в контратаку и отбросили противника на несколько десятков километров по всему фронту, далеко вперед вырвался дед Парлапан, ведя за собою бойцов своего отделения, и пули пробивали дырки в развевающихся полах его шинели…
— Эта шинель, — говорит дед, — еще лежит в сундуке. Домой придем — покажу тебе дырки от пуль.
— Да знаю я эту шинель, видел! А вот прошлой весной, я тогда еще был рядовым…
…Нахлынули черные мутные воды Дикой реки, затопили городишко. Дома залиты водой до второго этажа. Плачут матери и маленькие дети. А саперы — саперы, конечно же…
Так говорили двое Парлапановых, пока не кончились патроны. Опять они шли тощим леском, брели по тропинкам, молча курили. Потом вышли в поле, а через сотню шагов показались и крыши села. Их заливало неярким светом полуосеннее-полузимнее солнце. О чем они думали?
Эх, ну и жизнь! — тужил дед Парлапан. Ну почему же я, старый человек, должен врать любимому внуку, рассказывать ему всяческие небылицы об этих гранатах, которые ловил своими руками и бросал обратно во врагов? Не было никогда никаких гранат, черт побери, а если и были, то не дед Парлапан ловил их.
Но как мне, бывшему кашевару Тридцать второго стрелкового полка, не выдумать этого, как? Разве не было героических дней? Разве не я носил термосы с похлебкой на позиции под нестихающим обстрелом противника, когда все живое прячется в глубоких окопах? А я, дед Парлапан, носил их — не раз и не два. Но только не привыкли у нас рассказывать о подвигах кашеваров…
Ефрейтор Ачо Парлапанов знал, что дед его был поваром Тридцать второго стрелкового полка. Но он не презирал рыцарей котла и поварешки. Ведь совсем по-другому выглядит атака или наведение понтонного моста, если суп наваристый, если в нем добрый шматок мяса, если второго навалили целый котелок, а компот сладкий, с ягодами, а хлеб только что испечен.
Ефрейтор Ачо Парлапанов видел шинель своего деда, знал, что дырки действительно от пуль. Легко ли ползти с тяжелым термосом на спине?…
Но мог ли он быть довольным своею собственной судьбой, когда во дворе Н-ского завода не нашли никакой авиабомбы? Да и откуда бы ей там взяться? Как он мог быть довольным судьбой, когда Дикая река лишь по названию была дикой, а на самом деле за год с лишним так и не сделала ни малейшей попытки выйти из берегов? Чем он мог похвастаться перед своим дедом-героем? Разве лишь тем, что заменил контуженного шофера, или тем, что, натянув прорезиненный комбинезон, целый час работал в ледяной воде… Только разве это героизм? Опять же этот позорный случай месяц назад, месяц с небольшим… Ефрейтор Парлапанов глянул на худую шею деда и покраснел.
У вышеупомянутой позорной истории была своя предыстория. В один прекрасный солнечный день конца сентября случилось так, что ефрейтор Парлапанов получил долгожданную должность курьера. Должность, которая давала широкие возможности встречаться с красавицами городка Н.
Это произошло в пятницу. Парлапанов пошел за вечерней почтой и среди множества конвертов обнаружил денежный перевод на свое имя. Деньги он тут же и получил. Полученная сумма приятно поднимала настроение, но ефрейтор Парлапанов был не такой человек, чтобы забыть своих боевых товарищей и не принести им вовремя письма. Единственная забывчивость, которую курьер себе позволил, — это зайти в кафе поболтать с симпатичной буфетчицей и съесть два куска баклавы[12], обильно политой сиропом.
Потом, черт знает зачем, его понесло на рынок, раньше называвшийся «женским».
Прилавки ломились от изобилия зелени, овощей, фруктов, мяса, кур — всего, что люди вырастили на своих участках и теперь выставили напоказ и на продажу.
Приятные дамы всех возрастов подходили к прилавкам, опытными руками ощупывали фрукты, справлялись о ценах и медлили в раздумье.
В конце рынка клевала носом над корзиной с мелкими сливами толстая неопрятная бабка.
Бедная бабка, — вдруг пожалел ее Парлапанов. Бедная бабка!..
Солдат подошел к ней и купил у нее все эти мелкие, жесткие, никуда не годные сливы.
— А теперь, бабуля, — весело сказал он, — ступай-ка спать. Забери свои сливы. Не буду я портить ими желудок.
Бабуля собрала свои пожитки и уже пошла было, но, когда Парлапанов завернул за угол, вновь уселась за прилавок и разложила сливы, выложив наверх те, что покрупней.
Ну и жадюга! — возмутился Ачо.
Спустя некоторое время, когда он уже не был курьером (его сняли с должности за то, что он принес в часть бутылку ракии для трусливого Бонева, у которого болели зубы, а он все боялся пойти к зубному врачу, в знак благодарности Бонев угостил его и младшего сержанта Арсова, а потом Арсов их же и выдал), так вот, спустя некоторое время Парлапанов узнал, что бабка с рынка живет совсем рядом с казармой, по соседству со старшиной Пожарлиевым. К ней иногда приезжали из города то сын на черной «волге», то зять на черном «мерседесе» — узнать, не нужно ли ей чего. А бабка бойко торговала: она знала точно, в каком году будет мало лука, и сажала именно лук, знала, когда не будет редиски, и волокла на рынок именно редиску.
Парлапанов не проклинал свою щедрость: левом больше, левом меньше — какая разница, пусть она, чертова бабка, складывает их в чулок…
Шло время, и вот как-то, когда ефрейтор Парлапанов заступил на дежурство по роте, он почувствовал глубоко в душе непреодолимую, древнюю мужскую охотничью страсть.
Он взял из пирамиды ружье, протер его егерской тряпочкой, заглянул в гладкий ствол и позвал с собой за компанию новобранца Явора Крыстева.
— Видишь — вон там, на деревьях, гужуются сороки…
На ветках болтались скрюченные коричневые листья, будто пластмассовые. Сороки заполошно трещали, перелетая с одного дерева на другое, слетались в стаю и вновь разлетались в разные стороны, гонялись друг за другом; обиженные улетали, но очень скоро возвращались, чтобы сказать остальным все, что они о них думают.
Парлапанов выстрелил. Клубочек серого пуха свалился на такую же серую траву. «Флоберка» стреляла негромко, и стая сорок не очень всполошилась. Только, может, сидящие рядом с покойной проводили взглядом последний се полет, снялись с ветки и на всякий случай отлетели подальше. Выстрелил и Явор Крыстев, однако промазал. Потом снова стрелял Парлапанов, и еще один клубок серого пуха и перьев разлетелся в воздухе.
Когда сороки все же снялись с деревьев и улетели, подгоняемые легким ветерком, большая часть их живой силы была уже истреблена.
Ефрейтор Парлапанов повесил ружье на плечо дулом вниз. И тут появилась курица. Здоровенная пеструха вертелась у колючей проволоки и глядела на двух солдат глупыми круглыми глазами. Парлапанов знал, что это курица той самой бабки, что продавала дрянные сливы на рынке. Он в досаде сплюнул… Курица кинулась на плевок, ефрейтор ухмыльнулся и плюнул опять — на сей раз поближе…
После этого что-то другое привлекло внимание курицы, она нелепо присела, пролезла под оградой из колючей проволоки и заковыляла, продираясь сквозь траву.
Парлапанов выстрелил. Опустив подраненное крыло, пеструха кинулась вдоль ограды, несколько раз укололась о колючую проволоку и с истошным кудахтанием понеслась во двор. Ефрейтор еще раз плюнул ей вслед, хотя правильней было бы еще раз выстрелить.
Все остальное развивалось с бешеной скоростью.
Бабка примчалась к дежурному — лейтенанту Крумову. Принесла с собой и курицу.
— Высокий белобрысый ефрейтор, красная повязка на рукаве, а с ним еще какой-то!
Это может быть только Парлапанов. Он сегодня дежурит в первой роте, сообразил лейтенант. Он нашел ефрейтора, выяснил все, тут же посадил его на губу и вернулся в дежурку.
— Бабушка, виновный наказан.
— Ладно. А теперь плати.
— За что? — изумился Крумов.
— За курицу, вот за что. Это не простая курица, а родайланд…
— Курицу ранили, когда она находилась на территории военной части. А посему нет никаких законных оснований требовать за нее плату.
«Законное основание» произвело на бабку должное впечатление, но тем не менее, уходя, она пригрозила Крумову, что будет жаловаться самому генералу.
Крумов доложил о происшествии лейтенанту Йорданову, сменившему его вечером…
Парлапанов лежал на нарах в гауптвахте и мучительно пытался осознать глупое положение, в которое вляпался.
Из-за какой-то дурацкой курицы, которую и съесть-то не пришлось…
После вечерней поверки к нему пришел лейтенант Йорданов. Парлапанов вскочил и вытянулся по стойке «смирно», насколько это позволял низкий потолок каталажки.
— Садись, — тихо сказал лейтенант.
Оба сидели молча.
Знаю, товарищ лейтенант, что причинил вам кучу неприятностей, — думал солдат, глядя своими ясными, кроткими глазами. Такой уж я уродился: всегда причиняю кучу неприятностей тем, кто меня любит…
— И не стыдно тебе, Парлапанов? — спросил лейтенант.
Парлапанов отвел в сторону голубые свои глаза.
— Не стыдно тебе с двух шагов промазать в какую-то дурацкую курицу?..
Но разве такое расскажешь своему деду, герою войны? Как же не выдумать всех этих проржавевших неразорвавшихся авиабомб, как не выдумать наводнений в маленьком городке?
И вновь промелькнул в сознании образ прежнего деда Парлапана: здоровенный мужик, весь в снегу, с кнутом, в волчьей шубе, с дробовиком через левое плечо…
Они подходили к селу. Старик шел впереди, курил. Тонкий синенький дымок вился над его облезлой шапкой.
А на дорогу вдруг выскочил заяц. Встал в изумлении на задние лапы, судорожно дернул белым хвостиком, а потом, прижав уши, пустился зигзагами по вспаханному полю к ближайшей меже…
— Во, ты погляди! — запоздало спохватился дед. — Патроны-то мы все расхлопали?
— Все, — ответил Ачо.
А серая спина зайца постепенно сливалась со вспаханной землей и наконец исчезла, будто ее и не бывало…
Перевод В. Ерунова.
Станислав Сивриев
ДНИ, ЧТО НАС СБЛИЖАЮТ
Мы с ним сидим во дворе казармы на зеленой скамейке перед фонтаном. Вы, наверное, видели такие фонтаны: большая бетонная чаша, дно покрыто илом, посередине заржавевшая труба, из которой вода то булькает, то слезится тоненькой струйкой. Вытоптанная клумба вокруг фонтана огорожена косо уложенными в землю кирпичами. Какой-то шутник из офицеров назвал этот кирпичный шедевр с зазубринами «солдатским плиссе».
Осень наступила, но это не ощущается: солнце светит еще по-летнему ярко и до холодов пока далеко. На учебном плацу и спортплощадках сейчас ни души; солдат не видно, но голоса слышны где-то рядом. И даже тогда, когда они умолкают, в прозрачном воздухе звучит их звонкое эхо.
Майор Ахтаров недавно приехал с границы, полон впечатлений от поездки, и ему кажется, что он все еще в пути. До сих пор у него перед глазами ружейные и пулеметные стволы, пыльные полигоны с траншеями, вырытыми в окаменевшей от засухи земле. За окнами зеленого газика серо-ржавыми полосками проносятся то распаханная стерня, то маленькие виноградники. Майор проезжал мимо быстро, не останавливаясь, но в памяти его они запечатлелись.
У того, кто дружен с землей и людьми, в глазах всегда земля и люди. Это ощущаешь сразу — по какому-то простому жесту, улыбке, блеснувшей искорке во взгляде…
Да, дружище Ахтаров, лучше бы я с тобой не встречался. Теперь не сидел бы молча, сосредоточенно глядя на облупившуюся штукатурку казарменного фонтана, и не задавал бы себе вопросы о потрескавшейся штукатурке во мне самом. Не старался бы отвлечься от дум, тщательно рассматривая «солдатское плиссе», это зубчатое колесо из кирпичей, какое я когда-то и сам выкладывал. И не в чем было бы упрекать себя… Я же невольно испытываю какую-то вину перед тобой, потому что ты, разъезжая по приграничным районам, месяцами не видишь семью, детей, а я каждый вечер могу радоваться безмятежному сну своих ребят. Ты строишь дороги для нашей армии, острый гравий похрустывает под подошвами твоих износившихся сапог, а я наслаждаюсь симфонической музыкой и доволен тем, что могу порассуждать о Рахманинове. Надвигающиеся дожди будут хлестать по твоему намокшему плащу, ты изо всех сил будешь стараться перекричать ветер, чтобы тебя мог услыхать какой-нибудь еле видный в сырой туманной дали солдат, а я спокойно буду смотреть из окна своей квартиры, как оголяются ветки каштанов на софийских улицах, и размышлять о жизни…
Тебе-то и в голову не придет упрекать меня в чем-нибудь, но я сам должен сделать это. Иначе разговор наш будет фальшивым и недостаточно честным. Командир дивизии предупредил меня, что ты неразговорчив. Конечно, он хороший командир и знает своих людей, но сейчас я не могу с ним согласиться. Потому что разговор у нас с тобой состоялся — интересный, откровенный разговор. Если бы это было не так, то откуда бы я мог узнать, что ты испытываешь невольный страх перед днем, когда придется навсегда расстаться с армией? Многим такая исповедь покажется странной, кое-кто, возможно, даже улыбнется снисходительно. Ну и пусть! Ты солдат, а у солдата должен быть противник…
Человек на земле — гость. Гость он и в армии, куда приходит, чтобы выполнить свой священный долг перед Родиной, только это почему-то не всем ясно. Ты, конечно, лишь один из многих, кто отдает этот долг всю жизнь, и я прекрасно понимаю, что твое имя не выбьют на мраморной доске у входа в какое-нибудь массивное здание с гранитными колоннами и будкой часового. Но у меня ты вызываешь глубочайшее уважение уже тем, что когда-нибудь будешь скучать по нелегкой армейской жизни. И если через много лет, вспоминая о прошлом, ты захочешь проверить, сохранил ли в душе способность к самоотречению молодых лет, я уверен: ты останешься собой доволен.
Я смотрю на тебя: прямые брови, упрямый подбородок, серьезные глаза, в которых таятся подчас иллюзии, но никогда — ложь…
Да-а, хорошо ты врезал тому писаке с золотым пером, когда он заныл, что нынче, мол, героики уже нет. И у тебя было на это право, ты многое мог бы ему рассказать. Но ведь ты не рассказал ему о рядовом Йордане Манолове, пижончике со «спортивной фигурой», из которого ты сделал настоящего солдата. Этот смазливый мальчик не скрывал своего пренебрежения к солдатам — и даже к самому себе в этом качестве. Но ты, командир, как всегда, проявил выдержку и терпение. Твоя честь тебе слишком дорога, чтобы защищать ее властью воинского устава. К тому же ты подумал: а вдруг в пренебрежении новичка есть и крупица силы? На это ты и сделал ставку.
И о первом расставании со своими солдатами не рассказал. Они ведь были такие разные, и за время службы всякое бывало, но попрощаться с тобой пришли все — какие-то уже совсем другие в гражданской одежде, с чемоданами. Ты никогда не любил расставания, но тогда впервые почувствовал, что просто нет сил, что становишься слабым, и захотелось куда-нибудь убежать…
Не рассказал и о шоссейной дороге, которую досрочно построил со своими ребятами, и о генералах, что целой группой прошли по ней, оживленно о чем-то разговаривая, а ты стоял, незаметный, в сторонке — обыкновенный армейский офицер, уставившийся на черную ленту асфальта…
«Мы делаем дело, видим результаты своего труда, и этого достаточно…» Что же, слова настоящего мужчины! Но почему же ты их тому писаке не сказал? И о жене надо было… Ты называешь ее «подругой жизни» — впервые это словосочетание не раздражает меня: она действительно твой верный друг. Запомнить бы надо многим, что ты говорил мне: «Для выполнения офицерского долга нужна еще и жена, которая бы хорошо понимала, как это важно…»
Ты возвращаешься домой поздно вечером, принося в свою тесную квартиру запах казармы и сырости. Жена тут же появляется в прихожей, снимает с тебя шинель, и в ее улыбке ты ощущаешь то, что людьми зовется теплом домашнего очага. И вот еще о чем хочется сказать: иной дом вроде и полон людей, а выглядит пустым, а в другом один человек может заполнить собой все. Такой человек для тебя — твоя жена, и ты благодарен судьбе, что именно она твоя жена…
Нет героики?! А тот недавний случай, когда во время ледохода Тунджа, неся огромные льдины, вышла из берегов и Ямбол[13] весь оцепенел от ужаса? Ты получил приказ в срочном порядке выехать в Ямбол — и сразу же, не задавая лишних вопросов, тронулся в путь.
Ледяные торосы перегородили течение реки, саперы пытались прорвать эту ледяную плотину, а вода уже заливала дома, и откуда-то до тебя донесся плач ребенка.
Поток сдерживала еще и дамба. Уровень реки угрожающе поднимался — под водой вот-вот могли оказаться пригородные районы. Прибыл и командир дивизии.
— Ну что, Ахтаров, справишься? — спросил он.
— Постараемся, товарищ полковник.
Впервые ты ответил не по уставу. Устав — обязательная форма общения между командирами и подчиненными, но здесь речь шла о серьезном риске, об опасности для жизни…
Привезли большую понтонную лодку и взрывчатку. Среди добровольцев и рядовой Манолов — тот самый, у которого «спортивная фигура», и бригадир фермы Чапыров — полугорожанин, полукрестьянин. Он смотрит маленькими глазками на все происходящее и пожимает плечами, не понимая, что́ собираются делать. Ну и лучше, что пока не понимает…
Лодка отчаливает от берега. Над Тунджей навис туман, видимость — всего несколько метров. Вода густая, как подсолнечное масло. Ты напряженно вслушиваешься, не треснет ли где поблизости льдина. Нет, ничего не слышно, и ты даешь команду грести. Тебе все кажется, что впереди уже виднеется темная полоса дамбы, но Чапыров говорит:
— Еще немножко.
Это «немножко» длится довольно долго, но ты молчишь, не взглянув ни разу на часы. А солдаты все примечают… Ты упорно отгоняешь от себя мысль о самом страшном, что может произойти: если дамбу прорвет, ледяная громада обрушится на беззащитную резиновую лодку…
Ты первым увидел огромную глыбу льда и прежде, чем остальные что-нибудь поняли, бросил тротиловую шашку. Все инстинктивно пригнулись — грохот взрыва оглушил, на лодку посыпались осколки льда, — а когда выпрямились, то увидели, что глыба превратилась в месиво из мелких колючих кусочков. Стало как-то не по себе, зябко — то ли от воды пахнуло холодом, то ли внутри у каждого похолодело… Где-то впереди послышался треск. Ты приказал грести вправо. Но может, как раз там и находится скопление льдин?.. Нет, они пронеслись стороной — темная масса льда, что могла погубить вас. Ты вздохнул облегченно…
И вдруг Чапыров сказал — вернее, не сказал, а крикнул:
— Вот она, дамба!
Ты всмотрелся пристально и увидел ее — черную полосу, рассекающую пополам мутно-сизый речной поток.
Утопая в грязи, ты с трудом поднялся на насыпь. Солдаты следом, и ты был рад этому, если вообще в такой ситуации можно говорить о радости…
В трех местах вы заложили по тридцать килограммов взрывчатки, протянули кабель от детонаторов к аккумулятору. И тогда ты окинул всех взглядом, будто просил разрешения. Солдаты молча ждали, и ты крутанул ручку. Три вспышки сверкнули во мраке, три раза пустынную тишину нарушил оглушительный грохот взрывов, и сразу гулко заклокотала вода. Мертвая гладь реки забурлила, поток устремился в открывшуюся брешь. Но зато вы очутились в капкане: течение могло увлечь лодку прямо к бурлящему прорыву, и тогда — конец… Пришлось выйти и тащить лодку за собой на веревке.
Вы пошли по насыпи к берегу, но и здесь в одном месте дамба оказалась размытой бешеным потоком. Давно уже стемнело, давно прошел условленный час вашего возвращения… Рядовой Манолов — интуитивно, наверное, — чувствует, что ты думаешь о нем. Ты даже не смотришь в его сторону, а он чувствует.
— Товарищ майор, дайте мне веревку от лодки. Я попробую перепрыгнуть.
Сумеет ли он перехитрить клубящийся и клокочущий внизу поток?
Парень привязывает веревку к поясу, разбегается и прыгает. Ему удается уцепиться руками за рыхлую землю на том берегу, и ты во второй раз за эту ночь вздыхаешь с облегчением.
Манолов подтягивает лодку вместе со всей группой, потом и сам садится к вам. Тебе хочется сказать ему что-нибудь хорошее, даже обнять его. Но ты человек сдержанный и говоришь только:
— Неплохо, Манолов.
Постепенно уровень реки понижается. Вы плывете в сторону фермы. Она спасена, вода до нее не добралась. Сторож встречает вас, смотрит изумленно, словно вы заявились сюда с того света. Но оставаться здесь нельзя, вы знаете, что вас ждут, постоянно сигналят ракетами, хотя в этом густом тумане никаких ракет не увидишь. Снова двигаетесь в путь, рывками волоча за собой по слякоти тяжелую лодку. Каждый шаг дается с трудом: «И-и-и… раз!» Еще усилие — и снова: «И-и-и… раз!»
Чапыров знает эти места как свои пять пальцев. Он приводит вас к каналу, по которому можно на лодке добраться до берега. Поначалу вы плывете спокойно, но самое страшное всегда приходит именно после такого спокойствия. Вырвавшаяся на волю река устремилась и в канал, заполонила его большими кусками льда. Они постепенно окружают вас, несколько сильных ударов отбрасывают лодку в сторону, она накреняется, вот-вот перевернется, потом начинает кружиться, не подчиняясь веслам. А ледяное месиво неистовствует вокруг, трещит, гудит…
Ты говоришь, что сам не знаешь, как вам удалось вернуться живыми и невредимыми. Я понимаю, минуты смертельной опасности всегда вспоминаются потом как нечто не совсем реальное. Нереальным кажется тебе и ваше возвращение, когда в полночь все вы наконец вышли из лодки на берег. Но разве не было той перепуганной женщины, дом которой залило водой? Она смотрела на вас как на спасителей, умоляя помочь ей вынести вещи из дома, а спасители еле держались на ногах от усталости. Женщина сказала, что вещей у нее немного, да одной не под силу. Однако поначалу ты, не придя еще в себя, никак не мог вникнуть в смысл ее слов. Позже, через день-другой, ты вспомнишь о ней, и тебе станет жалко людей, для которых «немногое» в доме означает так много, потому что это — частица их жизни… Солдаты ждут, что ты скажешь. И женщина ждет. А что тут говорить! Да, физических сил нет, но ведь у человека должна быть и сила духа. Вы входите в домик, шарите там по пояс в воде и, согнувшись в три погибели, выносите пожитки и укладываете их в сухое место…
Ты — командир, но и у тебя есть свое начальство, которому надо доложиться, а потому ты сразу же отправляешься в горсовет. В кабинете председателя тепло и уютно, и как-то даже неловко вносить сюда ледяной холод Тунджи и все тревоги, связанные с нагрянувшей было, но прошедшей мимо бедой. Ты отдаешь честь и, поскольку всегда легче говорить заученные слова, рапортуешь по уставу:
— Товарищ полковник, задание выполнено!
Да-а, дружище Ахтаров, эти воспоминания, наверно, растревожили твою душу, но мою — тоже; позволь мне считать их и своими воспоминаниями. Потому что дела сильных должны принадлежать всем. А день, что сблизил нас, удивительно хорош: и солнце светит еще по-летнему ярко, и не верится, что скоро придут холода. Казарменные постройки кажутся невесомыми, они словно плывут в этом море солнечного света.
Перевод А. Крузенштерна.
Дончо Цончев
СОЛОМА
Компания подобралась, можно сказать, весьма представительная. Попов и Владиков из Софии, Груев из окружного центра, трое самых известных в стране режиссеров и ваш покорный слуга. Ружья у нас были гораздо дороже ружей местных охотников, а их собаки в сравнении с нашими походили на доисторических чудовищ. Был там, например, Гуджо с налитыми кровью глазами, рядом с ним один из софийских сеттерчиков казался безжизненной плюшевой игрушкой. Что уж говорить о вывалявшейся в грязи, покрытой репьями Леце, которая так цапнула шелкового режиссерского Клиффорда, попытавшегося с ней пофлиртовать, что он тихо скулил до самого вечера. (Вообще-то Клиффорд весьма популярный донжуан — может быть, вы видели его в ярко-красной жилетке на Русском бульваре.)
Небо на востоке розовело, темнота быстро рассеивалась, и надо было расстанавливаться на краю вспаханного под пар поля. Крум, один из местных охотников, рассказывал, что нужно делать, и по тому, как остальные его слушали, было видно, что это их признанный вожак. Выслушали его внимательно и мы, наскоро выкурили по сигарете, и вот уже пора было начинать.
— Давай вместе, — сказал Владиков. — Идет?
Я подмигнул ему — мол, ясное дело! Подмигнул мне и он, добавив бодро и доверительно:
— Не осрамимся?
Что означало: «Найдется и на мою долю заяц, ведь мы друг друга с полуслова понимаем, правда, дружище?» Я вздохнул и повторил свое обычное, любимое:
— Вот сейчас я его выгоню. Из первого же тернового куста.
Владиков огляделся вокруг и, не увидев ничего в бескрайнем поле, нервно спросил:
— Какой терновый куст? Где ты видишь терновник?
— А не знаю, — откликнулся я. — Так говорится.
В этот момент из-за земляных комьев выскочил заяц и бросился вперед. Пока я вскидывал ружье, какой-то охотник уже выстрелил. Это был Крум. Заяц сжался, припал к земле, но потом снова побежал. Крум выстрелил еще раз и свалил его.
— Силен этот Крум, а? — восхитился Владиков.
Долгое время мы ходили безрезультатно. Больше зайцев нам не попадалось.
Владиков огорченно поцокал языком.
— Что? — окликнул я его.
— Нет зайцев!
— Ничего, — успокоил его я, хотя и сам удивлялся, куда ж они девались.
— Еще одно, — сказал Крум, остановившись и предлагая мне сигарету.
— Поле?
— Ага. Недавно вспахали. Наверняка в траве будут.
— В траве? — переспросил Владиков. — Так давайте туда!
— Или на виноградниках, — бросил я, пока мы с Крумом закуривали.
— Или на виноградниках, — повторил крестьянин. — Пройдем насквозь, потом — по краю. Еще не рассвело как следует.
Мы с Крумом немного отстали, а Владиков ускорил шаг, пристальным взглядом шаря по полю, по белесой высокой траве — растрепанному пышному волосу над черным, изборожденным морщинами лицом земли. «Если зайцы там, чего ж мы тут мотаемся?» — почти услышал я мысль Владикова, когда он обернулся к нам и махнул рукой. «Эй, давайте сюда! Выгоним их из травы да как пойдем шлепать! Выстрелы, кровь, лай, крики. Свалим их в джип, в «волгу», в ягдташи; потом постреляем на виноградниках, в терновнике по краю оврага, в бузине. Ухмыляясь, будем вскидывать их за уши, веселые и довольные, каждому из деревенских «шефов» доброе слово — и привет, потом в томительном полосатом и синеватом уюте машин припомним вновь и вновь самое интересное, приукрасим, отредактируем, выработаем варианты (что сближает сильнее общего успеха?) и вернемся домой, туда, где не существует этих жутких Крумов, а существуют только наши жуткие подвиги и выдумки, доказанные столь же безоговорочно, сколь и бессловесно, окоченелыми заячьими трупами. И в их запахе — запахе трупов, подвигов, хвастливых наших речей, который вдохнет и с удовольствием выдохнет наша семья, заранее обязанная нам верить, — мы счастливо почувствуем себя наконец-то такими, какими, в сущности, не являемся…»
Дешевая сигарета Крума была горькой, как его лицо, но ради того забытого и когда-то любимого вкуса я решил выкурить ее до конца.
— И табак попортили, — сказал он, так же точно разгадывая мои мысли, как и стреляя.
В эту минуту заяц выскочил из-под самых ног Владикова и, навострив уши, бросился бежать перед ним. Роскошный, огромный. Прямо вперед, как в кино.
Владиков выстрелил и тотчас повторил выстрел. Заяц все бежал. Попов присел на корточки и стал ждать в засаде. Выбрав самый подходящий момент, он тоже выстрелил два раза. Заяц вильнул в ноги одному из режиссеров, выстрел взбил две горсти земли совсем близко. Заяц высоко подскочил и снова переменил направление.
— Клиффорд! Клиффорд! — закричал другой режиссер и тоже сделал два залпа.
Стрелял и третий наш режиссер, снова выстрелил и Попов.
— Клиффорд!
Заяц резко свернул в сторону и бросился в обратном направлении — прямо к уже присевшему на корточки Владикову.
— Клиффорд! Клиффорд!
Шелковый крупный пес нервно вертелся и глядел в руки своему хозяину, пока не получил сильный пинок. После случая с Лецой это было уже слишком, и он заскулил тонко и жалобно. Первый режиссер снова выстрелил по зайцу, и один из сеттеров душераздирающе завизжал.
— Диана! — взревел Попов. — Диана! Пепи, что ты сделал с Дианой?!
— Не знаю! — прокричал тот. — Я стрелял в зайца!
Стоя по пояс в высокой траве, крестьяне глядели и молчали — черные, как мишени.
Заяц проскочил в пяти шагах от Владикова, тот дважды выстрелил — мимо! Крум рядом со мной прыснул было со смеху, но деликатно прикусил губу.
Бежал заяц — темная пашня летела из-под лап, лишенная своего спокойного лица, полная выстрелов и собак, с чудно́ взбивающейся перед глазами землей, с адским дыханием за спиной, бежал заяц, господи, как страшно призывали в его крови: бежать! — тысячи его дедов и бабок позади, и тысячи его внуков и внучек впереди так дико и неудержимо молили о своем рождении, ах, как бежал заяц…
Из бузины вырвалась Леца и с визгом бросилась ему наперерез. Он снова вильнул, но наткнулся на грозно летящего Гуджо и в который уже раз переменил направление. Мелькнули перед глазами заросли бузины, за ними спасительные ряды виноградника… В этот момент один из крестьян выстрелил, и заяц кувыркнулся.
Ничего особенного, снова вскочил и снова бросился бежать. Только правая передняя лапа повисла, и при каждом скачке он сильно тыкался мордой в земляные комья. От этого глаза его запорошило землей, один совсем закрылся, и он не видел уже ни бузины, ни спасительного виноградника. Ни даже Владикова, у чьих ног — метрах в пяти — остановился перевести дыхание. Он уже и не слышал ничего, хотя и ощутил, как черные дула заглядывают ему в глаза, а мгновение спустя небо, виноградник и светлая трава взметнулись, чтобы тотчас потонуть в огромной красной пасти рыжего, покрытого репьями чудовища…
Во время короткой передышки Крум дал режиссерам ракию — перевязать собаку Попова. Мы пустились между рядами лоз. То там, то тут беспрестанно гремели выстрелы, но когда мы вышли из виноградника, оказалось, что убито еще всего два зайца.
— Петляют, — пожаловался Попов. — Выскочит — и вдруг как вильнет!
— Да, — подхватили режиссеры. — Вдруг бросаются в виноградник, и не разглядишь их.
— Если б они не петляли и не бегали, ни одного бы уже не осталось, — заметил Крум.
— Порода бы их давно перевелась, — добавил низкого роста крестьянин, он подошел и толкнул меня локтем, чтоб я дал ему прикурить.
— Она и так переведется, заячья порода! — сказал я. — Судя по тому, как дело идет…
Когда прошли по рядам другого виноградника, низкорослый крестьянин закинул ружье за спину. Закинул и я.
— А если сейчас выскочит? — спросил он улыбаясь.
— Пусть его скачет, — ответил я. — Кому на роду написано помереть — тот не уцелеет. Давай спокойно покурим.
Так мы и сделали, пока другие продолжали стрельбу. В этом винограднике было убито еще три зайца, и к обеду на каждого из нас приходилось по зайцу.
— Это все благодаря ему! — показал Владиков на Крума, когда мы собрались у источника и свалили добычу под стог соломы. — Пять штук подстрелил!
— Да ничего особенного, — бросил Крум. — И вы ведь тоже попали.
— Попал-попал, — подхватил Попов. — Владиков сегодня в двух зайцев попал.
— Кто попал, кто не попал, не имеет значения, — любезно и энергично заключил товарищ из окружного центра. — Важно, что на всех хватило. А теперь — прошу!
Все так же любезно и энергично он распоряжался вокруг длинной скатерти, уставленной хлебом, бараньим жарким, бутылками с пивом и красным сидром. Мы расселись возле стога. Собаки рухнули на землю, высунув от усталости длинные красные языки. Все закурили, по рукам пошли бутылки с вином и ракией, разнесся запах простых и прекрасных закусок. С низкорослым крестьянином, которого, как оказалось, звали Данчо, мы нашли общие и одинаково интересные для обоих темы, которые и принялись развивать. Говорили о том, что если где-нибудь водятся зайцы — например, здесь, на общественном пастбище их деревни, — гости и начальство будут наезжать каждое воскресенье.
— И так год, два… — сказал я. Данчо улыбаясь пожал плечами. — Потом на другое место, — добавил я, — потом на третье и…
— И потом повсюду, — откликнулся мой новый приятель, — а нам уже — некуда.
Привалившись к стогу, мы говорили и о том, что зверя травят опрыскиваниями и удобрениями, что воздух, и воду, и землю травят, — мы понимали друг друга легко и просто, пока остальные не начали над нами подшучивать.
— Предлагаю Дончо с Данчо разлучить! — сказал Владиков. — Пусть не откалываются от коллектива и от стола.
— Да, да! — воскликнули и режиссеры.
— Это, в сущности, невозможно, — заметил Попов, — они оба деревенские, так что им хоть кол на голове теши. Ничего, что один писатель, а другой…
— Кормозаготовитель и животновод! — отозвался Данчо громко, спокойно и гордо.
Он подмигнул мне. Подмигнул ему и я. И почувствовал, как естественное поведение этого простого и скромного человека колеблет хрупкую, но тяжкую преграду, возникшую за время охоты у меня в груди, в сердце. И этот нехитрый разговор с ним, и даже фраза Попова: «они оба деревенские». Да, конечно, я предпочитал быть тем, чем были они — Данчо и Крум, другие крестьяне. Черной мишенью в светлой мягкой траве на винограднике, как я увидел их в это утро, как воспринял их всем своим существом. Предпочитал Владикову, который не ел дичи, но не мог насытиться убийствами. Предпочитал троим режиссерам, которые не были охотниками, а лишь из-за моды экипировались дорогими ружьями и собаками; предпочитал даже и Попову, хотя тот пока и не увеличивал ничем эту мучительную, душившую меня преграду.
Я развеселился. Наперекор всем мы с Данчо продолжали пить и болтать всласть — и не почувствовали, как пришло время расставаться.
А оно пришло. Дверцы «волг» и джипов были уже распахнуты, багаж размещен, мы начали прощаться с хозяевами.
— Приезжай еще, — сказал Крум, стискивая мою руку.
— Слушай, — поддержал его Данчо, — когда только захочешь — добро пожаловать.
Только всего и сказал. Я полной грудью вдохнул воздух. Слова и голоса этих крестьян глубоко и сладостно отзывались во мне — я словно слышал слова и голоса тысяч моих дедов и бабок, которые любой ценой я должен пронести вперед, к тысячам моих внуков и внучек.
Одним словом, я был счастлив. В этом «избранном обществе» я не утратил своей сути. Мне было весело.
— Давай подвезем тебя до деревни, — предложил я Данчо. — В машине есть место.
— Ну ее, — отозвался он, — что там делать? Сегодня воскресенье, и рано еще.
— А тут что будешь делать? — спросил я, усаживаясь в «волгу».
— Да вот… — ответил он, махнув рукой, и нагнулся взять ружье и торбу.
Машина медленно тронулась, и я увидел, как Данчо опустил торбу и ружье, улегся на солому, раскинул ноги и подложил руки под голову.
— Смотри приезжай! — было последнее, что я от него услышал.
Машина уже несла меня к шоссе. К моему дому, семье, творчеству, к уже предопределенной судьбе. Меня — рожденного здесь, в деревне. Завоевавшего положение в обществе, благополучного.
А я беспрестанно оборачивался назад, к стогу соломы, пока мог его видеть.
И со всей тоской, и силой, и нежностью, что скопил за свою жизнь, снова хотел оказаться там.
Перевод Ф. Гримберг.
Тодор Велчев
МОХНОНОГИЙ ПЕТУХ
© Тодор Велчев, 1980, c/o Jusautor, Sofia.
До тех пор пока Мохноногий, прозванный так, потому что природа одарила его пушистыми шароварами, обслуживал куриц как полагается, он был в почете. Но как только гребень его повис, шпоры потемнели и он стал понуро слоняться по двору, безразличный к кудахчущим красоткам, бабушка Павунка сказала деду Мило:
— Зарезал бы ты его, что ли, а то потом и для супа не сгодится…
— Неужто ты забыла, — ответил старик, обводя двор широким жестом, — что вся эта живность — его потомство! И какой еще петух лучше поет?
Что правда, то правда: Мохноногий первым оглашал утро своим голосистым кукареканьем. Ни одному из соперников он не позволил занять место вожака на крыше казанджийницы[14], хотя молодые петухи достаточно уже скомпрометировали его перед курочками…
Дед Мило кидал ему горстями зерно, а Мохноногий благодарно клокотал горлышком, и эти звуки сливались с бульканьем в кране казана, откуда сочились капли ракии.
Раз в капкан попался хорек — гроза цыплят. Старик залил его керосином и поджег. Пока хорек горел и пищал, у Мохноногого выпрямился гребень и весь он как-то приосанился.
— Ну вот, молодец, так держать! — похвалил его дед. — Нельзя нам еще сдаваться.
Понял его петух, нет ли, но через неделю ощутил силу в ногах, шпоры его порозовели, а шаровары разбухли, покрывшись сверху донизу пышным белым пухом. Он даже погнался было за несколькими курочками, однако остальные петухи тут же набросились на него. Мохноногий не стал с ними связываться, чтобы они поняли, что это слишком мелкий повод для драки — существуют гораздо более серьезные.
Однажды утром, когда после его побудки курицы покинули курятник, бабушка Павунка пришла собирать яйца и вдруг обнаружила, что почти все пустые. Что за чертовщина? — задумалась она. От хорька вроде избавились… Может, ласка теперь повадилась в гости? Она пошла искать деда, а за ней следом важно вышагивал Мохноногий.
— Кыш! — взмахнула она рукой, но петух даже не пошевельнулся. — Мило-о! — громко позвала старуха. — Иди сюда, кто-то опять яйца пьет!
Дед вышел из-за угла дома.
— Кто же это может быть?.. — И, заметив, что петух вертится в ногах, спросил: — Может, ты скажешь?
Мохноногий бы мог, но ведь не положено ему подавать голос средь бела дня. Да и поймут ли его? Но он все же вскочил на крышу казанджийницы и закукарекал — надо, надо было рассказать о том, что видел он ночью.
…Между расшатавшимися кольями ограды прополз огромный уж. Чешуя его блестела в лунном свете. Петух услышал шорох и стал внимательно следить за ним. Кругом стояла тишина. Лишь изредка раздавалось сдавленное квохтанье, напоминая Мохноногому о пестрых птичьих снах. Уж шарил по курятнику и высасывал яйца одно за другим с такой жадностью, словно век не ел. Потом тем же путем убрался восвояси. Он исчез так тихо и незаметно, что Мохноногий решил, будто все это ему приснилось. Однако, когда утром старуха подняла шум, он понял, что увиденное им было явью. Вот об этом-то он теперь и кричал.
— О-ох, миленький ты мой, — запричитала бабушка Павунка, — ежели запел в такой неурочный час, стало быть, беда пришла. Дед, поставь-ка ты капкан да осмотри как следует мельницу! Может, лиса где прячется — возьми ружье и хорошенечко пройдись вокруг канавы…
А уж, сытый и довольный, свернулся кольцами на старом мельничном круге, неведомо с каких времен лежащем в зарослях бузины. Весеннее солнце пригревало, ласкало своим теплом, и очень приятно было ощущать себя хозяином здешних мест. Он истребил всех крыс и мышей, за хорьков даже взялся. Мир и покой царили на земле бабушки Павунки, а тайный благодетель не обнаруживал себя и не требовал никакой благодарности. Почему бы теперь не размяться и не переползти на ту сторону луга, ведь так приятно ночною порой лежать и часами смотреть на звезды. Худо ль половить грызунов, скажем, у Литаковских мельниц? Но разве найдешь в другом месте именно такой мельничный круг? Или более ароматную бузину, более пряные запахи разнотравья? А лучшей воды, чем в здешнем ключе, и вовсе нигде не сыскать! Еда — она везде найдется. Набьешь один раз хорошенько желудок, и на несколько недель хватит. Потому он столько лет и не показывался старикам на глаза. Зачем пугать их? По ночам только выползал на охоту и потом медленно переваривал свою добычу. А восход солнца встречал, свернувшись на каменном круге.
Задремав, он не почуял шагов, не услышал слов старухи:
— Мило, на́ ружье, возьми еще и палку!
Дед подошел к камню и остановился как вкопанный. Какая там палка, только разозлю, подумал он. Ежели, не приведи господь, обовьется вокруг шеи — всё, крышка! Это ж Звездочет! Дед Мило взвел курок, поднял ружье. Прицелился. Только б в голову, иначе пропаду ни за понюх табаку!
Грянул выстрел. Уж молнией слетел с круга, зашипел и, ломая стебли болиголова, уполз в свое логово под мельницей. Бабушка Павунка встретила деда, вопросительно заглядывая ему в глаза.
— Соня это была, — ответил он небрежно, — да только убежала.
Так дед и петух поделили между собой страх и тайну.
Несколько недель уж не появлялся, и бабушка Павунка спокойно собирала дань со своих несушек. Старик и петух грелись на солнышке, сидя у казанджийницы. Если не сдох Звездочет, думал дед Мило, значит, убежал, это тоже неплохо. Временами он поглядывал в сторону заброшенного мельничного круга. Хорошо, что Павунка ничего не поняла, а то ведь она верит в примету, будто змея приносит в дом смерть. Глупости, конечно, да на старости лет разве переубедишь ее?!
— Верно я говорю, петушок? — спрашивал он, подбрасывая Мохноногому горсть зерна.
Когда боли утихли, уж снова ощутил голод и в одну из звездных ночей выполз наружу. Обшарил все вокруг в поисках какого-нибудь грызуна или хотя бы лягушки, но ничего не нашел. Пришлось отправиться в курятник. Прополз он в знакомую лазейку и опять принялся высасывать яйцо.
Петух проснулся внезапно и хотел было сразу наброситься на врага. Но решил подождать. То ли понял, что, набив желудок, сильный становится ленивым, то ли боязнь поражения в присутствии остальных петухов заставила его воздержаться от поспешных действий. Какой смысл погибать на глазах у тех, кто тебя презирает?!
Когда уж покончил со всеми яйцами и выполз из курятника, петух выскочил за ним следом. Луна светила вовсю. Звездочет остановился у мусорной кучи: тепло, идущее от нее, видно, понравилось ему, и он разлегся отдохнуть. Мохноногий так и взвился — сколько всяких вкусных вещей находил он в этой куче!.. И вот оба застыли друг против друга, залитые лунным светом. Уж прикинул, что ему не проглотить такую большую птицу, и попятился назад. Петух, однако, наступал, распушив крылья, вытянув огненно-красную голову с острым клювом и торчащим гребешком. Громадный уж приподнялся взглянуть на этого храбреца и покачал над ним головой размером с человеческий кулак. Мохноногий клюнул его и этим вконец разозлил, сонливость как рукой сняло. Звездочет напрягся, замахнулся хвостом и щелкнул им, словно плетью. Пернатый противник ответил угрожающим «ко-коко». Уж зашипел. Петух подпрыгнул и вонзил клюв ему в голову. От боли уж пришел в ярость, свернулся клубком и внезапно сделал стремительный, пружинистый бросок. Полетели перья. Мохноногий пустил в ход шпоры, а уж вцепился в него. С петушиной груди и разодранной пестрой чешуи ужа на мусорную кучу упали первые капли крови. Под печальным взором луны противники разошлись на короткую передышку.
Уж застыл, слегка приподняв голову, а петух озирался по сторонам, будто искал союзников или зрителей в залитом лунным светом пространстве. Звездочет бы отступил, с него и этого было довольно. Но ведь тогда он мог потерять все: и старый мельничный круг, и аромат бузины, и хрустально чистую родниковую воду… Где еще в другом месте он найдет такое?! Уж бросился вперед, петух нанес ему удар клювом и снова впился шпорами. Звездочет отполз к краю мусорной кучи, собрался с силами и сделал еще один бросок. Петух стал похож на вспоротую подушку. Клюв — вот в чем его сила! Им только и надо бить, только им! Но куда? Глаза ужа мерцали, как две свечки. Петух клюнул в одну из них и потушил ее. Уж взвился от боли, грозно зашипел и обрушился всем телом на Мохноногого. Обвился вокруг него и сжал мертвой хваткой. Что-то затрещало у петуха внутри. И может, это, а может, и стук сердца, подступившего уже к горлу, придали ему силы, чтобы глубже вонзить шпоры в блестящую кожу. На мгновение уж расслабился, петух тут же высвободил голову и молниеносно ударил клювом по второму глазу Звездочета. Клубок из перьев и чешуи вдруг размотался и угомонился, противники свалились друг подле друга.
Уж вытянул израненное тело, петух поджал крылья. Мусорная куча вся пропиталась кровью. Звездочет медленно пополз к мельничному кругу, чтобы там проститься с жизнью. Его след на траве был устлан клочьями чешуйчатой кожи.
А Мохноногий поплелся с разодранной грудью ко двору. Наступило уже утро, все птичье население замерло, глядя на вожака. Из последних сил Мохноногий выпрямился и, еле передвигая ноги, направился к казанджийннце, оставляя за собой дорожку из окровавленных перьев. Увидев своего любимца, дед Мило сокрушенно развел руками, а бабушка Павунка крикнула ему:
— Зарежь его, а то сдохнет, на что нам падаль!
Звездочет дополз до своих излюбленных мест, где пахло бузиной и болиголовом, но, как ни напрягался, не смог продвинуться вперед: на пути была какая-то рыхлая кочка. От нее веяло теплом, и уж расслабился. Он понял, что здесь кончается земля бабушки Павунки. Из округлой кочки выползли муравьи и тучами покрыли его раны. Изодранное тело свернулось клубком и судорожно вздрогнуло в последний раз. Муравьи начали пир.
Мохноногий, почувствовав запах ракии и дыхание старика рядом с собой, застонал и рухнул, прежде чем бабушка Павунка успела подскочить к нему с ножом в руке. И все же она зарезала его.
Разожгла огонь, поставила кипятиться воду, а сама все бормотала:
— И кто ж это его так?
А дед Мило пошел на мельницу, принес кусок жести, большие ножницы и молоток.
Стук из казанджийницы разнесся над всей округой, над рекой и над муравейником, где лежало бездыханное тело Звездочета, черное от муравьев. Они хозяйничали с усердием, и так же усердно старик колдовал в казанджийнице над листом жести.
А назавтра дед вынес во двор железного петуха и прибил его над крыльцом. Мохноногий словно ожил, сверкая на солнце. Когда ветер раскачивал его, он взмахивал крыльями, издавая звуки, похожие и на кукареканье, и на шипенье. Звуки эти доходили до муравейника, и белый скелет — все, что осталось от ужа, — будто вздрагивал. По нему неутомимо сновали муравьи — символ бесконечности жизни.
Перевод А. Крузенштерна.
Николай Хайтов
СМЯТЕНИЕ
© Николай Хайтов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
© Перевод на русский язык «Художественная литература», 1983.
Если и есть нечто жизненно необходимое для нашего горного села, так это козы. И в сушь, и в слякоть у козы всегда найдется кружка молока для хозяина, чтобы не положил он зубы на полку.
К тому же козье молоко ближе всего к человеческому. Если дитя без матери останется, его можно прямо к козьему вымени прикладывать — и не подумаешь никогда, что оно сиротой растет. Опять же, если козье молоко заквасить и накрошить туда кукурузного хлеба, такая получится тюря — пальчики оближешь! Бациллы в этой козьей простокваше не кроткие, как в других видах кислого молока, а буйные, они шипят, фыркают, не успеешь хлебнуть из миски, как все лицо в белых брызгах.
Вскормленные с незапамятных времен на буйной козьей простокваше, доживают земляки мои до глубокой старости, и потому в нашем селе полно восьмидесяти-девяностолетних, которые дергают чечевицу на поле до последнего вздоха.
Употреблением все того же козьего молока объясняется, по мнению Минчо Фельдшера, и то странное с точки зрения медицины обстоятельство, что у нас повышенное кровяное давление и грипп — большая редкость, и село наше торчит, словно одинокий островок, посреди всемирного гриппозного моря, время от времени заливающего человечество своими свирепыми волнами.
А что сказать о козьей бастурме? Прежде отнимали ребенка от груди — и никаких тебе сосок, никакой хлебной жвачки. Отрежут кусок бастурмы, сунут младенцу — и соси себе на здоровье. Выживешь — хоть подметки потом глотай, ничего твоему желудку не сделается.
Наверняка с козьего молока да от одеял козьей шерсти вырастают наши парни добрыми солдатами: в первую мировую войну из шестисот двух душ домой возвратились двадцать три, и лишь двое без крестов за храбрость — так они даже в село вернуться постыдились, у соседей прижились.
Одно только плохо у моих земляков: несмотря на разъяснительную работу, проводимую последние тридцать три года, общественное сознание у них все еще хромает. Коз все хотят иметь, молочко все хотят пить, а вот козла вырастить никто не хочет. Козел, как известно, молока не дает, да и мясу его грош цена, вот каждый и норовит за счет другого проехаться, а другой на третьего надеется, а третий на четвертого… В конце концов на все село остался один-единственный престарелый самец, да и тот прошлой зимой нежданно-негаданно переселился в царствие небесное.
Так и получилось, что к Димитрову дню, когда приходит время козьих свадеб, Яврово оказалось без производителя. Тут и спохватились: как же быть? Дело ясное, не будет козла — не будет ни молока, ни козлят. А куда же старым без молока и без козлят? У нас в селе всего двести пятьдесят семь человек, четырнадцати из них — под сорок, двадцати семи — под шестьдесят. Всем остальным уже рукой подать до господа бога, кто к девяноста, а кто и к ста годкам тянет. Молодые-то, после того как село наше объявили бесперспективным и ликвидировали школу, ринулись в город, а здесь остались лишь старики да козы. И ничего удивительного, что смерть единственного козла повергла всех в смятение. Заговорили даже об импортном козле. Шофер из треста международных перевозок, зять одного из наших, сказал, что по знакомству может доставить нам какого угодно козла, даже из-за границы. Но затея эта провалилась, потому что нашелся козел напрокат — в соседнем селе Лясково. Лясковский козел был молодой, но решительный. Он ретиво взялся за дело, и день-другой все шло как по маслу. Крестьяне уже довольно потирали руки, но тут-то и произошла осечка — козел переоценил свои силы. Орда наших толстых, ненасытных коз истощила его, и на третий день он свалился с копыт.
Уже стемнело, но старики кинулись на пастбище и принесли козла на самодельных носилках, застланных ветками. Выбившиеся из сил носильщики опустили его на землю перед закусочной. Козел не то что встать, глаз даже открыть не может. Посыпались советы. Кто кричит: «Надо напоить его молоком с чесноком»; кто советует растереть жилы на шее, а кто считает, что животное приведет в чувство толченый орех и две рюмки мятной, и даже пытается влить ему настойку в горло.
В конце концов решили отнести козла в подвал к Петьо Печинову и поручить его заботам Петьовой тещи. После этого разошлись, но, как и двести лет назад, когда заявились турки, в селе никто не мог уснуть, потому что, как известно, если будет упущен срок, следующая весна не принесет ни козлят, ни молока. Известны и последствия этого: повышенное кровяное давление, грипп — и конец селу…
Помяну и другое немаловажное обстоятельство: козами с недавних пор стала интересоваться болгарская кинопромышленность. После того как в нескольких картинах были успешно показаны козьи стада, режиссеры начали все чаще и чаще прибегать к услугам коз. Сами козы держатся перед камерой очень естественно — скачут по скалам как черти, сшибаются рогами, кокетливо переступают передними копытцами, словно восхищаются сами собой, — короче говоря, ведут себя как искусные каскадеры. Поэтому, наверно, фильмы с участием коз получили признание критики и были даже отмечены международными премиями.
С того времени наше село превратилось в маленький Голливуд, а козы приобрели вдвойне важное значение: они приносят нам не только молоко, но и гонорары. Мало-помалу отдельным козам стали доверять эпизодические роли. Для цветных картин предпочтительнее пестрые козы, однако и криворогие ценятся наравне с ними, потому что считаются самыми живописными. Все это заставляет теперь крестьян сохранять криворогих и пестрых козлят, и благодаря этой, так сказать, «киноселекции» наше сельское стадо очень расцветилось.
Наконец, козий вопрос имеет еще и психологическую сторону: старики ведь тоскуют по внукам. Нет при них внучат, которые согрели бы им душу своими голосами и теплым поцелуем. Чувствуя потребность посадить на колени внука, покачать его, ощутить исходящий от него запах свежего молока и козьего пуха, старики делят свою грусть с козлятами, потому что козлята такие же озорные и беспокойные, как дети.
Радуются на них старые с марта и до самого праздника плодородия в начале октября. Ну а тогда приезжают из города сыновья, закалывают козлят, насаживают на вертела и весело и беззаботно съедают. Потом они уезжают на автобусе или на собственной машине, а осиротелые старики ходят как потерянные и горюют, словно закололи собственных внучат…
До следующей весны над селом повисает свинцовая (как говорится в хороших книгах) тишина, нарушаемая только постукиванием палок о булыжную мостовую и старческим кряхтеньем. А с приходом зимы все чаще начинает звонить колокол по усопшим…
И так до появления новой листвы, до козьего окота, когда жизнь, сколько ее еще осталось, снова возрождается.
Таково многообразное значение козы для нашего обреченного села. Потому и охали крестьяне над обессилевшим козлом, потому и глаз не смыкали всю ночь, а поутру с усердием взялись за восстановление его подорванного здоровья. Но, несмотря на все старанья, козел лежал недвижимо. Правое его веко слегка приподнялось, но левое было плотно прижато, и на третий день бедняга лясковец сдох. Что же, теперь надо было действовать расторопнее и достать не одного, а по крайней мере пять-шесть совершеннолетних козлов, чтобы поправить дело за оставшуюся неделю…
В разные стороны посланы были люди, чтобы купить, занять, наконец, украсть, если потребуется, но без козлов не возвращаться.
Первая группа — отпускник-пожарник с двумя грузчиками — на газике поспешила в соседнее Бачково.
Четверо членов местного охотничьего общества отправились — якобы за дикими свиньями — в село Добралык с заданием взять в плен одного из тамошних козлов.
Третья бригада двинулась пешим ходом через холмы в Наречен, а четвертая — в знаменитое своим картофелем Лилково. Впрочем, это была никакая не бригада, а всего-навсего старик, рассчитывавший с помощью шустрого свояка, имевшего в прошлом какие-то заслуги, раздобыть для нас двух козлов.
Акция дала неожиданные результаты: на третий день первая группа возвратилась с двумя козлами, взятыми у бачковцев под обещание дать им следующей весной нашей табачной рассады.
Третья группа (нареченская) потерпела неудачу: село стало курортом, и нареченские козлы были еще в прошлом году ликвидированы, поскольку придавали окружающей среде сильный специфический запах, создавая у иностранцев впечатление, что мы отсталые. (По той же причине порешили индюшек в Поповице.) В виде компенсации за скорбное это известие нареченцы подсказали нашим, что в монастырском стаде возле Бачкова есть хоть и бодливый, но деловой козел и можно попытаться одолжить его у отца Агапия. Они объяснили также, что отец Агапий малость подслеповат, а чуток хлебнет — и вовсе ничего не видит, так что в случае чего козла можно будет умыкнуть и без его благословения, а когда дело будет сделано, возвратить законному владельцу.
Работа с отцом Агапием поначалу шла довольно туго. С глазами у него действительно было что-то неладно: веки были и вправду словно обожженные, однако видел отец — дай бог каждому. Он раскричался, стал размахивать кизиловой дубинкой, пригрозил нашим даже милицией. Тогда они вытащили две бутылочки виноградной крепкой, и после глотка-другого он так успокоился, что в конце концов не только вручил им козла для временного пользования, но еще и спел «Ой, Йордане».
Наибольшие трудности и неудобства выпали на долю второй, добралыкской, группы. Они связались с местными охотниками, пытаясь добром выпросить у них двух из пяти тамошних козлов, но представители добралыкской общественности вспомнили, что во время оно была у них с нами какая-то тяжба, и отказали: нет, нет, и все тут! Тогда нашим пришлось получать то, что нужно, явочным порядком. Присутствовавший при этом козопас был обезоружен обещанием принять его в охотничье общество.
Из контактов с лилковским свояком почти ничего не вышло: по каким-то там причинам его слово уже не имело прежнего веса, так что наш посланец приволок домой одного-единственного козла.
Но так или иначе производителей набралось достаточно, и все — бородатые ветераны, отличавшиеся друг от друга не только внешностью, но и характером.
Выменянные на табачную рассаду бачковские козлы выглядели после дороги довольно жалко: шофер, который их вез, гнал машину, поворотов, притом весьма крутых, хватало, так что животным при перевозке здорово досталось от обитых железом бортов грузовика. Один козел был среднего возраста, бородатый, другой — трехлеток, вроде бы его внук. Самого дикого нрава оказался приведенный на веревке из Красных Скал монастырский козел. Он был подозрителен, глядел исподлобья и не давал к себе подступиться.
Сильное впечатление производил также один из двух добралыкских козлов. У него была каштановая борода с белыми вкраплениями и длинная, словно ряса, шерсть до самых копыт. Второй добралыкский козел с обломанным рогом семенил за первым на почтительном расстоянии — точь-в-точь служка за священником.
С наибольшим трудом был доставлен лилковец. Привязанный к седлу общественного мула, он то ли не хотел плестись у него в хвосте, то ли его не устраивала скорость мула — во всяком случае, недоуздок выворотил шерсть на козлиной шее, и когда его отвязали,, шерсть продолжала дыбиться и придавала ему угрожающий вид. Был он пестрый, с белыми прядями на груди, к тому же оказался невероятным гордецом и держал голову выше всех, за что его тут же окрестили Гвардейцем.
Мы были довольны успешным проведением операции, а некоторые заявили даже, что если б мы всегда были такими сплоченными, то не дошло бы до закрытия пекарни, кооперации, бани и школы. И тогда из села не сбежала бы вся молодежь. К таким-то вот выводам привела охота за козлами-производителями.
Козлов отправили на ночлег — каждого взял домой тот, кто его привел. Позаботились, чтобы они были хорошо накормлены. Причесали лохматого лилковца. И впервые за много дней уснули спокойно.
Следующее утро началось в бодром темпе. При первом же окрике козопаса улицы заполнились устремившимися к сельской площади взволнованными козами. Запах козлов уже достиг чуткого обоняния наших вдовиц, и они нетерпеливо постукивали копытами.
Козлов отвязали, пустили в стадо. Но вместо того чтобы поспешить исполнить свой долг, они остановились как вкопанные и стали глазеть друг на друга. Козопас поднял герлыгу и — кого криком, кого взмахом — расшевелил стадо. Тут все восемь козлов вдруг бросились бежать, и каждый старался вырваться вперед. Проворней всех оказался монастырский — он повел стадо, но не прошел и пяти шагов, как его настигли остальные. Они налетели на него, вытолкали, и на его месте уже стоял лилковец. Но и этот ненадолго. Объединившиеся соперники напали на него с таким остервенением, что Гвардеец взлетел в воздух, а возвращаясь на землю, сел верхом на какую-то юную козочку; та подпрыгнула, завопила — и началась свалка. В этот момент впереди оказался добралыкский «священник» в шерстяной рясе. Выдвижение его вызвало ожесточение остальных козлов. В рядах нападающих оказался и «служка», вроде бы смирный второй козел из Добралыка; он так ударил, — очевидно, по праву односельчанина, — что из шерсти «священника» вылетел, словно цыпленок, здоровущий клок, шкура была распорота, из раны брызнула кровь.
Козы отшатнулись. Козопас пытался навести порядок своей герлыгой, но она застряла в рогах борцов и треснула. Мир воцарился лишь с появлением Минчо Фельдшера. Он научно разъяснил, что не надо мешать козлам мериться силами. Потому что это не обычная драка, а выбор сильнейшего — сильнейший станет вожаком и первый покроет козу, которую захочет, козлята от такого отца достигнут максимального живого веса. Подобный выбор, закончил Минчо, этот закон матери-природы, и нельзя мешать его осуществлению, потому что вмешательство в законы природы может привести к большой неразберихе.
Минчо послушались. Предоставили козлам бодаться, и сражаться, и побеждать в борьбе. На какое-то время верх взял высоченный лысый козел с белой звездой на лбу, но коренастый, проворный и злой соперник, не дрогнув перед этой звездой, чуть не сломал ему шею. Вскоре у монастырского отлетели рога, но он дрался и без них. Упершись крепкими ногами в землю, он не уступал, и в его округлившихся, налитых кровью глазах горела мрачная решимость победить или умереть. Дьявольская сила этого взгляда заставила противника отступить — сделав последнюю робкую попытку переломить ход поединка, он бежал.
Монастырский повел козье стадо. Безрогий, растерзанный, окровавленный, он излучал свирепую энергию. Остальные козлы смиренно следовали сзади — соответственно занятым в борьбе местам.
Так монастырский козел, этот живой обломок Красных Скал, наполнил наши души любовью и восхищением мы признали его и рукоположили в вожаки, привязав ему на шею большой колокольчик. Победитель кинулся вперед, и стадо заколыхалось вслед за ним, покоряясь ритму его шагов…
Старики, взволнованные переживаниями последней недели, расходились по домам. Звон колокольчиков летел высоко над крышами и разносил добрую весть, что бедствие позади и село спасено. Снова будет в изобилии козье молоко, теплые озорные козлята, новые радости, новая весна.
Перевод В. Викторова.
Димитр Ярымов
СКАЗАНИЕ О МАСТЕРЕ
© Перевод на русский язык «Наш современник», 1975.
Каждый год в конце июня к монастырю Святой Троицы, что приютился у подножия Сакар-горы, в долине Монастырской реки, собирается повеселиться и погулять народ со всей округи, из всех сел и деревень, до которых не более чем полдня пути. В наши дни вражда между селами утихла, и если где что и вылезет, то оборачивается шуткой, а нож и ружье больше в ход не идут. И если раньше вести об очередном смертоубийстве что ни год, бывало, обегали шепотком воскресное сборище в долине Монастырской реки, то нынче дурные слухи все реже смущают народ. Тем больше волнений вызвало происшествие, случившееся летом 1973 года: в Тундже утонул человек.
— Как утонул? — спрашивали друг друга люди, рассевшиеся кучками в тени старых орешин.
— Толкнул его кто или…
— Вот уж не скажу.
Старики ставили свечки в церковке монастыря Святой Троицы и, хоть и не знали, кто утонул, поминали покойника добром. А по всей долине шли толки:
— Наверняка тут баба замешана!
— А как же, разве не знаешь? Он со снохой своей… А тут напился, сын позвал его да и столкнул в воду.
— Вовсе не так! Мне очевидец рассказывал: когда огородники вытащили его у княжеской мельницы, на берегу нашли пиджак, а в нем бумажник с деньгами. Значит, сам…
— Слыхали? — рассказывали у родника, подальше от монастыря. — Вытащили из Тунджи утопленника, одежу так и не нашли, а в ней, говорят, денег много было.
— Откудова он?
— Старый, молодой?
— Не знаю.
— Говорят, молодой, а еще рассказывали, будто у него жена с кем-то сбежала.
— Сегодня?
— Сегодня, прямо с праздника.
— Мол, увидел, как она в чужой машине по шоссе покатила, и — в Тунджу вниз головой.
— Да нет, нет, враки все, — возражали габровские гончары, разложившие свой товар на верхнем конце поляны, — все это враки, никто ничего толком не знает.
— Ну да! Там внизу народ собирается на борьбу смотреть, так я сам слышал: старший сын его столкнул. Он в городе живет и все ждал, когда папаша на тот свет отправится, чтоб ему с младшим братом разделиться. Он машину хочет купить, а дом в деревне крепкий, за него хорошие деньги дадут.
— Не знаю, не знаю. Рано или поздно выяснится.
— Чего тут выяснять, и так ясно, там рассказывал один: зять подбил его, чтоб он продал дом и переселился к нему, а потом выгнал…
— Да какой там зять! Он сам молодой парень. Снабженцем работал, запутался и — бултых в Тунджу!
— Ух ты! Проворовался, значит…
— Делов-то, отсидел бы, сколько положено, а чего ж в реку кидаться!
— Да кто вам наплел! Человек пожилой был, сыновья его делиться стали и с ножами друг на дружку полезли, вот старик со стыда да с горя и…
Было б это в прежние годы, когда в подобных случаях складывали песни, молодежь, наслушавшись разговоров, разошлась бы по своим селам, прежде чем узналась бы правда, и каждый унес бы с собой то, что услышал, или то, что лучше ложится в песню, уже зашевелившуюся где-то в сердце, и на другое лето пелось бы несколько разных песен об одном и том же случае, а потом годы шли бы и шли и о самом случае уже рассказывали бы только так, как поется в песне.
— Ничего не поймешь, — говорили в сумерках люди, еще не разошедшиеся по своим селам. — Утонул-то вроде карапчанец, тот, что колокольцы делал, а почему, никто не знает.
Итак, кто утонул, выяснилось, хотя почему мастер покончил с собой, никто объяснить не мог. Тем, кто заметил, как он сидит на поляне среди толпы, неподалеку от цыган, продающих цепи, сидит, поджав ноги, перед брезентовым мешком, на котором разложено штук двадцать колокольцев, он показался человеком ничем не примечательным. Перед ним мало кто останавливался — никто не подозревал, что таится в сердце этого задремавшего под палящим солнцем человека с косынкой на голове и оббитыми черными пальцами…
Бежав после поражения Преображенского восстания[15] из разоренной Нижней Фракии в свободную Болгарию, мастер Стеван — забросивший на время восстания свои колокольцы и чинивший заговорщикам оружие — поселился один, без жены и детей, в селе Карапча, на реке Тунджа. С собой он не принес ни молотка, ни напильника и все начал заново: нанял пустой сарай, собрал кое-какой инструмент и открыл мастерскую по выделке колокольцев. Лет ему было около пятидесяти, и жениться он не собирался, хотя одна вдова его обхаживала, а семья его пропала без вести; наверное, все еще надеялся, что на кровавом пути из Нижней Фракии хоть кто-нибудь из родных да спасся и рано или поздно объявится. Потеряв в конце концов эту надежду, он с головой ушел в свое ремесло; товар у него покупали все окрестные села — разведение овец было тогда доходным делом, слава о нем докатилась и до дальних сел, мастерская не утихала целыми днями, а на ребятню, что вертелась около него и глазела, он не обращал ни малейшего внимания. Годы шли, и колокольцы его населили своим перезвоном долину Тунджи от Стара-Планины до самого Андрианополя. А когда грянула Балканская война, Стеван отправился с Двадцать девятым полком искать родных. Вернувшись, он смел в мастерской паутину и снова взялся за работу; тут он заметил, что один из мальчишек, успевший подрасти — ему уже было лет четырнадцать, — особенно настырно крутится возле него и не спускает глаз с колодки. Позже Стеван рассказывал, что сразу же после войны перехватил как-то взгляд этого мальчишки и по тому, с каким напряжением оглядывал тот все вокруг, не мог не угадать и не подумать: растет новый мастер, только бы не в моем ремесле, ведь коли он ухватит суть и сам начнет работать, глядишь, и меня превзойдет. Эти слова, сказанные где-то между Балканской и первой мировой войнами, относились к тому самому старику, который летом 1973 года сидел на монастырском празднике неподалеку от цыган, разложив на брезентовом мешке штук двадцать колокольцев, и, время от времени помаргивая, дремал под жарким солнцем.
Так вот, парнишка все чаще околачивался в мастерской Стевана; как только мастер замечал его, он откладывал молоток и садился отдыхать, но мальчишка не уходил.
— Сбегай принеси мне воды, Демир, — говорил мастер, принимаясь за работу у каменной колодки, на которой он выгибал жесть.
Парнишка кидался со всех ног к колонке посреди села, мастер, став спиной к двери, спешил придать жести нужную форму, но вскоре слышал, как по траве у мастерской торопливо шлепают босые ноги, и поворачивался, заслоняя колодку, к которой сразу же устремлялись глаза Демира. Бросив на начатую работу свой пиджак, он брал кувшин и тут же протягивал его обратно:
— Теплая вода, больно теплая. Сбегай-ка лучше к колодцу на винограднике. Одна нога здесь, другая там!
Демир снова бежал напрямую, перескакивал через плетень, потом мчался босиком по колючкам, по узкой тропке среди сливовых кустов, а всеми мыслями был там, в мастерской Стевана, и слушал, как звенят колокольцы, вышедшие из его рук; вот он бросает кусок жести на камень — стук, бряк, — потом берет молоток, выгибает жесть, заливает шов медью, выковывает язык, подвешивает его вовнутрь, и но сараю разносится звон…
Мастер принимал у Демира кувшин с холодной водой, жадно пил, возвращал кувшин парнишке и снова посылал его куда-нибудь — за табаком или сливовицей. Иногда придумывал ему совершенно несуразные задания:
— А ну, коли ты такой грамотный, иди пересчитай, сколько в селе домов, и потом скажи мне; я и так знаю, но хочу поглядеть, на что ты годишься…
Дома́ можно было бы пересчитать и по памяти, Демир знал каждую улочку, каждый двор, и сарай, и хлев, и даже свинарник; надо было только сосредоточиться, и он бы все их перебрал. Но он не мог закрыть глаза и приняться за это дело: глаза его не отрывались от рук мастера, пребывавших в бездействии, если на него кто-нибудь смотрел; позже Демир рассказывал, что были те руки какие-то особые, не похожие на руки отца; он смотрел на них и думал, что когда-нибудь разгадает их тайну, да если б даже не надеялся разгадать, все равно не мог отвести от них взгляда и сбивался, припоминая дома. Тогда, чтобы выполнить задание на совесть, он опять припускал по колючкам, взбегал на холм и быстро считал до трехсот, а когда прибегал обратно к верстаку, мастер сочинял что-нибудь еще:
— В роще, у Красного оврага, должно, лисица появилась, я вчера ходил и видел нору у большого граба. А ну покажи, на что ты способен! Заложишь все выходы колючками и глиной, оставишь только два, у одного разведешь огонь, а у другого будешь стоять с мешком. Дым начнет лису выкуривать — она прямо к тебе в мешок и сунется…
Все, что только мастер ни придумывал, парнишка выполнял и снова спешил в мастерскую. Он старался не сердить Стевана. Хоть мастер все и скрывал, Демир надеялся, что, глядя на его руки, сам постепенно поймет, что к чему, и тоже научится мастерить колокольцы. И мастер не хотел ссориться с мальчиком — тот часто приносил ему сливовицу, яйца, а когда мать пекла пироги, всегда тайком притаскивал мастеру кусок.
В эту пору мастер Стеван был на вершине своей славы, по всей долине Тунджи, да и за ее пределами, звенели его колокольцы, в Карапчу наведывались с заказами люди из дальних сел, и колокольцы его повсюду стали называть карапчанками. Когда к нему приходили чабаны и просили: мастер, сделай нам карапчанки; мне семь четверок и четыре шестерки; а мне девять шестерок и шесть восьмерок, — парнишка слушал и думал о том, что когда-нибудь и к нему люди будут обращаться: мастер, мастер… Иногда он смотрел, как Стеван прослушивает колокольцы, и потом долго не мог отвести взгляда от его левого уха, сморщенного, обвисшего, поросшего черным волосом; ему казалось, что и ухо у мастера не как у других людей.
Летом мастер оставался один и работал спокойно: парнишку посылали пасти коров, гоняли и на жатву, и на молотьбу, и он не мог ему докучать. Но наступала зима, и Демир снова вырастал около него, приносил сала, иногда домашней колбасы; мастер не допускал его до главного, закрывал верстак какой-нибудь одежкой, и паренек не мог разглядеть камень; иногда он пытался приподнять с камня покрышку, но мастер не спускал с него глаз и тут же одергивал:
— Туда не лезь!
Поздней осенью и зимой Демира не удержать было дома и за скотом он не желал смотреть. Когда подходило время гнать коров на водопой, а Демир все не возвращался, отец сердился и часто жаловался матери:
— Не выйдет из нашего Демира хозяина, ты погляди, уж полдня прошло, а его все нет. Как болезнь на него напала. Натаскал молотков, клещей, какой-то камень приволок…
А сын готовился взяться за дело, о котором дома никто, кроме его младшего брата, не знал. Он будет действовать наугад, вслепую и нащупает то, что надо. Раз старый мастер все от него скрывает, и он будет таиться, ни о чем его не спросит.
Демир начал колдовать над куском жести, смотрел на старый колокольчик и, выгибая жесть на глыбе песчаника, старался придать ей форму своей модели; под льняной рубахой, точно щекотка, шевелилась радость — вот оно, выгибается, а там и зазвенит… Но он все еще не знал, как заливаются медью сгибы и швы. По субботам он ходил в город, заглядывал в мастерские лудильщиков, смотрел им в руки, но те работали с оловом, которое легко плавится, а медный сплав требует сильного жара — это сказал ему один старый мастер, уже отошедший от дел и не считавший нужным ничего скрывать: он хотел, чтобы ремесла передавались из рук в руки и жили вечно.
Паренек стучал тайком в сараюшке, дома все над ним посмеивались, а он стал замечать, что в сыпучем песчанике, по которому он постоянно бил, выгибая жесть, постепенно образуется выемка и эта выемка помогает придавать жести нужную форму.
— Вроде я раскумекал, что к чему, — говорил он тогда младшему брату — единственному, кто ему сочувствовал. И вот пришел день, когда он снова стал крутиться возле старого мастера. Прикидывался рассеянным, но Стеван заметил, что глазами все в сторону верстака стреляет. Вот он подошел к верстаку вплотную и будто ненароком сдернул одежку, которую мастер, как обычно, кинул на верстак при его появлении.
— Не лезь туда! — крикнул, как обычно, мастер и кинулся к верстаку, но было уже поздно: паренек увидел, что в камне действительно есть углубления. — Убирайся вон! — закричал мастер еще громче, и Демир наконец обиделся.
— Ты меня еще вспомнишь! — крикнул он, глядя мастеру прямо в глаза, и был таков.
Война так война! А на войне никому не заказаны ни шпионаж, ни разведка. Демир часто потом рассказывал, как было дело. Рассуждал он так: обманывать мастера, грабить его нечестно, но разве честно, что тот скрывает свое мастерство? Ведь он не сам до него дошел, узнал у кого-то другого. Я сейчас сам придумываю, и так, и сяк верчу, а ремесленники небось лет сто или двести колдовали, прежде чем передали свое уменье в руки Стевана. Значит, мастерство досталось ему по наследству, а он его таит! Оно ж не его собственное, оно и всех тех искусников, которые тоже, может, ломали себе головы и оббивали пальцы, как я, пока колокольцы не зазвенели теперешними своими звонкими голосами. И чего Стеван ото всех прячется, сыновей у него нет, родни нет, кому он передаст свое искусство? Что ж, так и унесет его с собой в могилу — ему ведь уже шестьдесят скоро. Нет, раз он не хочет свое умение передать, я сам его возьму.
И он продолжал стучать, уже по другому камню, не такому сыпучему, заранее выбив долотом в середине углубление. Старый мастер узнал про его опыты и усердней прежнего стал все прятать, но Демир теперь и не ходил в его мастерскую — война есть война. Однажды зимой — было это, верно, в мировую войну, когда мужчин на селе почти не осталось, а женщины в непогоду боялись высунуть нос из дому, — паренек поднялся ранним утром в Игнатов день, потому что в этот день никто не выходит со двора и в гости не ходит, так что и увидеть его было некому, вывернул отцовский тулуп белой шерстью наружу и добежал до мастерской старого мастера. Вокруг было тихо — ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Демир залез на грушевое дерево, оттуда на крышу мастерской. Прислушавшись, он снял одну черепицу, отбил у нее уголок и снова положил на место. Устроился поудобней и приник глазом к отверстию — верстак был перед ним как на ладони. Паренек успокоился и стал ждать. Только снег успел засыпать его следы, как раздался сиплый кашель Стевана, который вышел из своего домишка в глубине двора и подходил теперь к мастерской.
Тяжелая кованая дверь отворилась, мастер вошел в своем толстом тулупе внакидку, оглядел инструменты, развел в горне огонь, скрутил цигарку, зажег ее от щепки и, затянувшись несколько раз, снова закашлялся и сплюнул на землю. От жести, лежавшей на краю верстака, он отрезал кусок, бросил его в огонь, подправил немного длинными клещами и стал качать мехи. Паренек теперь хорошо видел выемки в камне и понял, что их несколько: поменьше и побольше, помельче и поглубже — для разных по величине колокольцев; заметил он рядом с горном и десяток окатышей, каких сколько угодно по быстринам Тунджи. На улице дул сильный ветер, труба мастерской давилась, и скоро дым, заполнив помещение, стал подыматься вверх и сквозь отверстие в крыше щипать Демиру глаза. Паренек жмурился, но недолго, только пока сгонял слезы, набегавшие от едкого дыма, запах которого бывал ему обычно так приятен. И снова смотрел и старался ничего не упустить в работе мастера, пока тот выгибал маленький колокольчик в одном из средних углублений камня. Он видел, как мастер постукивает черным ногтем большого пальца по жести и прислушивается к ее звону, все больше напоминающему настоящий звон еще не облитого медью колокольчика; как легонько стучит узким концом молотка; как потом чуть приоткрывает раструб, чтобы вытащить окатыш, по которому выгибал жесть; как останавливается и прислушивается к вою зимнего ветра, словно слышит в нем отзвуки летнего перезвона своих колокольцев на отарах… Мастер оглядывался как-то беспокойно, время от времени оборачивался, и его нависшие над глазами густые черные брови, закопченные дымом, лезли вверх; смотрел и на потолок, но вскоре снова склонялся над верстаком. Парнишка, который лежал тогда ничком на черепице и смотрел в дырку, через много лет рассказывал, как ему казалось, что мастер чувствует: чей-то взгляд проник в мастерскую и искусство, которое он так ревниво оберегал и таил, уплывает, уходит из его рук, — и руки в самом деле дрожали, и молоток попадал мимо цели. Мастер не дождался полудня, когда он обычно закрывал мастерскую, и, не сделав того, что парнишке предстояло увидеть в следующий раз, бросил инструменты на верстак, толкнул дверь, и сиплый его кашель снова утонул в вое вьюги, провожавшей его до маленького домика в глубине пустого двора…
Демир слез с крыши, вернулся домой; не присев к столу, уже накрытому для обеда, взял щепотку табаку из отцовского кисета, хотя тогда еще не курил, и, кашляя, как старый мастер, прошел по двору; открыл дверь сараюшки, осмотрел свою убогую мастерскую, скрутил цигарку, развел огонь, прикурил от щепки, раздул жар маленьким мехом для пчел, который нашел на чердаке, потом отрезал кусок жести и, положив его нагреваться, снова стал, как старый мастер, кашлять и отплевываться. Но когда он огляделся, его взяла досада — не было у него тех речных окатышей, на которых Стеван выгибал жесть. Тогда он погасил огонь, снова надел отцовский тулуп и пошел на реку, далеко за село. Много лет спустя Демир рассказывал, как, добравшись до берега, расковырял заледеневший песок, вырыл семь окатышей (таких, как у старого мастера), но, когда собрался уходить, увидел глаза волка, только глаза, а потом разглядел и всего зверя — волк сидел в десяти шагах и смотрел на него.
— Нет уж, я тебе не дамся, — с угрозой сказал Демир и двинулся на зверя. Волк, изогнувшись, медленно отступил, но потом снова остановился. Паренек пошел в сторону села — волк за ним, по его следам, медленно-медленно его нагоняя. Демир бросил в него один из окатышей, волк остановился и стал обнюхивать камень. Но, видно, ничего для себя страшного не унюхал и, когда Демир пошел дальше, тоже двинулся за ним, все так же медленно, ступая в его следы и постепенно приближаясь, пока снова не остановился обнюхать очередной окатыш. К тому времени, когда они подошли к околице и Демир крикнул собак из крайних дворов, чтобы они прогнали волка, в руках у него остался только один камень, подобный тем, на которых утром старый мастер выгибал жесть… Старики из Карапчи, как ни напрягают память, не могут вспомнить такого случая, но мужики помоложе пересказывали его уже после смерти карапчанца Демира. Видно, Демир рассказывал о нем ребятне, чтоб увидали, сколько препятствий надо преодолеть человеку, решившему стать мастером.
В тот день до вечера по единственному окатышу, оставшемуся у него после борьбы с волком, используя выемку в большом камне, Демир сумел выгнуть один колоколец, облить его медью и услышать его голос. После этого он отвязал у овцы колокольчик, сделанный мастером Стеваном, и долго прислушивался к обоим: его колокольчику было далеко до старого…
Прошла зима, пришла весна, Демир и пахал, и окучивал, а по вечерам, натрудившийся, усталый, принимался стучать в своей маленькой мастерской. Постепенно он ее оснастил: сделал мехи из двух овечьих шкур, нашел большой твердый камень, выбил в нем четыре выемки, подобрал хороших окатышей на Тундже. Мастерил он одни четверки — такие, какие брат его покупал у старого мастера и подвешивал овцам; Демир сверял с ними звук своих колокольцев, все ближе подходя к их пению…
Разруха, причиненная мировой войной, ощущалась во всем, она коснулась всех до единого: инструмент дорожал, цены на пшеницу, шерсть и мясо падали в деревне и росли в городе, бедное хозяйство Демирова отца едва дышало. Демиру приходилось и батрачить на чужих полях, и уходить на заработки в каменные карьеры, так что овладение ремеслом растянулось для него на несколько лет, пока однажды летом он не счел, что догнал наконец старого мастера карапчанца Стевана.
…Старый мастер сидит на камне у своих ворот и слушает, как звенят его колокольцы на отарах, что тянутся под вечер по дороге мимо его дома, подымая тучи пыли. Сколько ни прослушивай их в мастерской, на овцах они по-другому звенят. Вот и в этот вечер сидит он на камне, а снизу подходит отара Ивана Джорула — он среднего достатка человек, одни шестерки звенят. Иван идет впереди, закинув за плечо герлыгу, вокруг него прыгают собаки; жара чуть начинает спадать; они проходят мимо мастера, поднимаются на холм. Вот гонит своих овец Янчо-олу, овец немного — голов пятьдесят, но Янчо-олу тянется за крепкими хозяевами и колокольцы привязывает тяжелые — восьмерки, тоже Стеванова производства; мастер прикрывает глаза, слушает. Вот он снова смотрит вниз — показалась отара Димитра, Демирова брата, он одни четверки признает, на той неделе еще три купил, парень он молодой, хочется ему чистых, веселых звуков. С ними хорошо перекликается пастушья свирель… Отара приближается, старый мастер прикрывает глаза, прислушивается, наставляет левое ухо, приподымается навстречу, всматривается и машет чабану, чтоб остановился. Мастер идет сквозь отару, ощупывает не глядя колокольцы, отвязывает один.
— Откуда, — спрашивает Димитра, — этот взял?
— Демир сделал.
Мастер с силой ударяет колокольчик о камень и бросает его подальше.
— Такой с моим рядом не идет.
Еще два года после этого Демир продолжал мастерить колокольцы в своей уже оборудованной по всем правилам мастерской, и все это время старался ни на улице, ни в корчме не встречаться со старым мастером, а если сталкивался, так молча проходил мимо, боялся услышать от старика обидные слова. Поняв, что его колокольцы по голосу все еще не сравнялись со Стевановыми, как-то зимой он снова забрался на крышу, на этот раз ближе к вечеру. И там сквозь старую дырку, которую он прикрыл еще тогда, на этот раз увидел, что делает старый мастер, после того как выкует колоколец и прежде чем зальет его медью. Только тут он сообразил, что никогда раньше не задумывался, зачем мастеру эта кучка негашеной извести в углу мастерской, которую Демир видел еще до Балканской войны, когда его подбородок едва доставал до верстака, — туда мастер зарывал раскаленные колокольцы, закаливая металл, отчего и получался у них этот латунный призвук. Демир заметил, что старый мастер, как и в ту зиму, плохо владеет руками, они дрожат, а мастер время от времени оглядывается или смотрит на потолок, точно чувствует взгляд, устремленный на него сквозь черепицу. Он наскоро закалил колоколец в извести, облил его медью, повесил над дверью на отдельный гвоздь, накинул полушубок и быстро закрыл мастерскую.
На другой день рано утром Димитр, брат Демира, постучав к мастеру, поднял его с постели — просил продать ему еще две четверки. Когда же они вошли в мастерскую и Димитр протянул руку к тому колокольцу, что висел над дверью, отдельно от других, мастер слегка удивился.
— Этот не продам, — сказал он. — Этот и еще один, — уперся Димитр, — я хочу этот.
В конце концов мастер уступил, и Демир всю зиму работал, прислушиваясь к голосу этого колокольца. Когда пришло лето и овец по вечерам начали гонять на пастбище, старый мастер снова стал, сидя на камне у ворот, слушать свои колокольцы.
…Тянутся снизу отары, взбираются на холмы, потом рассыпаются по пастбищам и перезвоном своим навевают на село мирные сны. Вот и отара Димитра, брата Демира, четверки его отзываются на голоса шестерок, уже поднявшихся выше. Но что-то снова нарушает тон. Разница на этот раз невелика, наверно, это тот колокольчик, который он не хотел продавать… Мастер встает с камня, останавливает чабана, идет через стадо, ощупывает колокольцы, осматривает. Вот он. Нет, не тот! Этот выкован Демиром. Мастер отвязывает его и расплющивает о камень.
Вечерами, вернувшись с поля, Демир допоздна мастерит колокольцы, ему не надо уже подглядывать за старым мастером, он все знает, надо только добиться нужного звука. Тот, что он привязал второй раз, ничем не отличался от четверки, которую Димитр купил у Стевана. Почему же мастер его узнал? Значит, старик сам сплоховал, делая колоколец в тот раз, когда Демир лежал на крыше и мастер все оглядывался, а руки его дрожали… В следующий раз Димитр привязал этот самый колоколец, Стеванов, и мастер узнал его, тоже отвязал, но не ударил о камень, а унес в мастерскую и разбил молотком. Значит, правда!
В конце лета Демир решил еще раз испытать свое искусство: подвесил к овце в братовой отаре одну из последних своих четверок, голос которой и сам уже не мог отличить от голосов Стевановых колокольцев. Он часто расспрашивал брата, как мастер ощупывает овец, как встает с камня и идет чабану навстречу, как шагает, как заглядывает в отару… Он надеялся, что теперь Стеван не заметит чужую руку, и, прежде чем брат повел овец, побежал вперед, выбрал место, откуда видны были ворота мастера, спрятался в кустах ежевики и стал ждать.
И вот мастер снова выходит на дорогу, садится на камень и слушает: снизу идут отары, он прикрывает глаза, и лишь когда отара проходит мимо, взглядывает на чабана, словно пропуская его в поле, и начинает прислушиваться к следующей отаре. Вот показывается и Димитр. Демир, засев в кустах, напрягает слух, колокольцы приближаются, голос их набегает волнами, ровный и чистый. Мастер сидит, закрыв глаза, голова его чуть покачивается. Демир волнуется: остановит он брата или нет? Отара все ближе, вот сейчас она поравняется с мастером, он приоткрывает глаза, зорко вглядывается, наставляет левое ухо, вытягивает шею, приподымается… Но не встает, садится обратно на камень. Прошла отара Димитра, Демирова брата; мастер встречает следующую, ту, что идет за ней, а в туче поднятой ею пыли Демир выбирается из кустов ежевики и бежит к дому.
С этого дня Демир почел себя мастером и, как старый колокольник, принялся усиленно ковать четверки, шестерки и восьмерки; четверки он подвешивает овцам брата, те проходят мимо ворот Стевана, и старый мастер их не останавливает — думает, что Демир отчаялся, Демир сдался.
Но в начале следующего лета, известен даже год — 1923-й, Демир привязал братовым овцам, кроме четверок мастера Стевана, шесть шестерок и четыре восьмерки из тех, что выковал сам. На этот раз Демир не стал прятаться в кустах ежевики и оттуда смотреть, что будет делать старый мастер, а сам провел отару через все село и вывел на холм, где поджидал его брат. Старый мастер услышал приближающиеся снизу колокольцы, вскочил с камня и стал всматриваться в отару — до тех пор никто в Карапче не смешивал колокольцы в одной отаре, такое он слышал первый раз. И когда он узнал шагающего перед овцами Демира, он понял, что молодой колокольник мастерит уже и шестерки, и восьмерки и умеет дать им нужный тон. Он снова сел на камень, понурил голову и так, не взглянув больше на чабана, пропустил отару мимо. Потом встал и, не дожидаясь остальных отар, захлопнул ворота и скрылся во дворе. В это лето он исчез из села и больше там не появлялся.
Рассказывая об этом, многие и гибель Демира летом 1973 года связывают с тем, что где-то в окрестностях появился будто бы другой мастер. А про Стевана известно еще, что в то лето к нему несколько раз заходили двое в нездешней одежде, соседи видели, как они появлялись рано утром и поздно вечером исчезали. Может, это были те самые люди, чьи ружья и карабины чинил мастер в канун Преображенского восстания.
В смутные годы после Сентябрьского восстания 1923 года чабаны почти не покупали колокольцев, но Демир не прекращал работы, и на стенах его мастерской уже не оставалось пустого места; однако понемногу народ успокоился, и молодые хозяева отар, подросшие к этому времени, стали захаживать в его мастерскую. За эти три-четыре благодатных года мастер подразжился деньгами и сыграл свадьбу, взяв в жены девушку из соседнего села Дреновец.
Мировой капиталистический кризис 1928 года ударил и по малым государствам, не обошел даже самых глухих сел; всякий инструмент и удобрения снова вздорожали, цены на зерно, шерсть и мясо в деревне упали, в городе выросли. А голодный 1929 год совсем разорил крестьян. Стены Демировой мастерской снова оказались увешаны колокольцами…
Потом народу немного полегчало, и уже в начале тридцатых годов, когда наступил запоздалый расцвет ремесел, а Демир был в самой силе, к нему начали ходить молодые чабаны и из окрестных сел, и из дальних — со всей долины Тунджи, отовсюду, где звенели раньше колокольцы старого мастера Стевана. После гибели мастера Демира летом 1973 года некоторые молодые его односельчане, рассказывая о нем, хватают через край, преувеличивают его значение для этих мест: они утверждают, будто в то время многие парни брались ходить за овцами именно ради голосистых колокольцев Демира, а их отцы, поощряя увлечение сыновей, покупали и разводили овец. Когда же парни становились чабанами, им не оставалось ничего другого, как летними вечерами и ночами играть на свирелях. И те, кто еще только учился играть, покупали у мастера колокольцы-восьмерки, потому что голос у них низкий, глухой, как голос свирели, когда он не взмывает вверх, а стелется низко над овцами, чтоб не услышали его опытные свирельники, рассыпающие свои трели далеко вокруг… Действительно, овцеводство в этом краю в недавнем прошлом было в почете, и еще сейчас большинство пожилых мужчин умеют играть на свирели. Правда и то, что знаменитый в здешних местах свирельник Тодор Карапчанский часто покупал у Демира колокольцы и подлаживал к ним свою свирель: медленно и густо отзывался на восьмерки, потом поднимал тон вместе с шестерками, а когда на холмах летними вечерами задувал слабый мягкий ветерок, подстраивался к четверкам. Как-то, перекликаясь с восьмерками звуком медленным и глухим, он заметил, что они не попадают в тон его свирели, и попросил мастера выковать ему колокольцы поглуше. Зимой он каждый день ходил в мастерскую Демира, который начал мастерить совсем новые колокольцы: такие же, как восьмерки, но с менее развалистым раструбом и с костяными языками. Подлаживаясь к свирели Тодора, он дал строй нескольким невиданным доселе колокольцам-девяткам и подарил их свирельнику. Потом мастер выковал еще много девяток. И в колокольцы поменьше стал подвешивать костяные языки. Правда и то, что старые свирельники этого края и теперь умеют брать на свирели самые низкие тона — может быть, с тех времен, когда Демир мастерил девятки с костяными языками.
Когда колокольцы Демира завладели всей долиной, мастер стал нередко выходить по вечерам на холмы у села и прислушиваться: пока овцы шли по дороге, волнами доносились голоса всех колокольцев; когда они забредали на редкую мягкую травку и щипали лениво, слышны были только малые колокольцы; на густую и высокую траву овцы накидывались с жадностью, и тогда подавали голос и большие. Слаще этих вечеров не было в жизни ничего у Демира — так рассказывают его односельчане. А незадолго до второй мировой войны однажды вечером мастер пережил такую же радость, что и в день, когда отара его брата прошла мимо старого мастера и тот не обнаружил его колокольчика среди своих. Случай этот говорит не только о Демире, но и о боли каждого мастера, который, даже достигнув вершин мастерства, все еще живет в тени, отбрасываемой именем его предшественника. Возвращается откуда-нибудь Демир, проходит угодьями другого села, где мало кто его знает, встретит в поле старика, прислушается к колокольцам, покажет на отары и спросит:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанский мастер, — ответит старик, — карапчанец.
— Карапчанец? А зовут как? — спросит карапчанец Демир.
— Карапчанец Стеван, — ответит старик, — его все знают.
Идут годы, все чаще Демир останавливается среди чужих пастбищ, прислушивается к колокольцам и спрашивает:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанец.
— А зовут его как?
— Да как — карапчанец Стеван!
Пройдет он по селам днем — видит: колокольцы старого мастера остались лишь у старых чабанов; большая часть колокольцев — его, Демира. Снова бродит он по окрестным холмам, спрашивает стариков и по-прежнему слышит имя Стевана, пока однажды вечером, на заходе солнца, когда отары уже ушли далеко в поле, не встретил Демир старика с тяпкой на плече и не спросил его, показывая в сторону высоких вязов на взгорке:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанец, — ответил старик и, сняв тяпку с плеча, оперся на нее, готовясь к долгому разговору.
— Карапчанец? А зовут как?
— Карапчанец Демир. Он себя посильнее мастером выказал, чем тот, старый, превзошел того. Вон у реки колокольцы — те старого мастера, но Демировы — лучше!
— Дай тебе бог здоровья, — пожелал ему Демир, вытащил из пояса золотой, положил в руку старику и пошел дальше своей дорогой…
Все чаще слышит он свое имя в разговорах стариков, и все реже поминают они мастера Стевана. Но приходит война, и мастерская его снова заполняется колокольцами. Лишь лет через десять — за эти годы ушли из жизни его отец и жена и появились на свет два сына у брата Димитра — молодежь снова стала заглядывать в его мастерскую, покупать колокольцы для больших кооперативных отар. За эти несколько лет нового расцвета своего ремесла он переболел свое горе — смерть жены — и снова ощутил радость, слушая колокольцы в поле.
Молодые чабаны кооперативных хозяйств один за другим перебирались в город, оставляя овец на стариков, к тому же входило в моду стойловое содержание скота, и колокольцы больше не были нужны. Мастер пошел работать в слесарную мастерскую кооператива, но дела своего не оставил — по вечерам мастерил колокольцы для собственного удовольствия, и ему казалось, что теперь они получаются еще лучше, раз они уже не стоят денег и вознеслись над людской суетой в светлый божий мир. Так говорил он в то время односельчанам, желая придать своей работе какой-то смысл, потому что братовы сыновья, приезжая по воскресеньям в село и заставая его в мастерской, потешались над ним и всем говорили, что их дядька тронулся.
Как-то в октябре 1969 года, в воскресенье, когда мастер, как обычно, работал у себя в мастерской, а племянники его околачивались рядом и над ним посмеивались, перед Демиром выросли трое мужчин в галстуках и с портфелями.
— Нам нужны колокольцы, — объявили они, не успев поздороваться с мастером.
Демир подумал, что и они над ним насмехаются, и окинул их взглядом с ног до головы.
— Что-то вы не похожи на чабанов.
— Ты прав, — сказали они, — мы не чабаны, но нам нужны колокольцы.
— Раз так, берите, — сказал мастер и показал на стены.
— Мало.
Они пересчитали те, что висели на стенах, и сказали, что им нужно еще тысячи полторы.
— В феврале мы посылаем сто человек на кукерский[16] фестиваль в город Перник.
— Не выйдет, — сказал мастер, — так много…
— Мы обеспечиваем тебя материалом и освобождаем от работы в слесарной, пока ты их нам не настукаешь.
Мастер поморщился, услышав это «настукаешь», а младший из племянников наступил ему на ногу и шепнул:
— Соглашайся.
— Не выйдет, — уперся мастер.
— Выйдет, выйдет, — уговаривал один из этих троих с портфелями. — Ты продавал последние по полтора лева. Мы даем тебе по два за маленькие и по три за шестерки… За девятки — один только ты их делаешь — по четыре лева. Пятьсот четверок, пятьсот шестерок, пятьсот девяток. Ну, по рукам?
— Не выйдет…
— Ты давай начинай, и сколько сделаешь, столько сделаешь, а мы в феврале приедем. Вот тебе договор.
Они быстро заполнили три договора и один оставили мастеру, а вместе с ним и тысячу левов аванса.
Когда посетители исчезли, старик поглядел на племянников, потом на пачку денег, с которой неизвестно было что делать, подумал, подумал и, перебирая банкноты, сказал парням:
— Вот вам по двести пятьдесят, на столько я наработаю, а остальные верну.
— Ничего не надо возвращать, — сказал младший, — мы все устроим.
Через два дня во дворе мастера сгрузили рулон жести, самой лучшей, толстой, какую раньше редко удавалось достать, а в воскресенье братья приехали в село и явились в мастерскую.
— Дядя, у нас по месяцу отпуска, мы будем тебе помогать.
— Как так? — удивился мастер. — Молотком вы стучать умеете, но колокольцев вы не ковали, не смотрели даже, как я работаю.
— Сейчас увидишь, дело пойдет!
Старик отрезал три куска жести — на четверку, на шестерку и на девятку — и долго, бросая их на камень, слушал и радовался красоте звука. Он решил пойти на виноградник, раскидать навоз и после обеда начать с четверки.
Когда он вернулся с виноградника, вся жесть была нарезана на куски и сложена в три кучи.
— Что вы сделали? — повернулся он к племянникам.
— Все идет как по маслу! — сказали братья.
— Как я отчитаюсь за эту жесть? — тревожился старик.
— Пустяки, все разделаем.
Тогда мастер, все еще стоявший в дверях, вспомнил тот день, когда лежал на крыше мастерской старого Стевана и смотрел, как тот отрезает кусок жести, работает над ним, пока не зазвенит он колокольным голосом, и лишь тогда отрезает следующий. И кожа его ощутила тот снег на крыше; тот холод отозвался в костях, он передернул плечами, руки его задрожали, он нервно огляделся вокруг, не в силах что-либо объяснить парням, и, подняв голову, посмотрел на потолок своей мастерской, словно увидел, что искусство его, как тогда у старого мастера, куда-то уплывает.
— Ничего не попишешь, — сказали племянники, — теперь все придется разделать, кто ж у тебя примет обратно эти куски? Но мы тебе поможем, а ты нам деньжат подкинешь, нам на машины не хватает.
Поглядывая на большие кучи нарезанной жести, мастер медленно начал выгибать первый кусок. Братья подтолкнули один другого и переглянулись — они понимали друг друга без слов и были уверены, что дядька сдастся. До вечера он выковал три колокольца, и когда пошел, как обычно по вечерам, в корчму, повидаться с другими стариками, младший брат сказал старшему:
— Такими темпами мы далеко не уедем.
Братья взялись за молотки и начали: один выгибает жесть и оббивает ее, другой заклепывает и кует уши и языки. Звон, доносившийся из мастерской, остановил старого мастера в воротах, когда он поздно вечером возвращался домой. Он прислушался — не чудятся ли ему эти звуки, не застряли ли они у него в ушах и не выходят ли сейчас, в тишине, наружу…
— Что вы делаете, ребятки, — сказал мастер плачущим голосом и, почувствовал, что ноги не держат его, оперся на верстак; рука его попала на ручку молотка, которым он заклепывал колокольцы. Позже он рассказывал, как молоток будто сам выскользнул из его ладони и подпрыгнул на камне, и когда он открыл глаза, рука была пустая и какая-то слишком легкая — с ним творилось что-то неладное…
— Дядя, не волнуйся, — положив руку ему на плечо, сказал младший, любимый Демиров племянник, — мы ухватили, что к чему, а ты будешь только закаливать колокольцы и обливать их медью, все остальное — мы сами. Посмотришь завтра, как дело пойдет…
На другой день мастер снова взял кусок жести и стал выгибать ее медленно и любовно, с наслаждением, которое чувствовал в себе и которым надеялся пронять племянников. Но те, подталкивая друг друга локтем, ждали, когда дядя начнет заклепывать колоколец и освободит им камень. И как только мастер отвернулся от колодки, младший брат завладел ею и пошел сворачивать новые колокольцы — один, второй, третий. Потом мастер взялся за закалку, и старший брат стал на его место — заклепывать те, что перекидывал ему младший — один, второй, третий…
Поздно ночью мастер услышал во сне доносящийся из мастерской звон, какое-то дьявольское сухое звяканье, проснулся и прислушался — ничего, ему просто показалось, но заснуть он уже не мог. Наутро братья увидели, что дядя весь как-то съежился и посинел, состарился за одну ночь, часто моргает и все сплевывает сухо куда-то в сторону, налево. Когда он вошел в мастерскую, парни уже расположились у камня и у верстака — ему оставалось лишь закаливать колокольцы и обливать их медью.
— Что будут говорить про эти колокольцы… — убитым голосом бормотал старик.
— Что их подмастерья делали, только и всего, — сказал младший, чтобы успокоить дядю. — Это раньше ты ради доброго имени работал, а теперь…
— Где-то в Пернике, — подхватил старший, — кто там будет знать, чьи это колокольцы? Думаешь, в тамошней трескотне кто-нибудь отличит их от других?
— Так-то оно так, но я-то знаю, что не сделал их по-своему! Совестно.
— Колокольцы нужны для фестиваля, и все равно, кто их сделает — ты или мы, — заключил младший.
Колокольцы валили валом: четверки, шестерки, девятки, — гора их за дверью росла, и братья каждый вечер подсчитывали готовую продукцию, пока не дошли до громадной цифры, от которой у мастера потемнело в глазах. Сверху братья бросили на кучу и те остававшиеся на стенах колокольцы, на которых дядя их учился мастерству пятьдесят лет назад. Трое с портфелями приехали на грузовичке, рассортировали колокольцы на три кучи, пересчитали их, побросали в кузов и оставили деньги братьям, потому что мастер, как только завидел их в воротах, надел полушубок и исчез, чтобы всего этого не видеть.
После этого старый мастер долго возвращал своим рукам силу и точность — работал медленно, хотел снова испытать сладость тех вечеров, когда он впервые услышал, как старики из окрестных и дальних сел называют его имя рядом с именем старого мастера Стевана и даже впереди мастера Стевана. Но руки его сами спешили, и только было он подумал, что наконец укротил их над камнем и наковальней, как снова явились двое из тех троих — с первого их приезда прошло два года — и заказали еще тысячу колокольцев для кукеров, которых собирались посылать в Будапешт. Братья снова нагрянули в село и навалились на дядю.
Старый мастер совсем сник и после колокольцев для Будапешта так и не смог успокоить руки. Других заказов не было, он ковал для собственного удовольствия, но чувствовал, что работа горчит, звук молота не радует душу, он промахивался, и камень под ударами дробился и сыпался…
И вот летом 1973 года, в одно из воскресений, племянники снова приехали в село на своих машинах. Весной они развели огород, теперь хотят заняться отцовским двором, провести воду, советуются с дядей, откуда тянуть трубы, что еще надо сделать, и под конец поминают праздник у монастыря Святой Троицы — они, мол, собираются заскочить туда на машинах.
— Дядя, — окликает его из глубины двора младший брат и подходит поближе, — давай мы и тебя прокатим.
— Можно, — говорит мастер, — я там с молодости не бывал.
— А знаешь что мне пришло в голову? На эти трубы деньги нужны будут, прихватил бы ты мешочек колокольцев, глядишь, и продал бы.
— Да как-то оно… — не знает что сказать мастер.
— Возьми, возьми, там народу много, все кому-нибудь приглянутся…
Старый мастер сидит на поляне недалеко от цыган, продающих цепи, — съежившийся, незаметный человечек. У ног своих он разостлал брезентовый мешок и разложил на нем штук двадцать колокольцев, у которых редко кто остановится, голову повязал косынкой и задремал под палящим солнцем, а оббитые его пальцы время от времени что-то перебирают возле моргающих глаз, точно хотят убрать какую-то паутинку; он сухо сплевывает налево, и голова его снова поникает. Проходят мимо молодые парни, останавливаются, наклоняются, звякают колокольцами, вешают их себе на шею, гогочут: что, старикан, идет мне? Старый мастер лениво посматривает на них одним глазом, и в его усталой памяти всплывают ненадолго те времена, когда он слушал, как чабаны обращаются к старому мастеру Стевану: мастер, мастер, мастер, когда эти слова подогревали его, заставляя учиться, и он ощущал их, как дрожь в своих руках; и те времена, когда со всей долины Тунджи приходили люди и тоже обращались к нему: мастер, мастер, мастер…
— Мастер, доброго здоровья, — останавливается рядом с ним пожилой человек и наклоняется, пробует колокольцы — один за другим, потом еще по разу и откладывает два.
Мастер, проснувшийся от желанного слова, смотрит на руки покупателя и видит, что тот отложил те самые два колокольца, которые он ковал когда-то и сегодня утром подложил к новым.
— Вот эти я возьму, шесть овечек у меня, им под перезвон и трава вкуснее.
Останавливаются около него два старика, звенят колокольцами, переговариваются:
— Какие колокольцы ковал когда-то карапчанец Демир!
Мастер вздрагивает: говорят о нем, а его принимают за другого.
— Эй, старина, слыхал про карапчанца Демира? — И они идут дальше.
Под знойным послеполуденным солнцем мастер чувствует в костях холод, оставшийся с той зимы от черепиц над мастерской старого мастера Стевана. Он ежится, бочком валится на траву и сквозь сон слышит звон колокольцев — пробуя их, говорят другие двое:
— Не годится, не годится…
— Эх, какие колокольцы ковал карапчанец Демир, до него еще Стеван был, но Демир его превзошел.
— Нынче таких мастеров нету.
— А эти не годятся, не годятся, не годятся…
Слышит он и голоса племянников:
— Гляди, дядька-то наш заснул.
— Ну и купец!..
И они уходят. И больше ничего. Праздничный шум накатывает издали, из монастырских рощ, отовсюду, людские голоса сталкиваются и сливаются — невнятные, чужие, далекие. Мастер медленно приподнимается, с трудом встает, весь скрюченный, съежившийся, посиневший, косынка падает с его головы, он собирает колокольцы, не слыша их голосов, запихивает в брезентовый мешок, вскидывает его на плечо и идет куда-то…
Перевод Н. Глен.
Росен Босев
ХОЗЯИН И ПТАХИ
В одной деревне появился несчастный человек. А ведь до недавнего времени такого, казалось, произойти в ней не могло.
Зажатая среди сухих складок приземистой горы, с прилипшими один к другому двориками, деревня эта и обитателей своих словно связала одной веревочкой — так и двигались они по жизненному пути, будто приросшие друг к другу.
Не случались здесь ни конфликты, ни катастрофы, не взвивались амбиции, драмы были пустяшными, а если и посещала деревню смерть, то делала это своевременно, не обрывала нитей жизни, а лишь завершала ее угасание.
Ну какой человек мог почувствовать себя здесь несчастливым?
А этот — вот уже три дня ощущал себя таковым и всем своим могучим телом осязал окружавшую его ненависть. Но он сознавал свою правоту и, словно демонстрируя ее, гневно проносился на мотоцикле по грязным улочкам или входил в сельпо и среди наступившего молчания делал разные покупки.
Потом опять разъезжал туда-сюда на мотоцикле, и треск мотора среди тишины усиливал тревожное предчувствие — что-то должно произойти!
Развязка приближалась, и крестьяне сидели на лавке перед корчмой и все поглядывали вниз, в сторону шоссе, — ждали, когда появятся представители высшей инстанции, но машина не приезжала, и лишь уверенный в своей правоте человек сновал как оса среди молчаливого нетерпения.
— Вашего ребенка забрали, — сказали в детском саду. — Пришла мать и взяла.
Это слегка огорчило Евгения Йорданова — сегодня был его день. Видно, придется ехать к бывшей жене.
Он сел в трамвай и стал рыться в кошельке. Там была масса расписок, квитанций и даже справка о гонорарах, но, увы, билета за четыре стотинки не нашлось.
Он встретился взглядом с какой-то девушкой, готовой одолжить ему билет, но, как человек застенчивый, никогда бы себе этого не позволил. Он выскочил на первой же остановке и зашагал вдоль линии.
Улица пестрела свежевымытыми машинами. Простояв всю зиму под брезентом, они еще не успели проснуться от зимней спячки и уныло шлепали шинами по серой слякоти.
Его бывшая супруга жила со своим мужем в кооперативном доме с массивными стенами. Даже запах рыбы разносился здесь как-то более торжественно.
Евгений нажал на кнопку звонка. В огромных пространствах пустой квартиры долго раздавались легкие трели.
Он спустился по лестнице и на тротуаре дохнул свежего воздуху.
С ним сыграли злую шутку. Они могли себе это позволить.
Вспомнил, что неподалеку живут его знакомые, и направился к ним, хотя и сомневался, застанет ли. Сомнения подтвердились. Оставался кинотеатр. Еще издалека он увидел очередь и лишь тогда решительно повернул к своему жилью.
В четырех знакомых стенах он почувствовал себя еще более неуютно.
Ему отлично было известно, что ни одна из сотни книг не заинтересует его, но он все-таки повертелся у стеллажа, после чего лег на диван и задремал.
Он вскочил сразу, едва зазвонил телефон.
— Евгений?
— Да!
— Мне только что звонила Эмилия. Шеф отдал распоряжение, чтобы мы втроем завтра же отправлялись в Караиште.
— Какое еще Караиште? И что значит «завтра»?
— Из окружного музея поступил сигнал об очередных многослойных поселениях в котловане плотины.
— Почему же шеф не сказал об этом сегодня?
— Евгений… — укоризненно протянул Чавдар.
— Хорошо, на чем мы будем добираться?
— Пришлют машину. Завтра около восьми мы заедем за тобой!
— Около восьми? А на сколько же дней?
— Дело срочное. До конца недели должны все закончить.
— Ладно.
Среди теплоты, среди красной теплоты рефлектора, среди густой скучной теплоты обнимались на широченном диване тридцатилетняя хозяйка дивана Эмилия и хозяин ее сердца, первый и единственный обладатель ее тела — воспитанный молодой человек по имени Станко.
Раздался звонок. Станко попытался удержать Эмилию.
— Это, наверно, Чавдар, — сказала она.
— Постой. Я посмотрю. Если не он — не откроем.
Это был Чавдар.
Евгений сидел на переднем сиденье газика и наблюдал за однообразной игрой «дворников».
«Нет! — говорят дождю. — Нет! — „дворники“ — твердят», — вроде так там было. Или не так? Чье это? Оттого что ему пришли на ум стихи, на губах его заиграла легкая самодовольная усмешка.
За окном слякотно и мрачно: погодка, подходящая лишь для того, чтобы уйти в самого себя, если, конечно, там уютно.
В душах нашей троицы, как и в душе шофера, явно царил уют — они молча приближались к деревне.
К той самой деревне, по которой тревожно сновал на мотоцикле человек.
По логике вещей они должны были встретиться.
Они погрузились в самих себя.
Евгений радовался тому, что находит в своей душе умеренные переживания, спокойное самопознание и гордое достоинство.
Он увидел в зеркальце кабины собственное отражение и, всматриваясь в подрагивающие линии, очертившие прямой нос, симметричные скулы, иссиня-черные волосы над покатым лбом, вдруг почувствовал что-то неладное — показалось, что Эмилия и Чавдар держатся за руки. Евгений резко обернулся, но то, что он увидел поверх сиденья, выглядело вполне прилично: Эмилия рассеянно смотрела в окно, а левая рука Чавдара, очевидно, не знала, что творит правая, — она рисовала на стекле концентрические круги.
Йорданов снова уставился в зеркальце.
Молоденький шофер уловил причину его любопытства и повернул зеркальце так, чтобы им обоим стало удобно следить за робкой игрой. Рука Чавдара неловко искала руку Эмилии. Женщина позволяла, чтобы к ней прикоснулись на миг, но потом отодвигала руку.
Раздался тревожный сигнал, яркие фары залили светом кабину, но водитель и не думал уступать дорогу.
Сзади засигналили более нервно. Нет, это был уже не сигнал, а грозное рычание.
Водитель машинально свернул в сторону, и в следующее мгновение газик обогнало огромное тело черного автомобиля.
Шофер поставил зеркальце в прежнее положение и хрипло выдохнул:
— Ух ты, натворил бы я дел! Ведь это машина Драгана Лазарова.
— Драгана Лазарова? — удивился Евгений. — Что он здесь потерял?
— Он родом из наших мест.
— Это кое-что проясняет, — отозвалась с заднего сиденья Эмилия.
Ее спросили, что она имеет в виду, но Эмилия не ответила.
Пейзаж сменялся пейзажем, и Евгений забыл об игре рук за его спиной. Вначале он решил, что, возможно, ничего и не было, а потом и вовсе запамятовал.
Темнело.
При повороте налево лопнула шина. Газик осел на переднее колесо и довольно долго так ковылял, пока совсем не остановился у кювета.
Все вышли, и Евгений увидел на краю котлована напоминающие динозавров силуэты экскаватора и двух-трех самосвалов.
— Инструмента у меня нет никакого! — пожаловался водитель.
— Кто-нибудь из коллег одолжит тебе, — Евгений показал в сторону машин.
— Там никто не работает, ваша стена заморозила объект, будь она неладна!
Эмилия сказала, что ей холодно.
— Не загорать же нам всем здесь, — предложил паренек. — Деревня в двух шагах — вон там, где огоньки. Идите туда, я как-нибудь сам управлюсь.
— А багаж?
— Багаж я подвезу.
— Может, нам с собой взять самое необходимое? — спросил Чавдар.
— Я всегда беру в дорогу лишь самое необходимое, — парировал Евгений.
Водитель обиделся:
— Меня ночью за вами в Софию погнали. Не до инструмента было.
— Вот и вы начинаете… Не мне вас контролировать!
— Еще чего!.. Вот ключи от дома, где будете жить. Как доберетесь до центра, увидите корчму, а там спросите.
Они зашагали вдоль шоссе. Деревня оказалась совсем не в двух шагах, к тому же снова заморосил дождь. Разговаривать не хотелось, они шли, уткнувшись носами в воротники, и романтичная корчма манила их издалека своим теплом.
На подходе к деревне мимо них на бешеной скорости промчался мотоцикл, обдав брызгами грязи и выхлопными газами. Этот запах вселил в них уверенность в существование цивилизации, и они заторопились. Добрались до площади. Мужское чутье Чавдара вывело их к корчме. Они прижались восторженными лицами к оконному стеклу и увидели накрытый для банкета стол. Но ни одной живой души не было.
Они нажали на ручку, дверь открылась, за ней виднелись теплые чистые сени.
Откуда-то выскочила буфетчица. Посмотрела на них, мокрых и грязных, чем-то они напоминали долгожданных представителей высшей инстанции, но показались чересчур помятыми и неуверенными, и она сказала:
— Сегодня вечером здесь банкет.
— Мы только хотели спросить… — робко начал Евгений, но Чавдар оттеснил его и строго обратился к буфетчице:
— На сколько человек рассчитан банкет и какова вместимость вашего заведения?
— У нас банкет, — повторила женщина, — банкет, и все тут!
Голос ее звучал испуганно, но твердо.
— Вот ключи от дома председателя, — Чавдар вынул связку, — мы там заночуем, но нужно, чтобы кто-нибудь показал нам дорогу.
— Вы! Так это вы, значит!
Женщина покинула прилавок-баррикаду и, сразу растаяв, подобрев, бросилась навстречу троице, потрогала ладонями щеки Эмилии и запричитала:
— Как же ты озябла, миленькая! И зачем только посылают детей на такие государственные дела?
Мужчин же она назвала «апостолы вы мои», и не успели они опомниться, как уже восседали подле высокой печи и потягивали подогретую ракию.
Ракия булькала в потрескавшемся зеленом чайнике на плите, и буфетчица тоже булькала — тихо, приятно: конечно, их ждали, конечно, они не сумеют их тут ублажить, но специально для них она готовит сейчас жаркое с острой приправой, потому что банкет затеян в их честь, и печь специально для них растопили, обычно же пользуются вон той маленькой железной печуркой.
Потом вспомнила, что в председательском доме, наверно, холодно, ведь там никто не живет с тех пор, как председателя переманили в другое место, поставила перед ними миску с соленьями, набросила на плечи лиловое пальто, взяла ключи и пошла протопить комнаты.
Они остались одни, потому что до начала банкета был еще целый час. Не приглашенные на него небось ворчали у себя дома, осуждая городскую манеру делить людей на избранных и неизбранных, а избранные ворчали на своих жен по поводу не пришитых к рубашкам пуговиц.
Как только трое горожан скрылись в серой мгле, водитель почувствовал беспокойство, Инструмент можно найти лишь в АПК[17], но он в десяти километрах отсюда, в деревне же ему никто подсобить не сможет, кроме одного человека. Но он скорее потащит весь багаж на себе или отправится пешком до АПК, нежели позволит тому человеку себе помочь.
Так он стоял и размышлял, как вдруг послышался треск мотоцикла. Тот самый человек остановился возле газика.
Он слез с мотоцикла и, сразу поняв, в чем дело, направился к машине. Водитель встал у него на пути, но он одним движением плеча отодвинул его и достал запасное колесо.
— Да, но у меня нет инструмента, — почти со злорадством сообщил паренек своему спасителю.
Тогда человек наклонился, железными пальцами отвинтил болты у лопнувшего колеса и снова выпрямился.
— Нет у меня домкрата! — тонким голосом выкрикнул водитель.
Глаза человека потемнели, потом налились кровью от напряжения.
Одной рукой он поднял газик, другой снял колесо. И пока ставил новое, так и не проронил ни звука, лишь похрустывали суставы. Он опустил газик на землю, завинтил пальцами болты и сел на мотоцикл.
Когда треск мотоцикла стих, слился с ночной тишиной, водитель пошевелился. На лбу у него выступил пот, будто он сам сделал всю эту работу.
Он влез в газик, вздохнул, и машина тронулась с места. Немного спустя он уже был в корчме.
Горожане, с покрасневшими от тепла и ракии лицами, обрадовались его приходу, стали хлопать по плечу и спрашивать, как ему удалось выйти из положения.
— Удалось, — только и ответил паренек и залился румянцем.
Приезжие посоветовались и решили, что времени хватит вполне, чтобы устроиться в доме, умыться и поспеть прямо к банкету.
Буфетчица все еще суетилась в их «резиденции»: она заправляла в кухне походную кровать.
— Эта кровать тоже стояла в спальне, но я решила, что женщине как-то неловко спать в одной комнате со всеми, потому и перетащила ее сюда… Ничего, — она виновато улыбнулась Эмилии, — зато кухня быстрее нагревается. Мне надо спешить, а то уже скоро начало.
И ушла готовить банкет. Водитель тоже ушел — он был уже не нужен, поскольку корчма находилась в двух шагах от председательского дома.
Они постояли в кухне, затем пошли посмотреть на комнату рядом. Двухспальная кровать из орехового дерева с жесткими простынями, полированный гардероб — здесь так было уютно, что Евгений зевнул, не успев прикрыть рот ладонью, за что сразу же извинился.
Эмилия побежала искать умывальник и вернулась очень довольная — обнаружила настоящую ванную с включенным электрическим бойлером.
Она порылась в своей сумке, вытащила оттуда большой полиэтиленовый пакет, какие-то косметички и полотенце.
Вскоре мужчины услышали теплое журчание водяных струй. Чавдар заслушался шумом прозрачной воды, стекавшей по женскому телу, а Евгений открыл чемодан и достал джинсы.
— Хорошо, что я взял джинсы, — сказал он, — представляешь, какая там будет грязь?
Но Чавдар представлял себе совершенно другое.
— Да-да, — продолжал Евгений, — грязища там наверняка — жуть. В такое время — полевые работы! Но ничего не поделаешь, шеф торопит.
Душ смолк. Что-то очень неприятное забулькало за стеной.
Чавдар неохотно ответил:
— Местные спешат, вот на него и нажали…
— Эти местные всегда гонят, — сказал Евгений, — но шеф, видно, уверен, что объект не заслуживает внимания, иначе не отправил бы нас сюда на такой короткий срок.
— Пока все это только прогнозы, — бросил Чавдар.
— Ну да!.. Прогнозы шефа безошибочны. Коли он убежден, что это представляет интерес, то остановит постройку не только плотины, но и ракетной площадки.
— Что тут может быть интересного? Как говорится, пыль веков. Здесь где ни копни, что-нибудь найдешь.
В дверях появилась Эмилия.
— Вода кончилась! Еле смыла пену. Проклятье!
Она ушла на кухню переодеваться, вернулась в халате и объявила мужчинам:
— Я ложусь спать.
Они удивились, спросили, почему она так поступает, ведь люди из лучших к ним чувств устраивают банкет, а она — спать…
— Именно! — ответила Эмилия. И не захотела объяснить, что означает это «именно».
Евгений рассердился, даже голос повысил, почему, мол, она целый день говорит недомолвками? Но Эмилия смотрела на них невинными глазами, в которых затаилась тихая грусть.
Чавдар объяснил ее желание спать по-своему.
— Знаешь, Евгений, ты, как самый представительный из нас, ступай на банкет один, меня тоже что-то в сон клонит. Я совсем раскис после ракии.
У Евгения мелькнула мысль, что было бы неплохо блеснуть в местном обществе, но тут он вспомнил тайную игру рук на заднем сиденье, насупился, снял куртку и сел на кровать.
— Я человек необщительный, крестьяне испортят мне аппетит и все на свете, — сказал он.
Чавдар явно огорчился, что Евгений не хочет оставить их вдвоем, но добродушно похлопал сникшего коллегу по плечу.
— Давай, товарищ горожанин, пойдем вместе. Связь с народом, да и жаркое к тому же.
Но Евгений заупрямился:
— Mot dit — pièce jetée[18].
Раздался стук в дверь, и, прежде чем она открылась, комната наполнилась запахом деревни, влажной шерсти, вина. Лишь потом появился старик. Он осмотрел всех троих, остановил взгляд на Чавдаре, перевел дух и сказал:
— Собирайтесь, товарищи, мясо стынет, да и люди вас ждут.
— Мы, дедушка, решили не идти. Устали, — ответил Евгений.
— Завтра вечером придем, — пообещал Чавдар, — отведаем вашего жаркого. А оно с приправами?
— Как огонь! — сообщил старик и сел.
Помолчали, но тут встрепенулась Эмилия:
— Простите, но нам нечем вас угостить.
— Не беспокойтесь!
Помолчали опять, и Евгений сказал виновато:
— Мы б с удовольствием, но вы сами видите…
— Вижу.
Еще помолчали. Чавдар опять начал извиняться:
— Здесь воды нет. Даже умыться не можем.
Старик встал, уставился в пол и заученно произнес:
— Здесь нет воды. Здесь сушь, мы всю жизнь сражаемся с камнем, и теперь, когда одолели его, когда появилась плотина, ваш камень хочет ей помешать…
— Это еще неизвестно, помешает ли, — ответил Чавдар. — Завтра мы осмотрим объект, если раскопки не представляют научного интереса, подпишем протокол, и запускайте себе на здоровье воду.
— Интереса! — неестественно рассмеялся старик. — Какой там интерес? Сколько я себя помню, у нас всегда эти камни шли на фундамент для домов. И нужно же было моему парню напороться на вашу треклятую стену!
— Ты, видать, дедушка, здорово ее возненавидел? — спросила Эмилия.
— А за что ее любить-то? Ни уму она, ни сердцу! Коли ты так любишь всякую древность, почему бы тебе не лечь сегодня ночью со мной? Любить-то любишь, а спать уляжешься с молодым.
Все трое сдержанно улыбнулись, а старик еще долго хихикал. Но вдруг посерьезнел и, словно вспомнив солдатскую выучку, вытянулся по стойке «смирно» и отчеканил:
— Не хотите — как хотите!
Повернулся кругом, хлопнул дверью, но тут же снова ее отворил: видно, его терзали сомнения.
— Эту стену мой сын нашел. Работал там на бульдозере, ну и наткнулся. Как мы просили его! Я просил, мать, жена — вся деревня просила: «Снеси ты эти камни!» А он даже руку на меня поднял, чуть на мотоцикле не переехал — только чтоб добежать до этого музея. Продал нас! Убьют деревенские моего парня, если вы плотину остановите. И я с ними пойду, и я брошу в него камень! Мне такого сына не жаль, да двое ребятишек у него.
С этими словами старик исчез.
— Так что? — спросила немного погодя Эмилия.
— Когда будем принимать решение, следует подумать и о судьбе деревушки.
— Все уже решено, — отозвалась Эмилия. — Если бы завтра мы и нашли что-то ценное, я все равно бы вам сообщила: шеф строго наказал подписать протокол, что здешняя местность не представляет научного интереса. Он вернулся от Драгана Лазарова и мне лично отдал распоряжение.
Евгений повторил про себя: от Драгана Лазарова, — и принялся ходить по комнате. Глянул в угол, где лежали уже ненужные им инструменты, с неприязнью подумал о шефе и поразился тому, что так неожиданно исчезло в нем расположение к этому человеку. Он уже был уверен, что под стеной таятся древние фрески, они сотни лет ждали встречи с солнечным светом, но теперь никогда не дождутся…
Тяжелее всего было чувствовать собственную беспомощность. Впервые он столкнулся с истиной, которую до сих пор так старательно обходил стороной — с истиной, что от него ничего не зависит… И он подытожил:
— Ну что, будем ложиться?
— Давайте спать, — согласился Чавдар. Он, видно, был занят теми же мыслями.
— Знаете, а мне хочется есть, — сообщила Эмилия.
Она вдруг почувствовала себя виноватой. Выходило так, что их шефу сверху было приказано не заниматься раскопками. Но по всей вероятности, дело обстояло совсем иначе. Состоялся разговор, долгий разговор. Наверняка в том кабинете он протекал более спокойно, чем здесь, в этой комнатушке. Разговор обстоятельный, раскрывающий нюансы, но оставивший невыясненными отдельные моменты. Вот это-то и дает им право сказать свое слово. Пусть шеф пошел на попятную под нажимом начальства, но им-то незачем отступать!..
— Я тоже проголодался, — прервал ее мысли Чавдар. — По-моему, мы имеем полное основание отужинать вместе с крестьянами.
Они оделись и вышли. На улице почему-то было светло: то ли от желтеющих в домах окон, то ли от далеких огней города, то ли от тусклой луны, то ли от предчувствия рассвета…
Но уличный фонарь, который мог бы указать им дорогу к корчме, не горел.
Как и окна самой корчмы.
— Старик сказал, что мы не придем, и все разошлись, — объяснил Евгений. И подумал: вот сейчас тут дрожат от холода три жалких гонца из города, уполномоченных занести в протокол вышестоящее указание.
Они молча повернули к дому и во дворе услышали приглушенное кудахтанье, словно отразившись от пуховой подушки, оно отозвалось поблизости пугливым эхом.
Где-то рядом, в соседнем дворе, кудахтали во сне куры.
Все трое вошли в кухню, и Евгений открыл дверцу белого буфета. Его обдало легким запахом плесени. На полке лежал завернутый в красный платок хлеб. Евгений брезгливо понюхал его… Нет, хлеб не испортился. «В наше-то время и сухому хлебушку рады были…» — вспомнились ему чьи-то слова. Наверно, одной из старушек, что встречались ему в жизни — сгорбленные, тихие, не оставившие после себя ничего, кроме печального воспоминания: «В наше-то время и сухому хлебушку рады были…»
— Если мы сразу ляжем, то проснемся прямо к завтраку, — рассудительно сказал Чавдар.
Мужчины пожелали Эмилии спокойной ночи и вошли в спальню. Теперь она показалась им более холодной, а лампочка — более тусклой. Чавдар надел старый свитер, Евгений — тщательно выглаженную пижаму. Погасив свет, Чавдар вслепую двинулся к кровати, ударился обо что-то, тихо выругался и лег.
Какое-то время они лежали молча, ровным дыханием стараясь заманить сон.
Но не смогли. Чавдар потянулся за сигаретами, закурил.
— У нас в классе был второгодник, Захарий Захариев. Он стрелял голубей из рогатки и жарил на костре, — неожиданно для себя стал рассказывать Евгений.
— Ну и что?
— Я, кажется, остался единственным, кто так и не притронулся к голубям. Противно было.
Чавдар молчал.
— А может, не потому, что противно… Скорее всего, я их не ел потому, что они казались мне незаконными, эти дикие голуби.
Чавдар глубоко затянулся, и бумага на сигарете затрещала.
— Я и краденую алычу не ел, — вздохнул Евгений, — забирался вместе с другими на дерево, лишь бы надо мной не смеялись, сидел на ветке и думал о том, что совесть моя чиста…
— Глупо! — Чавдар погасил сигарету. — Если ты хоть раз забрался на чужое дерево, как ни крути, все равно ты вор.
— Сам знаю. Я и тогда знал, но алычу не ел.
— А у нас была целая банда! И орудовали мы по-крупному. Я составлял план, проводил разведку, продумывал операции. Однажды мы устроили налет на склад меди. Пятеро ребят хозяйничают внутри, а я караулю, на случай если кто мимо пройдет. И вдруг передо мной вырастают двое — патруль. Я даже свистнуть не успел — пересохли губы. Их всех поймали, исключили из школы. Но я их здорово выдрессировал — ни один не выдал меня. Сказали, что я им встретился по дороге и они не могли отвязаться. А мне только снизили оценку по поведению, за то, что не помешал им, когда они лезли в склад. Потом все мы разлетелись кто куда, но в общем остались друзьями. Ты одного из них знаешь, это Станко… с «трабантом»… приятель Эмилии…
— Ах да, — вспомнил Евгений и тут же понял, что ничего не может взять в толк, слова стремительно проносятся мимо него, словно выстреленные из рогатки, и он застыл на месте — жестяной флюгер, прибитый рукой какого-то идиота так, что не в состоянии даже пошевельнуться.
Рукой идиота, своей собственной рукой.
— Знаешь что? Я пойду туда, — сказал Чавдар и вышел из спальни.
— Ты зачем пришел?
Эмилия привстала с постели и смотрела на Чавдара. Ее смущали его голые ноги, но в то же время она чувствовала, что смущение проходит, превращается в нечто другое, в то, что подготавливалось долгими годами. Друг Станко становился и ее другом, все более близким… И чем сильнее ее раздражала слащавость Станко, тем больше ей хотелось, чтобы этот мускулистый и широкоплечий «третий» был вместе с ними. В институте они почти не обращали друг на друга внимания, но все время получалось так, что после работы они шли куда-то втроем.
Эмилия знала, что когда-нибудь Чавдар попытается взять ее за руку, и когда это наконец произошло сегодня в машине, она с облегчением вздохнула. Но ее гораздо больше беспокоило другое: Чавдар станет вторым мужчиной в ее жизни и, возможно, последним. Когда же это случится, когда? И как?
— Я не могу заснуть! — Чавдар сделал еще один шаг к ее кровати.
Ее грудь, обозначившаяся под полупрозрачной тканью ночной рубашки, казалась ему сейчас непохожей на ту, на которую он тайком заглядывался, когда они все вместе были на пляже, или когда он заставал их вдвоем у нее дома, еще не успевшими как следует одеться, или… Эмилия не стеснялась ни его, ни других мужчин. Она лишь смущалась, как сестра смущается своего брата.
Сейчас ее грудь казалась ему совсем другой, завораживала его, манила, и он сделал еще один шаг.
Эмилия пошевелилась, и походная кровать отозвалась алюминиевым звоном, долго висевшим в воздухе…
— И я тоже.
Этот мужчина медленно, сантиметр за сантиметром, на протяжении нескольких лет приближался к ней, а сейчас расстояние, разделявшее их, катастрофически уменьшалось. Вот уже он сделал второй шаг, и она испугалась: если он набросится на нее с той же скоростью, то раздавит ее. Она трусила, но была готова принять на себя этот удар.
— И что дальше?
При попытке сделать третий шаг Чавдар почувствовал сильное сопротивление: его останавливало присутствие Станко или, точнее, присутствие лет, накопившихся между ним самим и Эмилией. Он с горечью подумал о том, что все эти годы чересчур пекся о собственной персоне, превращался постепенно в неженку. Прежний Чавдар давно бы заставил кровать петь свою походную песню, но теперь научного сотрудника Чавдара смущало все — и отвратительный запах одеколона, купленного им в аэропорту, и то, что грудь Эмилии была той самой грудью, которую он, сам того не желая, разглядывал, когда они все вместе отдыхали на море или когда он заставал их вдвоем со Станко, торопливо приводившими себя в порядок…
Эмилия догадалась, о чем он думает, ей стало грустно, потом прошло и это, и она улыбнулась.
— Давай покурим.
Странно, у Чавдара оказались с собой сигареты.
Бульдозерист лежал на спине и вглядывался в сгустившуюся над головой темноту.
В соседней комнате спокойно спали с сердитыми мордашками две его дочки, а рядом слышалось ровное дыхание жены.
Даже эти три близких ему существа отводили в последнее время взгляд, если нужно было ему что-то сказать, или старались говорить как можно короче.
Бульдозерист протянул руку к жене, но она тут же отвернулась, почти спряталась в щели между стеной и кроватью. Она сторонилась его.
— Но я прав! Прав! — сам себе сказал бульдозерист и заснул.
Ночной разговор Чавдара и Эмилии застрял на «трабанте» Станко. И мужчина с голыми ногами, и женщина в полупрозрачной ночной рубашке были единодушны: Станко нужно сменить машину, но только если появится возможность купить что-то более приличное.
В этот момент о стекло со звоном ударился камешек.
Чавдар вскочил со стула и открыл окно.
— Товарищи любовники! — послышался со двора жизнерадостный голос Евгения. — Вы еще не проголодались?
— Что случилось? — удивленно спросила Эмилия.
— Пока ничего, но скоро случится! — рассмеялся Евгений и уже тише добавил: — Отправляюсь воровать кур.
— Ребячество! — возмутился Чавдар.
— Курица — это великолепно! Я мигом обернусь.
Эмилия наспех оделась, Чавдар пошел в спальню, чтобы наконец натянуть брюки.
Когда они выскочили на улицу, Евгений был уже в соседнем дворе.
Они остановились у забора и прислушались к металлическому скрипу: Евгений, наверно, разматывал проволоку. Скрип смолк, но потом зазвучал по-новому, словно его исполняли на другом инструменте — на заржавевших петлях калитки.
Минутная тишина, а затем взрыв кудахтанья. И снова затишье, нарушаемое лишь дыханием Евгения.
Эмилия услышала глухое «держи», протянула руки и почувствовала у себя в объятьях белое теплое тело. Прижала курицу к груди и заставила ее замолчать.
Евгений плюхнулся около них.
— Готово! — радостно сообщил он. — Только дальше все делайте без меня — лучше зарежьте меня самого, но этого сделать я не смогу!
Не успел Чавдар и глазом моргнуть, как Евгений уже вернулся из кухни с ножом. Может, он заранее его приготовил?
Чавдар взял нож, и холодный блеск металла словно отрезвил его. Он вооружился против птицы — и это придало ему решительности.
— Где? — спросил Чавдар.
Евгений повел его по двору. Они остановились перед благоухающей поленницей дров. Эмилия подала курицу Чавдару.
Он схватил птицу за шею, и ее тело, неожиданно оказавшееся слишком тяжелым, упало на землю, как огромная белая капля. Он прижал курицу к полену, и лишь тогда ее инстинкт взбунтовался. Чавдар взмахнул ножом, но попал по шероховатой древесной коре. Ударил еще раз, и лишь после третьего удара курица отлетела в сторону и забилась на земле. Чавдар, с окровавленным ножом в руке, смотрел на ее предсмертный танец. Казалось, птица всю ночь будет корчиться в агонии, но, к счастью, это продолжалось недолго.
— Ее сразу нужно ощипать, не так ли? — по-деловому осведомился Евгений. После первой в своей жизни кражи он стал более решительным и действовал уверенно и точно.
Эмилия дернула за перья всей пятерней, и они неожиданно легко, с готовностью отделились от тушки.
Евгений тоже ухватился за перья, потом отряхнул ладони, и ночь, лежавшая у их ног, превратилась в белый дансинг.
Чавдар стоял в стороне. Он успокаивал себя мыслью, что все происшедшее доселе — обыкновенный быт, необходимая деталь перед приемом пищи, как, например, мытье рук, но только наоборот.
Он сделал шаг и тоже погрузил руки в липкий пух. Постепенно тело птицы обнажилось. Подул ветер, разбросал перья, поднял их и превратил в новую птицу, которая проворно порхала между ними.
— Думаю, что достаточно, — сказала Эмилия и скрылась в кухне.
Но там она поняла, что далеко не достаточно. Действуя с врожденной решительностью домашней хозяйки, она дочистила курицу, вымыла ее в тазу и взглянула на Евгения.
Евгений слушал, как шелестит вода в ванной, и смеялся.
— Ты что? — спросила она.
— Я представил себе, как Чавдар трется. Точь-в-точь как леди Макбет.
Эмилия не поняла, что может быть общего между Чавдаром и леди Макбет, но расхохоталась, потому что ей становилось весело.
— Евгений, а как мы ее приготовим?
— Как? — Евгений осмотрелся по сторонам, потом смело принялся распахивать дверцы председательского буфета. Богатство оказалось невесть каким, но все же на столе появились многочисленные пестрые коробочки, пакетики с неведомыми Евгению приправами.
Беда заключалась в том, что и Эмилии все они были незнакомы.
— Я не умею готовить, — грустно призналась она.
Вошел разрумянившийся Чавдар. Он понял, какие проблемы их мучают, направился в спальню и на этажерке нашел поваренную книгу.
Эмилия открыла ее, стала читать и рассмеялась.
— Вот это да! — фыркала она. — Слушайте, по какому тексту я вам приготовлю: «Античное кулинарное искусство… Берет начало с Гомера, Перикла и других — вплоть до заката Римской империи». Создается впечатление, что Гомер говорил только о том, как жарить-парить.
— Нет ли там чего-нибудь поновее? — спросил Евгений.
Эмилия полистала книгу.
— Пожалуйста. «Варварское кулинарное искусство… Доходило до нелепых абсурдов. Например, из огромного паштета выныривал карлик и кричал: «Да здравствует господин!» Не говоря уж о том, что Людовик XIV был великим гурманом. Однажды, будучи больным и лишившись аппетита, он съел лишь корочку хлеба, бульон и три жареных цыпленка…»
Затем Эмилия позабавила их вступительной главой, но вдруг почувствовала, что они смеются все более неестественно, и заглянула в конец книги. Там, в главе «Приготовление птицы», она нашла необыкновенно простой и пикантный рецепт приготовления цыпленка в пиве. Прочла его, и мужчины пришли в такой восторг, что не захотели слышать ни о чем другом, даже после того как не обнаружили в кухне пива.
Чавдар подумал о том, что в деревенском, тем более в председательском, доме непременно должен быть погреб.
Они обошли весь дом, но не нашли двери в подпол. Почти отчаялись, но тут Чавдар догадался: он подпрыгнул несколько раз в кухне, и в ответ послышался глухой, таинственный звук. Очевидно, внизу было пустое пространство.
Они выбежали во двор и нашли там дверцу. Пространстве оказалось не таким уж и пустым: на склоне горы блестевшего угля сияли банки с соленьями и компотами, а на самой ее вершине дремала бочка.
Мужчины вскарабкались на гору угля, добрались до пробки, с трудом выбили ее, и хлынуло пурпурное вино.
Они заполнили огромную кастрюлю — специально для курицы, потом, поменьше, — для себя и вернулись наверх, в кухню.
В этом огненного цвета вине курица сварилась удивительно быстро.
Они расселись вокруг курицы, уставились на нее округлившимися глазами и не решались притронуться — таким сказочным казалось приготовленное блюдо. Первым осмелился Чавдар: он потянулся к куриной ножке, но тут же отдернул обожженные пальцы. Подул на них, затем втянув в себя побольше воздуху, стал дуть на курицу.
Остальные поступили точно так же, и комната наполнилась красноватым аппетитным паром. Эмилия сказала:
— Дуем, как на торт со свечками.
Ей стало почему-то грустно, мужчины почувствовали это и попридержали шутки, которые они уже приготовили для ответа. На самом деле они придумали одну и ту же шутку: «Для нашего торта потребуется слишком много свечек».
Эмилия оценила их тактичность и улыбнулась:
— Давайте соберемся как-нибудь втроем. Только без повода… Надоели мне всеобщие поводы: Новый год, Первое мая, День научного работника. Даже день, когда я родилась, не совсем мой праздник — не я выбирала себе эту дату. Давайте лучше собираться каждый год в этот день на цыпленка в винном соусе, идет?
— Если можно считать поводом день, — нахмурился Евгений, — когда горстка дерзких гонцов смело перенесла подпись своего шефа в протокол! Разве это повод?
— Не будем касаться грустных тем, — примирительно сказал Чавдар и отломил себе куриную ножку.
Евгений взял другую и предложил Эмилии, но она предпочла крылышко. Он подал ей крылышко и лишь затем ответил Чавдару:
— Умолкаю, умолкаю — погружаюсь в мир прекрасного.
И они набросились на еду. Вначале чувствовалась какая-то неловкость, и они нарочито бодрым тоном обменивались репликами, типа «Настоящий банкет, а?» — «Домашняя птица — совсем другое дело». — «Эмилия, почему бы тебе не послать им свой рецепт для второго, переработанного издания?» — «Сейчас такие книги пользуются огромным спросом». — «Что будем делать, если выскочит карлик и крикнет: „Держи вора!“?»
Паузы между репликами все увеличивались, пока наконец не переросли в одну длинную паузу, в течение которой они прикончили курицу. Перед каждым лежала лишь горсть косточек, а в тарелке осталась куриная гузка.
Все трое застыдились того азарта, с которым участвовали в чревоугодии, но больше всех — Евгений. И чтобы скрыть смущение, он сказал:
— А чего мы притворяемся, будто нам безразлично, хотя думаем об одном и том же? Чавдар кричит: «Грустные темы!..» На самом же деле для нас это не так уж и грустно. Вот для шефа — да, ему есть о чем грустить. Никак не ожидал от него подобного…
Евгений замолк. Он увидел, что Чавдар и Эмилия не слушают — они все еще находились под впечатлением ужина. Повторил про себя все, что им было сказано, и остался доволен. Потом осторожно продолжил, несмотря на пассивность слушателей:
— Отступился наш уважаемый, отступился… Сам отступился. Драган Лазаров не давил на него. Я вам расскажу, как это все было: товарищ Лазаров выслушал мнение местного начальства, настаивавшего на том, чтобы как можно скорее пустить плотину в строй, а затем вызвал другую сторону. И эта другая сторона — в данном случае наша, то есть шеф, — вдруг отступилась. А почему? Деньги, титулы? Никто не сможет у него их отнять. Не то время, чтобы можно было так просто отнять. Мы живем в очень мирное время, и мне непонятно, почему наш шеф так перетрусил.
Евгений прислушивался к собственному голосу, который ровно, спокойно задавал вопросы и отвечал на них.
— Мне даже жаль его. Он человек хороший, и ему наверняка неловко, что он отступился. Не от других — от него самого я слышал по крайней мере раз сто, что любой объект изначально представляет собой научную ценность и лишь тщательное его изучение может доказать обратное. Такова драма нашей жизни: мы тратим все силы, чтобы прийти к обессмысливанию своих стараний, упорно шагаем в одном направлении, пока не поймем, что направление это ошибочно. Может, жестоко, но таков закон науки, которую я себе выбрал, и этому закону не изменю.
Постепенно Евгений стал сознавать, куда может завести неожиданное откровенничанье, и сменил направление:
— Эмилия, позволь узнать, почему именно тебе сообщил шеф о протоколе?
В вопросе чувствовался прозрачный намек, и Эмилия резко ответила:
— Полагаю, ты не собираешься обвинить меня в связи с ним?
— Я ни в чем тебя не обвиняю. Просто мне непонятно, почему доверяют именно женщинам…
Евгений вспомнил историю с собственной супругой, но словесный поток, вновь прорвавшийся наружу, опять увлек его в опасное русло:
— И вообще это меня не касается. Меня задевает лишь то, что шеф пожертвовал наукой. Настоящий руководитель тот, кто по-настоящему способен брать на себя ответственность. А наш? Что он — устраивает торг с историей? А если так все время и будет идти на попятную? И всякий раз заставлять нас подписывать то, что ему необходимо для его делишек? Да мы так без истории можем остаться! Истории нужен прочный хребет… А он? Сегодня сдастся, завтра сдастся. Именно такие крохотные предательства обезличивают человека. Привыкнешь ходить сгорбившись, а однажды, когда попытаешься распрямиться, не сумеешь.
— Он не в своем уме, — шепнул Чавдар Эмилии.
Но Евгений уже опомнился. Слова перестали тащить его за собой, поток влился в спокойное теплое озеро, где пловец ощущает свое тело и свободно им управляет.
Совсем рядом показалась макушка гордо возвышающегося островка, и Евгений размеренными движениями поплыл к нему:
— Вышесказанное в полной мере относится и к нам. Мы ничем не отличаемся от шефа — с нашей готовностью зачеркнуть исторические ценности. Не хочу сказать, что мы упустим невесть что. Я почти убежден, что здесь нет ничего ценного. Но речь идет не о каких-то ценностях вон там, — Евгений указал рукой куда-то за окно, — а о ценностях вот тут! — И постучал себя по груди.
Он взглянул на своих слушателей и, увидев, что его жест показался им чересчур театральным, назло еще раз ударил себя по груди.
— Да, именно тут!
Совсем близко был его островок — уже повеяло ароматом экзотической зелени, он ощутил под ногами мелкий песок, ступил на землю и поразился ощущению счастья, когда находишься совсем один среди чудес природы. Евгений улыбнулся, сделал еще несколько шагов к вершине своих владений и оттуда крикнул:
— Я решил! Остаюсь здесь ровно на столько, сколько потребуется, чтобы исследовать древнюю стену. — Он осушил залпом свой стакан и сел.
Чавдар покосился на Эмилию — та смотрела на Евгения с восторгом, почти с обожанием — и резко сказал:
— Своровал курицу и сошел с рельсов. Деятель Возрождения!
Евгений улыбнулся, тепло и отрешенно, точно апостол, и мягко произнес:
— Чавдар, не злись. Я никого не заставляю оставаться со мной.
— Ты сошел с рельсов! — крикнул Чавдар. — Это называется сойти с рельсов.
Бешенство ослепляло его, и он никак не мог перескочить через это слово. Оно преграждало путь всем мыслям и мешало найти другие слова.
Евгений встал, улыбнулся чуть снисходительно Чавдару и любезно — Эмилии, сказал, что отправляется спать, потому что в эти дни их ожидает много дел, и осторожно закрыл за собой дверь.
— Почему сошел с рельсов? — вскипела Эмилия. — Почему ты его оскорбляешь?
— Да, сошел с рельсов! — настаивал Чавдар. — Украл курицу и сошел с рельсов. До сих пор жизнь его катилась, словно по рельсам, но стоило ему чуть-чуть отклониться в сторону, как он тут же сошел с них. Я вижу, его решение кажется тебе очень привлекательным, но я должен тебе напомнить, что мы не имеем собственной тяги, наша сила — это то, что нам дает локомотив. Мы вагоны, и только. Я лично предпочитаю закованное в рельсы движение свободе лежащего под откосом вагона.
— Но тогда выходит, что мы…
— Именно так и выходит, — сухо засмеялся Чавдар. — Даже если бы у меня и были сомнения на этот счет, история с плотиной рассеяла бы их.
— Но если на каком-то участке сошел…
— С рельсов, — подсказал Чавдар.
— Один вагон, — продолжала Эмилия, — потом второй, не означает ли…
— Нет, нет. То, что ты имеешь в виду, — случай исключительный, и выводы тут ни при чем. Они нужны лишь в случае аварии…
— Опротивело мне это слово! — крикнула Эмилия. — Я им сыта по горло! Хватит!
В глазах ее была злость, и он понял, что она никогда не простит ему их несостоявшуюся любовь.
Он машинально потянулся к ней, она машинально его оттолкнула.
— Знаешь, о чем я думаю, — сказала она немного спустя. — Никак не выходит из головы бульдозерист, сын старика. Он восстал против всей деревни, против отца, против самого себя, чтобы спасти стену. Это не его дело, но он борется за нее. А мы пасуем…
Она помолчала немного и тихо добавила:
— Я остаюсь с Евгением.
— Эмилия, не глупи! Если вы останетесь, вас наверняка уволят. Сопоставят ваше своеволие с моим послушанием и уволят.
— Тебя это трогает?
— Нет. Я как-никак запрограммирован, и со мной ничего подобного произойти не может.
— А ты бы на месте того бульдозериста разрушил стену?
— Можешь не сомневаться, — медленно произнес Чавдар. И сразу же у него возникло ощущение, будто он сидит в кабине бульдозера. Ярость душила его. — Бульдозер — мое оружие. Он мне дан, чтобы расчищать все, что встает у меня на пути!.. Я и сам как бульдозер. Вешу двадцать тонн, впереди у меня стальной нож. И задача — рушить! И строить. Строить и рушить!.. Во мне — сотни лошадиных сил, мотор мой в исправности, и ничто не может меня остановить. Но вдруг я замираю перед грудой древних камней. Люди просят меня, потом начинают ненавидеть, все, даже мой отец… Нет, я очень нежный и чувствительный бульдозер, из тех, что обдумывают каждую мелочь. Я строитель, а уничтожаю стройку! Я крестьянин, а оставляю деревню без воды! Я вынуждаю руководителя идти против его собственных принципов ради спасения деревни, которую я собираюсь погубить. Заставляю ученого наплевать на всю свою этику. И, наконец, вынуждаю страдать трех человек лишь потому, что остановился перед какой-то прогнившей стеной…
Чавдар поднял кувшин с вином и выпил.
— Ты логичен, — сказала Эмилия. — На тебя можно рассчитывать, поэтому прошу, передай Станко, что я задержусь здесь дней на десять.
Она поднялась со стула и пошла в спальню.
Евгений беззаботно спал.
— Евгений! Евгений, миленький…
От этих слов Евгений Йорданов сразу проснулся и радостно открыл глаза.
— Евгений, я тоже остаюсь.
— И ты?
Он стоял в выглаженной пижаме посреди комнаты, и глаза его блестели.
— Евгений, — сказала Эмилия, — я влюблена.
— Правда? — удивился он и направился к ней.
— Евгений, миленький, я влюблена совсем иначе. И не в тебя. В бульдозериста, понимаешь? Я не знаю его, но представляю: он сильный такой, уверенный, один против всех!
Евгению стал немного грустно, что Эмилия влюблена не в него, но это наивное признание тронуло его, и он, подобно мудрецу, торжественно изрек:
— В этом мире бесчисленного множества переплетающихся истин мы все должны быть влюблены, потому что безумство любви — самая сто́ящая истина… А Чавдар знает, что ты остаешься?
— Я сказала ему.
— А он?
— У него другая логика жизни. Он возвращается.
— Я хочу с ним поговорить, — самоуверенным тоном объявил Евгений Йорданов и, как был в пижаме, пошел в кухню.
Но Чавдара там не оказалось.
Они побродили по дому и, не найдя Чавдара, вышли во двор, потом — на улицу.
Звали, звали его, стараясь не разбудить деревню, но он все не отзывался, лишь откуда-то, будто из-под земли, донеслось протяжное пение.
Тогда они вспомнили о погребе.
Чавдар сидел подле бочки.
— Ну что, сплетничали обо мне? — сказал он, прервав свою песню. — А я тут согрелся подле крана, этой моей единственной утехи, пока вы громили мой конформизм. Так вот. Мы тут решили на пару с бочонком тоже остаться. Какого хрена мне ехать в Софию, где все, даже шеф, будут глядеть на меня как на предателя! Итак, я остаюсь, но прошу заметить — лишь из-за страха.
— Ты сошел с рельсов, Чавдар, — заключил Евгений, — и я поздравляю тебя.
— Катись ты! — ответил Чавдар. — Залезайте-ка лучше сюда! Чем больше пьешь это вино, тем вкуснее оно становится. Сорт, что ли, у него такой, странное дело!
Он протянул руку Эмилии, и та проворно, словно девочка, вскарабкалась на кучу угля. Евгений тоже сел рядом в своей выглаженной пижаме. Они потягивали вино на вершине черной блестящей горы, обменивались любезностями и радостно заглядывали друг другу в глаза.
Они походили на вечный огонь на этой груде черного угля.
И вдруг им пришла в голову идея, что было бы неплохо уведомить шефа о своем решении остаться.
Евгений побежал в дом и принес ручку и лист бумаги.
Это было непревзойденное письмо — местами в нем ощущалось чувство достоинства, местами проглядывала добродушная насмешка, с которой они прощали шефу отдельные слабости, а там, где они защищали науку и свои принципы, звучала непримиримость.
Они расписались под письмом и решили утром отправить его.
Сочинительство утомило их, им захотелось спать. Чавдара совсем развезло от вина, он повторял одни и те же слова и наконец объявил, что решил поджечь деревню, которая обидела его лучшего друга — бульдозериста.
Он нашарил в кармане спички и отправился во двор.
Эмилия хотела его остановить, но Евгений сказал:
— Пусть подышит свежим воздухом.
Чавдар ушел поджигать деревню, а Эмилия и Евгений остались сидеть на угольной куче.
— Эмилия, Эмилия, — вздохнул Евгений, — вот ты не замужем, а у меня есть ребенок, но можно считать, что его у меня нет.
— Что у вас происходит, Евгений? Как-то неудобно тебя спрашивать.
— У нас, — улыбнулся Евгений, — у нас уже давно ничего не происходит. Поверишь ли — я забыл, что эта женщина когда-то присутствовала в моей жизни. Но разве они правы, скажи мне, правы, что прячут от меня ребенка?
— Прячут? Но ведь ты имеешь право раз в неделю…
— Просто не знаю, что мне делать. Не могу я опять таскаться по судам — хватит с меня развода. Но как так — без ребенка? Он ведь мой…
— Хочешь, когда вернемся, я поговорю с ней? — сказала Эмилия. — Я очень плохо ее знаю, но оно, может, и к лучшему.
— Ты сделаешь это?
— Мне кажется, что я сумею поговорить с ней, как женщина с женщиной.
— Она опасный человек, Эмилия. Будь осторожна с ней…
Вошел Чавдар, и Евгений замолчал.
— Что, ты простил деревню? — спросила Эмилия.
— Я-то простил, но она…
— Что она? — захотел уточнить Евгений.
— Давайте немного прогуляемся.
Чавдар протрезвел, но глаза у него беспокойно бегали.
— Зачем?
— Давайте выйдем на улицу!
Вышли. Погода стала мягче, грязь под ногами — тоже. Они стояли в темноте, и двое из них ничего не понимали.
Чавдар зажег спичку.
— Ну? — спросил он.
Но они все равно ничего не понимали.
— Перья! — тихо сказал Чавдар. — По этим белым перьям нас завтра уличат в краже. Ради идеи я готов на все, но из-за мелкого воровства…
Евгений и Эмилия молчали.
— Может, все-таки, — прошептал Чавдар, — соберем их быстренько, как-никак мы же остаемся…
Никто ему не ответил. Он медленно нагнулся. Подобрал одно перо, потом другое. И понял, что ему придется туго — к жирной грязи накрепко прилип сиротливо белеющий пух. Чавдар встал на колени, и работа заспорилась. Эмилия очень тихо отодвинулась от Евгения, так тихо, что он даже не услышал. Она остановилась там, где было посветлее, и наклонилась. Быстро опустилась рядом с Чавдаром на колени. Грязь сразу выгнала из тела все тепло. Перья сопротивлялись ее неловким пальцам, от этого она пришла в неистовство и все с большим ожесточением выдергивала их из земли.
Евгений наблюдал за ними с блуждающей улыбкой, а в голове у него медленно, методично пульсировала фраза: конец бунту, конец восторгам, наступило время расплаты.
Какими-то странными, словно в невесомости, шагами направился он к тем двоим, но улыбка не покидала его губ.
Я не буду вставать на колени, лишь наклонюсь, подумал он.
…Трое сосредоточенно пожинали плоды своего преступления.
Они распрямились одновременно — ни один не хотел оставаться в ногах у другого. Обвели взглядом двор, и им показалось, что собрано все.
Эмилия и Чавдар пошли в дом, а Евгений остался на улице, в раздуваемой ветром пижаме. Он посмотрел на небо и тихо произнес:
— Господи, как сделать так, чтобы этот удивительный вечер, полный уныния, восторгов и заложенного в моих генах предчувствия катастрофы исчез из памяти? Может, его сотрут другие воспоминания или погребет под собой громада грядущих дней, расплющит, сделает похожим на все прочие вечера?
Он сказал это совсем серьезно, после чего сразу вернулся в кухню. Эмилия и Чавдар соскребали с ладоней грязь и перья. Он тоже вымыл руки, поискал глазами бумагу, куда можно было бы завернуть мусор, нащупал в кармане письмо к шефу и собрал в него перья. Открыл дверцу печки. Вспыхнуло короткое пламя.
Вскоре они улеглись. Эмилия на походную кровать, а мужчины в спальне.
Когда они заснули, подул сильный ветер и принес с гор запоздалый снежок.
Утром, выйдя во двор, они увидели снег, который все равно засыпал бы перья.
Им стало грустно.
Потом они услышали, как в соседнем курятнике мужской голос сзывает цыплят. Они подождали, когда хозяин выйдет, и, увидев, что он спокоен — наверно, ничего не заметил, — заговорщицки улыбнулись друг другу.
— Доброе утро, — сказал хозяин.
— Доброе утро, — на разные лады поспешно ответили все трое.
Они не знали, что это и есть бульдозерист.
Перевод О. Басовой.
Марий Ягодов
ДРЕВНИЙ ПУТЬ
Светлой памяти бачо[19] Илии Бешкова.
Хотите знать, что случилось этими днями на старой дороге?
Возле реки, там, где дорога перебегает ее, стоит село Ясен. А не так далеко, в трех всего часах быстрого ходу, на закате солнечном, — село Горун. Однажды в самую жатву вышел спозаранку из села Горун старик один, звали его Курташ Брусака.
Двинулся дед Курташ по древней дороге.
А дорога тянулась с запада ли на восток, с востока ли на запад — как ни возьми, все будет верно; длинная эта была дорога, не видать ей ни конца, ни края, и времен не исчислить, с каких она здесь пролегла, не исчислить и хлеставших ее непогод — злых дождей, ветров буйных, колючих снегов. Шел дед Курташ по дорожной хребтине, точно по острию сабли ступал; и битвы лютые позабыты, и развеялась давняя слава, только острие нет-нет да и просверкнет мрачным бликом былых побед. Да и как тому быть иначе, если люди, проложившие этот путь, чтобы первыми по нему пройти, давным-давно уступили его другим, таким вот, как дед Курташ? А жизнь, что смеялась и плакала здесь, смыта хлесткими ливнями, выжжена зноем палящим, сметена снеговыми вьюгами — не так ли со всякой-то жизнью бывает? Может, такое станется вскоре и с этой старой дорогой, ведь реку она пересекает в том точно месте, где весной еще начали строить большой завод, а коли так, почитай, сочтены уж у вековой путинушки дни.
Почуял ли что старый Курташ, не почуял ли, бог весть, тронулся в путь человек — разве остановишь? Шагал как околдованный и ничего вокруг не видал — ни раскинутых вширь полей, ни зеленых вязов и груш, ни золотых хлебов. Даже птички не услыхал, крохотной птички, что летом, когда вызреют нивы и все поле погрузится в тишину, забьется в укроме где-нибудь да примется свиристеть так жалостно, что у человека душа рвется на части.
И у деда Курташа на части рвалась измаявшаяся душа, только у него-то она совсем от другого рвалась.
Идет он себе полегоньку и такую думает думу: а ну как да выйду я сейчас к реке и вырастет передо мною нежданно-негаданно хан[20] Айдил-бабы Менеменджи-оглу? Загляденье, а не хан, над всеми ханами хан! Под самым его боком неговорливая речка, закинешь лесу — в час пять кило усачей натаскаешь; за красной черепичной крышей тополя выстроились, точно солдатушки на смотру, и какие тополя — тянутся в самые небеса; зайдешь в ограду — метеный, водицей политый двор, и во дворе этом уж непременно, какое ни возьми время, хоть ночью зайди, хоть днем, услышишь песню, заметишь телегу отпряженную либо фаэтон и дымок тоненький над трубой кухарни, почуешь, как сладко пахнет жареным мясом…
И увидишь, непременно увидишь плотно задернутое занавеской Салкино окно.
Уж с неделю как это имя не выходило у старого Брусаки из головы. Такое с ним и раньше бывало: вспомнит про нее, да вскорости и забудет. Только на этот раз, чуял старый, странное с ним что-то творилось: вместе с Салкиным именем заползла к нему в душу и другая мысль — про последнее, самое страшное… А уж как примется человек про такое думать, в прошлое обращается взглядом да в себя самого, на память к нему приходит та година, тот час или миг, когда была его жизнь полнее всего, от теплого ли запаха хлеба, от буйной ли силы хмельной или от горячей любовной дрожи…
Так вот и шел дед Курташ по дорожной хребтине, и будто не теперь это было, когда ему уж семьдесят стукнуло, и не хлеб ему вовсе вспоминался, хоть и маялся из-за него всю жизнь, и не вино даже, хоть частенько оно его укрепляло, — вспомнилась любовь, единственная на всю-то его жизнь. Добро еще, что никто про мысли эти не знал, а то хоть помирай со сраму. А любовь та пришла негаданно, когда сравнялся ему двадцать один годок.
И тогда точно так же шел он старой дорогой в город. Только в те времена дорога эта, приближаясь к реке, утопала в зеленых зарослях тополей, шелковиц и верб, и хан Айдил-бабы возникал перед глазами внезапно, когда шагов двадцать до него оставалось. И надо ж такому статься, только вошел Курташ Брусака в зеленое облако, как на него фаэтон выскочил, а в фаэтоне здоровяк краснорожий с подкрученными усами — сидит, руками обеими оперся на суковатую палку. А парняга в набекрень заломленной шапке нахлестывает коней, и мчатся они во весь дух, точно осатанелые.
Через этот случай и повстречал Курташ Брусака из села Горун Салку Айдил-баба Менеменджи-оглу, потому как в фаэтоне-то Косто Миялчов расселся, мироед да процентщик. Брусака и на глаза ему попадаться боялся, задолжал он этому Косто двадцать наполеонов, деньги немалые, а он, что называется, гол как сокол. Куда деться? Остановился он, огляделся и нырнул за деревья, что зеленым облаком разрослись над самой рекой. Сошмыгнул туда, до берега добежал, глядит — две женщины в воду забрели и полощут белье; турчанки обе. Увидевши Брусаку, подскочили, точно ужаленные, и чадрами прикрылись. Да поздно уж: дрогнуло сердце у Брусаки, навсегда в нем осталась Салка.
Откуда у него смелость тогда взялась, бог его знает, только подобрался он к ним поближе да спрашивает, не желают ли они рыбки, он, дескать, наловит. Женщинам рыбу покажи только, любят они ее пуще кошек. Одна из турчанок смолчала, а другая говорит: хоть и наловишь рыбы, все равно не возьму. От болгарина, мол, рыбы ни за что не приму. А Брусака глядит ей прямо в глаза, их только в прорезь и видать; чадра атласная, черная, и глаза тоже черные, ночи чернее, и взблескивают, будто звездочки в них рассыпаны.
— Салка, — говорит Курташ, а сам все глядит не отрываясь в черные очи. — Салка, знаю я, почему ты не хочешь моей рыбы. Мужа небось боишься, Исмет-агу…
Тут другая турчанка — в возрасте уже она была, да ведь баба всегда баба — отдернула Салку, что-то бурчит, прямо рассвирепела, и не из-за своих вовсе басурманских зароков, а из-за того, что Курташу-то чуть побольше двадцати было да и парень красивый, что тебе молодой олень. Завидки взяли проклятущую бабу, потащила она Салку домой. Но перед тем как исчезнуть им на тропинке, ведущей к хану, успел-таки парень вслед прокричать:
— Турком заделаюсь, Салка, а усачей самых лучших, какие в реке водятся, тебе наловлю! Завтра же, слышишь!
И что бы, вы думали, сделала Салка? Обернулась! Сама идет за той бабой, а голову повернула, и опять засветились на Курташа сквозь прорезь ее глаза — черные, ночи чернее, и молнией проблеснуло в них тайное обещание.
Э, стоит ли говорить, что Курташ и Салка на следующий же вечер и свиделись? Солнце уже заходило, когда подошел он к месту, где встретил накануне двух турчанок. Мокрый с головы до ног, а на плече белая торба, набитая рыбой, — весь день по реке бродил, ловил усачей. Только подошел к урочной полянке, из зеленого облака вербового легкой змейкой скользнула Салка: руки раскрылила, земли будто и не касается, идет к Курташу. Ничего ему не сказала, оплела только крылатыми своими руками — ногти блестящие, розовые от хны, — голову ему на грудь уронила, постояла немного и исчезла так же тихонько, как появилась. И стал Курташ Брусака каждую ночь похаживать по старой дороге, из села Горун да в зеленое облако над рекой.
Солнце уже вовсю припекало, а Курташ все шагал себе и шагал, куда задумал; вкруг него словно ночь спустилась — мыслями он в тех годах оставался, прошлое свое вспоминал, а на старой дороге показался всадник, тоже из села Горун выехал, — мужчина лет эдак под пятьдесят. Сыном он доводился деду Брусаке, и имя ему было Иван. Тоже в путь-дорогу наладился, а он-то куда? Туда же, видать, куда и отец его, хоть и не знал, что старый Курташ вышагивает впереди. А правду сказать, кабы и знал, все равно бы назад не воротился, потому как у него свое на уме было.
Ну а дед-то Курташ куда тем временем ушагал, про что теперь думает старый? А думает он про Исмета Ярым-Акювалы́, Салкиного мужа, — что за щеголь тот был, что за удалец, и норовом чисто разбойник, так и жди от него напасти. А вор-то, вор — по всему краю такого не сыщешь! Немало тогда по Сырпазару водилось жуликов, да ни один ему и в подметки не годился: задурит тебя ласковыми речами, руку всю оттрясет, здороваясь, такие ли сусоли разведет, а под конец само собою и выйдет, что скотину в пять наполеонов красной цены за за все пятнадцать тебе и всучит. Тридцать уже лет прошло, как турок не стало, прогнали их русские, а Исмет Ярым знай себе красовался, как ни в чем не бывало, будто время ихнее не миновало, потури синие всегда носил, суконные, да еще и навыпуск, аба[21] как влитая на плечах, длинный нож за поясом вечно заткнут. А выступал-то — точно он всему Тунавилайету господин. Не таким, скажешь, ты был, Исмет, упокой твою душу господи? Таким, таким ты был, таким и тогда заявился, когда сошлись мы с тобой на битву…
А биться они сошлись в том точно месте, где теперь стояла чешма[22], к ней-то и держал свой путь старый Курташ, ведь чешму эту выстроил Айдил-баба на помин Салкиной души. Все ближе и ближе становилась чешма, а старику полянка чудилась среди верб, и мукой сведенное лицо Исмет Ярыма, и длинный его нож, сверкавший в лунном свете. Была как раз одна из тех ночей, когда Салка приходила к Курташу — и мужнюю честь преступала, и отцовскую строгость, и материнское наставление. И чего приходила? Так уж, видать, этот мир устроен, всему на земле корень — любовь: взять хоть вон ту былинку или малую птаху, взять хоть тебя, Курташ, старый олень.
И весь-то сыр-бор запалила та самая ведьма, что с Салкой была на реке, когда встретились они с Брусакой впервые. Укрытая среди верб полянка блестела под луной ярче пендары[23], Салка уж уходить собиралась, да бес-то, разве он в таких случаях дремлет? Не дремлет он, а вередует вовсю. Стал бес этот в ухо Салке шептать-наговаривать: постой, Салка, рано, рано еще уходить, погляди, какой у тебя молодчик пригожий, положи к нему на грудь свою голову, сильнее для тебя его сердце стучит, чем Исметово, и руки эти крепче Исметовых тебя обнимают, постой, Салка, погоди еще чуточку… А тем часом та, другая, окаянная баба угольки поворашивала в Исметовом сердце. Исмет, укоряла его, одна только слава про тебя, какой ты удалец да хитрец, всех-де ты по Сырпазару лукавцев перелукавил, всех-де ты объехал-обошел, а самого-то тебя болгарин за нос водит, твою же бабу из-под носа крадет. Тьфу, вот оно твое удальство, ступай-ка на поляну, полюбуешься…
Нужно уж совсем глупым быть, чтоб не догадаться, куда помчался Исмет Ярым, услыхавши такие слова. Послушался он той шайтан-бабы, и завела она его на поляну. Взревел турок, точно вол ужаленный, выхватил из-за пояса длинный нож и на прелюбодеев кинулся. Салка вся так и обмерла, прижалась потеснее к Брусаке и простонала:
— Матушка!
Враки все, что про это потом говорили, будто бы объявила Салка, что непременно вместе с Брусакой умрет, будто, к мужу лицом обернувшись, заклинала его не подходить, и чего-чего потом не болтали, да все пустое — где уж женщине, в такую беду угодившей, да перед своим-то мужем, что нож в руках держит, догадаться вымолвить такие слова? Ей одно только и остается — ждать, когда нож в ее сердце вонзится. Вот и Салка ждала, но Брусака, ее оттолкнувши, крикнул:
— Беги!
Нет, не побежала она, а медленно двинулась к краю поляны, дошла до вербовой тени, обернулась, приостановилась на миг, и в последний раз увидал Курташ снежно-белое лицо и черные очи, даже в эту черную ночь осыпанные звездными блестками. А потом опустилась, атласной заслонкой упала на лицо чадра, и канула Салка в темноту, растворилась в ночи, точно призрак.
Ну а Курташ Брусака тут говорит:
— Исмет-ага, я ведь с голыми руками.
Не в похвалу Брусаке такие слова, добрый-то молодец и с голыми руками на врага пойдет, а правды таить нечего: перетрухнул детинушка, да и дело-то уж до души дошло — легко ли ее отдать?
— Женщина! — зверем рыкнул на Салку Исмет Ярым. — Принеси-ка мясницкий нож.
Турки они турки и есть, а и чести им надобно приписать: удальство они почитают и с безоружным ни за что биться не станут.
Стрелой сорвалась Салка с места, домчалась до хана и мигом обратно, Курташ и не увидел, почуял только, как вложила она ему в руку белый громадный нож. Звякнули, скрестившись, ножи, извились дугой и, покуда кровью еще не взялись, блеснули при луне, ровно две голубые молнии. Турок ринулся волком, все в живот норовил угодить Брусаке, дело знамое: как живот своему недругу вспорешь, считай, пришел ему карачун, нету в человеке главнее места. Да ведь если турок про это знал, болгарин-то глупее его, что ли, был? Много ли, мало ли они бились — неведомо, пот градом катился с лиц, искры отскакивали от стальных ножей, и до того досражались-добились, что ноги под обоими ослабели, подгибаются. А уж коли молодец на ногах не стоит во время битвы, можешь его отписать с этого света, долго не протянет. Вот и послышалось вскорости страшное «Э-эх!», острый нож вонзился в чей-то живот, и один из бойцов вдруг на месте застыл, житным колосом зашатался, покачнулся малость вперед, сделал шаг, на втором перегнулся вдвое, а третьего-то уж и сделать не мог — рухнул на смятую траву, словно вяз подрубленный, и руки простер к вербовой тени.
Отер Брусака пот со лба, нож забросил.
И припустился сквозь молчаливые заросли, сквозь зеленое облако вербовое, выскочил, запаленный, на горбину дорожную и что мочи стало ударил на запад.
Я уже говорил давеча, в тот день еще один человек на старой дороге показался, и кто он такой — тоже сказал: Иван Брусака, деда Курташа сын. Только Иван-то Брусака на коне ехал да озирал сверху просторное поле, загадывал, сколько зерна брошено в его недристую пазуху. Думал и про хлеб, который ему доведется отведать, и про вино, которое доведется выпить, и про…
Про это думал он со вчерашнего вечера. Думал-думал, да от мысли к мысли добрался дотуда, где непременно споткнешься, каким ходом ни подбирайся. Споткнешься, потому как дальше-то и идти некуда. Странное дело, вроде самые пустяшные мысли, а так тебя напугают, что поневоле назад отступишь — то ли душу утешить, то ли схорониться от неминучей беды. И словно в омут начнешь погружаться, а в омуте — люди из прошлого, случаи позабытые, дорогие лица, полнившие твою душу когда-то, и глаза, какие глаза!.. Может, в них-то и собралась вся сила, что неодолимо тянет тебя в былое?
Поднялся Брусака ни свет ни заря, да пасмурный такой — глаза бы на белый свет не глядели. Так и слонялся без дела, пока солнце над грушей не поднялось, что во дворе росла, на самом низу. А дольше уже мочи не стало. Вывел коня из стойла, оседлал, с пенька забрался в седло — не те силы, чтоб вспрыгивать, как бывало. И поехал. Куда бы, вы думали, поехал? Догадаться — дело нехитрое, коли припомнить, что там, где стояло когда-то подворье Айдил-бабы, строил Иван Брусака в молодые годы мост; возле этого-то моста и увидел он впервые Алику, дочку Салки Айдил-баба Менеменджи-оглу и Исмет Ярыма-Акювалы; про них вы уж знаете, кто такие. А у самого и жена была, и парнишка только что народился…
В те поры не красовался больше хан Айдил-бабы, спалил его какой-то разбойник, торчали обгорелые стены, да и сам-то Айдил-баба помер с горести, все богатство по ветру рассеялось, один только и остался от его корня отросточек — Алика. А на мост Ивану Брусаке пришлось наняться, потому как отец его, старый Курташ, все еще должен был Косто Миялчову те двадцать наполеонов, а подрядчиком на стройке этот самый Косто и был, попробуй тут откажись, хотя и думать было смешно, что десятью поденными левами выплатить удастся те золотые наполеоны. А что делать, против рожна не попрешь — не в петлю же парню лезть? Косто Миялчову за семьдесят перевалило, первым богатеем слыл по всему краю, да к тому же и в народные депутаты пролез, с таким не потягаешься.
Оттого и пришлось Ивану оставить жену с младенчиком да тронуться в путь-дорогу. Молодой он был, ясное дело, и собою пригожий, в отца вылился, в первый раз шел тогда на мост, на работу рядиться. Прошел он старой дорогой от Горуна до Ясена, уж зеленое облако вербовое позади осталось, и только свернуть хотел к тому месту, где мастера, все больше из итальянцев, ямы рыли под мост, как снизу, от реки, фаэтон показался. В фаэтоне Косто Миялчов восседает, рядом с ним девушка, да раскрасавица такая, каких Иван сроду не видывал. Мчится фаэтон мимо парня, а он все на девушку смотрит, и она на него тоже глянула черными своими глазами. И уж во всю Иванову жизнь не суждено было ему эти глаза забыть…
Тем же вечером ушел он в город, в Горун ночевать не вернулся. К утру только заявился на мост, из себя мрачный, туча тучей. Что за притча? А притча вот какая была: в городе, того-другого порасспросивши, доведался он, что девушку, в фаэтоне которая была, зовут Аликой, что Косто Миялчов запертой ее держит в доме, как у турчанок водится, с прислужницей да с двумя сторожами ночными, так что к дому этому не подступись. И еще того горше — узнал Брусака: у Алики недавно, месяц всего назад, дите народилось от Косты Миялчова, девочка, нарекли Марией. Совсем стало тошно у Ивана на сердце.
Время шло себе помаленьку, месяц ли миновал, два ли, и каждый вечер Брусака, окончивши на мосту работу, отправлялся в город. Чего он там делал, чего вытворял, неведомо, только в один из таких вечеров перемахнул он высокую стену, укрылся в кустах, в сирени цветущей, да за домом стал наблюдать; а там, на терраске, лампа большая горит, под лампой накрытый стол, за столом Косто Миялчов сидит с Аликой, а прислужница таскает им разные угощения. Так и стоял Иван, пока они не наелись, пока прислужница лампу не загасила да не ушла. Вскоре засветилось в доме одно окошко, Иван и догадался, что это Аликина комната. Ужом проскользнул через двор, вскочил на выступ, в окошко заглянул и что же увидел: Косто Миялчов посреди комнаты торчит, усишки свои поганые крутит да чавкает, как старый боров, а перед ним — Алика, в чем мать родила стоит и плачет. Иван аж застонал от муки, с выступа соскочил, перебежал через огромный двор и помчался куда глаза глядят. Вывели его глаза на старую дорогу, потом он через реку перебрел, забился в зеленые вербы и до самого утра там проплакал.
Плачь не плачь, а работу не кинешь, воротился Иван к итальянцам, долг-то надо платить, отцовский долг. Поначалу камни носил, отбивал молотком, а потом мастер один, Пьетро его звали, взял Ивана к себе, начал приваживать к настоящему ремеслу, обучал обтесывать камень да делать кладку. Так у него житьишко и шло: мимо река спокойно волны свои катит прямо к Дунаю, мастер Пьетро то посмеивается на Иванову неумелость, то поругивается, а у Ивана из головы ни днем, ни ночью не выходит Алика.
Снова времени немало прошло.
И однажды случилось так, что мастер Пьетро дал вдруг Ивану сотенную, просто так дал, от доброго сердца, знал он, что парень ни полушки от Косто Миялчова не получает, вкалывает за отцовский долг. Брусака в тот же вечер пошел в город да напился в какой-то корчме; подождал, пока люди по домам угомонятся — хоть и пьяный, а на это-то хватило догадки, — и снова на выступ дома забрался, где Алика жила. Хоронился там до полночи, а потом набрался духу и постучался. Что уж там было, не нам знать, только рано-рано, до света еще, выкрался Иван из того же окошка, сиганул через высокую стену — да и был таков. А доглядчики ночные под стеной полеживали, вдогонку ему со смешком перемигивались.
Так и подошла осень. Потянулись туманы, трава пожухла и заиндевела, листья на вербах и тополях стали желтые, а к западу от реки, вблизи побелевшей дороги, по утрам и вечерам закурились голубые дымки — овчары костерки разводили, чтобы согреться, пахари спешили запахать землю, поспевали до осенних дождей. У моста поднялись уже колонны из тесаного белого камня, средней только недоставало, а там и накат можно стелить. Косто Миялчов теперь на фаэтоне приезжал чуть ли не каждый день, ругался, мастеров подгонял, чтобы спешили, но Алика больше не появлялась.
Зато Иван Брусака наведывался к ней каждую ночь.
Все бы и хорошо, только бес-то опять, видно, от безделья замаялся.
Ладно, коли уж начал я эту историю сказывать, доскажу до края. Взял как-то бес проклятый да и занес старого хрыча в Аликину светелку, когда она и ждать его не ждала, вроде бы с ребенком пришел попрощаться — в Софию наутро собрался, там Народное собрание открывалось, вот и всхлопотался он, народный заступник. Ну а вместо ребенка-то застал в комнате добра молодца. Хотите верьте, хотите нет, а богатство, видать, и силы, и смелости человеку прибавляет, иначе с чего бы этому старикашке в драку ввязываться с молодым? Бросился было на Ивана Косто Миялчов, да тот встретил его в грудки; тогда старый выхватил револьвер и выпустил в полюбовников пулю. Страшный послышался грохот, лампа погасла, в комнате темно стало, как у суслика в норке. И тихо, так тихо, будто покойника собрались выносить, только малышка один разок пискнула, и больше ни звука. А Косто Миялчов руки в потемках растопырил и двинулся искать Брусаку на ощупь, палить больше не стал, словить его решил да придушить.
Ивану что, он-то посреди комнаты стоял, хоть и темно, а все равно видно, как старый шмыгает вокруг, точно угорелая мышь. Ишь ты, подумал Иван, в жмурки со мной играть затеял. И стало ему смешно. Сначала потихоньку смеялся, потом все сильнее, а под конец аж затрясся от смеха. Пуще того, он и сам решил со старичком поиграться: только тот его в темноте нашарит — Иван отскочит, и еще, и еще…
Увертывается да шуточки подпускает:
— Ну что, хозяин, дедушка Косто, чай, и долга-то на мне теперь не осталось, по всей правде мы с тобой расквитались!
И все смеется, заливается. И так-то смеючись да по комнате прыгая, споткнулся вдруг обо что-то Иван Брусака. Нагнулся узнать, что такое, и к месту его пригвоздило.
— Стой! — кричит, да таким дурным голосом, что Косто Миялчов в стенку со страху вжался.
Тут только дошло до Ивана, что стряслось, понял он, обо что споткнулся: рука его на грудь натолкнулась, из которой липкое что-то сочилось, и кровь это была, не иначе, Аликина кровь.
— Зажигай лампу! — ревет Иван, себя не помня.
Осветилась комната, и поплыло все у Брусаки перед глазами: тихонько лежит Алика, будто уснула, и все еще из груди ее струйками слабыми-слабыми струится молодая кровь. Кинулась, горемычная, прикрывать Ивана, да под самую пулю и угодила. Вот оно как на свете бывает. Женщина, если кого возненавидит, проклянет до девятого колена, а уж если полюбит — жизни не пожалеет. Не от разума она так поступает, а от сердца, старики давно уже эту истину знают.
Что там дальше случилось, сказать не могу; знаю только, что в эту же ночь помер и Косто Миялчов — удар его хватил. И много тогда появилось догадок насчет двух этих смертей: одни говорили, что старый козел из ревности порешил Алику, другие — что какой-то бедолага ограбленный за муки свои отплатил старому лихарю, и другое всякое говорили, но до правды так и не добрались.
Иван Брусака, к утру на мост воротившись, свалился, больной. Три месяца прохворал, едва от смерти отбился. А как в память пришел, подняли уж мост. Только ни единого разу не ступил на него Иван Брусака, даже когда в город по делам отправлялся, ниже всегда реку переходил, через брод, сворачивал на дорогу и шел не оглядываясь, куда надо.
Так и ходил — целых двадцать лет так ходил.
И вот теперь, как минули эти годы, подумалось отчего-то Ивану: похоже, самое время на Аликину могилку сходить, поклониться. С вечера он это подумал и утром, сами знаете, тронулся в путь. И застучал гнедой конь копытами по асфальтовой уж теперь горбине старой дороги, и солнце будто притаилось вверху и все приговаривало: А-ли-ка, А-ли-ка, А-ли-ка… А может, это выцокивали подковы гнедого конька.
Нет, я еще не закончил, эта история, почитай, без конца, без начала, с той поры повелася, как мир стоит, но у меня-то для нее край приготовлен. Да и дело теперь побыстрей пойдет, потому как мотоцикл в нашу историю въехал. И он тоже выскочил из села Горун, задержался малость, позднее двух старших Брусаков выехал, зато мчался, словно из лука стрела, а на мотоцикле — молодой парень. Третий, значит, уже Брусака, что тронулся этим утром по древней дороге, — Васил Брусака, Ивана сын, деду Курташу, выходит, внук. Пыр-пыр-пыр — летит мотоцикл по дороге, и видит Васил впереди себя двух путников: пеший уже к реке приближается, точно букашка издали, верхий чуть позади, так на своем коне восседает, словно он всему миру владыка. Знаем мы уже, какие мысли деда Курташа одолевали, и про что Иван Брусака тревожился, знаем; ну да у Васила — у того думки попроще: вот мол, двадцать минут всего до работы остается (он на заводе работал), а надо еще успеть заскочить в город, Марию захватить. Вместе они работали на заводе, и каждое утро Васил за ней заезжал. Вот он и поддавал газу. Кружится все вокруг него, поле словно в пляс пустилось, а он летит себе да летит. И пяти минут не прошло, как настиг он всадника на гнедом коне, глядит — это отец его. Замедлил ход, поприветствовал:
— Мир на дороге, добрый путь!
— Путь-то путь, да не к нам будь, — ответил Иван, зло этак ответил.
— Гляди-ка, ты чего сердишься?
— А ты чего за мной гонишься?
— За тобой? Вот еще! Я — за любовью!
Сказал так, засмеялся во все горло и дальше полетел по старой дороге. И снова все вокруг него закружилось, в пляс пустилось окрестное поле. И пяти минут не прошло — он уж и другого, что букашкой казался издали, настиг, глядит — это дед его. Замедлил ход, поприветствовал:
— Мир на дороге!
— И тебе добрый путь! Спешишь? — отозвался со вздохом Курташ Брусака, остановился, спину выпрямил и отер лоб платком.
— Спешу!
— Знаю я, куда ты спешишь. Спеши, твое теперь время.
Тихо журчала река, временами из гнезда в чащобе откликалась птица, та самая, от которой душа рвется на части у человека; где-то в стороне от дороги, над рекой, люди, сбившись в бригады, сновали по заводскому двору; тут и молодой Брусака работал. Дед Курташ добрался наконец до чешмы, что выстроена была отцом Салкиным, Айдил-бабой Менеменджи-оглу, на помин ее несчастной души. Добрался, уселся в тени плакучей вербы, выросшей возле самой чешмы. Эх, где они, усачи голубые, что дарил я когда-то Салке, где и она сама, моя Салка… Подумал так и громко взмолился:
— Господи, спаси и помилуй, что поминаю я женщину чужого закона, да уж больно хороша была Салка…
Медленно присомкнулись старые глаза деда Брусаки, и сызнова его опахнуло былое: и старый хан, и зеленое облако вербовое, и Салка… Когда это было, когда? Так и сидел, утонув в давнишнем, пока на дороге не заслышался конский топот. Открыл глаза — сын его, Иван, едет, разглядывает белый каменный мост, словно гадает, по нему ли проехать или по новому, выстроенному два года назад. Не знал старик, что Иван впервые, с тех пор как стоит этот мост, так вот его разглядывает, только подумал: гляди ты, куда это мы все трое пустились в такую рань?
А Иван Брусака уже на чешму глаза перевел — сидит там какой-то дед под ивой в тени.
— Отец, — спрашивает, — ты чего здесь?
— У меня дело спешное, — отвечает Курташ, — из нас троих мне больше всех к спеху, сроки мои подходят, сколько еще передумать надо…
— Да и мне поторапливаться пора, — говорит Иван, — то ли есть оно, это время, то ли нет, кто знает, надо приготовляться.
Пыр-пыр-пыр — затарахтел мотоцикл, и оба примолкли. Примолкли и на дорогу глядят. По ней парень летит, за парнем, крепко его обхватив руками, — девушка. Парень, ясное дело, Васил, а девушка… Нет, про девушку я пока помолчу. Ишь как быстро до города и назад обернулся. Подъехал Васил к отцу и деду, мотоцикл придержал и говорит:
— Ну, старички, есть у меня еще время, три минуты в запасе, так что поглядите на мою девушку. Глядеть глядите, а насчет того, люба она вам или нелюба, не печалуйтесь. Люба, нелюба, все равно моя будет!
И дунул дальше по старой дороге.
Перед тем как мотоциклу с места сорваться, девушка, что с Василом ехала, на деда Курташа да на Ивана Брусаку глянула, так просто глянула, что, мол, за люди такие. А они обомлели прямо, будто громом обоих хватило, стоят как околдованные, смотрят вслед, и древняя перед ними дорога, брошена, точно сабля, позабывшая лютые битвы, потерявшая давнюю славу, а по острию сквозь грозные блики давних сражений мчится во весь опор молодой Брусака. Его-то куда заведет этот путь, столько раз выручавший верным своим горбом отца и деда?
Правду сказать, я и сам не знаю.
Вот про девушку с мотоцикла знаю, знаю, отчего застыли как околдованные Курташ и Иван, взглянувши в ее глаза, — каждый там свое увидал: на одного глянула далекая Салка, на другого — бессчастная Алика, ее дочь.
Вьется-тянется древний путь, с востока на запад, где село Горун, с запада на восток, где село Ясен, да старый каменный мост, строенный итальянцами, со стыда сгорает перед заводом, вскинувшимся под самое небо. Что ж, идут времена, меняются. Вот и эта история хоть подобрана на старой дороге, а может, когда-нибудь снова повторится, только будет уже не та. И дорога будет не та, не прежняя, в новую размахнется даль без конца и без края дороженька, мудрая и молчаливая, без которой людям не обойтись.
Перевод Н. Смирновой.
СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ
Павел Вежинов родился в 1914 г. в Софии. Окончил философский факультет Софийского университета. Принимал участие в Отечественной войне в качестве фронтового корреспондента, был главным редактором журнала «Фронтовик». Начал печататься в 1932 г., плодотворно работает во всех жанрах прозы, автор сценариев нескольких художественных фильмов. П. Вежинов Герой Социалистического Труда, народный деятель культуры, лауреат Димитровской премии.
На русский язык переведены почти все произведения писателя, в том числе: «Звезды над нами» (1951), «Следы остаются» (1954), «Конец пути» (1961), «Человек в тени» (1965), «Барьер» (1977), «Ночью на белых конях» (1978), «Измерения» (1982).
Рассказ «Память» («Спомени») опубликован в сборнике «Синий камень» (София, 1977).
Костадин Кюлюмов родился в 1925 г. в селе Гайтаниново Благоевградского округа. Учился в Софийском университете, закончил высшее образование в Москве. Большинство произведений К. Кюлюмова посвящены антифашистской борьбе, в которой он принимал участие. Широкую известность получили романы «Парень и гора» (1974), «Закат» (1975), «Дождись солнца» (1980), посвященные героям партизанского движения. К. Кюлюмов лауреат Димитровской премии, премии ЦК ДКСМ.
Рассказ «Сердца матерей» («Сърцата на майките») опубликован в сборнике «Всколыхнувшиеся тени» (София, 1979).
Добри Жотев родился в 1921 г. в селе Радуй Перникского округа. Во время войны был арестован за активную антифашистскую деятельность, бежал из тюрьмы, стал партизаном. После войны был комсомольским работником, журналистом, редактором. В 1980 г. удостоен звания народного деятеля культуры. Основные поэтические и прозаические произведения Д. Жотева: «Жажда» (1951), «Буйный ветер» (1958), «В гостях у дьявола» (1962), «Любовь моя» (1964), «Крики» (1966), «От дьявола до кибернетика» (1968), «Пережитые рассказы» (1973, премия Союза болгарских писателей), «Лирические поэмы» (1974).
Рассказ «След человечности» («Белег за човещина») взят из книги «Пережитые рассказы» (София, 1973).
Илия Богданов родился в 1938 г. в селе Ракита Плевенского округа. Окончил юридический факультет Софийского университета, долгое время работал юристом. Автор нескольких сборников рассказов: «Колыбель» (1973), «Что-то уходит» (1978), «Белые огни» (1981).
Рассказ «Душа камня» (Душата на камъка») опубликован в сборнике «Что-то уходит» (София, 1979).
Димитр Коруджиев родился в 1941 г. в Софии. Окончил филологический факультет Софийского университета, работал редактором в газетах и журналах, в настоящее время — в издательстве «Болгарский писатель». Автор сборников рассказов «Пройдет время» (1972), «Ночная улица» (1975), «Невидимый мир» (1980); повести «Просветы в дожде» (1974) и др. Основная тематика произведений Д. Коруджиева — нравственные искания современного человека.
Рассказ «Высоко среди белых ламп» («Горе, сред белите лампи») опубликован в сборнике «Остров тишины» (Варна, 1976).
Коста Странджев родился в 1929 г. в Пловдиве. Окончил Высший экономический институт в Софии, был комсомольским работником, журналистом, редактором. Основные произведения К. Странджева — сборники рассказов «Мы с водонапорной башни» (1962), «Люди в пути» (1980), «Теплый снег» (1980); повести «По сообщениям печати» (1965), «Таран» (1968); пьесы «Сосны не сгибают ветвей» (1971) и «Мост» (1973).
В переводе на русский язык были опубликованы журналом «Иностранная литература» повести «Точка опоры» (1971) и «Мужество жить» (1975).
Рассказ «От удара до удара» («От удара до удара») взят из сборника «Люди в пути» (София, 1980).
Васко Жеков родился в 1941 г. в селе Ласкар Плевенского округа. Окончил филологический факультет университета в Велико Тырново. В. Жеков имеет богатый жизненный опыт: он работал слесарем, участвовал в строительстве Кремиковского металлургического комбината, был актером, заведовал Домом культуры, в настоящее время — редактор в газете «Литературен фронт». С 1967 г. печатается в газетах и журналах. Выпустил сборник рассказов «Таможня» (1974) и роман «Тревожные деньки» (1978).
Рассказ «Белая аудитория» («Бяла аудитория») взят из первой книги В. Жекова — «Таможня» (София, 1974).
Димитр Начев родился в 1928 г. в селе Средние Колиби Великотырновского округа. Окончил философский факультет Софийского университета, был журналистом, редактором, в настоящее время работает в издательстве «Болгарский писатель». Печатается с 1951 г. Автор сборников рассказов «Горсть зерна» (1968) и «Почему не ржавеют рыбы» (1979); романов «Колесо» (1978) и «Семь дней и одно преступление» (1979); а также пьес «Западня» и «Последняя корреспонденция мистера Форда».
Рассказ «Сигнал» («Сигнал отпреди») опубликован в сборнике «Почему не ржавеют рыбы» (София, 1979).
Боян Биолчев родился в 1942 г. в Софии. Окончил филологический факультет Ягеллонского университета в Кракове, в настоящее время работает в Софийском университете. Выпустил сборники рассказов «Пробуждение» (1975) и «Сапфир» (1979).
Рассказ «На скалистом гребне» («На скалния ръб») взят из сборника «Сапфир» (София, 1979).
Радослав Михайлов родился в 1928 г. в селе Калиманица Михайловградского округа. Трудовой путь начал шахтером, затем стал партийным работником, журналистом. Окончил филологический факультет Софийского университета. Автор более 20 книг, таких, как сборник рассказов «Утро» (1963), повесть «Суд» (1967), романы «Зима без снега» (1968), «Взрыв» (1971). «Первые залпы» (1973), «Признание» (1975). Большое место в творчестве Р. Михайлова занимает историко-революционная тема, писатель активно отстаивает общественные и нравственные идеалы социалистического общества. На русский язык переведены роман «Взрыв» (М., 1970), сборники рассказов «Слова, написанные на небе» (М., 1975) и «Властители земли» (М., 1983).
Рассказ «Взятка» («Подкуп») опубликован в сборнике одноименного названия (София, 1979).
Лиляна Михайлова родилась в 1939 г. в Пловдиве. Окончила филологический факультет Софийского университета, работала преподавателем, затем редактором. Основные произведения: сборники рассказов «Женщины» (1966), «Дом у поворота» (1969), «Заботы» (1975); повести «Отвори, это я…» (1972), «Корабль» (1972); роман «Грех Малтицы» (1980). Для творческой манеры Л. Михайловой характерны глубокий психологизм в раскрытии характеров и лирико-ироническая интонация.
На русский язык переведены повести «Отвори, это я…» (в сборнике «Современная болгарская повесть», М., 1975) и «Долгие дожди» (в сборнике «Время собирать виноград», М., 1982).
Рассказ «Идол с Галапагоса» («Идол от Галапагос») взят из сборника рассказов и повестей «Поздние дожди» (Пловдив, 1978).
Георгий Величков родился в 1938 г. в Сливене. Окончил юридический факультет Софийского университета, работал редактором в журналах, издательствах, на киностудии. Печататься начал в 1962 г. Наиболее известные произведения Г. Величкова выходили в сборниках: «Простые чудеса» (1966), «Одинокая в небе луна» (1972), «Сказки обо мне и о вас» (1975), «Аист на снегу» (1977), «Время собирать виноград» (1978), «С трех сторон баррикады» (1980), «Последний круг над океаном» (1981). Произведения Г. Величкова разнообразны тематически, интересны по форме.
На русский язык переведены его рассказы и повесть «Время собирать виноград» (в одноименном сборнике, М., 1982).
Рассказ «Аист на снегу» («Щъркел в снега») взят из одноименного сборника (Варна, 1977).
Йордан Радичков родился в 1929 г. в селе Калиманица Михайловградского округа. Был журналистом, редактором на студии художественных фильмов. В 1959 г. вышла первая книга писателя — сборник рассказов «Сердце бьется для людей». Основные произведения Й. Радичкова — сборники повестей и рассказов «Опрокинутое небо» (1962), «Жаркий полдень» (1965), «Водолей» (1967), «Пороховой букварь» (1969), удостоенный Димитровской премии, «Воспоминание о лошадях» (1975); романы «Все и никто» (1975) и «Праща» (1977).
На русский язык переведены книги «Опрокинутое небо» (М., 1964), «Ветер спокойствия» (М., 1975); избранные произведения писателя издавались в серии «Мастера зарубежной прозы» (М., 1981) и в «Библиотеке литературы НРБ» (М., 1982).
Рассказ «Маленький лыжник» («Скиорчето») опубликован а газете «Народна култура» в 1981 г.
Любен Петков родился в 1939 г. в селе Крушевец Бургасского округа. Окончил Высший институт народного хозяйства в Варне. В настоящее время работает в издательстве «Болгарский писатель». Основные произведения Л. Петкова: повести «Зеленые кресты» (1968), «Ворота со львом» (1973), «Календарь» (1978); сборники рассказов «Розовый пеликан» (1973), «Сады Евы» (1978), «Зимнее море» (1980); роман «Господин Маленький волк» (1981). Все написанное Л. Петковым отличается остротой постановки морально-психологических и социальных проблем, своеобразным усложненным стилем.
На русский язык переведена повесть «Ворота со львом» (в сборнике «Время собирать виноград», М., 1982).
Рассказ «Бессонница» («Нощем») опубликован в журнале «Пламък» в 1978 г.
Васил Попов (1930—1980) — прозаик, драматург, публицист. Родом из села Миндя Великотырновского округа. По образованию юрист. Печататься начал в 1959 г., автор более 20 книг. Основные произведения В. Попова — повести «Человек и земля» (1962), «Маленькая шахта» (1962); романы «Время героя» (1968), «Корни. Хроника одного села» (1975), «Низина» (1979); сборник рассказов «Это прекрасное человечество» (1971).
На русский язык переведен ряд рассказов В. Попова и одно из лучших его произведений — роман «Низина» (М., 1980).
Рассказ «Братья» («Братя») опубликован в сборнике «Самолет из Цюриха» (Варна, 1980).
Ивайло Петров родился в 1923 г. в селе Бдынци Толбухинского округа. После войны изучал право в Софийском университете. Первый сборник рассказов писателя, «Крещение», посвященный героям освободительной борьбы, вышел в 1953 г. Основные произведения: повести «Нонкина любовь» (1956), «Перед тем как мне родиться» (1963); роман «Мертвая зыбь» (1961), сборник «Спутанные записки» (1971) — посвящены новым отношениям в болгарском селе, сложным социальным процессам, отмечены поисками новых стилистических средств.
На русский язык переведены повести «Нонкина любовь» (журнал «Иностранная литература», 1958), «Перед тем как мне родиться» («Библиотека литературы НРБ», М., 1969), а также подборки рассказов в журнале «Иностранная литература» (1964), в сборнике «Братья» (М., 1967) и в сборнике «Весенние соки» (М., 1968).
Рассказ «Трудное время» («Усилини години») вошел в сборник «Осенние рассказы» (София, 1978).
Димитр Вылев родился в 1929 г. в селе Лесово Ямболского округа. Долгое время работал учителем, затем корреспондентом ряда газет и журналов, редактором. Выпустил сборники рассказов и повестей «На окраинах» (1966), «Мы — величества» (1969), «Южный ветер» (1970), «Поздние плоды» (1972), «Ошибка истории» (1972), «Кардинал» (1976), «Южане» (1979); романы «Зной» (1973), «Три смертных греха» (1978), «Заговенье» (1981). Постоянная тема произведений Д. Вылева — социалистические преобразования в селах Странджи, самобытного горного края на юге страны.
Рассказ «Смерть в воскресенье» («Смърт в неделя») опубликован в сборнике «Люди в беде не оставят» (Пловдив, 1977).
Стоян Бойчев родился в 1927 г. в селе Вонешта-Вода Великотырновского округа. Окончил философский факультет Софийского университета. В 60—70 годы выпустил сборники «Белая дорога», «Теплая осень», «Дождливая погода», а также роман «Голод».
Рассказ «Сок мушмулы» («Сок от мушмула») взят из сборника «Дождливая погода» (София, 1979).
Васил Акьов родился в 1924 г. в Дупнице. В 1942 г. был арестован за антифашистскую деятельность, освобожден 9 сентября 1944 г. В послевоенные годы принимал активное участие в укреплении народной власти, работал в ЦК Демократической молодежи. Литературную деятельность В. Акьов начал как критик и публицист, сотрудничал в газетах и журналах. Опубликовал повесть «Республика смертных» (1966), сборник рассказов «Тихие закаты» (1973), романы «И наступил день» (1974) и «Джокеры» (1977). В. Акьов автор сценариев художественных фильмов «Птицы и борзые», «Тигренок», «Пантелей».
Рассказ «Женщина в белом» («Жената в бяло») взят из сборника «Вили Трыпка» (София, 1979).
Божидар Томов родился в 1930 г. в Пернике. Окончил филологический факультет Софийского университета. Выпустил сборник стихов «Прогулка в троллейбусе» (1969), сборники рассказов «Чемпион» (1974), «Будильник под подушкой» (1977), «Старый солдат» (1980) и «Нужен Гамлет» (1981).
Рассказ «Одна винтовка на двоих» («Два мъже с една пушка») вошел в сборник «Старый солдат» (София, 1980).
Станислав Сивриев родился в 1924 г. в Златограде. Во время войны был партизаном, позже окончил Высшее военное училище, служил в Народной армии. Был членом редколлегий журналов «Родопы», «Болгарский воин», альманаха «Утренняя звезда». С. Сивриев — заслуженный деятель культуры НРБ. Основные его произведения — сборники рассказов «Люди повсюду» (1963), «Мир стар» (1968), «…И земля перестала качаться» (1971), «Когда я был офицером» (1973), «Кружись, кружись» (1974), «Искры из искр» (1975), «Выигрывая — что теряем» (1978).
Рассказ «Дни, что нас сближают» («Дни, които сближават») опубликован в сборнике «Когда я был офицером» (София, 1976).
Дончо Цончев родился в 1933 г. в городе Левски. Окончил Софийский университет, был шофером, геологом, учителем, редактором. Выпустил более 20 книг, основные из них — романы «Почти любовная история» (1972) и «Лесные ребята» (1973); сборники рассказов «Золотой дед» (1974), «В добрый час, мальчики» (1979), «Звездная пыль» (1981). Опираясь на многообразный жизненный опыт, Д. Цончев развивает в своих произведениях тенденцию философского осмысления, современности.
На русском языке публиковались рассказы Д. Цончева — в сборнике «Болгарский рассказ» (М., 1972), в журнале «Иностранная литература» (1973), а также повесть «Маленький водолаз» (М., 1973).
Рассказ «Солома» («Сламата») взят из журнала «Септември» (1980).
Тодор Велчев родился в 1935 г. в Пернике. Окончил Народное нахимовское училище в Варне. Был арматурщиком, капитаном дальнего плавания, изучал медицину в Софии, работал на телевидении. С 1977 г. редактор в Телевизионном театре. Печататься начал в 1969 г., выпустил сборники рассказов: «Фантазия о белых шапках» (1975) и «Формула I» (1980).
Рассказ «Мохноногий петух» («Гащат петел») опубликован в сборнике «Формула I» (1980).
Николай Хайтов родился в 1919 г. в селе Яврово Пловдивского округа. Окончил лесотехнический факультет Софийского университета. Литературную деятельность начал в 1957 г. Выпустил сборники рассказов и эссе «Гайдуки» (1960), «Властители Родоп» (1965), «Листья граба» (1965), «Дикие рассказы» (1967), «Колючая роза» (1975), «Пернатое корыто» (1979) и другие, а также несколько пьес и киносценариев. Н. Хайтов народный деятель культуры НРБ, лауреат Димитровской премии, главный редактор журнала «Родопы».
На русский язык переведены сборники «Дикие рассказы» (М., 1972) и «Колючая роза» (М., 1983).
Рассказ «Смятение» («Сътрясение») опубликован в сборнике «Пернатое корыто» (Пловдив, 1979).
Димитр Ярымов родился в 1942 г. в селе Кирилово Ямболского округа. Окончил филологический факультет Софийского университета. Был корреспондентом и редактором в различных газетах, журналах и литературных издательствах. Первый сборник рассказов Д. Ярымова вышел в 1968 г. Основные произведения — роман «Протяни руку» (1974), сборники рассказов и эссе «Данное даром» (1977) и «Завтрашний хлеб» (1978). Особое внимание в своем творчестве Д. Ярымов уделяет проблемам постижения национального характера, нови современного болгарского села. Лауреат премии Димитровского комсомола, премии Союза болгарских писателей.
Рассказ «Легенда о мастере» («Сказание за майстора») опубликован в сборнике «Данное даром» (Пловдив, 1977).
Росен Босев родился в 1946 г. в Софии. Окончил филологический факультет Софийского университета, работал корреспондентом и редактором в газетах и литературных издательствах, в настоящее время работает в редакции газеты «Литературен фронт». Печататься Р. Босев начал в 1961 г., выпустил сборники рассказов «Вперед по росе» (1973), «Сине-зеленое» (1976), «Небесный дом» (1977), книгу очерков о Туркменской ССР «Песочные часы» (1977), роман «Портреты небесных тел» (1979).
Рассказ «Хозяин и птахи» («Стопанинът и птиците») опубликован в сборнике «Небесный дом» (София, 1977).
Марий Ягодов родился в 1912 г. в селе Долни Дыбник Плевенского округа. Учился в бывшем Свободном университете. Основные произведения М. Ягодова — поэма «Славовица» (1948); пьеса «Дуэль» (1953); романы «Дуб на рассвете» (1956), «Антина и ветры» (1962), «Пришествие» (1980); сборники повестей и рассказов «Мечтатель» (1966) и «Древний путь» (1977). М. Ягодов — заслуженный деятель культуры НРБ.
На русском языке опубликована повесть «Добричкина свадьба» (в сборнике «Время собирать виноград», М., 1982).
Рассказ «Древний путь» («Древният път») взят из одноименного сборника (София, 1977).