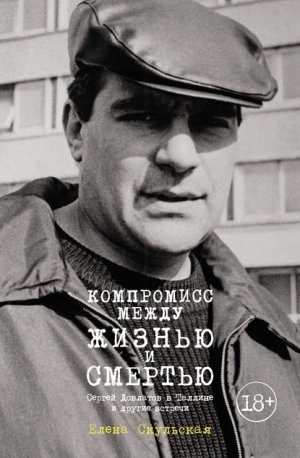
© Скульская Е. Г., 2018
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
Компромисс между жизнью и смертью. О Сергее Довлатове
I. Перекрестная рифма (письма Сергея Довлатова)
«В этих письмах нет ничего личного, кроме стиля» – так, мне кажется, сказал бы о них Сергей Довлатов, разрешая публикацию.
И вот спустя одиннадцать лет[1] мне передают коробочку темного цвета шиповника, на боку которой нацарапано «Лиле Скульской»; флакончик духов с запахом розового гербария, прибывший с оказией или какой-нибудь посылкой; о таких посылках рассказывал мне Довлатов в середине 70-х: как в Ленинграде, на конспиративной кухне пошире, собирались тайно избранные опалой, держались отрешенно и страстно, читали стихи, грозили кулаком милицейским окнам, хотели голодать и гибнуть (да так оно и было), а потом вносили ту самую американскую посылку – бедствующим друзьям – с дорогим барахлом (я представляла себе деревянный ящик из детства, вечно не хватало терпения полностью отодрать крышку, она вырывалась, гвоздями прикусывала пальцы, протиснутые за киевскими яблоками), и медленно, как во сне, все кидались к ней, запускали руки, тянули… начинался целый пир персонажей; он не написал о нем позже, не написал, думаю, от той последней жалости, которую всегда помнил и которой всегда успевал пощадить.
Итак, темная коробочка, золотая рыбка из стаи – рябью поперек течения – без записки, письма, через одиннадцать лет молчания вдруг оказалась в руке. Я писала тогда книгу об отце, вспоминала в ней Довлатова и поясняла его словом «писатель», потому что еще ни одной публикации его не было в нашей стране:
«Нежность пришла в середине семидесятых.
Были трепетны, науськиваемые одним только сердцем.
Уговаривали теледикторши непокорных выключить электроприборы[2].
В 1975 году, незаметно, будто отлучились врачи с праздника к больному, перегрызли в редакции «Советской Эстонии» горло писателю Сергею Довлатову…»
После ТОЙ редколлегии[3] Сергей шел по огромному, ему под стать, редакционному коридору, отстранял нас руками, как в фильмах знаменитость отстраняет в аэропорту, что ли, назойливых репортеров, и шептал каждому: «Отойдите, это может быть теперь небезопасно», при том он продолжал смотреть прямо, в некий объектив, пуская слова осторожно вбок, чтобы не повредить строгости снимка. Дальше, выходя уже из Дома печати, подошел к Михаилу Бушу (он есть в одном из рассказов Довлатова, его никак не принимали на работу в нашу газету): «Миша, я надеюсь, мое изгнание хоть вам принесет пользу. Освободилось место… Вас должны взять…» Сказал без иронии и даже горечи, что почти непредставимо, если не признать за ним доброжелательность как безумную норму.
Через несколько дней после того, как Сергей уехал из Таллина в Ленинград, пришла открытка:
«Здравствуйте, Лиля!
Пятый день я в Ленинграде. Занимаюсь ремонтом. Местные «пикейные жилеты» вникли в ситуацию и утверждают, что за книжку обидно, прочее – ерунда. Работой пока не интересовался. У Джойса один рассказ начинается так: «Он вернулся назад той же дорогой, которой ушел…» С другой стороны, Томас Вулф назвал один из своих романов «Домой возврата нет». Короче – неопределенность»[4].
И тут же приписка моему отцу:
«Дорогой Григорий Михайлович! Хочу попрощаться с Вами. Спасибо за доброе отношение. Простите за возможные хлопоты. Желаю Вам здоровья, мужества и вдохновения. Ваш С. Довлатов».
И еще через несколько дней:
«Милая Лиля! Я направил в Таллин десяток писем. Отреагировали только Вы. Я не сержусь, я беспокоюсь, что письма могли не дойти.
Понемногу начал сочинять, ходить по редакциям. Люди здесь смелее, циничнее. У каждого неприятностей втрое больше, чем у меня.
Поэтов развелось ундициллион (см. энцикл.).
Самый талантливый – Охапкин и тот никуда не годится.
Все свои решительные действия я отложил до той поры, когда будет готова злополучная экспертиза[5]. Знатоки утверждают, что резко отрицательной она не может быть, а если окажется таковой, ее надо доказательно опровергать в Лен-де и Москве. А нет, то и подальше.
Мне показали новые стихи И<осифа> Б<родского>. Запомнились такие строчки:
- …твердил, что лес – это часть полена,
- И зачем вся дева, ведь есть колено…
Встретился мне худощавый Ширали, который уверял, что сочиняет теперь просто, впал, как в ересь, в неслыханную простоту. И в доказательство громко выкрикнул следующее:
- Вот летает птица моль
- И садится на бемоль.
Я немедленно с ним попрощался.
Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время.
А о главном я рассудил так: «Ты мечтал о великом романе? Напиши его. Вряд ли тебе это удастся. Но сама попытка написать великий роман в моральном отношении равна великому роману».
Вот так гордо звучит мое кредо!!!
Пожелания литературного неудачника с большим (12 лет) стажем:
Будьте здоровы, пишите, страдайте и верьте своему сердцу!»
Так началась наша переписка, длившаяся с перерывами на встречи три года – до 1978-го[6].
Зажав в кулаке темную душистую коробочку, я перечитала три страницы из своей книжки, посвященные Сергею, строчки из его писем, и решила пока оставить все как есть, а когда рукопись опубликуют, то послать ее ответным знаком дружбы и памяти. Через год пришло известие о его смерти.
Незадолго до отъезда за океан, в Ленинграде, Сергей привел меня в гости к своим знакомым – художникам. Огромные, как принято в мастерской, окна были неожиданно затенены шелковыми шторами с вытканными на них трепещущими и сытными многоцветными фазанами. Один фазан стоял на блюде на дубовом боярском столе, мы так и не узнали, настоящий он или только прототип шелковых – из папье-маше; Сергей говорил:
– Уезжать нельзя. Любое наше движение здесь, малейшее шевеление, хоть пальца на ноге (для какой-то наглядной честности он выдвинул ногу из-под стола, хозяева перегнулись и тоже рассмотрели ботинок)… громом отзовется на Западе. А что бы на Западе ни делать, как ни шуметь, здесь и шепота не вызовет!
Сергея слушали как больного ребенка, нудно повторяющего свое «пить, пить, пить».
Мы вышли из боярской трапезной, на ближайшем углу, в рюмочной, отвернувшись и пересчитав мелочь, Сергей выпил полстакана портвейна, а меня решено было накормить, и я согласилась, проклиная вечную свою прожорливость. В подвальной и полутемной столовой двигались с подносом, я потянулась за кошельком, бормоча какие-то правильные и веселые слова, и тут же получила:
– Прекратите! Не до такой же степени!
Но сам он есть не стал, вторых 67 копеек на комплексный обед у него не было.
Вечером ехали в троллейбусе домой к Довлатовым. Освободилось место. Сергей предложил мне сесть. Я попросила: сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. «Вот вам не нравится мой рост, – ответил он, – а один знаменитый наш современник, Александр Кушнер, сказал мне недавно: если бы я, Сережа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды мне казались бы игрушечными».
(Сергей шутливо отзывался о многих, кого любил и даже чтил. Однажды в редакции он протянул мне стихотворение Кушнера, перепечатанное для меня на машинке; я отреагировала уважительно, но не восторженно, как ожидал Сергей. Он растерянно забрал у меня листок и спросил с жалостью: «Что же вы цените в современной поэзии, если не это?!»)
На плите стояла кастрюля с супом, в ней лежала громадная, во все кастрюльное дно, кость. Непомерную эту кость пытались уместить в моей тарелке, что было невозможно, суп выплескивался по бокам; опять обсуждали отъезд; Лена снимала плащ и говорила тихо, без раздражения: «Хуже уже быть не может, значит, там точно будет лучше».
В августе 90-го моя книжка была в гранках и еще можно было что-то вычеркнуть или дописать, но можно было и теперь оставить все как есть: тексты Сергея, его письма – не менялись. А еще через год следовало бы вычеркнуть только одно слово «писатель» – об этом уже знали все.
А пока, в 1975–1976-м:
«Дорогая Лиля!
Спасибо за внимание и дружбу. Московское письмо, которое я алчно распечатал, денег не сулит. Хотят использовать на радио мой bestseller в «Юности». В такой же ситуации алма-атинское радио заплатило 200 рублей. Хаос и беспорядок…
Новостей мало. На работу не берут. Первые заработки ожидаются в сентябре. Зато сочиняю много, от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах «Высокие мужчины». Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым». Она лежит в трех местах. Пока не вернули. Не могу удержаться и не напечатать для Вас финальную песню оттуда:
- За право быть самим собой
- Отважно борется любой,
- Идет на честный бой, лица не пряча,
- Чужое имя не к лицу
- Ни моряку, ни кузнецу,
- А каждому свое, и не иначе.
- Нет двойников, все это ложь,
- Ни на кого ты не похож,
- У каждого свои дела и мысли,
- Не могут даже близнецы
- Похожи быть, как леденцы
- Или как два ведра на коромысле.
- Наступит час, в огонь и дым
- Иди под именем своим,
- Которое ты честно носишь с детства,
- И негодуя, и любя,
- Мы вспомним ИМЕННО тебя,
- И никуда от этого не деться!»
Здесь, прервав Довлатова, я позволю себе отступление в 2002 год. Как приятно спустя четверть века напомнить себе и другим о том, что у литературы нет срока давности.
Пьеса, как сказано в письме, разослана в три театра, и ни один из них пока еще не вернул ее автору.
Тут нужно пояснить: в советскую эпоху далеко не все художественные издания и прочие учреждения культуры имели право не рецензировать и не возвращать рукописи. Напротив, большинство из них обязано было внимательно и бережно относиться к сочинениям трудящихся масс, а именно – возвращать присланные произведения с доброжелательными приписками примерно такого содержания: «Уважаемый Имярек! С большим удовольствием прочли Ваши стихи (повесть, роман, пьесу, новеллу, очерк, рассказ и так далее), многое понравилось и привлекло, особенно взволновало Ваше доброе отношение к лошадям (людям, кочегарам, женщинам, делу мира, озеленению планеты и так далее), тронули сюжет и стиль (тема, мировоззрение, композиция, версификационное мастерство и так далее), однако, к сожалению, Ваше замечательное произведение мы вынуждены Вам вернуть, поскольку в нашем портфеле уже есть вещь, очень похожая на Вашу по теме (стилю, композиции, исполнению), а так же потому, что наш журнал (наш театр, наше издательство) полностью обеспечен материалами на ближайшие десять лет. Вам же советуем пока учиться у Пушкина и других наших драгоценных и неисчерпаемых классиков. С нетерпением ждем Ваших новых произведений, с глубоким уважением и благодарностью за то, что Вы обратились именно в наше издание (наш творческий коллектив, и прочее и прочее)…»
Чем нежнее была подобная приписка, тем меньше было у автора надежды хоть когда-нибудь опубликовать или поставить свое произведение.
Но пока ответа не было, позволительно было мечтать. Действительно, один раз на миллион приходил ответ совсем иной – грубоватый и резкий: «Уважаемый Имярек! Получили Вашу рукопись. Она показалась нам растянутой и скучной. Характеры главных героев не прояснены и не раскрыты. Композиция хромает и в конце просто заваливается набок. Стиль убогий. Идея жалкая. Мысль глупая. Но в связи с нехваткой материалов и заинтересованностью в теме, мы решили опубликовать (поставить) Ваше сочинение при условии, что Вы в кратчайшие сроки переделаете комедию в трагедию (водевиль в оперу, роман в новеллу, невесту в старушку-мать, стрелочника в директора завода, балерину в ткачиху, перепишете все стихами, а именно пятистопным ямбом, стихи переделаете в производственную прозу)…»
Чем грубее и оскорбительнее были замечания, тем больше было надежды на дальнейшую публикацию или хотя бы вялотекущие переговоры, поддерживающие в авторе творческие амбиции.
Сергей Довлатов в том давнишнем письме находился как бы в отрадной поре советского автора – рукопись ему пока не вернули, а следовательно, теоретически он мог рассчитывать на грубоватое предложение…
Тогда, полагаю, Сергей так и не получил из театров никаких известий. И ни для кого из друзей, кроме меня, судя по всему, финальную песню из пьесы не перепечатал, может быть, и вовсе он эту вещь не показывал приятелям, а в Америке забыл о ней совершенно, как еще о нескольких вещах, созданных в Союзе…
Спустя четверть века, в 2002 году, в Псковском кукольном театре стали разбирать архивы и нашли случайно сохранившуюся папку с надписью: «Сергей Довлатов. Человек, которого не было. Кукольная пьеса. 1975 год». Сергей Довлатов – классик, и уже никому не верилось, что вот так, запросто, в захламленном архиве валяется, оставшаяся без ответа, а скорее всего, и без прочтения, рукопись его пьесы. Не особенно надеясь на удачу, сотрудники театра стали, однако, искать доказательства подлинности своей находки. И вот анализ текста потребовал признать его принадлежность перу Довлатова, не хватало только какого-то окончательного аргумента, какого-то последнего факта, чтобы издать счастливый возглас. Перебрав все прочие источники, обратились наконец к сборнику «Малоизвестный Довлатов», выпущенному в 1995 году в Санкт-Петербурге журналом «Звезда». Там, в разделе «Приятели о Довлатове», печатались мои воспоминания и целиком цитировалась финальная песня из кукольной пьесы.
Сверив рукопись и письмо Довлатова ко мне, театр и все заинтересованные лица убедились, что найденная в Пскове пьеса «Человек, которого не было» и есть та самая кукольная пьеса «Не хочу быть знаменитым», о которой сообщает мне Довлатов. Песни и в рукописи, и в письме совпадают буквально.
Нужно ли добавлять, что Псковский театр принял пьесу к постановке, о чем экстренно и уважительно сообщил вдове Довлатова Елене…
А пока продолжается письмо Довлатова:
«…Будем сочинять, держаться. Нужно гордиться тем, что тебя считают достойным пострадать за свои взгляды и тот проблеск дарования, которым тебя наградил Господь».
И почти сразу, не дожидаясь:
«Здравствуйте, безмолвная Лиля! Чего наглухо замолчали? Пришлите хотя бы два многоточия. Если не ответите, я буду думать, что Вы стали партийной журналисткой и чураетесь меня. Изображу в романе!
Приезжайте в Ленинград. Покажу адскую богему.
Все будет хорошо. Или наоборот».
И чуть спустя:
«Милая Лиля! Вопреки обыкновению, реагирую не сразу, погрязнув в запое, контрах и литературе.
На совещании Северо-Западной молодежи я непременно появлюсь где-то в кулуарах, как ветеран этих мероприятий и как наглядное живое свидетельство всей их практической бесперспективности.
Я закончил новую вещь («Невидимая книга») – безусловно лучшее из того, что сочинил. Это совершенно документальный материал (журнально-издательская, литературная обстановка), то, что на Западе обозначают – nonfiction. В плане же синтаксиса я хотел добиться некоторого эффекта от усредненного неокрашенного языка. Мне давно кажется искусственной гальванизация народных, профессиональных и даже жаргонных наречий.
Я жду от этой вещи большого морального удовлетворения.
Из ленинградских новинок обратите внимание на книгу Инги Петкевич «Большие песочные часы». Это такая петербургская вещь с благородным налетом маразма. Любопытно, что там выведен Валерий Попов, очень хороший молодой писатель и наперекор одутловатому Ширали (я как-то сказала Сергею, что была на выступлении Виктора Ширали, и он произвел на меня сильное впечатление тем, что читал стихи, закрывая лицо руками, – этот театральный манерный жест был тем удивительней, рассказывала я, что Ширали был очень хорош собой. Сергей часто возвращался в разговорах к этой моей сомнительной поэтической симпатии, которая строилась не на интересе к стихам, но на заинтересованности в авторе. – Е.С.) – действительно красивый парень.
Прочтите. Прочтите и «Лаборантку» Игоря Ефимова. Это скучно, но здорово.
Большой привет всем, кто меня помнит и не проклинает».
Моему отцу всегда хотелось, чтобы у меня были нормальные детские увлечения: спорт или хотя бы марки. Марки покупали долго, заманивая. Потом поднесли красивейший, из кожи, альбом; надлежало разместить коллекцию по темам. Я засунула липкие, тонкие кусочки бумаги – держать их в руках было неприятно, как живую бабочку, ухваченную пальцами за слишком мягкое и податливое тело, – в прозрачные полочки, а те марки, что не вместились (может, и самые ценные), скомкала и спрятала за диван. Ничего не вышло…
Спустя много лет Сергей Довлатов укорял меня:
– Лиля, горба у вас нет, точно нет, я вижу. Вы не хромаете, глаза не косят – это для поэта большая потеря. Ну хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали. Не оправдывайтесь. Что-то надо придумать. А пока вы живете в четырехкомнатной квартире, пьете по рюмочке дорогой коньяк и ходите на свидания с мужчинами в синих бостоновых костюмах – ничего не выйдет.
Как ни странно, в эксцентричной шутке грустного пророчества оказалось больше, чем иронии.
Я очень долго дорожила уютом и благополучием. Мне казалось, устроенность позволяет не тратить себя на второстепенное. На самом же деле благополучию нужно либо отдать всю жизнь, либо разом и вдруг оно теряется – легче заниматься главным от этого не становится, но как-то опрятно все расставляется по местам, и видишь, что устроенность была незаслуженной и не тебе предназначавшейся.
Со своей же жизнью, мне кажется, Сергей поступал как ребенок с тем альбомом для марок – все, что не годилось в литературный текст, комкалось и отбрасывалось (может быть, самое ценное!), а еще точнее – попросту не случалось. А если и происходило нечто побочное, то и это хотел он подчинить законам своего текста, чтобы и воспоминания о нем, слухи, сплетни – все было им же написано и отредактировано.
В Таллине он придумывал себе название. Писатель – дерзко, прозаик – заносчиво, литератор – для знаменитостей, буду называться «автор текстов». Так обозначив себя, он и пришел в Союз писателей с рукописью «Зоны». Тогдашний литературный консультант Борис Штейн жал руку Сергею и произнес в конце похвальной речи:
– Я верю, Сергей Донатович, настанет день, когда мы с вами сможем разговаривать на равных!
Сергей выслушал с благодарностью, пересказал с отвращением.
В Союзе писателей готовился вечер молодых литераторов. Сергей обратился к тому же Штейну:
– Я надеюсь, что наряду с… – шел длинный перечень имен, – и я в некоторой степени могу представлять…
Его выпустили, отрекомендовав залу начинающим юмористом.
Волновался он ужасно, до сонливости, бедной улыбки, сосредоточенно-отсутствующего взгляда. Потом вышел с каким-то лиственным шумом, задевая ряды, на сцену и безошибочно – как это делает ритм в стихах – произнес:
– Я был женат два раза, и оба раза счастливо.
Зал замер.
– Как? Вас не интересуют подробности моей личной жизни? Тогда о юморе. Самый смешной рассказ, который я прочел во всю мою жизнь, – «Бобок» Достоевского, но его написал не я.
Такие фразы не всегда рождались у него от легкости жеста, быстроты отскока, скорее вымучивались и долго обдумывались, примерялись на знакомых, звучали в первом чтении в письмах и лишь затем переходили в прозу.
Впрочем, вот как мы познакомились. Субботним вечером я заглянула к своим приятелям. Заглянула случайно: спустилась на этаж с другой вечеринки, где, скажем, не хватило вилки или тарелки. Хозяйка пошла к буфету, я потянулась за ней в комнату. Горела одна настольная лампа, и та прикрытая шалью, будто клетка с птицами. Довлатов сидел на диване, на него был надвинут длинный стол – барьер, чтобы близко не подходили. Увидев меня, он заслонился рукой и прокричал:
– Господи, зачем вы стреляли в Ленина?!
Но чаще между ним и фразой пролегала застенчивость, многословная вежливость, хочу написать – робость, растерянность, та беззащитность, которая мгновенно улавливается собеседником, скорым на расправу. Получается чуть ли не князь Мышкин? Но как он мстил самому себе за все слабости, садясь за письменный стол! Как сжимал пропасть между собой и литературой, – резче, ироничней, беспощадней, чем все это могло быть.
(Однажды, много лет назад, Евгений Рейн вызвался представить меня Александру Межирову, с которым вместе приехал в Таллин.
– Знакомьтесь, замечательный поэт Елена Скульская.
Межиров сначала обвел взглядом своих провинциальных поклонниц, затем тускло скользнул по мне и наконец мрачно произнес:
– Я не знаю такого поэта.
Рейн отреагировал, не дожидаясь точки:
– Помилуйте, так ведь и она вас видит впервые!
Мне кажется, вот такой легкости блеска требовал от себя Довлатов и часто страдал от затянувшейся паузы, от того, что все смешное было им как бы подстроено, придумано, подставлено и только трагичное и горькое всегда выходило естественно.)
1976–1977:
«Милая Лиля! Получил Вашу неинтеллигентную записку. Начинается она словами «…гриппую, вот и пишу». Болейте почаще, раз вы такая («вы» – с маленькой буквы), раз это стимулирует нашу переписку. Я думаю, неплохо бы сказался левосторонний паралич. А может быть, Вы левша? Тогда правосторонний.
Я работаю в «Костре», где официально являюсь единственным порядочным человеком. Мой гл. редактор (морской писатель Слава Сахарнов) публично и доказательно объявил, что дельфины лучше и важнее людей. Не говоря уж о Лохнесском чудовище… Есть и другие. Есть старая дева (Вы бы ей не понравились), которая, упрекая меня на редсовете, сказала: «К нему заходят люди!» Тогда я возразил: «Кому же заходить, вшам?» Она обиделась и справедливо решила, что я ее обозвал вшой.
Из Ленинграда все куда-то едут. Все, кроме алкоголиков. Это отражается на моем стиле жизни. Я очень много пью водки и вина.
Писатель Б. Раевский (наст. фамилия Ривкин) принес нам рассказ из дореволюционной жизни. Там сказано: «В комнату вошла горничная. Густые каштановые волосы выбивались из-под ее кружевного ФАРТУКА». Он перепутал с чепчиком.
А поэт Ботвинник (наст. фамилия Ботвинник) долго рассказывал в нашем отделе, как у него в нужную минуту не оказалось презерватива. Затем ушел, оставив стихи. Они кончались словами: «Адмиралтейская игла сегодня будет без чехла». Как вы думаете, это подсознание?
У меня все хорошо. Главная неприятность моей жизни – смерть Анны Карениной».
«Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей чудной дурашливости. Порочные ланиты воскресшего Буша – целую.
Я необычайно деловит, угрюм, трезв. Работаю в «Костре», но все еще не оформлен. Мелких рецензий опубликовал повсюду четыре штуки. В «Слоне» («Аврора», № 10) – маленький говняный рассказик. Что же касается сурьезных произведений, то Вильям Федорович Козлов, нынешний зав. в «Авроре», реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически выбросил девять моих рассказов в помойный бак! Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, что в этот же бак полетел роман Сосноры о Екатерине Второй (652 стр.).
Главный поэт Ленинграда – Охапкин (он же городской сумасшедший) избрал новую тактику. Он восклицает: «Я – посредственный советский литератор! Отчего бы меня не издать?!» Правда, иногда он забывается и внятно говорит: «Очередное заседание Пен-клуба посвящено мне».
Занимаюсь английским языком. Девушку завижу – отворачиваюсь.
Множество планов, о которых при встрече.
С алкоголем завязал. Для Вас готов сделать исключение. Не нужно ли чего в Ленинграде? Вам надо бы приехать сюда! Тут Эрмитаж, знаете ли…»
«Милая Лиля! Спасибо за гостинец и добрые пожелания. Фляжка прибыла в разгар запоя. И кажется, мы напугали с братом Вашу приятельницу. Мы ехали со студии, украшенные реквизитом. Это от скудости и безумия…
Бобышев посвятил мне такие стихи:
И так далее…
Как Вы думаете, тартуская студентка, что это может означать?
Пишите мне обязательно, хотя бы коротко. Вы мне чрезвычайно симпатичны в пору глубокого разочарования и апатии.
Хорошо, если бы Вы приехали. Я натру пол…»
Сергей написал, что увидеться нужно непременно. Я поехала. Лето стояло прогорклое и пыльное, в солнечной паутине, как на чердаке. Сергей был весел маскарадной утренней усталостью, повторял, что я человек невежественный и уж коли явилась всего на один день, то мы сейчас же устроим настоящий праздник искусств: вот наберем еды, поедем на дачу к Андрею Арьеву, будем говорить о литературе, сядем на поляне – «Завтрак на траве».
В квартире лежали зеленые бутерброды, изумрудные, с переливами, покрытие их называлось рокфором, так, во всяком случае, уверяли вчерашние гости, которые и нанесли эту зеленую слякоть в дом, намазали ею хлеб, но сами есть категорически отказались.
«Тем лучше, – кивнул Сергей Лене, – тем лучше. Теперь и траву не придется придумывать».
Ехали долго в электричке, пиво плескалось в молочном бидоне, трясло; Сергей сидел, прислонившись к окну, стукался о него, окунался лбом в стекло, в сосны, бегущие к насыпи с подобранными подолами.
Существовал какой-то особый умысел тоски для него в этой поездке со мной – в общем-то чужим человеком, – надо было быть с близкими, раздражаться, может, на них, срывать неудачу, выкричаться, но не терпеть эту жизнь вполголоса, не быть неприхотливым в ней, как в еде, не помогать, не оберегать, не бояться обидеть собой…
Сергей протянул мне рукопись «Невидимой книги». Там – несколько абзацев о моем отце, Сергей предложил вычеркнуть их, если они покажутся мне обидными.
«Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет.
Григорий Михайлович сказал:
– Вам надо покаяться.
– В чем?
– Это не важно. Главное – в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.
– Я совсем не ангел.
– Вот и покайтесь. У каждого есть в чем каяться.
– Я не чувствую себя виноватым.
– Вы курите?
– Курю, а что?
– Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите… Покайтесь в туманной, загадочной форме…»
Так разговор выглядит теперь, в окончательной редакции. А тогда, в рукописи, в 1977-м, отец говорил:
«– Нужно пойти прямо к Кэбину, Первому секретарю ЦК. Он человек глупый, но добрый…»
Через пару лет именно эти слова прозвучали по «Свободе», передававшей главы «Невидимой книги». Забавно: сначала следовало волноваться из-за того, что отец назвал Первого секретаря ЦК КП Эстонии глупым, а потом – с приходом Перестройки – из-за того, что назвал его добрым. Наконец и вовсе это стало неинтересным. Довлатов написал новый диалог, почти нестареющий.
Но в электричке. Еще были живы настоящие разговоры с отцом, их прогулки по Вышгороду (не то чтобы Сергей как-то отдельно и лирически их выделял. «Понимаете, Лиля, все выстраивалось замечательно. Идем неторопливо по Вышгороду, два писателя, беседуем, естественно, о литературе: Чехов, Джойс, то-се, колышется листва. И вдруг, вообразите, из кустов эдакий разбухший микроб, сизый, полная гадость, и – ко мне: «Серега, ты что ж это, и опохмеляться не будешь?!» Позор. Невозможно быть писателем в маленьком городе» и т. д.), и, жив был тот страшный день после редколлегии, когда они с отцом бесконечно перебирали безнадежные варианты спасения…
Но отцу не предложил прочесть, тот бы только пожал плечами и улыбнулся: «Пишите как вздумается». А именно дал возможность решать и вмешиваться мне. И не потому только, что отец составлял большую часть моей жизни, не потому только, что Довлатов сам умел плакать от грусти и любви, не потому только, что в его собственной жизни было не так уж много святынь, которые невозможно разрушить словами…
«Милая Лиля! Получил Вашу досужую записку. Спасибо. А теперь позвольте сказать Вам резкость. В течение двух лет мы переписываемся. Вы отвечаете мне произвольно. То есть, в зависимости от неких косметических причин. Я же нуждаюсь в таллинских связях и дорожу ими. Образ жизни моей исключает переписку в ритме спертого дыхания. А значит, либо мы дружим (пионерский термин, извините), либо нет.
Что касается стихов. Поэзия есть форма человеческого страдания. (Гертруда Довлатов в разговоре.) Не уныния, меланхолии, флегмоны, а именно – страдания. И не в красивом элегантном смысле, а на уровне физической боли. Как от удара лыжами по голове. То есть альтернатива: плохая жизнь – хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни. Не будет лыжами по морде, стихов не будет. И человек станет автором книг: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Солнце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д.
Не сердитесь.
Моя притеснительница в «Костре» вновь себя уронила. Заявила в беседе среди прочих доводов:
– У него ж опыта нет.
Повторите вслух.
А в Пушкинских Горах я слышал, как девушка орала в трубку:
– Алка, здесь совершенно нет мужиков. Многие женщины уезжают, так и не отдохнув…»
(Это письмо я получила в Коктебеле. Принесла письмо на пляж Дома творчества писателей, где собиралась компания прославленных драматургов того времени: на их спектакли невозможно было достать билеты, их закрывали на худсоветах и опять открывали; к драматургам прилетали на несколько дней знаменитые актрисы, и на верандах читались пьесы, которые «они ни за что не пропустят!». Так вот, на пляже я прочла им строчку из письма Сергея про Алку. Все мрачно промолчали, я бы сказала, были удручены моей выходкой. Один из них, кумир сотен тысяч, потом мягко вычитывал мне: «Ты пойми, здесь же собрались люди с безошибочным чувством реплики. Это совсем не смешно, это пошло, а ты цитируешь с упоением, будь осмотрительней!» Я тут же выразила в ответном письме Довлатову сомнение в качестве «Алки». Какое счастье, что он ко мне не прислушался. Впрочем, в «Заповеднике» он Алку заменил на Татусю.)
«…И последнее. Дружба между юношей и девушкой, дружба, а не шашни, величайшая редкость. В наши преклонные годы – тем более. Не лишайте меня этого удовольствия.
Приезжайте в Ленинград. Живите у нас в плохих условиях. Берите командировку в Нарву с заездом сюда».
«Здравствуйте, милая Лиля! Что, напугал я Вас своими обидами?..
Фраза Достоевского, насмешившая три поколения журналистов, – буквальна. Не «каторга духа», одиночество и тому подобные элегантные мучения, а реальная баланда. Путей искать не стоит. Честного и доброго они сами найдут.
Только не думайте, что в разговоре о «плохой жизни» я имел в виду финансовое бессилие. Тут мы все живем одинаково. Плюс-минус шесть котлет значения не имеют. Речь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости.
Но… обо всем этом еще поговорим.
Дела мои обстоят… как бы это выразить. Представьте человека, который обокрал сберкассу. И еще не попался. То есть дела его как бы хороши. Вот и у меня такая же история.
Господь Вас прости, если считаете жизнь Тютчева благополучной. (Заработки, действительно, были хорошие.) А страшные бабы? А пожизненный конфликт с Россией? А карликовый рост? И т. д. Может быть, Вы какого-нибудь другого Тютчева имеете в виду? Какого-нибудь Феликса Тютчева? Анатолия?
Известил ли я Вас, что нашел себе псевдоним? По-моему замечательный:
ШОЛОХОВ-АЛЕЙХЕМ.
Пишу я много, и все не то, что надо. Но об этом – при встрече… В Ленинград не собираетесь?
Мне прислали фантастическую американскую одежу. В ответ на это у меня выскочил передний зуб.
Целую Вас и люблю».
Еще в Таллине. Звонок поздно вечером:
– Вообще-то следовало звонить ночью, но я не утерпел. Весь день читал гранки своей книги. Один раз рассмеялся и два раза заплакал…
Потом встретились в городе, на площади Победы.
– Вокруг меня происходит что-то странное. Мне советуют поменьше болтать. Но, – оглянулся, взмахнул рукой как памятник, – но я пришел в этот мир, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ!
(И опять мне хочется перебить и Довлатова, и саму себя. Вот я написала много лет назад «взмахнул рукой как памятник», сравнение нелепое: памятники руками не машут… разве что у Пушкина… Я почему-то всегда видела в Сергее перспективу памятника, может быть, такого, как стоит сегодня в Петербурге, не знаю, пусть он замечательный, конечно, – замечательный… Но как бы я ни ликовала на открытии памятника в Питере, как бы ни радовалась талантливости создателя, точности уловленных черт характера и общему подобию, мне бы хотелось скорее увидеть свободу скульптора от реальности, мне бы хотелось увидеть отдельное, добившееся не сходства с прототипом, но с его Божественным даром произведение. Я боюсь музея восковых фигур, пусть и выполненных из бронзы, постепенно заполняющих города мира, мне греют душу совсем другие памятники – например проект памятника Иосифу Бродскому выдающегося скульптора Владимира Цивина – стела со стихами, к ней бы подходили парными рифмами волны Невы, но проект не осуществился…
А сейчас, в последних числах сентября 2017 года, в Таллине принято решение установить памятник Сергею Довлатову; я бы не хотела, чтобы это была трехмерная копия мертвого человека, нет, я жду скульптора, который осмелится создать живое творение без рабского подчинения фотографии кумира, жду соперника, который вслед за Цветаевой спокойно скажет: «Ищи себе доверчивых подруг, / Не выправивших чуда на число. / Я знаю, что Венера – дело рук, / Ремесленник – и знаю ремесло». И сотворит чудо – равное чуду Довлатова, но в пространстве своего искусства и своих законов творчества.)
«Милая Лиля! Спасибо Вам за интерес к моим занятиям. С романом уже все ясно. В третьей части нужно переписывать финал, страниц шестьдесят-восемьдесят. Сейчас лень, а в мае я займусь.
Рукопись эта (целиком, 3 части) давно уже находится в «Сов. писателе». А. Урбан написал положительную рецензию. Все очень медленно тянется и, конечно, заглохнет, однако есть иллюзия жизни, стимул…
Сейчас у меня появилась одна идея. Это будет лучшее из того, что я сочинил. Только нельзя спешить. Этим я все порчу. Смотрю на мир глазами человека, упавшего в лестничный пролет.
Мне кажется, основные нынешние лит. тенденции – документ и свободная манера. Их надо увязать. Далекие тенденции рождают поле, напряжение.
Вот я написал роман о литературе. Испортил это какими-то жалкими модернистскими играми в финале. Там есть и хорошие куски: ипподром, журналистика, Ритин дневничок, сочинительство. Как выразился один мой товарищ: «Честность у тебя – почти сюжет».
Есть и очень плохие. Весь финал, кроме дневника. Но это была школа. Школа свободной манеры. Школа интеллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны (это так), но раньше я вообще их избегал.
Интеллект – такой мощный фактор прозы, что его совершенно необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание, дальше будет лучше. Еще эрудиция в запасе (которой нет, но будет).
И хватит об этом.
Живу я сносно. В апреле меня погонят из «Костра» за благородство и аполитичность. В перспективе – дубляж и кукольный театр. Столица Удмуртии – Ижевск, а также Ульяновск и Иваново заинтересовались моей кукольной драмой. Но все это адски долго тянется. Подал заявку в Детгиз. Поставят в лучшем случае на 79 год (зима). Друзья разъезжаются. Шлют портки и ботинки.
Много разных новостей. Сообщу их устно, когда (когда?) увидимся.
А теперь один существенный вопрос: ненавидите ли Вы статую «Лаокоон»?»
«Дорогая Лиля! Простите за молчание. Молчал я в силу кутерьмы, разъездов и потрясений. Приеду – расскажу. Когда приеду – все еще не ясно. Поездка эта – звено в цепочке дел. Ваше приглашение ценю. Ольман (солнце!) тоже звал когда-то. Выберу – где этичней и лучше. Спасибо.
Беккет – серьезный человек. Знаете ли, что он начинал как секретарь Джойса? Джойса прочли в ИЛ? У Беккета замечательная внешность. Похож на люмпена, худой, с белыми глазами. Лицо порочного волка.
Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров. Выразить мое отношение к этому делу трудно и небезопасно. И я сочинил конспиративную притчу. Для Вас. Ответ на все доводы читателей Приставкина.
Жил-был художник Долмацио. Раздражительный и хмурый. Вечно недовольный. Царь вызвал его на прием и сказал:
– Нарисуй мне что-нибудь.
– Что именно?
– Все, что угодно.
– То есть, как?
– Все, что хочешь. Реку, солнце, дом, цветы, корову… все, что угодно. Кроме голубой инфузории.
– Ладно, – сказал Долмацио. И удалился в свою мастерскую. Целый год пропадал. За ним послали.
– Готова картина?
– Нет.
– Но почему? – воскликнул царь.
– Я все думаю о голубой инфузории, – ответил художник, – только о ней, о ней, о ней, о ней… Без инфузории картина мира – лжива. Все разваливается. Я плюю на такое искусство. (Дальше идет нецензурная брань.)
Надеюсь, милая Лиля, Вы издадите первую стоящую книгу стихов в Таллине. В нашем огромном Таллине. Искренне желаю Вам этого».
«Не обижайтесь! Сумбур в переписке вызван моим хаотическим бытом. А хаос – объективными причинами. Увидимся – все расскажу. Все, что Вы говорите о Джойсе, мне понятно. И верно, как минимум, в стилистическом аспекте. Тут же и Хлебников вспоминается. И даже Платонов, растворившийся в Марамзине и его клике. Но Хемингуэй плоский. Фолкнер объемный, но без рентгена. А у этого – душераздирающие нравственные альтернативы. Иезуит, национальное самоопределение, хуе-мое…
Жизнь чрезвычайно обострилась, и скоро все решится.
«Все идет нормально. Много хорошего, много плохого. Пропорции соблюдаются. Сочинил документальную книжку о журналистах. Много знакомых Вам имен. Не принимайте интервалы общения за спад интереса, дружбы и благодарности к Вам.
Передавайте привет Сафонову. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал».
Таллин – это и была первая, настоящая эмиграция. Постоянный привкус фальши и множество мелких удобств, от которых невозможно отказаться. Невыбранные люди, но не как случается в коммуналках или купе поездов, а со взглядом, застегнутым на все пуговицы, с недоразвитым жестом. Топографическое отчаяние. Добровольная несоразмерность. И самое главное – нужно понравиться.
Сергей служил в отделе информации «Советской Эстонии», где контрольные шедевры выглядели примерно так: «Удивительный подарок сделали строители IV СМУ жителям II микрорайона: на 3 месяца раньше срока открылся новый магазин АВС-5». По желанию добавлялось: «Есть особая магия цифр». Называлась же заметка непременно: «И мастерство и вдохновение». Если автор возражал, мол, такой заголовок был уже в предыдущем номере, его мягко шлепали по руке: «Ничего страшного, это Пушкин, это не стареет».
Через коридор лежал отдел культуры, на который Сергей посматривал, но куда его пока не пускали. Контрольные шедевры здесь были сложнее и богаче, что-нибудь вроде: «Мы сидим на даче писателя, такой же добротной и поместительной, как и сам хозяин…» или: «Художник предложил нам девушку в дверях…»
И вдруг разрешили написать положительную рецензию на спектакль Русского драмтеатра «По ком звонит колокол?».
Мария говорила по-испански, Роберт Джордан в минуты задумчивости переходил на английский, а Пилар на собрании хватала молодых за грудки с криком: «Плыла земля? Отвечайте, плыла?!» В конце все сгорали в символическом огне, похожем на пионерский костер, и выходили оттуда обновленной скульптурной группой из рабочего и колхозницы.
Сергей написал о Хемингуэе. Написал с той прощальной перронной нежностью, когда любезное лицо уже осталось за ворохом чужих платков и шапок, и кажется, ничего не хочется больше, как только вернуться назад, хотя и ясно, все кончено, и притом навсегда.
Середина 70-х. Разлюбленный Хемингуэй.
Рецензия вызвала шок и восторг. Сергею позволили быть талантливым, и он принял разрешение с признательностью, словно получал выигрыш по лотерейному билету. Благодарил и кассиршу, и контролера и улыбался зевакам, стараясь и их чем-нибудь одарить и обрадовать. Что из этого вышло – известно.
Последние письма:
«Милая Лиля! Пишу Вам редко и лапидарно. Дело в том, что моими письмами интересуются разные люди. Ощущение – как будто читают из-за плеча. Тут не до откровенности. Тем не менее: а. Я жив. б. Сочиняю. в. Обильно и невкусно ем. г. Широко известен среди неизвестных писателей. д. Много пью (исключительно за чужой счет). е. Познакомился с теледикторшей, которая уверена, что есть самостоятельный американский язык. Похож на венгерский. ж. Читаю поразительные книги… и т. д.
Сообщил ли я Вам мой новый псевдоним:
Михаил Юрьевич ВЕРМУТОВ.
Моя жена с дочкой Катей уезжают. Это уже вторая из моих жен покидает страну чудес. Видно, я таков, что они бегут-бегут прочь и остановиться не могут…
Поверьте, Лиля, Вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет».
«Ваше письмо благополучно дошло. Надеюсь, будут доходить и последующие. Хотя почта работает скверно. Иностранная еще хуже. Что поделаешь?..
То, что выгнали с работы, – замечательно. Какой из меня на старости лет – рабочий?! Завязываю с этим делом. У меня проблемы заработка нет. Есть проблема алкоголизма. Мои долги – следствие пьянства. Без шнапса я трачу на себя двадцать пять рублей в месяц. Не больше. Есть какие-то халтуры. Какие-то бандероли… Есть четыреста друзей и приятелей…
Обстоятельства развиваются так стремительно, что думать о заработках, калориях, полуботинках – безумие.
У Лены и Кати все хорошо. Они в Риме. Купаются в море. На днях едут в Бельгию. Оттуда в Париж. Мы четыре раза говорили по телефону. Узнал много любопытного…
Очень хочется в Таллин. Постоянно что-то мешает. Подготовил для Вас несколько замечательных историй.
С книжкой поздравляю. То, что Вас издали – большая радость для меня…
Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов – Бродского и Мандельштама. Еще мне нравится несколько стихотворений Вийона, Пушкина + «Медный всадник», отдельные строфы Ахматовой, Языкова («Не вы ль услада наших дней…»), Тютчева («Эти бедные селенья…»), Пастернака («Когда случилось петь Дездемоне…»), Вяч. Иванова («Когда ж противники увидят…»). И, кажется, все. Все мои любимые стихи я готов воспроизвести за один час…
Книжку пришлите обязательно!
В Ленинград не собираетесь? Тут рядом поселился Соснора. Он называет бормотуху коньяком, а коньяк – отравой. Достигая, таким образом, полного блаженства. Истинно литературное отношение к жизни. То есть слово как бы важнее предмета…
Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь.
Спасибо за все. За добрые слова и приглашение. Все помню…
И если жизнь – выявление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Думаю, не к разбитому корыту. Хотя толстею, седею, зубы начисто вываливаются – голубые, розовые, беж…
Наши письма в общем-то лишены содержания. Они – лишь сигнал приязни. Попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи».
«Милая Лиля! Спасибо за книжку. Автографом хвастаю.
Моя же книжка вышла черт знает где. Жена и дочь уехали черт знает куда.
Я не пью. Немедленно напишите ответ. А то у меня случится запой».
««Гетсби» – один из самых моих любимых романов. Я бы их так расположил: «Деревушка» Фолкнера, «Преступление и наказание» (угадайте, кто автор), «Портрет» Джойса, «Гетсби», «Путешествие на край ночи» Селина, «Арап Петра Великого», «Гулливер», «Бовари»… а дальше уже идет всякая просто гениальная литература. Пропустил «Милого друга», «Мастера и Маргариту» и «Воскресение». И «Постороннего» Камю.
Я ношусь по инстанциям, оформляю документы. В Таллин приеду обязательно. А Таллин без Вас – это Пайде[7], а не Таллин. Значит, встретимся.
Вот еще что забыл сказать. Загадка, тайна «Гетсби» в достижении большого эффекта исключительно малыми, невидимыми средствами. Такой стилистикой владеет любая Клюхина[8]. Техническими ее элементами. У Клюхиной стилистика даже значительно обильнее и прекраснее.
Посылаю Вам единственную цитату, которую выписал за всю мою жизнь. Лилька, задумайся! И «приходи в ужас»:
«…Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала…» Пастернак».
Позволю себе тут еще одно маленькое отступление. В 2016 году, в сентябре, проходили в Петербурге «Дни Д», организованные писателем Львом Лурье. Был вечер воспоминаний. Прекрасно говорили друзья Довлатова Андрей Арьев, Анатолий Найман, Нина Аловерт… В первом ряду сидели Лена и Катя Довлатовы. Переполненный зал реагировал тепло, нежно, семейственно. И тут слово предоставили литературоведу Игорю Сухих, занимающемуся академическим исследованием творчества Сергея Довлатова. Он начал свою речь так:
– Все выступающие говорили о том, как они, образно говоря, несли бревно вместе с Лениным. Тогда как важно совсем другое – глубокое и серьезное исследование…
Зал приуныл. Мы же, приятели Довлатова, после этих слов почувствовали себя как минимум самозванцами, а главное, довлатоведовскими трутнями. Смиренно я открыла после вечера основополагающий труд Игоря Сухих о Довлатове. И моментально наткнулась на цитату из Пастернака, которую выписал для меня Сергей. Литературовед процитировал ее с таким пояснением: «В письме конца семидесятых Довлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список «единственной цитатой, которую выписал за всю мою жизнь». Цитата такова: «…Всю жизнь мечтал он об оригинальности…»» и так далее. Затем следовали пространные и многословные размышления, этой цитатой вызванные. Забавно, что строгий академизм не позволил Сухих назвать, кому именно было адресовано письмо, как и в остальных случаях широкого цитирования писем ко мне, претендующей на то, что «несла бревно с Лениным». Совершенно довлатовская история.
30.05.1978:
«Милая Лиля! Есть оттенок чеховской драматургии в нашей переписке. Происходит что-то важное, а мы обмениваемся репликами, как два участника ЛИТО.
Теперь, бля, о Лермонтове. Во-первых, исказили хрестоматийную цитату. Надо: «Есть речи – (Вы пропустили тире) значенье темно иль ничтожно, но им (а не ей, как у Вас) без волненья…» и т. д. Но это мелочная снобистская придирка. Дальше. Подобные «речи» в стихотворении Лермонтова – образ, фигура. Даже некий синдром. Сам же он изъяснялся довольно внятно. Нет?
Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы («необходимую». – Е.С., то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки (стиль юной Клюхиной), вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово «Евтушенко» и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка».
Лиличка. Целую Вас.
Хотелось бы кончить могуче, эпохально, роково. Как-то обобщить жизнь. Лиля! Все – прах, тлен и суета, как выразился один таможенник, просматривая антикварные книги моего отбывающего друга-библиофила…»
Мой друг, уезжая в Америку, на проводах-поминках оговорился спьяну: «Все мы умрем своей жизнью!»
Сергей Довлатов сказал мне как-то: «Я только очень боюсь за вас: а вдруг вы проживете всю жизнь в этом городе, в этой газете…»
Только кажется, что получится целый венок сонетов. Жизнь довольно быстро запахивается в перекрестную рифму. Хотя еще некоторое время жмется и передергивается, как в любимом рассказе Довлатова «Бобок».
II. Большой человек в маленьком городе
К истории одного посвящения. Как известно, Сергей Довлатов писал не только прозу, но и стихи. Например, работал в газете «Советская Эстония» персонаж, которого Довлатов вывел под именем – И. Гаспль.
Гаспль на всех доносил. Все время. Даже на собственного сына, которого благодаря Гасплю объявили во всесоюзный розыск и, может быть, кто знает, до сих пор не нашли, время ведь бежит быстро, оглянуться не успеешь, а человек и пропал дотла, не нашли его, да и как, с другой стороны, его можно было найти, если он посмел… дочку секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии?! Из КГБ все время просили остановить добровольческую деятельность Гаспля. «Житья нет от добровольцев! – говорили в КГБ. – У нас ведь не МВД, не забегаловка какая-нибудь. К нам не приходят, к нам приводят!» Но Гаспль все равно приходил и все равно доносил. Сергей Довлатов посвятил ему стихотворение:
Рифма богатая, каламбурная. В редакции «Советской Эстонии» очень любили эти стихи и совершенно не были согласны с мнением дальнейших исследователей, отводящих поэзии в творчестве Довлатова второстепенное место.
А не был ли Довлатов крохобором? Конечно. Он брал крох, крошек, крошечных людей и, помешивая их чайной ложкой аберрации и переливая в блюдце оптического обмана, превращал в своих персонажей. Сергей Довлатов и себя наклонял до них, чтобы не быть выше, по выражению Лидии Яковлевны Гинзбург, «этого самого».
Люди театра, отвергающие законы физики – из-за их непочтительного отношения к миражам, но зато охотно позволяющие доедать себя арифметике, не раз уже пытались инсценировать прозу Довлатова. Но у всех без исключения вместо героя и автора получается лишь раздутый микроб, плохо прибивающийся к берегу пьяной лужи.
Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. (Даже на уровне тела и быта. Однажды, в первый год пребывания в Таллине, Довлатов был приглашен на журфикс в финскую баню. Дорожа первичными знакомствами, Довлатов пришел. В крохотном, обитом деревом, душном, влажном и потном помещении надлежало класть в рот находимые только на ощупь микроскопические бутерброды, пригубливать шерри-бренди, а главное раздеться до купальных трусов в присутствии совершенно посторонних и теперь уже неприятных дам и господ. Все было выполнено. Вертлявый гаер подскочил к Довлатову.
– Серега, – заорал он, звонкой, медной тарелкой своей руки ударяя по животу Довлатова, – как же ты пузо-то распустил? А еще боксер!
– Мужчина, – ответил Довлатов, – после тридцати лет должен быть профессионалом, а все остальное не имеет значения! – (Он собирался на этой деревянной, без окон, вечеринке прочесть новый рассказ. И даже достал рукопись, которая немедленно, как потолок, стала набухать каплями влаги.)
Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. Даже на уровне реплик и реальности. Так, у персонажа, выведенного Сергеем Довлатовым под именем Генрих Францевич Туронок, были вещи и позабавнее, чем представлено у писателя.
Главный редактор газеты «Советская Эстония» Генрих Францевич Туронок, обычно спокойный и уравновешенный, закричал как-то в нестерпимом раздражении:
– У вас, Сергей Донатович, написано в рецензии на спектакль «По ком звонит колокол?», что, мол, Роберт Джордан – «брутальный». В следующий раз убедительно прошу знакомиться с первоисточником, читать книги. Из них вы бы узнали, что Джордан никого не предавал и никаких не совершал брутальных поступков.
Больше всего Генрих Францевич подозревал поэтов. Особенно современных. Особенно живых. Если кто-то из сотрудников цитировал в материале стихи, его немедленно вызывал главный.
– Скажите, – начинал Туронок издалека, – а цитата эта необходима?
– Да.
– А что, автор жив?
– Что вы, давным-давно умер.
– А когда давно?
– В семнадцатом веке.
– Хорошо. Хороший поэт. И ваша, кстати, работа мне кажется плодотворной и перспективной.
Чем глубже в прошлое уходил поэт, тем меньшую угрозу представлял он для советской власти.
Однажды некто процитировал Артюра Рембо. Был вызван. В дверях, уверенный в себе, развязно сообщил:
– Рембо умер, Генрих Францевич, давно.
– Это провокация! – затопал на него ногами Туронок. – Вы пытались протащить на страницы нашей партийной прессы пропаганду американского зеленоберетчика Рэмбо!
Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях, на которые, если угодно, можно обижаться со сладким смирением.
– Лиля, самое страшное, что после моей смерти наши коллеги по «Советской Эстонии» будут объявлены моими ближайшими друзьями!
– Но ведь вы, Сережа, действительно, со многими приятельствуете…
– Лиля, что вы говорите! Конечно, Толстой не дружил с Достоевским, но все-таки переписывался со Страховым и Гольденвейзером. Чехов не был приятелем Толстого, но у него все-таки были Суворин, Левитан, Немирович-Данченко…
Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. Ибо главные герои ищут смерти, а второстепенные довольствуются прекрасным.
Почему Сергей Довлатов окликал людей по именам? Окликал персонажей своей прозы по именам, взятым из анкетно-паспортной реальности? Потому что хотел поставить их в положение Орфея, который, конечно, может покинуть Ад, заслужив расположение начальства сладкоголосым пением, но без того единственного, без чего невозможно жить – без своей Эвридики. Довлатов заставлял их оглянуться в Аду.
Сергей Довлатов нарушал договор между жизнью и литературой, подписанный Шекспиром. Сценой «Мышеловки» в «Гамлете» Шекспир обещал всем дальнейшим литераторам, что искусство не бесполезно. Что метафора, вооружившись строчками с кровью, способна убить. Что достаточно Нине Заречной заговорить о рогатых оленях, как Аркадина не выдержит и выдаст себя. И так далее – по всей мировой литературе…
Но на самом деле никто ведь и никогда не узнает себя. И в первую голову Клавдий ходит на спектакли, в первую голову ему нравится искусство. Он всякий раз убеждается в круговой поруке иносказательности, оберегающей четвертой стеной реальность прототипов и превращающей их воровские клички, их агентурные номера, их стукаческие коды в пышные и сладкозвучные литературные псевдонимы.
Они, персонажи Довлатова, окликнутые им по имени, были уверены на своих редколлегиях, в своих начальственных кабинетах, на своих собраниях, что просто играют по правилам, профессионально исполняют роль, участвуют в спектакле, после которого, как водится, рано или поздно все герои – и убитые и убийцы, обнявшись, шествуют в кабак. То есть они максимально способствовали искусству, выдвигая жизнь в метафоры – как ящички в письменном столе.
Довлатов предал искусство и задвинул эти ящички в духоту жизни. Когда жизнь, подобно Атлантиде, погружается на дно искусства, окончательно превратившись в фарс, то самому искусству ничего не остается, как создавать островки губительной суши – факта, документа, хроники, имени. И тогда роль героя может исполнить только герой, и тогда роль автора может исполнить только автор.
Это не романтический дальтонизм, не различающий жизнь и искусство; это форма отчаяния, отказывающая жизни в существовании.
Искупая свой рост, Сергей Довлатов любил слова по буквам. Из букв, а не из слов составлял он свои тексты. Каждой букве придумывал ласковое прозвище, баловал и выводил на бумагу осторожно, за руку, как усыновленного ребенка.
Он работал даже над обратным адресом на конверте. В одном случае написано: «Улица Рубена Штейна»[9]. Заботился и об адресате: «Евлампии Грегуаровне Скульской»[10] написано на конверте, украшенном розой, отличимой от жирного замоскворецкого кочана капусты только цветом.
На одном из писем, сбоку, наклеена микроскопическая фотография двух младенцев – примерно полуторагодовалый прижимает к себе совсем грудного; стрелка ведет к пояснению: «Это мы с братом, но не во время пьянки, а значительно раньше…»
В конце писем Сергей Довлатов непременно передавал привет всем моим родственникам, трогательно отмечая каждого. В 70-х я была замужем за Аркадием Розенштейном; в редакции «Советской Эстонии» работал его однофамилец Геннадий Розенштейн. Довлатов пишет: «Я бы на Вашем месте, Лиля, бросил Арика и спутался с Генкой. В сущности, оба они Розенштейны». Или: «Привет Арику, спокойному и доброкачественному. (Упорные слухи, что он еврей, продолжают циркулировать. Может, тут есть и доля правды?)» И еще: «Лиличка, целую Вас. Привет милому Арику и родным. Из всех Ваших поклонников, о которых грохочет молва, он самый достойный, включая меня. Грамотно ли я выразился?»
И далее из писем.
О жанре рецензии: «Недавно со мной консультировался Андрей Арьев по поводу сборника «Таллинские тетради». Он спрашивал, кто хороший, кто плохой. Я назвал Вас, Дебору Вааранди, Кросса, Штейна, Оппенгейма (его – за многострадальность), Семененко, Эллен Тамм (за то, что не имеет мужа). Несколько гадов просил обругать».
Проза в стадии, когда она еще выдается за реальность: «…в такси с нами сидела девица исключительной мерзости. В финале она сперла у моей жены бюстгальтер. Лена ей позвонила и говорит: «Он же не модный, на поролоне, верни!» А та отвечает: «Хрустальную вазочку действительно разбила, а бюстгальтер, клянусь Володей, не трогала!» Володя – это ее муж, фотограф, безмолвное, провинциальное говно. Посмотрели – кокнула мамину вазу. Бюстгальтер отошел на второй план».
В редакции «Советской Эстонии» многие были с Сергеем Довлатовым на «ты». К этому самым естественным образом располагал прокуренный редакционный быт, приправленный к тому же нередко розовым портвейном. Но ко мне Сергей неизменно обращался с чопорно-литературным «Вы». Было обидно. Все уговоры и все попытки явочным порядком перейти на «ты» оканчивались неудачей. Даже если Сергей полууклончиво соглашался, то на следующий день все-таки приветствовал меня прежним «Вы».
– Неужели, Сережа, Вы со мной так никогда и не перейдете на «ты»?
– Нет, Лиля, это невозможно.
– Никогда?
– Никогда!
– Но почему же?!
– Чту, бля!
Однажды мне доверили в течение месяца замещать заведующую отделом культуры. Довлатов сказал:
– Лиля, вы просто обязаны заказать мне что-нибудь рублей на тридцать!
– Сережа, – вздохнула я, – есть только рецензия на фильм под названием «Красная скрипка» – о музыканте, уходящем в Революцию…
– Мне всегда хотелось написать что-нибудь революционное! – воскликнул Сергей и отправился в кино.
Рецензия Довлатова начиналась буквально так: «В сердце каждого советского патриота до сих пор непреходящей болью отзывается гнусный поступок Сомерсета Моэма, пытавшегося в 1918 году устроить в молодой советской республике контрреволюционный мятеж».
– Сережа, – засомневалась я, придавленная ответственностью заведующей отделом культуры, – не слишком ли строго, все-таки Моэм известный писатель? А?
– Перестаньте, мы с вами работаем в партийной газете. Вы просто завидуете моему будущему гонорару.
Рецензию сдали как есть.
Через час обоих вызвал Туронок.
– Вот что получается, друзья мои, – сказал он ласково, – когда молодой беспартийный товарищ пишет рецензию и сдает ее еще более молодому беспартийному товарищу. От вас, Лиля, как я не раз замечал, попахивает богемой, что мешает вам разобраться как в международной, так и во внутренней обстановке. Мягче надо, друзья, мягче. Леонид Ильич Брежнев говорил на последнем пленуме о необходимости предоставлять деятелям культуры большую свободу…
Довлатов опечаленно кивал.
Вечером Сергей позвонил моему отцу:
– Григорий Михайлович, ваша дочь и Генрих Францевич считают, что я написал слишком советско-патриотическую рецензию. Что мне делать? Посоветуйте. Утром нужно сдать новый вариант.
– Записывайте, – немедленно откликнулся отец. – Абзац. Отточие. Истинный революционер – не тот, кто бездумно сгоняет людей в коммунизм поротно и повзводно. Истинный революционер – тот, через чье сердце проходят все беды мира, подсказывая ему единственно верный выбор…
…Спустя несколько дней, когда рецензия была опубликована, Сергей сказал мне:
– Я совершенно успокоился. Во всем, оказывается, можно добиться совершенства. Если не будут печатать мою прозу, в конце концов я научусь профессионально писать стихи.
Довлатов уверял меня, что нашей нехитрой журналистской профессии можно легко обучить любого человека, хоть немного умеющего читать и писать. Однажды, живо обсуждая с Сергеем эту тему, мы столкнулись на улице с моей бывшей соученицей, бросившей школу после шестого класса и к описываемому моменту достигшей положения официантки в Доме офицеров Флота.
– Эта женщина без спины, – обрадовался Сергей, – разрешит наш спор – именно она в самом скором времени станет известной журналисткой.
Сергей был представлен, наговорил массу ласковостей и восторженностей по поводу удивительной устной речи будущей журналистки, речи, требующей письменного воплощения, и отправил худую женщину с сомнительной спиной на несколько заданий. Она везде побывала, как смогла рассказала Сергею о своих посещениях, ну а уж написал он, разумеется, сам.
О молодой перспективной журналистке немедленно заговорили в редакции. Клиенты кафе демонстративно садились только за ее столики. К ней посватался механик теплохода. Сергей возмутился:
– Она могла бы и выставиться. Мы все-таки изменили ей жизнь.
Журналистка, понимающе улыбнувшись уголками рта, пригласила Сергея в гости. Сергей широким жестом пригласил меня с собой. Пришли. Дверь распахнулась. В проеме возникла хозяйка в совершенно прозрачном желтом халате на голое тело.
– Это пеньюар! – закричал Сергей, в жутком страхе и панике метнувшись к выходу из подъезда.
– Странно… – удивилась журналистка, – сами намекали про благодарность… Может, хоть выпьете?
Наконец с подающей надежды захотело познакомиться начальство. Мы усадили ее за стол в редакционном кабинете, велели вести себя скромно и смирно, а если спросят, кто такая, отвечать: «Я – автор отдела информации». А сами отправились за начальством. В наше отсутствие в кабинет заглянул замглавного Борис Нейфах. (Борис Самойлович Нейфах настаивал на своей безупречной нравственности, к месту и не к месту сообщал, что никогда не изменял жене. Однажды в редакции оказался, впервые увиденный советскими людьми, завезенный контрабандой из Финляндии порнографический журнал; мужчины заперлись в кабинете Нейфаха. С придыханиями и постанываниями переворачивались глянцевые страницы. Все молчали, не веря своим глазам. Вдруг, задержавшись на одной из фотографий, Нейфах мечтательно произнес:
– Нет, конечно, не с женой, не с любимой женщиной, но где-то на оккупированной территории…)
Словом, в наше отсутствие вошел в кабинет высоконравственный Нейфах.
– Вы кто? – забеспокоился он, присматриваясь к вызывающему наряду и дерзкому раскрасу посетительницы.
– Я-то ихний писатель, а ты-то чего приперся?! – И женщина без спины навсегда вернулась к своему подносу официантки, оставив ощущение, что профессия журналиста все-таки чего-то стоит.
Стихотворение, посвященное памяти Сергея Довлатова
III. Несбывшиеся анекдоты
Перед отъездом в Америку Сергей Довлатов написал мне: «Поверьте, Лиля, вы еще будете мной гордиться. Всё к этому идет». Всё к этому пришло. И наступила справедливость, которая, конечно, не нужна тем, кто ее не дождался, но необходима тем, кто способен заплакать от жалости и любви, читая Довлатова. В Таллине и Петербурге на домах, где жил Довлатов, установлены мемориальные доски, в Петербурге стоит памятник Довлатову. А памятник – это, можно сказать, компромисс между жизнью и смертью…
Сергей любил слова по буквам и выводил их на бумагу, как детей, взяв за руки и тревожно поглядывая по сторонам, чтобы с ними ничего не случилось.
Не все слова и не все сюжеты смогли перебежать дорогой от жизни к литературе. Они не пригодились Довлатову, но мне кажется сегодня интересны и устные рассказы Сергея, которые он не раз пробовал на вкус, но все-таки не написал…
В редакции «Советской Эстонии» служили Стас Вагин и Игорь Гаспль. Вагин, секретарь партийной организации, был вылеплен из сыроватого теста и стоило ему прикоснуться к собеседнику, как был он уже неотторжим; собеседник отодвигался, но тесто тянулось вслед и не соглашалось на расставанье. На газоне возле Дома печати находил Вагин шампиньоны, покрытые дорожной пылью и обессиленные бессмысленными скитаниями. Вагин уверял, что шампиньоны ударяют в голову, если съесть их много и сырыми. Но более известен был Вагин своими кальсонами с иероглифами на икрах. Сросшись с телом, как художественная форма с содержанием, они никогда не подвергались стирке. Снимались брюки – это когда случалось Вагину напиться, обычно к середине рабочего дня, – снимались и запасливо прятались меж рукописями на столе. Оставшись в кальсонах с немеркнущими китайскими знаками, Вагин ложился на красную редакционную дорожку с зеленой, президиумного цвета, каймой, а очнувшись, надевал сохраненные штаны и шел в райком партии. Вагин жил с девяностолетней тетушкой, обещавшей богатое наследство, но, как легко догадаться, пережившей впоследствии племянника. Квартирка была маленькая, тетушка строга, и Вагин томился смутными эротическими мечтами, не смея приступить к решительным действиям. Задыхаясь от волнения, он рассказывал Сергею:
– Представляешь, Серега, огромный зал. Стены в зеркалах. Вдоль стен на стульях сидят совершенно голые мулаточки. Все словно облитые шоколадом, сидят, голые. Смотрят на меня. Я стою в центре зала.
– Ну, – ждал Довлатов продолжения.
– Всё, – ликовал Вагин, – больше ничего! Смотрят на белого мужчину и завидуют!
Игорь Гаспль был похож на сношенный туфель. Маленький и с огромным, сбитым на бок, стоптанным носом. Он, как уже рассказывалось, на всех доносил. Представители КГБ интимным шепотом умоляли Вагина, секретаря партийной организации, остановить добровольческую деятельность Гаспля. Но Вагин был не властен над порывами Гаспля и, более того, сам разделил бы его заботы, если бы не страсть к шампиньонам и не голые мулаточки, ждавшие его по стенам огромного зала.
Сергей любил повторять:
– Наша редакция гасплевидная по форме и вагинальная по содержанию.
В одном из писем Сергея сказано: «Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время».
Сейчас трудно поверить, что именно наша компанейская, пьющая редколлегия разыграет «угодливый» спектакль, лишивший Сергея возможности издать в Таллине книгу. Все – от Туронка до Гаспля, от Вагина до Кармеллы Эклери – были персонажами опереточными – с лирическими интермеццо, эксцентричными гэгами, куплетами на злобу дня, – этот жанр не мог довести до полной гибели всерьез. Комично звучала и тема собрания: на нем должны были клеймить подпольную «Зону», которую Сергей Довлатов совершенно открыто и давно отнес на отзыв в Союз писателей.
Мой отец, узнав, что Сергея вызывают на редколлегию, позвонил главному редактору газеты Туронку и стал убеждать его в необходимости провести обсуждение в Союзе писателей; ему казалось, литераторы выступят в защиту Довлатова. Туронок, обычно почтительный, почти искательный в разговорах с отцом, отказал холодно и категорично. Тогда отец попытался получить разрешение присутствовать на редколлегии, чтобы там прозвучало мнение, сложившееся о рукописи в профессиональной среде.
Разумеется, никого, кто не был согласен с режиссерской концепцией, на собрание не допустили. Кроме членов редколлегии был лишь один посторонний – редакционный художник Маклаков – заикающийся, шепелявый, твердо произносящий только мягкий знак, он рвался прокричать проклятья Сергею, не имея ни малейших причин не то что для ненависти – для минимального неудовольствия. Это была песня джунглей, порыв родословной. Клыки, когти, копыта…
…В день смерти Сергея Довлатова в редакции был выходной, работала только дежурная бригада. Мы с Михаилом Рогинским, ближайшим приятелем Довлатова, в дальнейшем – персонажем многих его произведений, приехали в Дом печати и стали настаивать на том, чтобы некролог поставили в номер. Требовалось разрешение главного редактора. Уже не было в живых Генриха Францевича Туронка да и многих членов редколлегии. Новый главный был большой либерал: в моменты, когда нужно было принимать ответственные решения, он на всякий случай уезжал на дачу и зарывался в сорняки.
Я села писать некролог, Рогинский пошел договариваться с типографией, а поехать к редактору за разрешением вызвался все тот же Маклаков.
– Прорвусь на дачу! – кричал он, шепелявя и заикаясь, и казалось ему, что обматывает он тельняшку пулеметными лентами. – Чую звериным нутром, быть Сереге в славе!
Некролог был опубликован; заведующая отделом литературы и искусства Кармелла Эклери кусала в ярости ногти и сплевывала их, как семечки, на красную редакционную дорожку.
– Я заведую отделом, – визжала она, – а какие-то шавки взялись заваривать кашу!
Остальные пошли накрывать столы, поминать Сергея и рассказывать друг другу, как они его любили и поддерживали.
«Нужно время», – писал Сергей Довлатов.
Наша редакция располагалась на шестом этаже Дома печати. Время от времени, но не реже, чем раз в году, какая-нибудь возлюбленная Шаблинского взбиралась на подоконник в отделе партийной жизни (его окна выходили на магистраль) и грозилась кинуться вниз, если Шаблинский на ней не женится, как обещал.
Стоило мне поступить на работу в редакцию, как Шаблинский пригласил меня в «Таллин-бар», куда могли проникнуть лишь избранные: там царил полумрак, на столиках стояли свечи, подавали соленый миндаль и сладкий липкий коктейль – мучительную смесь шампанского с ликером «Vana Tallinn».
Сергей меня наставлял:
– Лиля, входной билет в бар стоит рубль пятьдесят. Будьте бдительны: если Шаблинский при входе возьмет у вас деньги за билет, идите смело, пейте, сколько войдет, ешьте миндаль и слушайте рассуждения нашего золотого пера о том, как он шестнадцать раз переписывал очерк о директоре завода «Вольта», добиваясь совершенства. Там был маленький шедевр: «Директор ехал в раннем троллейбусе. Он был счастлив: новую квартиру ему дали на окраине. Теперь у него были лишние сорок минут, чтобы спокойно продумать весь план дня. В голове невольно всплывали полюбившиеся строки резолюции недавнего, в скобках – апрельского – пленума ЦК…» И так далее. Но если, Лиля, Шаблинский протянет на входе швейцару три рубля и заплатит за вас – это приговор. Вы автоматически станете претенденткой на подоконник отдела партжизни. Варианты исключены. Рубль пятьдесят – не шутка. Но самое ужасное, самое безнадежное, Лиля, если эти три рубля Шаблинский заставит заплатить вас. Тогда уж все, конец. Тогда и очерк, и шестнадцать вариантов, и апрельский пленум, и подоконник, и я ничем не смогу вам помочь!
«Советскую Эстонию» и всех ее персонажей, даже тех, что не пришлись к литературному двору, Сергей всегда помнил и передавал им приветы. По-моему, даже веселел.
«Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей чудной дурашливости…
Шуре М. скажите от имени Неизвестного, что она старая б…дь в полном исчерпывающем значении слова».
Шура М. кричала на собрании: «Что это Довлатов все время повторяет – скульптор неизвестный, скульптор неизвестный! Нельзя что ли наконец узнать его фамилию?!
«Инессе передайте, что идеи марксизма подорваны как раз ею. Добавьте, что она тоже старая б…дь».
Инесса заведовала отделом, в котором служил Довлатов. Там же работала несчастная, одинокая и глубоко пьющая Лариса, снимавшая с сыном комнатку в запущенной коммуналке. Инесса говорила: «Хорошо тебе, Лариса, не нужно думать ни о ремонте, ни о мебели, а мне, вообрази, опять придется обновлять кафель в городской квартире и в финской бане на даче!»
«Передайте Гасплю, что он некрасивый…»
Сергею нравилось все, что имело отношение к игре в слова: буриме, стихи на случай, удачная реплика…
Однажды ранней весной Сергей пришел в редакцию обритый наголо. Мы минут десять поговорили в коридоре и стали расходиться по своим отделам.
– Подождите, Лиля, почему вы ни слова не сказали о моей прическе?!
– А надо было?
– Все как-то реагировали: «Довлатов провел ночь в вытрезвителе», «Довлатова арестовали, но потом выпустили», «Выпустить-то выпустили, но следствие идет. Взяли подписку о невыезде». А Вы что?
– А я заметила, что вы всю зиму ходили без шарфа, но постеснялась вам его подарить… Теперь, получается, встал вопрос и о шапке…
– Понятно! Хотел пошутить, напросился на жалость. Пойду к себе. Ваш многострадальный Довлатов.
Я была уверена, что мимолетный разговор улетучился и забылся. Но под одним из писем стоит подпись: «Ваш многострадальный Довлатов». И опять Довлатов приглашает в гости; в письме есть такие строки:
«Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо поэтическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь».
Только поэт по самой природе творческого дара может не заметить пожертвованной ему жизни, но никогда не забудет графики случайного жеста промелькнувшего человека, почему-то царапнувшего глазной хрусталик.
К нам в редакцию приходили радиожурналисты и приносили свои заметки. Как уверяла заведующая отделом информации, в котором служил Сергей, Инна Гати: и им хочется, чтобы после них что-нибудь осталось!
Как-то Сергею предложил свою зарисовку с выставки собак Саша Харченко, ушедший в радиожурналистику из пограничных войск, а теперь мечтавший бросить микрофон и взяться за перо. Ему хотелось учиться ремеслу у Сергея Довлатова. Заметка называлась: «Хорошо, когда твой друг – собака!» Харченко преданно смотрел на Довлатова. Изнемогая от отвращения, Сергей попросил заголовок заменить. Харченко взялся сделать это, не выходя из редакции.
– Разве я не понимаю, Серега, – соглашался он. – Что мой друг – сука, что ли? или свинья?!
Через два часа было готово новое название: «Хорошо, когда собака – твой друг!»
Скрутив сам себя смирительной рубашкой, Сергей велел Харченко не торопиться, обдумать заголовок спокойно и прийти дня через два.
Через два дня просветленный Харченко поблагодарил Сергея за наставления, утер лоб и положил на стол переработанную заметку с новым заголовком: «Каждому – по медали!»
В «Советской Эстонии» умели широко и обильно отмечать красные дни календаря. Несколько сотрудников редакции (соблюдалась продуманная очередность) подавали к празднику на имя главного редактора, Генриха Францевича Туронка, слезные прошения о материальной помощи. Прошения надрывали душу картинами прозябания за чертой бедности в связи с поголовной смертью ближайших родственников и необходимостью их похорон, а также личными страданиями на почве сахарного диабета, левостороннего паралича и дебюта шизофрении просителя. Генрих Францевич, оказывающий помощь из стратегического резерва редакции, следил, чтобы диагнозы и беды не повторялись, а родственники упокаивались не ближе Владивостока (плюс суточные); пособия складывались в весьма приличную сумму для торжества. Стол накрывали роскошный; пользовались поводом и непременно присылали гостинцы директор овощной базы, преследуемый фельетонами Репецкого, и труженик шашлычной Гаспарян, которому Рогинский устроил таллинскую прописку. Еды хватало на несколько дней, кто-то отлучался на ночевку домой, а кто-то сообщал семье, что вынужден по заданию редакции срочно отбыть в Хаапсалуский район – посмотреть, не полегли ли там от засухи хлеба.
Вечно недовольны были только Рогинский и секретарь партийной организации Стас Вагин. Они уверяли, что водки всегда не хватает и едят они практически всухомятку.
Приблизилась очередная светлая дата. Проведать свой печатный орган должны были партийные руководители республики. После некоторых колебаний Генрих Францевич Туронок поручил организовать застолье Рогинскому и Вагину. Вагину при этом было приказано навсегда забыть иероглифы и присматривать за Рогинским – «нашим беспартийным товарищем».
На все деньги Вагин и Рогинский купили водки. Ночью продали ее по двойной цене в каких-то совершенно темных уголках города, где не было ни круглосуточных магазинов, ни забегаловок. Утром на все деньги опять купили водки и опять перепродали ее ночью. На третий день уже не с сивушным, а ацетоновым похмельем явились в редакцию. Водкой можно было теперь залить весь Дом печати, весь Центральный комитет партии, но не было ни закуски, ни денег на нее.
Обезумевший от ужаса главный редактор дал Рогинскому служебную машину и свою личную заначку. Рогинский помчался на центральный рынок и купил-таки там за бесценок бочку квашеной капусты – вместе с самим бочонком. На рынке стенки бочонка казались хорошо и цепко пригнанными, но в редакции обман раскрылся: доски расслабились и стали пьяненько расходиться в разные стороны, еле-еле держась за руки. Редактор покачал головой и потянул кусок капусты, выглядывающий из щели, тот стал упираться и ворочаться внутри, не вылезая. Редактор наклонился и отгрыз кусок на пробу. Капуста чуть пованивала, но хрустела на зубах. Вагин, не жалея брюк, волок уже из рабочей столовой Дома печати огромную бадью с вареной картошкой, оставшейся от смены; картошка была черная и влажная.
– Любой вам скажет, – орал Рогинский, – что это лучшая закусь!
– Гриб да огурец, – подтверждал Вагин, – сами знаете – не жилец!
Столы накрыли, жизнь налаживалась. Партийное руководство республики с приязнью поглядывало на практиканток отдела сельского хозяйства. Только Рогинский всплескивал руками:
– Мы бы со Стасом еще раз успели раскрутиться, да, видно, бедному жениться – ночь коротка!
– Вот, Лиля, вы спрашивали, как это – совершенно nonfiction? Совершенно! – подытожил Сергей Довлатов.
Сергей очень внимательно и, как казалось, благодарно выслушивал замечания, касавшиеся его прозы. Ругал себя за торопливость, которая, как он говорил в письмах, все губит.
Но если речь заходила о его шуточных стихах и куплетах, становился обидчив. Может быть, потому, что никак не считал это своим главным делом, а во всем второстепенном, борясь с хаосом своей жизни, он был необыкновенно педантичен, строг и собран, требуя от себя и быстроты, и четкости. Обвинение в негодной рифме или, не дай Бог, ошибке, нарушало регулярность его литературного быта, что было для него невыносимо.
Из Пушкинских Гор Сергей Довлатов написал мне среди прочего:
«…Сафонову привет. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал.
Я тоже написал стихи, которыми здесь и прославился.
Нечто вроде заклинания для местных купальщиков:
Стихи актуальные».
В ответе я указала Сергею на то, что «говно» пишется через «о», а не так, как слышится.
Сергея раздражил этот грамматический подвох.
В очередном письме он не без ехидства цитирует «Песню Рулевого»:
И спрашивает:
«Как Вы думаете, тартуская студентка, что это может означать? Нельзя ли поинтересоваться у Минералова (тартуский структуралист и сочинитель, наш общий знакомый. – Е.С.). Этот человек с загадочной фамилией мне небезразличен, особенно в части грамматики».
В другом письме:
«С удивлением констатирую: Ваш земляк с гоголевской фамилией Минералов дельно написал в «Литгазете»…
…Мне рассказывали, что пьяный Твардовский вечно орал: ««Ну что за мерзкая фамилия – Смоктуновский, а Гамлета сыграл лучше меня!..»»
Спустя много лет я прочла у Сергея рассуждения о том, что грамматические ошибки гения наделены неким высшим смыслом. Вот Гоголь писал «щикатурка» вместо «штукатурка» и не захотел исправлять, когда ему указали на ошибку.
Но в минуту горьких сомнений Сергей все-таки вернул «говну» его грамматический статус.
Оформив отпуск и даже получив отпускные, Сергей тем не менее пришел на следующий день на работу.
– Не верю я, Лиля, что они мне будут платить деньги ни за что, просто так!
Однако Сергея заверили, что он действительно может целый месяц не появляться в редакции.
– Это невероятно! – не успокаивался он. – Быть не может.
И вспомнил один из своих «лишних» сюжетов.
Глубокой ночью, в совершенной тьме, позвал его с верхних нар взволнованный шепот:
– Серега, проснись! Кажи мне правду, не могу больше мучиться один.
– Какую правду, Петро?! Спи!
– Нельзя спать, Серега! Бают люди, да поверить-то невозможно. Как с этим жить? Бают, что есть на свете такая птичка. Колибри. Маненька-маненька, як шмель!
На дверях отдела «Литературы и искусства» газеты «Советская Эстония» время от времени появлялась табличка с двустишием, сочиненным Сергеем: «Две удивительные дуры ведут у нас отдел культуры».
Заведовала отделом Кармелла Эклери с пионерским костром волос на голове. Непомерную свою грудь, помня, что она сотрудник партийной газеты, Кармелла запирала в двубортный пиджак с угрюмыми пуговицами. Но груди все равно, как лобастые сироты, вылезали в надежде, что их кто-то приметит и усыновит. Кармелла относилась ко всем видам творчества с ровной, почти ленивой неприязнью, но к поэзии почему-то испытывала ненависть концентрированную, близкую по составу к серной кислоте. Она даже подала главному редактору Генриху Францевичу Туронку пространную записку, в которой намечала пути окончательного истребления рифмованных сочинений и предлагала считать писание стихов занятием несовместимым с партийной честью. Во всяком случае, для сотрудников «Советской Эстонии». Генрих Францевич предложение Кармеллы мягко отклонил, как интересное, но несвоевременное.
Когда случалось Довлатову написать очередной стишок и вся редакция подхватывала его, Кармелла Эклери лишь загоняла груди обратно под пиджак и мрачно констатировала: «Я эту кашу уже кушала». Затем возмущенная Эклери шла в международный отдел проведать парализованного Ефима Тухшильдта. Два года назад, во время редакционного ремонта, на Фиму обрушилась стена, он получил непоправимую травму позвоночника, и никто не смел его теперь уволить. Семья каждое утро приносила Ефима в редакцию на носилках, и, лежа посреди отдела, он весь день раздраженно диктовал геополитические обзоры специально нанятой машинистке. Вечером, перед тем как семье забрать его домой, Фима с помощью Кармеллы обращался в компетентные органы с просьбой разоблачить Довлатова, который есть не кто иной, как плагиатор. «Доказать очень легко, – писала под Фимину диктовку Кармелла, – достаточно сравнить рассказы Довлатова с отдельными главами задуманного Тухшильдтом романа «Люди и моторы», а так же некоторыми сценами из сложившейся в его голове экзистенциальной пьесы «Мир перечислен в меню ресторанном»».
В одном из писем Довлатов вспоминает коллег по Дому печати:
«Две недели я болел отвратительным гастроэнтеритом (гастрит плюс Эклери), в просторечии – воспаление желудка, еще проще – адский дрист, испарина, температура, сухари, рисовый отвар – картина ада».
И дальше:
«Правда ли, что Кармелла Эклери родила человека? С кем на пару? Неужели… Удовлетворите мещанское любопытство».
Сергей создал в газете страничку «Для больших и маленьких». Там он непременно помещал стишок, из которого русские дети узнавали новое эстонское слово.
И всякий раз куплет вызывал какие-то ужасные подозрения у начальства, о чем можно прочесть в «Компромиссе».
Замучившись объяснять невинность своих поэтических порывов, Сергей решил написать уж совершенно детское, прозрачное и простенькое четверостишие. Вот оно:
Стишок благодаря прелестной рифме мгновенно запомнился и распространился по Дому печати.
Вечером в отдел к Сергею явилась заплаканная Таня из «Деловых ведомостей».
– Сережа, выслушайте меня! Вы большой талант, но умоляю, не печатайте! Сережа, там всё – сплошная ложь!
– Где? – Довлатов зарылся в бумаги.
– Не печатайте этот рифмованный поклеп, Сережа, – я не переживу! – Таня сделала попытку упасть перед Сергеем на колени.
– Таня, какой поклеп? – Довлатов подхватил ее и усадил на стул.
– Тот самый, Сережа, тот самый! «Таню я благодарю за подарок Танин». Вы благородный человек, поверьте, он обливает меня грязью из-за того, что я его бросила!
– Кто?
– Смульсон! Это ведь он вам сказал, что я его наградила триппером?!
За дверью стояли еще две Тани. Одна – из «Таллинских зорь», вторая – из «Молодости мира». Зори молчали, а молодость мира, тряся завитками печального цвета вербы, протягивала Сергею четвертушку листка, походящую издалека на медицинскую справку.
– Уж мы этого так не оставим! – пообещала молодость. – мы соберем подписи. Адольф Сергеевич и Модест Маркович оба хоть сейчас подтвердят наше полнейшее здоровье. А надо, так мы и отдел публицистики, и отдел спорта призовем в свидетели. Причем, заметьте, обоих изданий. А уж ночные дежурные – так все будут за нас. И вам еще ой как не поздоровится за эти сплетни, товарищ Довлатов!
Мы заключали с Довлатовым в редакции всевозможные пари. Была такая игра: попытаться вставить в свою статью какую-нибудь идиотскую фразу так, чтобы цензура ее не вычеркнула. Я взялась включить в рецензию слова: «Враги же клевещут». Это выражение было когда-то привычно в партийной прессе, но к середине 70-х устарело и слишком уж огрубело – его запретили. Я исхитрилась, написав: «Криками «Враги же клевещут!» бороться с оппонентами бессмысленно!» Прошло. Сергей проиграл спор и должен был пригласить меня в бар Дома печати.
Гастрономические притязания в нашем баре тогда простирались от бутерброда с килькой за 10 копеек до бутерброда с колбасой за 18 копеек. Но в день нашего спора в бар внезапно внесли огромное блюдо с бутербродами с красной икрой, цена – 1 рубль. Сережа посмотрел на меня и сказал:
– Ну, мне интересно, кто победит сейчас в вас – поэт или мещанка?!
Я обиделась: разумеется, мещанка, которая требует бутерброд с икрой!
Икра была тут же куплена; Сережа некоторое время рассматривал меня с оттенком изумления – такие прямые ходы ему, человеку стеснительному, смущающемуся, видящему себя постоянно со стороны, казались невероятными…
Он избегал мгновенных реакций, удара, крика, междометий и восклицаний, и эта совершенно ложная литературная установка – поверять себя да и персонажа вкусом и культурой – только в его исключительном случае дала счастливый результат!
И еще одно стихотворение, посвященное памяти Сергея Довлатова.
IV. Заметки к спектаклю «читаем Довлатова»
Всякий, кому доводилось работать с актерами, знает, как они нуждаются в сравнениях; они не признают простых и ясных ходов объяснений, они накладывают одну непонятную им картину на другую – столь же неясную им и, добившись совмещения, начинают уверять, что увидели наконец объем, без которого не вывести текст на сцену. Объясняющий, то есть ищущий для них дополнительные и, как ему кажется, далекие от ситуации картины, может оказаться в положении привычного педагога: в пятнадцатый раз излагая очевидное, он внезапно догадывается о его тайном смысле.
Молодая актриса в спектакле «Читаем Довлатова», поставленном в Таллине к 70-летию Сергея, должна была произнести текст письма Довлатова ко мне: «Дела мои обстоят… как бы это выразить. Представьте человека, который обокрал сберкассу. И еще не попался. То есть дела его как бы хороши».
Много лет мне казалось, что «промежуточность» состояния связана с тем, что Сергей отослал очередную рукопись в очередное издание и пока не получил отказ.
И только в поисках сравнений для актрисы я наконец увидела в тексте поразившее меня: эта точная и горькая метафора имеет отношение к жизни любого человека в любой период.
Мы все рождаемся на свет, «обокрав сберкассу» – сняв по невероятному везению у вечности угол, и вся наша жизнь состоит из «еще не попался» – еще не умер, еще не погиб, еще не спился – увернулся, встал с бьющимся сердцем за углом, а рок, как в комиксе, промчался мимо.
И если уж всерьез говорить о сравнениях, то это – точная отсылка к тому знаменитому рассказу Мышкина из «Идиота» в доме Епанчиных, где он говорит о двадцати минутах между смертным приговором и помилованием, заменой его на другой вид наказания. «…в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут… он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он непременно умрет… Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней…»
В отличие от персонажа Достоевского, в отличие от большинства людей, осведомленных о краткости жизни, Сергей пытался жить и, главное, писать в состоянии той расчетливой лихорадки, того рационального безумия, которое обусловлено перронным – через головы чужих, в оглохшие окна – прощанием с жизнью, когда фактически уже все кончено и ничто не имеет значения, но именно поэтому так важна каждая (несомненно, последняя) фраза. Она должна быть проста, как в моменты наивысшей трагедии у Достоевского, когда, например, Настасья Филипповна говорит над Ганей, подавившим в себе страстное желание схватить пачки денег и упавшим в обморок перед камином: «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – и в то же время смешна, наглядна, смысл в ней должен быть притоплен ровно настолько, чтобы легко было вырывать фразу из контекста и цитировать.
И второе письмо, которое не давалось актрисе, не было понятно. Сергей пишет мне: «Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время».
Если никогда не забуду и не прощу, то Бога нет и всё позволено. Но если нужно время, то какое? Вероятно, вечность, вероятно, бессмертие. Писатель не святой, не проповедник и даже не ханжа, чтобы иметь нечеловеческие силы молиться за своих врагов. Но при этом любой из пишущих знает, как бессмысленны и бесполезны для литературы бывают произведения, написанные ненавистью, обидой и злобой. Желчь и злость быстро разъедают буквы, и то, что еще недавно читалось с торжеством и мстительным упоением, вдруг блекнет и дышит нестерпимой скукой. Ненависть и юмор – две вещи несовместные. И если жить в ощущении, что осталось именно что пять минут, то действительно можно простить то, что не простишь за долгую-долгую жизнь. В данном случае простить – для литературы.
Человек, о котором рассказывает Мышкин, помнил, что, прощаясь с товарищами, «одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом».
В конце каждого письма из Ленинграда Сергей приглашал меня в гости. И ни разу не повторился. (Нельзя повторяться в столь коротком временном отрезке!)
«Не нужно ли чего в Ленинграде? Вам надо бы приехать сюда! Тут Эрмитаж, знаете ли… Скоро увидимся, если захотите…»
«Пишите мне обязательно, хотя бы коротко. Вы мне чрезвычайно симпатичны в пору глубокого разочарования и апатии. Хорошо, если бы Вы приехали. Я натру пол…»
«Приезжайте в Ленинград. Живите у нас в плохих условиях. Берите командировку в Нарву с заездом сюда».
«Будете в Ленинграде, звоните обязательно. Покажу Вам адскую богему».
…Разумеется, Сергей знал, что человек, о котором рассказывал Мышкин, получил возможность долгой жизни, и прожита она была совсем не так, как грезилось, «вовсе не так жил и много-много минут потерял». И, примеряя к себе эту «потерянную» жизнь, Довлатов выбрал бесконечно повторяющийся в его прозе образ луны, которая поощряет общее движение жизни, равно освещая дорогу и хищнику, и жертве. С этой луной легко сравнивается и Пушкин, и жена лирического героя. В свете этой луны, конечно, должны проплывать мимо писателя женщины необычайной красоты – либо ускользающе-неверные, либо прохладно-равнодушные и тоже ускользающие. Но о том, что красота спасет мир, говорит ведь не сам Мышкин, говорят, раздраженно пересказывая его слова – уж как поняли, – то Аглая, то Рогожин.
Красота требует любования, длительности, протяженности, а когда летишь с десятого этажа вниз, когда, доедаемый арифметикой, делишь пять последних минут на разнообразные занятия, то понимаешь, что уродство куда быстрее прочитывается, то есть исчерпывается, то есть впечатывается в память и остается там навсегда.
И там, где нет луны, равно приемлющей добро и зло, возникают совсем другие женщины – моментально узнаваемые и артистами, и зрителями, вызывающие сочувствие; то сочувствие, что «прощает» писателю выдуманных лунных женщин – даром, что они взяты из реальности.
Возникает на груде дрессировочных костюмов Ляля. «Ее фиолетовое платье было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе, нагнулся». Занимает свое место в тексте косоглазая Фира, которая совершенно напрасно, как замечает автор, боится изнасилования, и зимой и летом носит байковые рейтузы, рассуждая о том, что в Америке каждая женщина держится за свое говно. Мелькнет Татуся, она не советует ехать в Пушгоры, поскольку здесь совершенно нет мужиков, и многие девушки уезжают, так и не отдохнув. Заглянет Элен, похожая на модель с рекламы финской бани, жаждущая приникнуть к автору как к источнику богатого русского языка. Утвердится на страницах официантка, для которой так же естественно воровать, как для соловья – петь. Медсестра, которой «обоих жалко». Елизавета Прохоровна, спавшая аккуратно, как гусеница.
…И промелькивают коллеги по цеху: «Зощенко восславил рабский лагерный труд». «Алексей Толстой был негодяем и лицемером». «Ольга Форш предложила вести летоисчисление с момента, когда родился некий Джугашвили (Сталин)». «Леонов спекулировал коврами в эвакуации». «Вера Инбер требовала казни своего двоюродного брата (Троцкого)». «Любознательный Павленко ходил смотреть, как допрашивают Мандельштама». «Юрий Олеша предал своего друга Шостаковича». «Писатель Мирошниченко избивал жену велосипедным насосом».
Сергей Довлатов считал самым смешным рассказом Достоевского – «Бобок». «Бобок» начинается так: «На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия». В финале подслушавший разговоры мертвецов рассказчик замечает: «Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и…» Впрочем, и сам рассказчик фигура комическая.
V. Как Довлатов попросил прощения у Фимы и Лоры
У Сергея Довлатова в повести «Иностранка» подробно описан предмет его несокрушимой ненависти: счастливая семья. Не только потому, что семейная жизнь его родителей кончилась крахом, не только потому, что его первый брак был трагическим и несчастным, не только потому, что и среди его друзей не было особенно уж благополучных союзов, – Довлатов презирал счастливые семьи как воплощение пошлости, обывательского тупоумия, нестерпимой глупости и желания жить по утвержденным стандартам.
(Однажды Сергей Довлатов рассказывал мне о чрезвычайно милой, умной и интеллигентной работнице издательства. И тут же с некоторым страхом и брезгливостью добавил: «Но она из тех, кто любит ходить в гости семьями, дружить домами, чтобы женщины обсуждали цены на рынке, а мужчины говорили о политике, и все были очень довольны друг другом».)
Конечно, первым о счастливых семьях презрительно высказался Лев Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга…», но сам же потом описал целый ряд счастливых семейных гнёзд, которые совершенно не походили друг на друга. Единственным сходством был долгий путь к счастью и гармонии, герои должны были перестрадать, пережить ложную, обманную любовь, чтобы по-настоящему оценить мир и нежность полноценного семейного союза. Наташе Ростовой из «Войны и мира» нужно было предать Андрея Болконского, увлечься ничтожным Анатолем Курагиным, пережить множество разочарований, чтобы обрести истинное счастье с Пьером Безуховым. Кити Щербацкой из «Анны Карениной» нужно было пережить влюбленность в Алексея Вронского, его измену, чтобы по-настоящему оценить Константина Лёвина.
Сергей Довлатов в самой минимальной степени соглашается с Львом Толстым; он писал о своей второй, и окончательной, семье: «Любовь – это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов… А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба». Так как биографию и творческую жизнь Довлатова практически невозможно разделить, то эту цитату можно рассматривать как литературный подарок по-настоящему близким людям; они умели видеть в выдающемся писателе главное – его талант, который отбрасывал свет на все остальные проявления его личности и заставлял домочадцев мириться с неизбежными сложностями совместного существования с человеком, которому львиная доля жизни нужна была только для того, чтобы переплавить ее в литературу.
Сергей Довлатов считал творчество формой страдания. Он не верил, что можно быть счастливым и благополучным в жизни и при этом писать достойные произведения. Напомню: «Поэзия есть форма человеческого страдания. Не уныния, меланхолии, флегмоны, а именно – страдания. И не в красивом элегантном смысле, а на уровне физической боли. Как от удара лыжами по голове. То есть альтернатива: плохая жизнь – хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни. Не будет лыжами по морде, стихов не будет. И человек станет автором книг: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Солнце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д.». Поэтому счастье для него было формой бездарности, формой жизненного графоманства. Семья Лоры и Фимы из «Иностранки» – это семья людей, обделенных способностью чувствовать, переживать, мучиться, сомневаться, сходить с ума, негодовать. Это семья водорослей. «Лора и Фима были молодой счастливой парой. Счастье было для них естественно и органично, как здоровье. Им казалось, что всяческие неприятности – удел больных людей. Лора и Фима слышали, что некоторым эмигрантам живется плохо. Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами».
Счастье Лоры и Фимы столь полно, что они даже специально придумывают себе маленькие неприятности:
Бывало, что Фима являлся домой с виноватым лицом.
«– Ты расстроен, – спрашивала Лора, – в чем дело?
– А ты не будешь сердиться?
– Говори, а то я заплачу.
– Поклянись, что не будешь сердиться.
– Говори.
– Только не сердись. Я купил тебе итальянские сапожки.
– Ненормальный! Мы же договорились, что будем экономить. Покажи…
– Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный… Такой коричневый…»
Почему этот милый диалог милой пары вызывает у нас такое щемящее чувство отвращения, будто мы съели что-то несвежее? Лора и Фима не сделали никому ничего плохого, более того, они охотно приютили в своем ухоженном доме главную героиню повести – веселую и легкомысленную Марусю. Когда-то, в Советском Союзе, Маруся жила безбедно и благополучно, дарила бедной родственнице Лоре свою поношенную одежду, а теперь, в Америке, они поменялись местами: Лора лучилась благополучием, а Маруся нуждалась в поддержке. И Лора говорит мужу:
«– Пусть живет. Пусть остается здесь сколько угодно… Не хочу я ей мстить за обиды, пережитые в юности. Не хочу демонстрировать своего превосходства… Мы будем выше этого. Ответим ей добром на зло… О чем ты думаешь?
– Я думаю – как хорошо, что у меня есть ты!
– А у меня – соответственно – ты!»
И от этого диалога, исполненного благородства и снисходительности, нас начинает тошнить. В чем тут дело? Сергей Довлатов показал ненавистную ему породу людей с самой лучшей их стороны, показал добрыми, милыми, славными, отзывчивыми, обнародовал всё, что могло бы говорить в их пользу. Но тем очевиднее обнажилась банальность, стандартность, косность их мышления, неспособность хоть какие-то вещи оценивать и видеть самостоятельно, их правильность, норма, которая обезличивает, смывает с человека индивидуальность, превращает в предсказуемого робота, винтик социальной системы. Винтик всегда найдет местечко для счастья даже в рушащемся мире и всегда будет считать страдание вирусным заболеванием. От страданий есть вакцина – счастье, взаимная любовь. Лермонтовский категорический романтизм реалистичного Довлатова проявился как раз в этой тонкой материи чувств: там, где любовь взаимна, там торжествуют глупость и пошлость.
Несчастную безнадежную любовь Довлатов описал в нескольких вещах, но, наверное, самый одинокий, самый отчаянный крик любви пронизывает его роман «Филиал».
«На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а – как бы лучше выразиться – первая любовь.
Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии».
Тут я замечу, что Ася Пекуровская, первая жена Сергея Довлатова, написала после смерти Сергея, когда он уже стал классиком, очень странную книгу «Когда случилось петь С.Д. и мне». Странность этой книги заключается в том, что автор постоянно сравнивает литературу с жизнью и упрекает Довлатова в том, что он искажает в своих произведениях многие факты реальности. Что в действительности она говорила то, а не это, что поступала так, а не по-другому. Что Довлатов далеко не все сочинил сам, а многие сюжеты взял из жизни друзей и знакомых. То есть Ася Пекуровская, профессиональный филолог, предъявляет литературе требования, которые можно предъявить только жизни. Словом, Довлатов так потрясающе симулировал жизнеподобие, что его персонажи даже им самим казались целиком вынутыми из реальности и переложенными в другой футляр – в искусство.
Итак, герой «Филиала» встречается со своей первой любовью спустя тридцать лет после начала истории. Такой вот роман «Тридцать лет спустя». Они двадцать лет назад расстались, пятнадцать лет не виделись. Она влюблена в какого-то Ваню, беременна от какого-то Лёвы; герой женат и предан своей семье и двум детям, но любовь, которую терзали ревность и унижение, вранье и непредсказуемость, любовь, которая исковеркала юность, обрекла на мучения, никогда не проходит окончательно, она всегда может вернуться и заявить о своих правах. И человек оказывается бессилен перед ней, как перед террористом-смертником.
Есть фронтовики, которые считают войну лучшим и самым значительным периодом своей жизни, им недостает в мирном существовании выстрелов, взрывов, смертельной опасности; так и несчастные влюбленные – истерзанные, измученные и брошенные – скучают в объятиях верных и добрых супругов. Им хочется бури, страданий, самоубийственной роскоши несчастий. Виктор Шкловский как-то сказал, что он так настрадался, ища любви Эльзы Триоле, что теперь способен испытывать только любовь счастливую. Но Довлатову (разумеется, его герою) невозможно было отказаться от горестей, ибо из горестей вырастала проза, ради которой он жил на свете.
Герой «Филиала» перечисляет все несчастья, которые свалились на него из-за любви к Тасе. Из-за нее он бросил университет, из-за нее попал в армию. Она изменяла, чуть не вынудила к самоубийству. Она была жестока, эгоцентрична, невнимательна. И вдруг следует неожиданное признание: «Всё так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине – лживой, безжалостной и неверной?»
Думаю, ответ очевиден: он сделал из нее, как и из всей своей жизни, литературу. Их финальный диалог может поспорить с лучшими короткими диалогами Хемингуэя, которому Довлатов, по его уверениям, пытался подражать в юности.
«– Ну, ладно, – говорю, – прощай.
– Прощай… Когда же мы теперь увидимся?
– Не знаю, – говорю, – а что? Когда-нибудь… Звони.
– И ты звони.
– Куда?
– Не знаю.
– Тася!
– Что? Ну что?
– Ты можешь, – говорю, – сосредоточиться?
– Допустим.
– Слушай. Я тебя люблю.
– Я знаю.
– По-твоему, это нормально?
– Более или менее… Ну все. Иди. А то как бы мне не расплакаться.
Как будто не она уже рыдала только что минут пятнадцать».
Этот финал оказывается ложным. Доведя лиризм до высшей точки, Довлатов расправляется с ним, низводя до бытовой сатиры. Герой уже стоит в дверях, но Тася, сосредоточившись наконец, просит его снабдить ее деньгами. Он отдает ей какую-то сумму, она говорит, что она надеялась на большее…
Тут они расстаются. Но и это опять обманка. В самом финале романа, уезжая из гостиницы, где произошла загадочная и мучительная встреча, герой вдруг опять видит Тасю.
«Вдруг я увидел Тасю. Ее вел под руку довольно мрачный турок. Голова его была накрыта абажуром, который при детальном рассмотрении оказался феской. Тася прошла мимо, не оглядываясь. Закурив, я вышел из гостиницы под дождь».
Эти слова были написаны в 1987 году, за три года до смерти писателя. И за три года до той ошеломляющей популярности и славы, которая пришла к нему после смерти. Он о ней грезил, но при жизни она оказалась недостижимой, пришлось умереть, чтобы ее добиться…
В последний год он приобрел крохотный домик за городом, летнюю резиденцию, с радостью и удовольствием приводил жилище в порядок вместе с женой Еленой. Общался с дочкой Катей, воспитывал сына Колю, сказал в одном из интервью, что если бы начал жизнь сначала, то, возможно, и не стал бы ее посвящать литературе.
Трудно себе представить, что он стал бы походить на Фиму из своей повести «Иностранка», что согласился бы на такое незатейливое простенькое счастье. Но, во всяком случае, он как-то примирился и с Фимой, и с Лорой, даже, можно сказать, попросил у них прощения за свой сарказм.
Он жил трагично и талантливо, безрассудно и рискованно. Он жил так, как того требовал его талант. И неравенство в любви, когда ты любишь безумно, а предмет твоего обожания лишь принимает снисходительно в подарок твое чувство, казалось ему обязательным для литературы. Любовная история, рассказанная им, касается каждого из нас. Каждый человек хоть однажды готов был сложить свою жизнь к ногам равнодушного кумира. Важно лишь, какой урок мы извлекаем из неразделенного чувства. Каждый писатель мстит за свои неудачи текстами, но только сатиричный, едкий, разоблачительный Сергей Довлатов, превращавший в карикатуры своих врагов и гонителей, ни одного жестокого слова не написал о женщине, которая научила его страданию. Его герой ответил ей нежностью и любовью. Так, в идеале, хотели бы поступить мы все, когда сладкие слезы раскаяния заливают наше лицо. Да только у нас не получается. Мы как минимум не хотим больше ни видеть, ни слышать своих обидчиков. А в глубине души – как максимум – желаем им полного краха. Поэтому мы так жадно читаем и перечитываем любовную историю героя Довлатова, меняясь с персонажем местами и благородно обманывая себя…
1991–2017
«Я рад, что моя жизнь сложилась достаточно горько». О Самуиле Лурье
«При таких условиях смерть не страшней развода – или какого-нибудь железного занавеса: эмиграция в новую действительность, и больше ничего, если никого не любить», – писал он в «Успехах ясновидения», размышляя о Сведенборге. Но так как Самуил Лурье всегда описывал себя только через других людей, то всё сказанное о них – в полемике ли, в согласии ли – имеет отношение к нему самому. И у него самого развод с жизнью оказался не скучным дележом имущества с нелюбимой женщиной, а трагической, нестерпимой разлукой, потому что он любил. И его любили. Порой – до степени ненависти. Однажды, в советское время, в стадии еще некоторой простодушной наивности он принес в искусствоведческое издательство сборник эссе. Пришел к ответственному лицу, назвался. Лицо встало и продекламировало: «…По обеим сторонам дороги догорал семнадцатый век… Антуан Ватто надеялся, что в Париже сумеет продать свою жизнь дороже, чем на полях Фландрии. Он думал – жизнь вся впереди, а половина была уже прожита. Он шагал налегке, всё имущество его составляли рисовальные принадлежности, меланхолия, чахотка, талант».
Начальник читал наизусть эссе Самуила Лурье о Ватто. И дочитав, объявил, что у Лурье нет вкуса и что он ничего не смыслит в искусстве.
«Но зачем же вы заучиваете мои тексты?» – спросил Лурье.
«Потому что я их не просто ненавижу, я их ненавижу активно!» – отвечал декламатор.
И еще о смерти в связи с рассуждениями о Сведенборге добавлено: «…и теряем не себя… а только сыгранную роль».
Какую же роль сыграл в этой жизни Самуил Лурье?
«Я пытался сыграть роль порядочного человека», – ответил он мне однажды.
Мы заглянули как-то с Николаем Крыщуком к Сане в «Неву», сели возле стола, заваленного рукописями; зашли без предупреждения, наугад, было уже довольно поздно, и мы не особенно надеялись его застать, то есть просто гуляли, говорили о нем, дошли до «Невы» и решили попытать счастья. Вот тогда-то и зашел этот разговор о ролях, и Саня сказал:
«Может сложиться впечатление, что я всю жизнь пытался бороться с режимом. Это не так. Я никогда не был борцом сопротивления. Я пытался сыграть – мы все играем какие-то роли – роль порядочного человека. Мне неприятна ложь, это входит в мой темперамент. Я на девяносто процентов состою из литературы, и мне есть на кого оглядываться. В действиях, имеющих политический подтекст, я всегда ориентировался исключительно на нравственное чувство – и когда в университете вышел, хлопнув дверью, из аудитории, где поносили Ахматову, и когда в дни путча писал воззвания. Есть такая теория: добро сильнее зла в мире ровно на твой поступок…»
И тут мы все трое почувствовали, что взволнованность речи нуждается в разрядке, в каком-то бытовом резком понижении. Саня достал из тумбы стола крохотный аптечный пузырек, скляночку граммов на пятьдесят, может быть, даже меньше. Это были какие-то невинные, отпускаемые без рецепта капли с резиновой, серой, легко отдираемой пробкой.
«Очень высокое содержание спирта! – объяснил Саня. – Стоит при этом шестьдесят восемь копеек».
Сначала попытались распределить жидкость по трем емкостям, но капли только размазались по дну, и выпить их было невозможно. Собрали их в пузырек, и каждый отхлебнул. Мерзостный вкус с якобы спиртовым фоном запомнился (однажды в хвойном лесу я попробовала одеколон, когда другое спиртное закончилось, и возненавидела запах хвои; а после пузырька с каплями меня еще долго подташнивало в аптеках); Саня продолжил:
«А что до моей личной литературной судьбы, то тут дело, конечно, не только в режиме. (Мы все в той или иной мере раздавлены им как рыбы, живущие на больших океанских глубинах и оттого ставшие плоскими.) Тут дело еще в моей осторожности или трусости: я никогда не мог поставить свою литературу выше благополучия и покоя своих близких, своей семьи – не уходил в подвалы, не работал в кочегарках…
Литератор подобен государству, которое девяносто процентов бюджета тратит на армию. Такое государство не может быть благополучно. Литератор девяносто процентов жизни тратит на мысли, свою работу. Его одиночество, его несчастья – нормальные издержки профессии».
Я думаю теперь, когда в жизни Самуила Лурье поставлена точка, а его сочинения только открыты двоеточием, что он хотел, чтобы и его любимые писатели играли роли порядочных людей, и проверял их, и выпытывал у них подробности разоблачительные, и не мог успокоиться.
Дело в том, понимаю я теперь, что это до работы, например, добираться долго, а до бездны каждому из нас – полшага. И ближе всех к бездне, бездне зла как раз те, кто учит нас добру. Возможно, и не был убийцею создатель Ватикана, но страсть его к анатомии была сильнее жизни.
О каждом из своих героев Лурье создал повесть или роман, умещающийся порой в пять-шесть страниц. Стремительность таланта сжимала сюжет до фабулы. Лурье легко соединял биографию и творчество, не считая, что они состоят из разного материала. Он видел то, что ускользало от других. Он знал, что Андерсен жесток. И правда, что стало с мамой Дюймовочки, у которой не было других детей, а единственная крошечная девочка потерялась? Мама ведь так и не узнала, что Дюймовочка стала женой короля эльфов… «И я понял, что не Андерсена мы любим, – да и навряд ли хоть один автор стоит любви как реальный персонаж, и даже не сказки Андерсена, но сказку о его сказках».
Лурье не считал, что у писателя есть право на тайну, нет, о своих персонажах он сообщал всё постыдное, что только можно извлечь из их книг и из их судеб. Так он показал, что Радищев любил не только справедливость, но и женщин, в частности женщин продажных. Он страдал венерическим заболеванием, заразил жену, болезнь передалась детям. И всё это Радищев резюмировал так: «Кто причиною: разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не только путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан…»
Лурье непременно находил то, что все старались забыть: Воланд перед тем, как покинуть Москву, вдруг замечает направляющегося к нему по воздуху руководителя партии и правительства Сталина и говорит: «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще всё покончено здесь. Нам пора!» Это место было вычеркнуто при публикации романа в 1966 году в журнале «Москва», так эта подробность и исчезла навсегда. Самуил Лурье воскресил то, что всем хотелось вымарать…
Зачем ему нужна была эта правда?
Но сначала – о его сарказме, почти злословии. Возможность встречи с нелепостью, дикостью, пошлостью необыкновенно занимала его как исследователя. Несколько лет назад, когда Саня и его жена Эля жили еще в Питере, я собралась приехать к ним в гости после литературного вечера, на котором выступала. Завершился вечер весьма поздно, но Эля и Саня ответили по телефону, что всё равно ждут меня, стол накрыт и если я так уж волнуюсь из-за позднего часа, то могу остаться у них ночевать. Я плохо ориентируюсь в пространстве, найти нужный адрес ночью в Петербурге представлялось мне невозможным, но тут мне повезло: какой-то юный слушатель предложил сопроводить меня на улицу Полтавскую. Приехали. Молодой человек галантно вызвался доставить меня до подъезда, потом до квартиры; наконец, Саня открыл дверь и увидел ночных посетителей. Юноша топтался искательно на пороге. Саня расцвел: как самого драгоценного гостя подвел он моего спутника к столу, стал расспрашивать о его роде занятий, интересовался, давно ли мы знакомы, при этом всем своим видом давал мне понять, что мой романтический выбор он одобряет, оценивает по достоинству, и вынудил-таки моего провожатого произнести:
– Самуил Аронович, я просто хотел поближе посмотреть на историческое прошлое нашей литературы, поэтому я пошел провожать Елену Григорьевну!
В ту же секунду Саня потерял к юноше интерес, и тот смущенно испарился.
О, таких историй, которые вспоминаю я сейчас с величайшей нежностью, но в юности доводивших меня до слез, было множество.
Как-то мы – редакция недолго просуществовавшего «Петербургского журнала Ленинград» – выступали в огромном зале. Саня наклонился ко мне:
– Лилечка, вы хорошо держите реплику?
Я ответила нечто заносчивое, не почувствовав никакого подвоха. Потом я читала стихи. Саня взял микрофон и участливо спросил на весь зал:
– Я всё время думаю, милая Лиля, как вам удается запомнить такое количество слов подряд?!
На моем поэтическом избранном спустя двадцать лет Саня Лурье написал: «Остроумие и воображение – дары божественные. Мы обычно обращаемся со словами, как с пчелами: одомашниваем ради мёда, – а Елена Скульская как будто дрессирует рой диких ос. Они мечутся по воздуху, послушно рисуя в нем отчаянные фигуры смысла. С очертаниями мгновенными, но отчетливыми. Заштрихованные мелкими, твердыми, колющими отрезками невидимых нам прямых и кривых». Разумеется, мои слова за двадцать лет не научились выстраиваться иначе – более обязательно или осмысленно, и сам Саня не отрекся от первого, сугубо ироничного о них замечания, сочиняя текст для обложки книги. Дело в том, что в его сознании мировая литература существовала вся одновременно – как в японском театре. Но – без категорического различения на прошлое и будущее, но в неких сложных взаимосвязях, звеньях, иерархиях, гроздьях, и тогда, скованные одной цепью с другими, те же стихи могли оказаться то шаржем на истинную Поэзию, то ее воплощением.
Нужны были долгие десятилетия дружбы, чтобы утереть слезы и услышать сквозь ироничные уколы слова любви и признания…
Как-то Саня сказал:
«Я рад, что моя жизнь сложилась достаточно горько…»
Мне кажется, мы сидели тогда втроем у него дома: Коля Крыщук, Саня и я; Эля, накрыв чудесный стол, оставила нас одних: мы время от времени встречались то у Лурье, то у Крыщука, чтобы «сверить литературные часы», когда я приезжала в Питер из Таллина; иногда с нами за столом бывал и Андрей Арьев… Словом, сидели необыкновенно уютно, и Саня продолжил:
«Я убежден, что в биографии писателя всё складывается к лучшему, литератору всё на пользу. В прямом смысле: чем больше опыта выпадает на долю литератора, тем лучше он понимает литературу и жизнь. И есть еще одно, более сложное объяснение. Теория моя состоит в том, что человек одаренный, философ, поэт, живописец рождается для того, чтобы выразить некую открывшуюся ему истину. Открывается эта истина ему когда-нибудь однажды, чаще всего в юности, а потом он всю жизнь вспоминает эти свои переживания и все жизненные ситуации тщательно отбирает по совпадению или противоречию с основной идеей.
Возьмем Пушкина. Пушкин всю жизнь выступал в роли Дантеса и всю жизнь об этом писал. Тут и «дружба тяжкая мужей», тут и забавные рогоносцы. Он с большим удовольствием разрушал чужие семьи, все время вращался в зоне риска, зоне дуэли, зоне семейного скандала, который в конце концов обрушился на него. Как я объясняю поведение Пушкина? Этот маленький уродливый человечек негроидной внешности жаждал любви вечной и верной и понимал, что ее не существует. И мучительно испытывал окружающих женщин на любовь и окружающих мужчин на дружбу. И убеждался, что гений чистой красоты не более чем вавилонская блудница… А вдумайтесь в тот факт, что взрослый в общем-то человек, тридцати с лишним лет, пишет страстные послания своим одноклассникам, с которыми его на самом деле ничего не связывает.
Что такое лицей? – спецПТУ, куда принимали по блату и где всё было: и ябеда, и педерастия, и дураки там были; но Пушкину невыносимо было жить в полном одиночестве, одному на всю Россию, и вот он пишет одноклассникам, стараясь с каждым говорить на его языке; он всё время вынужден наклоняться, а настоящий пушкинский голос мы слышим только в его сочинениях… Он всё время искал какого-то «мы» – мы с тобой или мы с вами… Лермонтов, обогащенный литературным опытом Пушкина, был последним, кто все-таки жаждал вечной любви и тосковал. У Тютчева или Баратынского вы этого уже не найдете. У Тютчева вся любовная лирика: как мне грустно смотреть на то, что ты меня любишь… Мне невозможно тебе на это ответить…
Судьба художника всегда построена по законам художественного произведения. Как и всякое художественное произведение, она определяется финалом, тем, где поставлена точка. А художник, как правило, стремится к финалу, и таким образом, чтобы финал как бы был ответом на ту загадку, которая задела или озарила художника в юности».
Я сейчас думаю, что для Самуила Лурье было важно найти в мировой литературе художника, который ни разу в жизни не отступился бы от реплики порядочного человека, ни на шаг не отошел от роли. (Речь шла, конечно, не о частностях личной жизни, не о легкомысленных поступках – кураже или выпивке). Этот поиск озарил его юность и подталкивал его к исканиям в зрелости. Это была его идея.
Он когда-то, в молодости, написал в издательство заявку на книгу о Николае Полевом. И получил ответ: «В настоящее время издавать биографии второстепенных писателей, каким является Николай Полевой, не представляется возможным». («Представляете, Лиля, это было написано о литераторе, о котором Белинский сказал, что он составил эпоху русской литературы наравне с Ломоносовым!»)
И много-много лет Самуил Лурье готовился к этой книге, чтобы в конце концов написать свой «Изломанный аршин». Он волновался, он присылал главами книгу друзьям (Андрею Арьеву и Якову Гордину в «Звезду», где она печаталась, и просто друзьям, чье мнение ему было интересно). И мы в письмах обсуждали, как разворошит он осиное гнездо, ленивый террариум академического литературоведения, как накинутся на него и станут рвать его крючьями, стряхивая с губ пену ненависти рецензенты, как начнется визг, хохот, людская молвь и конский топ. И, думается мне, ему хотелось этой брани! Ох, как хотелось!
(Вот какой разговор вспоминаю: Саня говорил, что в молодости ему часто представлялось, как его поведут на расстрел. И он дал себе клятву, что в последний момент, перед самым «пли!», он успеет им прокричать: «А пошли вы!» – «Господи, – поразилась я, – всего-то что пошлете их, и больше ничего?!» – «А больше ничего и не надо». Тогда я лишь удивилась, еще не зная, что трагедия немногословна и изъясняется она простейшими словами. Как он сам написал о Мандельштаме: «Кто-то запомнил шесть слов – будто бы Осипа Мандельштама последний текст: ЧЕРНАЯ НОЧЬ, ДУШНЫЙ БАРАК, ЖИРНЫЕ ВШИ».)
Но никто не повел на расстрел и никто эту книгу не расслышал. Друзья писали в основном частные письма. Враги и противники в основном молчали.
Я писала в письме, что в «Изломанном аршине» нет ни одного лишнего слова, что проза в нем доведена до безупречности и непреложности стиха, который хочется и зазубрить и запомнить наизусть по совету Пастернака.
Думаю, что в «Изломанном аршине» он довел до финала свою идею, свою мечту о порядочности, убедился, что она невозможна, невозможна даже в случае с Пушкиным. Что и он поступал (речь, повторюсь, не о любовных интрижках) лукаво, нехорошо, непорядочно.
И почему-то (не совсем, наверное, законно!) у меня зарифмовалась эта идея с рассуждениями Сани о «Капитанской дочке». Там все притворщики, все самозванцы: Пугачев притворяется Петром III, это-то мы знаем и сами, но ведь и Екатерина II притворяется обычной дамой в душегрейке, которой случается бывать при дворе, притворяется и Маша Миронова, делая вид, что не признала государыню императрицу, притворяется Швабрин, что равнодушен к Маше, притворяется Петруша Гринев, прикидываясь недорослем, притворяются его родители, записывая, по обычаю времени, Петрушу в полк, когда матушка была еще только брюхата им. Притворяется и Пушкин, будто разговаривает с читателем доверительно и простодушно.
Саня так рассказывал об этой своей работе:
«Может быть, «Капитанская дочка» полнее и непосредственней раскрывает внутреннюю жизнь Пушкина, чем другие его поздние произведения. Швабрин и декабристы, Гринев и Дон Кихот… Удивительные уподобления, которыми пронизан роман, не складываются в умозаключение, отпираемое универсальным ключом. В судьбах Гринева и Швабрина автор шифрует размышления о своей судьбе. Оттого ни один из них порознь не составляет самостоятельного характера и оба представлены гораздо подробнее, чем нужно для сюжета. Оттого Пушкин одалживает Гриневу свой голос, а Швабрину свою внешность. Швабрин, как и Гринев, не желает участвовать в Истории. Швабрину, как и Гриневу, на свете нужна лишь капитанская дочка. Это роман о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Этот сюжет мы находим в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы. Потеряв связь с читателем и провозглашая независимость от него, Пушкин в этом романе стоит к нему спиной. Он не рассчитывает на понимание и подчиняет ход романа музыке тайных мыслей, не похожей на обычную логику прозы. Оттого в «Капитанской дочке» много потайных ходов и нарочитого авторского произвола… Оттого «Капитанская дочка», сколько ни перечитывай, остается произведением таинственным…»
А в «Изломанном аршине» все таинственности – не текста, но личности – отменены. Справедливость и порядочность оказываются для Лурье выше и даже важнее гениальной литературы, не поглощаются ею; не подразумевает высшая эстетика непременно этику, как уверял один из самых ценимых Лурье поэтов – Бродский. Важнее оказалось то, что поступили с Николаем Полевым (а с самим Самуилом Лурье?!) несправедливо, и Пушкин, в частности, к этой несправедливости был причастен.
Я писала отклики на каждую главу книги. В одном из писем говорила о том, что никогда еще из-под пера Сани не выходили такие веселые (именно веселые!) тексты.
Он ответил: «Дорогая Лиля, Ваши слова мне дороги бесконечно. Потому что, если раз в жизни сказать о себе серьезно, – я именно это чувствую, пиша этот текст: не саркастическую злобу, а веселье. Которое хочу передать или доставить таким людям, как Вы, я, Коля – боюсь, нас очень немного, – методом частичной и временной победы ума над Пошлостью.
Вот она нас всю жизнь насилует, как хочет, – но вдруг мне посчастливилось: застал ее врасплох с голой задницей. Особенное наслаждение тут в том, что факты сами подбегают и просятся: возьми меня, я помогу. Факты на моей стороне. Им нравится находиться в осмысленной связи. Поэтому и скандал – которого опасается (и отчасти желает – как, возможно, и я) Коля, – не особенно страшен. Что можно предъявить, кроме русофобии, порнографии да кощунства? Разве что сто раз повторить мои ФИО.
Боюсь, я разболтался. А ведь надо еще дописать. Но у меня такое чувство, что середина пройдена. Даже если я сегодня умру – образ книжки уже существует. Но все-таки надо еще отомстить за бедолагу Полевого. Да и еще кое за кого. Так что лучше не умирать, а постараться. Журнальный формат стесняет – хотя журнальный темп бодрит. Это я к тому, что мы говорим: книжка, книжка, – а книжка-то при моей жизни не факт что выйдет. А без меня и подавно вряд ли. И это отчасти жаль. Мне хотелось бы смешных иллюстраций. Издание для среднего и старшего школьного возраста. И кое-где распространиться свободно, чисто для удовольствия. Высказать разные оставшиеся мысли про литературу, и не только».
Мне очень нравилась книга, и она стремительно неслась вперед. И Саня отвечал на мои похвалы и соображения: «Я устал и поэтому отвечаю сентиментально. Спасибо, моя дорогая, за то, что Вы всегда относились ко мне так, как относились. Возможно, я и стоил такого отношения. Но, кроме Вас, этого никто не знал».
Конечно, знали все, кто читал внимательно Самуила Лурье. В ранней молодости, в начале 70-х годов минувшего века, Сергей Довлатов показал мне журнал «Аврора» с рецензией Лурье и сказал: «Так пишет гений».
Самуил Лурье всегда говорил с гениями как бог на душу положит. Гении для него – не начальство, не высшая инстанция, не значительное лицо, но достойные собеседники и не прощают лакейства. В литературе мы не найдем почти примеров изображения гениев персонажами, разве что о гениях пишет гений, и то не всякий решится. Булгаков, например, воздержался выводить Пушкина в пьесе «Последние дни»; для Самуила Лурье не было такой проблемы, он жил среди гениев прошлого, говорил с ними запросто, был понимаем ими и – зачастую – непонимаем современниками. Что же получается у Лурье? Что Пушкин был живым человеком, как и сам Лурье? Не в вечности, не в мраморе, не в бронзе, а в том самом пространстве, где пребываем и все мы. То есть возможно сравнение. Что невыносимо.
Он говорил, что считал жизнь важнее литературы. Не совсем так. Некоторое лукавство. Внутри литературы он себя чувствовал более комфортно, чем внутри жизни: у него дома книги стояли высокими, затейливыми стопками даже на полу, не были частью интерьера, но сбегали с книжных полок и отказывались от стеллажей, прижимаясь к хозяину. Он разыгрывал с персонажами и авторами сложнейшие шахматные партии, притворяясь шекспировским шутом – позволяя фразе бежать с мыслью наперегонки куда глаза глядят.
Есть в текстах Лурье та последняя тупиковая правда, после которой уже нечего делать – поле боя следует отдать под детскую площадку или огород. Но не пугайтесь, оказывается, всё страшное уже позади, ибо эти тексты боязно читать, но сладко перечитывать. Открытия их уже присмирели в вашем сознании, а образы ласкают слух, они как стихи – не унимаются, пока не выучишь их наизусть.
«Александр Блок почти всю жизнь провел, как поэт – как почти никто из поэтов: как гимназист – каникулы». Загадка жизни, сжатая до загадки сравнения. Слава богу, разгадка последней (в отличие, к сожалению, от первой) – невозможна.
Почему-то мне совершенно неуместно сквозь слезы вспоминается, как встречали 2015 год в редакции «Звезды». Накрывали стол, и мне выпало нарезать какой-то редкий даже по нынешним изобильным временам сервелат – его поручил принести в редакцию к новогоднему столу Саня Лурье.
Совершенно непрактичный человек, абсолютно равнодушный к быту, деликатно создаваемому вокруг него женой Элей. То есть он знал множество уникальных деталей быта, если они пригождались творческому портрету его героя: однажды он вел по Петербургу Достоевского нас с Колей Крыщуком и какие-то случайные прохожие, увязавшиеся за его словами, стали задавать ему уточняющие вопросы от беззастенчивого потрясения его знаниями. И он охотно отвечал… Мысль была такая: Достоевский не видел то, что описывал, а потому, как слепец, держался всего, что можно было сосчитать, пощупать, увидеть из окна, освоить каждодневным маршрутом. И еще помню, как Саня показывал мост: взгляд с моста и взгляд на мост; и мост становился живым, он поднимался тяжеловесом в рывке, он отражался в воде, и внимательно следил за нами из-под нее…
Саня очень любил сладкое и немного стыдился этой слабости. Но, преодолевая смущение, когда я спрашивала, что принести к столу, описывал миндальные пирожные, к которым питал особенную слабость…
А на новогодний стол в «Звезду» своим питерским друзьям позаботился организовать из Америки идеальную толковую закуску. И я хорошо справилась с нарезкой – не круглыми ломтями, как режут вареную «докторскую», а наклонными большими тонкими овалами, как в буфете богатых театров. И меня похвалили. И не могу даже теперь объяснить, почему всё это уже имело отношение к истории литературы, к судьбе поколения, к тем людям, которые жили и живут без суетливого лукавства, без выгоды, расчета, но легко – то есть мучительно, – опираясь исключительно на совесть и талант; Андрей Арьев и Яков Гордин – соредакторы объявили тогда, что в первый номер нового года успела попасть повесть Сани «Меркуцио», посвященная Геннадию Комарову… Начинается так:
«Составляю предложения. Скрепляю обдуманную, по возможности, лексику – осмысленным, по возможности, синтаксисом. Никогда ничего другого не умел – умею ли все еще?
Какие там, на гаснущем багровом небе внутри черепа беззвучно рвутся по швам облака.
Словесный автоскан головы.
Забавляюсь, короче. Je m’amuse. Как Фердинанд VIII. Как Франциск I.
Посему и считалка – не: шла машина темным лесом за каким-то интересом, – а из Жуковского:
Перед своим зверинцем с баронами, с наследным принцем король Франциск сидел. С высокого балкона он плевал, – короче, все равно выходи на букву С. Или Л. Или Ш».
Он переживал, что в воспоминаниях его слова будут шулерски передернуты, переиначены, перекошены. Но так ведь всегда бывает с воспоминаниями. Много лет назад, сочиняя о своих друзьях документальную повесть, я описала такой эпизод: поздним вечером в Доме творчества писателей в Комарове выпивала большая компания. Не хватило. Возникла версия, что у Сани Лурье, который давно отправился спать, вдруг да и припрятана маленькая. Положили, что пойти за ней должна я – единственная дама в компании; Саня, было решено, даме не откажет. Я пришла, Саня что-то читал, я, помявшись, начала издалека:
– Тут так холодно, Саня! Я всё время мёрзну!
– Зачем же вы мёрзнете, – отозвался Саня, – бросьте эти рахметовские штучки; у меня есть в номере второе одеяло, совершенно мне не нужное, забирайте!
С тем я и ушла. И описала, значит, эту легкую Санину издевку над нашей засидевшейся компанией. Саня прочитал и дал свое согласие на публикацию. Итак, прошло много лет. И незадолго до смерти в шутливой записке из Америки Саня написал: «Думаю, я могу к Вам обратиться с маленькой просьбой, ведь тогда в Комарове я дал Вам то ли одеяло, то ли маленькую». То есть, конечно, пошутить пошутил, но послал тогда на наш стол свою заначку, а я об этом не написала, сочтя, что для повести будет выгоднее оборвать эпизод…
Почему-то эта ерунда теперь очень важна, как и всё, что связано с Самуилом Лурье. Важно не только то, что он написал, но и что говорил, каким был в ничтожных мелочах. Именно ничтожные мелочи порой говорят о человеке больше, чем многословные полотна. Я помню, как меня поразила его реакция на мои слова об одном человеке (которого он не знал): я рассказывала некую забавную историю об этом человеке и завершила ее так: полагаю, он был стукачом. Саня (он говорил всегда очень тихо) закричал, если так можно сказать, закричал навзрыд:
– Никогда не смейте так говорить о людях, если не обладаете стопроцентными доказательствами! Как это можно полагать?!! Это ведь несмываемый позор для живого человека!!!
Он обязал себя быть равным во всем своим текстам – то есть быть безупречным. Наверное, это невозможно, наверное, он был таким не со всеми и не всегда. Но в нашей дружбе, которая насчитывает десятилетия, он был именно таким, и только таким.
Дружба наша не была ничем затемнена: «Пришлите свою маленькую повесть. Я, кажется, начинаю понемногу привыкать к мысли, что Ваши безумные видения – это тоже Вы, та чудесная остроумная подруга, с которой у нас, на наше общее счастье, никаких этих влажных и судорожных глупостей не было, так что остается шанс понять, а покамест есть реальность – любить.
Достоим до конца!»
В одном из прощальных писем Саня Лурье горько заметил, что настоящей встречи с читателями у него не получилось. «Не нужны им мои тексты, и не знаю – чьи нужны; во всяком случае, из полутора тысяч тиража «Писарева» (роман «Литератор Писарев». – Е.С.) за год разошлась всего тысяча, – и кстати, не получила ни одного печатного отклика. Во-вторых, и в самих своих текстах я разуверился. Охладел к ним. Стало все равно – прочитают, не прочитают. Такое чувство, что навязываешься. Вон сколько книг выходит каждый день. А у меня их стало как-то неприлично много, больше дюжины. Это мне не по рангу, не по классу. Раз нет спроса, зачем приставать с предложением. Тем более что почти все напечатано. В общем, я в глубоком раздумье».
Я же отвечала, что настоящая встреча с читателями у него впереди, отвечала не в утешение, но в глубокой убежденности, поскольку такую прозу о прозе и поэзии, которую сочинял всю жизнь Самуил Лурье, где еще сыщешь?
Он часто говорил о жизни в Аду. «У писателя есть три цели – он хочет быть равным самому себе, хочет, чтобы его поняли, и хочет, чтобы его полюбили. Как только он оказывается равным самому себе, его перестают понимать. А уж если поймут, то кто же полюбит?!» В «Изломанном аршине» он пишет: «У литератора – это все знают, а первый написал, если не ошибаюсь, Петрарка, – жизнь одна, а смертей – три. Что может с ним сделать враг, хоть самый лютый? Да только то же самое, что с любым другим человеком. Добиться, чтобы до самого наступления первой смерти – до остановки сердца – небо казалось ему с овчинку (спец. термин)… О второй смерти – чтобы погибла слава имени – позаботятся друзья. Конечно, тоже литераторы… А тут и третья смерть набежит – смерть сочинений».
Ему важен был повод – поговорить об Аде. И он написал мне к утру (вечером я ему отправила в Америку, уже он переехал туда, болел и страдал, свой роман, страшно волнуясь): «Не выдержал и прочитал сразу. И мне понравилось. То есть я не мог бы никому и даже себе растолковать, в чем смысл этой якобы бессмыслицы. (Имею в виду большой смысл, над-смысл.) Но я чувствую его присутствие, а также литературный блеск. Это какое-то черное пыльное облако (пошлости), в котором сверкают молнии (сарказма). Но с кем бьется автор? и неужели моя старинная знакомая, такая приветливая, разумная, веселая, все время пребывает или хотя бы иногда находится в этом мире? в Аду, собственно говоря. Это не может нравиться. Текст может восхищать – и восхищает. Он, по-моему, безупречен. Но почти невыносим.
Чуть было не обозвал себя за это романтиком. Но немножко подумал и понял, что романтик – Вы. Так же опознавая практически во всем безотрадную пошлость, я использую как антидот высокомерную иронию, которая меня слегка веселит и как бы утешает. А у Вас ироническое переживание оборачивается трагическим. Вы относитесь к жизни гораздо более серьезно.
В общем, так. Литература это первоклассная. Если она адекватно передает присущее Вам переживание реальности, – то это экстра-класс, и уже не просто литература. В обоих случаях – поздравляю (во втором – и сострадаю). Текст, безусловно, не пропадет. Только боюсь, что его первыми полюбят (или, наоборот, в конце концов канонизируют) совсем не те люди, с которыми Вам хотелось бы говорить.
Простите, если наболтал пустяков…»
Цитирую это письмо не из самодовольства, а чтобы вернуться к еще одному письму Сани, в котором он откликался на отрывки из того же моего романа, тогда еще только складывавшегося из разных новелл и фрагментов: «…А вот Ваши тексты о страстях и страхах – для меня – как будто ничьи. Вот, дескать, как интересно пишет некто талантливый. Вижу, как идет перо, но не слышу голоса. Это наверняка не недостаток. Даже возможно, что это не слабость, а, наоборот, сила. Но лично у меня не получается интонационно-интуитивный контакт. Конечно, Вам неприятно это читать. А мне – писать. Но ведь и отмолчаться как-то некрасиво. Поскольку мы друг другу совсем не чужие. И я очень дорого бы дал за внутреннюю возможность полюбить эти тексты так, как люблю Вас.
Возможно, как раз привычный для меня Ваш облик – приветливой умницы-остроумницы – мешает мне поверить, что Вы и та, кто пишет эти тексты, полные жестокого мрака и сознающие постоянное близкое присутствие Зла, – один и тот же человек.
Я не слышу в них знакомого голоса – а незнакомый не могу соединить ни с чьим лицом. Так что не исключено, что проблема, о которой я Вам пишу, – это проблема моя, как читателя, а не Ваша.
Так или иначе, я попытался выразить, что думаю. Вы ведь не рассердитесь – а если рассердитесь, то не навеки?»
Я горжусь тем, что он всегда писал мне именно то, что думал о моих текстах, никогда не щадя и никогда не утешая. И, оценивая один и тот же текст в разное время по-разному, никогда не лукавил и не впадал в противоречие. Это для меня знак объема, к которому он всегда стремился и способностью к которому всегда прельщал. Как и в случае со стихами, два мнения о моей прозе на самом деле не противятся друг другу, но составляют круг, берутся за руки, кружатся на площадке…
«Проблема в том, – писал он мне, – что литераторы стали так необыкновенно обидчивы, что я их просто боюсь. Буквально три случая подряд: ах, С. А., вы такой замечательный, только вашему мнению и доверяю, прочитайте, ради Бога. – А как только прочитал и написал в ответ, что понравилось-то, предположим, понравилось, – но не все, – и вот что не понравилось, и вот почему, – а впрочем, не претендую на безошибочную оценку, не огорчайтесь и не обращайте внимания, – как в ответ серии оскорбительных писем. И язвительный-то я, и циничный, и вообще, наверное, у меня есть личные причины скрывать, насколько мне, на самом-то деле, обсуждаемый текст понравился. Но если действительно не понравился – причины, наоборот, ясны как день: это моя старость и моя же зависть. Приблизительно так, более или менее открытым текстом. Одна Вы ни разу не рассердились».
И опять хочется вернуться к его остротам, к смене регистров. Когда опубликовали, кажется, в конце 80-х роман «Любовник леди Чаттерлей» и многие им зачитывались, я что-то попыталась сказать Сане об этом «новом слове» в литературе. Он отреагировал моментально:
«Лилечка, не вздумайте мне говорить об этой «Хижине тёти Томы»!»
Как-то я пожаловалась ему: «Саня, мы в Эстонии теряем живой русский язык, посоветуйте, что же нам делать?» – «Родной язык, как любимую женщину – нужно чаще употреблять!» – в ту же секунду ответил он.
Как-то он сказал: «Мне хочется записаться в общество «Друзей дождевого червя». Знаете, его рвут на части цыплята. У дождевого червя пять сердец, и каждый оторванный кусок так корежится на земле потому, что у него болит сердце…»
У афоризмов Лурье есть растлевающее свойство: их хочется украсть; они столь совершенны, что чешутся кавычки при цитировании. Потому что это не афоризмы, но стихи. Написанные внутри литературы, как внутри боли, чтобы преодолеть и ту и другую. Он говорил: «Евгений Онегин – соединение демонической тоски и мужского простодушия, то есть соединение Манон Леско и кавалера де Грие»; «Талант Лермонтова оказался больше, чем его человеческие ресурсы. Его герой оказался обаятельней и крупнее, чем он сам». Порой кажется, что он был Крысоловом, уводящим из города детей в бездну своего абсолютного понимания, и они шли – гении – и становились его персонажами. Он писал, думаю, улыбаясь в этот момент: «Но лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и щекотлив, – и не понимает поэтов, и не любит стихов, и не догадывается, какой тяжестью ложится на юное сердце вся эта красота: серебро и лазурь, и ослепительно темная зелень – превращаясь в речь, слишком не похожую на пошлую участь…»
Поверьте, Самуил Лурье ответил за базар (о, вы ведь помните, как он бросал время от времени лексические окурки на звучные ступени красок), итак, он ответил за базар участью – не за то, что гениев сделал своими персонажами, но за то, что любил, – участью судьбы, у которой нет биографии.
Вот что он еще говорил: «Я серьезно думаю о том, что если «гений» и «вдохновение» – слова проблематичные, и, может быть, за ними нет никакой реальности, то «пошлость» и «глупость» – не только слова, это имена мощных, управляющих жизнью сил. Стихийных, как силы природы. Себя же ощущаешь одним из муравьев, пытающихся растащить пирамиду Хеопса. Пошлость и глупость в сочетании со злой волей творят страшные дела, а единственное, что ты можешь, – построить фразу. Построить ее так, чтобы в ней не было ни пошлости, ни глупости, ни злой воли. Это очень немного. И это очень трудно. И тратишь много сил.
Пошлость – дочь глупости и смерти. Пошлость – это глупость в эстетическом измерении. Сама глупость каким-то образом связана с нашей смертностью. Смерть присутствует в жизни, просвечивает сквозь нее и проявляет себя именно так: она симулирует жизнь, как цветы на погребальном венке.
Впрочем, пошлость была всегда, и всегда у нее не было точного определения. Гоголь уверял, что Пушкин, прослушав «Мертвые души», сказал: «Никто, кроме вас, не может так показать пошлость пошлого человека». Но это все вранье. Пушкин не знал, как определить пошлость, а о Гоголе вообще ничего подобного не говорил. Гоголь воспользовался мертвым Пушкиным, чтобы захватить свободный литературный трон. Гоголь врал всегда, каждый день, он высмеял Пушкина в «Ревизоре», а при этом просил у него поддержки, положительных рецензий… У Набокова есть целая лекция о пошлости, но он так и не смог объяснить, о чем речь, своим студентам. Ни в одном языке, кроме русского, нет такого понятия. Набоков говорил, что пытался в «Лолите» показать пошлость современной ему Америки…»
Когда-то Лурье написал о Салтыкове-Щедрине, что у него мысль бьется об эпоху, точно муха между стеклами закрытого окна. Но окна нельзя открывать, иначе пропадут люди трагического сознания, ищущие смерти и свободы. А они пропадают. Лурье говорил:
«– Любить поэта – значит, чувствовать физическое наслаждение от его стихов. А не умственное или духовное. Но мы безнадежно испорчены. Мы испорчены какими-то отношениями с автором, сведениями о его биографии, судьбе, поступках…
Времени мало осталось. Человек слабеет, глупеет. А я, поверьте, буду молчаливым стариком. Если буду стариком…»
Стариком не стал.
Я писала ему:
«Я все думаю: чем так мешает жить хорошая книга читающему человеку? А вот, может быть, чем: книга замечательная устраивает читателю аудиторскую проверку, приезжает к читателю ревизор… Чтение подлинной литературы требует мобилизации всего жизненного опыта, раздумий, страданий, радостей; такое чтение, когда притормаживаешь на страницах от восторга, единственное, что способно быть заменой счастию, да почему заменой, собственно счастьем. Потому что от такого текста исходит вдохновение, которым заражаешься, как любовью.
В «Железном бульваре» создан Петербург – искусственный, как литература, и страшный, как ее бессмертие. Такого города нет, хотя автор и пригвождает его к месту достоверностями, чтобы город не улетучился; это на свой лад Макондо Маркеса, которого не найдешь на карте (а если бы и найти, ничего бы не изменилось в вымысле). То есть, разумеется, в тексты входит и совершенно реальный Петербург с его памятниками и оградами, с его историей в пятнах крови… Вы листаете время, как страницы, потому что точно знаете, как все было, – любой мастер может справиться у Вас, как у Воланда. А сами Вы сидите в Юсуповском саду. «Сейчас… лето, жизнь прошла, в саду красиво. Словно прорубили большое окно в природу и забрали решеткой. Дышится легко, и вообще похоже на кладбище, с той разницей, что тела обнажены и валяются на поверхности, принимая соблазнительные позы. Много зелени, много мяса, чуть-чуть белья».
О ком бы Вы ни писали, Саня, о разных писателях или о своем родном городе, остается в памяти только одно имя: Самуил Лурье, его голос, его жизнь, его судьба, выложенные в текстах».
Он отвечал:
«В общем, проблема сводится к тому, чтобы писать совсем по-своему – но так, чтобы совсем чужие люди принимали тоже за свое. От автора зависит – и то лишь отчасти – только первая половина успеха. Вторая же, сбывшись, заставляет, как правило, заподозрить, что с первой что-то не так».
В этом письме были советы по поводу моих текстов, но теперь, когда главная его книга принята не так, как ему хотелось и мечталось, думаю, эти заключения и сомнения он относил и к себе самому.
В 2010 году Саня и Эля собирались приехать в Таллин на мое шестидесятилетие. Не получилось. Саня прислал мне поздравительное письмо, которое просил прочесть со сцены:
«День рождения человека, без которого собственная жизнь была бы другой, – хороший повод о нем задуматься. И я задумался о Вас – и не без удивления понял (Вы тоже сейчас, наверное, удивитесь), что отношусь к Вам как к дочери, которою гордишься. Наверное, это оттого, что помню Григория Михайловича (моего отца – прозаика Григория Скульского. – Е.С.). И помню Вас очень-очень юной. Я уверен, что есть такая Вселенная – или можно так взглянуть на известную нам, чтобы это стало понятно, – где он видит Вас и гордится Вами, – и вот это чувство передается мне.
Чего хочешь от дочери (а вернее – для нее)? Чтобы ее не коснулись унижение и пошлость, особенно неизбежные в женской судьбе. Чтобы ее воля всегда оставалась свободной. Чтобы ей не приходилось поступаться независимостью ума. Чтобы ее не оглуплял самообман.
Каким-то образом (я ведь не знаю – как, у нас с Вами не бывало задушевностей) – Вы стали – по крайней мере, для меня – олицетворением такой победы над силой вещей. Цена этой победы мне тоже неизвестна. Какова бы ни была – я восхищаюсь.
Мне необычайно повезло: с каждым десятилетием мы приближаемся друг к другу. Со скоростью материков, но уже можно переговариваться.
И с каждым годом Вы все более мне нужны. Спасибо, что у Вас хватило снисходительности, терпения и юмора, чтобы не потерять меня.
Будьте здоровы. Думайте, говорите и пишите. Ваше присутствие сообщает окружающей реальности праздничный оттенок. Думаю – там, где мы более или менее невдолге окажемся, нет разделения на женские зоны и мужские. Мы обязательно встретимся – у нас там будет неплохая компания – скучать не придется. Кому-кому, а нам вечность не страшна. Столько еще не сказано».
На обложке одной из книг Лурье-издатель процитировал мою рецензию на тексты Сани. Я немного огорчилась вполне заурядными фразами и написала Сане, что у меня есть о нем слова и получше: «Сравнивать тексты С. Гедройца (псевдоним Самуила Лурье. – Е.С.) совершенно не с чем, потому что он пишет лучше всех в России, разве что с текстами Самуила Лурье…» Сане очень понравилось, он написал, что укажет в завещании, чтобы впредь непременно использовали эту цитату на обложках. Нам еще многое казалось шуткой…
Прошло пять лет. И вот – последнее письмо:
«Целую Вас, дорогая Лиля. Марине и Вите (моя семья. – Е.С.) – большой привет. А я от Вас – Григорию Михайловичу, если встречу. И расскажу, и похвалю. Будет еще больше гордиться Вами. Радоваться недавним успехам. И мы помашем Вам из облаков. Будьте здоровы как можно дольше. И веселы. И красивы. И умны».
Саня говорил, что исповедует философию веселого экзистенциализма…
У меня дома есть альбомчик, в который моя мама просила что-нибудь написать именитых гостей. Четверть века назад Саня написал: «Наверное, мне было предназначено придти однажды в этот дом и почувствовать себя – своим. Мне нравился Григорий Михайлович, нравилась его проза – мне нравилась юная Лиля – и с первого взгляда понравились все в этой семье – и теперь кажется – может быть, это так и есть на самом деле – что это одна из тех встреч, какие бывают в старинных романах (английских): когда собираются люди, чья вся предшествующая жизнь их друг к другу вела – для того, чтобы все обрадовались, что плывут на одном корабле – а значит, совсем плохо не будет никому никогда».
2015
«…Но к сентябрю меня уже не будет». О Валерии Золотухине
– Валера, не могу понять, так тебе понравилась моя повесть-пьеса «Не стой под небом, отойди!» или не понравилась?!
– Понравилась, Лиля, очень понравилась. Я и режиссера на нее нашел бы, ты понимаешь, нужен особый режиссер, я к нему присматриваюсь, он у меня на Алтае ставил. У тебя фокус в том, что нельзя убирать ремарки, прозаический текст убирать нельзя, а текста этого больше, чем самой пьесы, точнее, всех этих смешных абсурдистских пьесок, которыми он перемежается. И поставили бы, Лиля, к сентябрю, да только в сентябре меня уже не будет.
– Валера, сколько же можно! И десять лет назад ты говорил, что умираешь.
– Тогда умирал, а теперь меня убьют. Ты забыла? Я ведь начальник, руковожу Театром на Таганке, меня убьют.
– Слушай, какой глупый разговор. И всё только для того, чтобы мою пьесу не ставить?..
Но не засмеялись – ни он, ни я.
И умер.
А до этого приезжал в Таллин с пьесой Артура Миллера «Все мои сыновья» в постановке Кшиштофа Занусси. После смерти своего сына. Написал на книжке: «Лиля! Прими ради фотографий моих сыновей!» Потом позвонил уже из Москвы:
– Мне кажется, ты хотела уйти после первого действия. Совсем плохо?
Я-то знаю, что со сцены не могло быть меня видно в одиннадцатом ряду, тем более что удержалась и не ушла.
– Нет, не то чтобы плохо… Но ты скажи, как это вы с Екатериной Васильевой, великие артисты, могли играть с этим, ну, таким, похожим на большой спичечный коробок; стоял в углу сцены и что-то шепелявил – в костюме с ватными плечами, в черной шляпе на американской жаре, на зеленой траве, да, еще и эта бритая трава, которой облеплена вся сцена…
– Наш продюсер. Пожалуйста, говорит, повезу вас в Польшу, будете дома у Занусси репетировать, как захотите, любые деньги, всё отдам. Но хочу сыграть. Дайте, говорит, мне маленькую роль, а я вам всё что угодно оплачу. И выбора у меня не было, понимаешь.
А перед спектаклем, как уже привык за долгие годы, продавал свои книги. («Я же… остановился. Ни хрена не пишу и продаю свое прошлое, то бишь – дневники… Кстати… это прошлое и кормит меня в прямом смысле…») К деньгам с брезгливостью не прикасался, они шевелились и копошились и перекладывались чужими руками как-то отдельно от него. Он посматривал на горку купюр, как смотрят на старые обои, под которыми, пригнув головы, пробираются к выходу тараканы, и от этого выцветшие цветы на обоях чуть подрагивают. У всех спрашивал имя и задумывался, какая бы надпись к этому имени подошла бы. Опустил голову.
– Мария! – протянулся к нему искательный звук, и женщина перерезала свой большой кухонный живот краем стола, за которым он сидел.
Он вздрогнул и почти застонал:
– Ты, Мария, – гибнущим подмога…[11]
Живот отодвигается, заравнивает впадинку от края стола. Он поднимает взгляд на полированные пряди цвета мореного дуба, только что снятые с бигуди, оглядывается на меня – неловко вышло.
– Надо смерть предупредить – уснуть[12], – продолжаю я.
– Я стою у твоего порога[13], – говорит он; очередь притихла; книга раскрыта.
– Уходи, уйди, еще побудь[14], – говорю я. Он книгу надписывает, и «мастерица виноватых взоров» уходит, переваливаясь, в зал.
– Почитать хором не с кем. Почти никого не осталось…
Не то чтобы прикидывался, но не возражал, даже нравилось, когда казался простачком, алтайским пареньком с гармошечкой-частушечкой, в смазных сапогах, в поддевке, Клюев-Есенин, мой дорогой; «Наплявать-наплявать, надоело воевать…». Зачем Бумбарашу Мандельштам? Или зачем вот это, например, что он повторяет и повторяет и примеривает к себе:
Как странно, Валерий Сергеевич, – откуда в вас Бродский?
Он вырос среди боли и болезней. Всегда знал это медленное усердие больного, который сопротивляется, поедаемый и разрушаемый тлением.
«Мама, – рассказывал, – привязывала меня за ногу, оставляла на крыльце и уходила работать в поле. А я пел, и мне в благодарность давали то пирожок, то еще что-то, и я тогда понял, что я всю жизнь буду петь, раз меня за это благодарят, а может быть, я это осознал лишь тогда, когда написал об этом в книге… Понимаешь, мы ведь осознаем, что с нами произошло, только написав об этом, а пока не написали, не знаем, а когда написали, то кажется, что прошлое должно подстроиться, подравняться под написанное.
Да нет, не так, я всегда был уверен в своем актерском предназначении… Мое село находится очень далеко на Алтае, туда добраться сложно, особенно зимой, и вдруг в наш клуб деревенский артисты Бийского драматического театра привезли зимой то ли Гольдони, то ли Мольера, и в страшный мороз играли, как нам казалось, совершенно голыми, – мужчины в белых чулках, в распахнутых рубахах… Я был прострелен этим зрелищем, я, может быть, не очень вникал в содержание, не очень понимал, но мне понравился сам подвиг – мы сидим в шубах, в шапках, пар изо рта, а они обнаженные нас развлекают. Мне захотелось быть среди них – преподносящих красоту, несмотря на мороз и шубы, и вместе с ними заставлять смеяться и плакать…
Ты учти, я ведь до восьмого класса ходил на костылях. Да-да, сначала лежал три года, привязанный к постели. Отец меня по блату устроил в туберкулезный санаторий, эвакуированный из Ленинграда; нога до верху была у меня в гипсе – лекарств других не было; у меня была опухоль, завелись какие-то мясные гнойные червячки, я стал чесаться, засовывал туда ручки, карандаши, и расчесал все: гной вытек, поднялась страшная вонь, и врачи вынуждены были снять гипс, – так я сам себя спас, а иначе я бы лишился ноги, она бы высохла… Потом мне разрешали по несколько минут сидеть, потом поставили на костыли…»
Подвиг театра и подвиг терпения были для него неразлучны. Он несколько месяцев, не отходя, выхаживал после тяжелейшей травмы мать своего младшего сына – красавицу-актрису; жалел, до слез жалел свою жену, она болела; долго болел его старый товарищ по Таганке, к которому ушла первая жена вместе с первым сыном; сострадал и помогал. Звонили из деревни, родные болели, умирали, он в подробностях выспрашивал, слал лекарства, построил храм на свои деньги…
Очень хорошо понимал, чувствовал внутренние механизмы людей, был до крайности прозорлив, а потому в людях всегда ошибался; откровенничал и с теми, кто деликатно отворачивался, увидев простодушно обнаженное исподнее, и с теми, кто только исподним и интересовался, сладострастно сглатывая слюну. Непрожеванные куски собственной жизни смотрели на него со страниц газет, с экранов телевизоров; он отрицал, соглашался, снова говорил о сокровенном. О, не случайно среди его ролей – Грушницкий. Всякий, пускающийся на дебют, пишущий или играющий роль, думает, что всё обойдется, что дуэль будет не настоящая, а оказывается, что всё будет всерьез и придется погибнуть – за свою злость, за свою шутку, за каждую свою строчку и за каждую свою маску придется умереть. Он должен был бы еще сыграть Грибоедова – ему бы хватило и злости, и музыкальности, и страсти, и той готовности к слезам, которая перечеркивает злость. А в конце спектакля о Грибоедове появлялась бы по требованию продюсера-спонсора какая-нибудь такая реклама: «Александр Сергеевич Грибоедов был растерзан озверевшей толпой в Тегеране. Куски его тела так бы и остались лежать в общей яме. Но нет! Ему повезло! Он был опознан по кольцу, сиявшему на отрубленном пальце. Палец был подобран и отвезен в Россию. Покупайте украшения ювелирного дома «Небо в алмазах», и вы никогда не затеряетесь в море трупов!»
А про свое село рассказывал лучше всего, показывал, играл все роли, спектакль в гримерке для одного зрителя, да ему и не очень важно, каков зритель, главное, чтобы он был:
«Приехала к нам бригада Московского цирка; тогда поднимали целину, и по указу партии и правительства обслуживали целинников. И вот ко мне пришли домой и пригласили меня в клуб; позвал меня руководитель бригады Алексей Яковлевич Полозов, которому на селе сказали, что я готовлюсь в артисты. Я и тогда, как и теперь, был болтун, тайн никаких, выносил всегда вперед и несделанное даже – это меня, кстати, всегда обязывало: скажу, что напишу роман, – приходится написать; скажу, что сыграю какую-то роль, – приходится добиваться; словом, Полозов говорит, что им для представления нужна подстава, нужно, говорит, молодой человек, сыграть этюд. Номер заключался в следующем: иллюзионист на сцене печет торт, а клоун его пародирует. Клоун – Полозов. Он мне объясняет: я возьмусь испечь торт в кепке и попрошу ее у публики, а вы будете сидеть в первом ряду на первом месте и вот эту кепку мне подадите – и протягивает мне застиранную и заношенную, миллион раз побывавшую в представлениях кепку; я, – продолжает он, – начну разбивать в нее яйца, добавлю опилок, гвоздей, а вы, молодой человек, возмутитесь, мол, что же это делают с моим головным убором?! Я вас заведу за кулисы, подменим кепки, вы выйдете с новой кепочкой, извинитесь передо мной, все хорошо, и этюд закончен. Согласны? Согласен! Я получил две контрамарки – для себя и своей девушки Клавы, помню, билеты были дорогие – по восемь рублей. Первый ряд – почетный: тут директор школы, тут председатель райисполкома, начальник милиции и я. За мной – Клава. Я готовился, надел рубашку, пиджачок бостоновый, перешитый из материной юбки…
Начал работать иллюзионист, появился рыжий клоун, чувствую, время мое приближается. Клоун говорит: «Я сейчас тоже испеку торт. Дайте мне кто-нибудь головной убор!» Тут же весь зал, конечно, предлагает ему, у кого что есть – кто кепку, кто фуражку, кто косынку. А он: «Нет, я попрошу головной убор у этого молодого человека, он мне понравился». А я: «Не дам!» Он растерялся на какой-то момент. Я нарушал правила игры. Вообще-то за такое убивают. Это как если бы в цирке воздушный гимнаст посторонился бы, когда к нему летит партнер, и дал бы ему упасть с высоты в опилки. Но он, человек искушенный и опытный, быстро пришел в себя и продолжил диалог: «А почему не дашь?» Одна реплика, вторая, и он обратил зрительный зал против меня. Все стали кричать: ты чего, парень, что он с твоей кепкой сделает-то, это люди-то какие из Москвы приехали, а ты кепку жалеешь; Клавка мне стучит в спину – отдай; он нагрел ситуацию до такой степени, что эту кепку у меня мои же вырвали и отдали ему. Он сообразил: игра идет, да, она идет не по заданному руслу, но идет здорово; успех уже есть, а номер только на середине. Он начинает бить в кепку яйца, бросает гвозди, добавляет все, что на сцене валяется. Я возмущаюсь! Я кричу: новая кепка! Обращаюсь к заведующей раймагом: Марья Григорьевна, вы же помните, я на трудодни купил у вас эту кепку! А она: отродясь у нас такого товару не было! Меня односельчане уже за руки держат, но я из своего пиджачка бостонового выскальзываю, как змея, бросаюсь на сцену, начинаю кепку у него вырывать, выкручиваю кепку; в лица нам летит желток, я плачу натуральными слезами, а внутренний голос во мне кричит: давай, давай, это твой звездный час, другого не будет.
Артисты перепугались: это уже не игра была, это трагедия была молодого человека, у которого отняли что-то дорогое и ценное. На буксире оттаскивает он меня за кулисы, обменяли кепку, я вышел, обомлев разглядываю целехонькую кепку и начинаю извиняться перед клоуном. Зал – простодушный сельский зал – был потрясен. Клавка моя убежала от позора. Она не поверила, что это этюд… Я досидел до конца представления, потом отдал кепку, а Алексей Яковлевич, сказав, что все прошло хорошо, пригласил зайти завтра к ним. Я ночь не спал, волновался, дождался утра и узнал, что Алексей Яковлевич был в райисполкоме, попросил, чтобы мне после школы выдали паспорт – колхозникам на руки паспорта не выдавали – и дали направление в институт. Он произнес фразу, определившую всю мою дальнейшую жизнь: «Вы сделаете преступление, молодой человек, если не станете драматическим артистом». И дал мне свой московский адрес.
Поехать из села в Москву – непросто на это решиться… Но у меня был адрес… И я приехал. Мне приоткрыла старушка дверь на собачку. «Где Алексей Яковлевич?» – «В Африке». И дверь предо мной закрылась.
Я переночевал перед институтом и в шароварах шагнул в другую жизнь, в ГИТИС, на отделение оперетты…»
…В 1965 году меня, девятиклассницу, родители отпустили одну из Таллина в Москву на весенние школьные каникулы. Мне нужно было попасть в Театр на Таганке. Ужасные у нас были споры с отцом – любимым и талантливым писателем Григорием Скульским – о том, существует ли какая-то отдельная советская литература. Я эту отдельную литературу не любила и уже тогда была убеждена, что жизнь человека трагична и несчастлива по определению, а не в силу каких-то обстоятельств. И писала стихи про догоревший белый снег, про запекшуюся рану неба, про то, что я убегу, спотыкаясь о звезды. И я знала, что мне нужно попасть на Таганку (и на спектакли Эфроса, но это потом).
Таганка была одним из очень немногих мечтаний, которые не обманули. Я помню, как в пять-шесть лет мы с моей подружкой Милкой, сидя под столом на кухне ее дедушки и бабушки, таскали из огромного «картофельного» мешка воблу; воблу эту привозили родители Милки с Дальнего Востока, на всю зиму должно было хватить, потом уезжали обратно. И нам разрешалось брать не больше одной воблы в день. И вот мы мечтали, что если станем принцессами, то будем есть воблу, сколько захотим, а главное, одни жирные хребты, а ребра станем выбрасывать, а еще нам прислужницы станут чистить семечки, и мы будем получать их уже без шелухи. Всё оказалось потом доступно, но совершенно не нужно. И помню, что мечтала о собаке, и родители поклялись подарить мне ее на 12-летие. Я ждала терпеливо шесть лет, а они были уверены, что я забыла, и отец, потрясенно, сознался, что они обманули меня. Осталась ужасная обида на жизнь, а собака так и не завелась, хотя потом этому ничто не мешало.
До сих пор помню, как по скульптурной лепке лиц, по хищной собранности тел моментально узнавались артисты Таганки в вагонах метро. Мы ехали в театр одновременно – те, кто входил со служебного хода в гримёрки за час до спектакля, и те, кто кружил у входа в театр в надежде выпросить, перехватить, вымолить, чудом добыть «лишний билетик».
И помню ту, с тревожной оглядкой, женщину, которая отвела меня за угол и продала за три рубля билет на «Доброго человека из Сезуана» в пятый ряд партера (так замечательно я потом уж никогда на Таганке не устраивалась).
Стихи были способом нашего быта, методом нашего интерьера. Мы здоровались строчками Вознесенского, мы прощались цитатами из Ахмадулиной, мы выкрикивали в спорах строфы Евтушенко. Мы слушали на бобинных магнитофонах Галича и несли в школу его стихи, мы пели на комсомольских собраниях Окуджаву, и учителя робели, но не смели нам мешать жить по-своему.
Я и сейчас не знаю истинную цену стихам Вознесенского. Как они соединялись в моем сознании со стихами Мандельштама, Цветаевой, Пастернака? Да они, наверное, и не были в строгом значении слова стихами для меня – они для меня были нормой моей речи.
Как это было и для Валерия Золотухина. Это потом он очнулся от похмельной веселой жизненной браги и задумался над Бродским, и почувствовал, что любимые поэты его времени – Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина по сравнению с Бродским – не насыщают. «Почему это прошло мимо? Почему Вознесенский никогда не присоветовал его почитать?» И Золотухин, готовясь к возможной встрече с Иосифом Бродским в Греции, выбирает и учит:
Но это всё потом, потом. А пока я сижу в 1965 году на «Добром человеке…».
Мы тогда не знали, что душе грешно без тела. Мы думали, что всё внешнее не имеет ни малейшего значения, важно – что у тебя внутри. Набоков писал о нас, что мы не моемся. Что у нас положительный герой плеснет себе утром воды в лицо, чтобы очнуться от бессонной ночи, и всё. Полу-положительные моют руки. И только форменные предатели заботятся о своем теле. Лицо еще как-то могло быть милым, умным, привлекательным, даже, в самом крайнем случае, красивым, но, конечно, не тело. Мы с ужасом думали о том, сколько стоит «сия чистота». Мы, конечно, догадывались, что плащ-болонья и джинсы приобщают нас ко всему человечеству, а не только к своей унылой социальной прослойке, но молчали…
Я увидела на сцене артистов молодых и красивых, с красивыми, сильными, накачанными, пружинистыми телами. Они играли все роли – и стариков, и юношей. Они были одеты именно в то, что приобщало их ко всему человечеству: я могу ошибаться, но сейчас мне кажется, что все они были в джинсах и черных свитерах.
Диссидентов в нашей империи всегда узнавали не по антисоветским лозунгам и даже не эзопову языку, нет, узнавали по синтаксису, по запятым, по несанкционированному ритму фразы, по внутренней рифме. Волчья поджарость Таганки, втянутые, плоские, барабанные животы били по советской власти, по ее партийному руководству – с узкими плечами, жирными женскими боками, с необъятными задницами, застарелой одышкой и старческим маразмом – больнее, чем политические намеки.
Эти артисты были эротичны. Искусство эротично по своей природе, по своей сути, по своей жажде, трепету, дыханию, и Юрий Любимов вернул театру это его первичное свойство, отнятое у всех остальных советских подмостков.
Пока Анны Каренины величественно «несли» себя под поезда, пока юных сыновей Карамазова играли зрелые и даже перезрелые мужчины, Валера Золотухин взволнованно вставал на весы, делал зарядку, ограничивал себя в еде (хорошая еда бывала на праздники, но и там нужно было себе запрещать), может быть, и не зная, что это – нормальная, правильная профессиональная забота артиста, принятая с самых древнегреческих времен. И в его, Золотухинском случае, всяческие мимолетные любовные истории – есть тоже поддержание себя в должной эротической форме, без которой бессмысленно выходить на сцену. Как живописцу необходимо обнаженное женское тело – натурщицы, музы, подруги, как живописец бесстрашен и бестактен в своем профессиональном интересе, так и артист, ему грешно без тела… И на этом теле нужно уметь играть, как на флейте.
«Вы не пара мне, – сказала мне вчера Тамара, – вам пара она, уфимская шлюха, вы с ней – два пошлых пошляка». Да, конечно, я вам не пара, Тамара Вл. (это он добавляет наперекор детской рифме. – Е.С.), – Ваша самодостаточность и высота ваша, не шучу я абсолютно, разве сравнится с низостью этой мадам. Но этой низости-то мне в вас и не хватает, очевидно, прости меня Господь!» – пишет он в Дневнике, предвидя эту неизбежность низости, которая есть всего лишь враг усредненности, обывательской правоты. Потому что готов принять всё неизбежное, что сулит профессия. Как принимают, не ропща, судьбу.
«– История моя с Полозовым, с клоуном, на его отъезде в Африку все-таки не закончилась. Как-то мы зарабатывали с Юрием Владимировичем Никулиным в домах отдыха Карельского перешейка; уже я был довольно известен, работал в Театре на Таганке, снялся в «Хозяине тайги», и в один из вечеров рассказал Никулину, как прошла моя первая встреча с клоунадой. «Ты фамилию не помнишь?» – «Полозов». – «Алеша? Я с ним начинал на манеже». Достает Юрий Владимирович записную книжку и дает мне телефон. А у меня в это время вышла повесть в «Юности» – «На Исток-речушку, к детству моему». 1973 год. И у меня в ЦДЛ был вечер, как у писателя. Дебют. Конечно, была концертная артистическая программа, но все-таки вечер писателя. В Москве я позвонил Полозову. «Здравствуйте, я тот мальчик с Алтая, которого вы направили в артисты». Он: «Мне Юра уже позвонил. Я вас, конечно, не помню, у меня таких подсадок было много, но я вас знаю». И я его пригласил в ЦДЛ. Это был, повторяю, первый такой мой вечер. После выхода повести в «Юности» был банкет, и Вознесенский мне сказал: «У тебя теперь другая биография начнется. Как у Володи Высоцкого после «Гамлета», когда в нем, в Гамлете-Высоцком, видели прежде всего поэта». Словом, я его пригласил; идет вечер, я заканчиваю программу песенкой Остапа Бендера и вдруг вижу, как по проходу идет высокий человек с огромным букетом гладиолусов. И я его узнаю, и я понимаю, что сейчас получаю букет из рук человека, которому я обязан своей актерской судьбой. Я принимаю букет, у меня – слезы по лицу; я постоял так несколько секунд и говорю залу, что я просто обязан рассказать всю ту историю, которую сейчас рассказал тебе… Потом я зашел в «Юность», и завотделом прозы сказал мне, что эта подсадка с клоуном – была лучшей частью вечера…
У этой истории есть вторая часть. В моем селе Быстрый Исток давным-давно администрация выкупила родительский дом под мой будущий музей. Некоторое время он пустовал, мальчишки с девушками там устраивали ночные посиделки, однажды чуть не сожгли его и, в конце концов, – дом разрушался, жалко было, – ко мне обратилось общество охотников, и я им этот дом отдал в пользование. Они обещали подвести фундамент, сделать крышу. И вот когда стали долбить земляной потолок – там же землю затаскивают на потолок, земля прессуется и сохраняет тепло; мы в детстве зарывали на чердаке многочисленные свои секреты; за годы земля совершенно затвердела, превратилась в асфальт; итак, когда они долбили ее, то скинули некий предмет – такой дорогой медно-латунный сплав. А напротив жил мой брат по отцу. Они ему предмет принесли – миниатюрную женскую руку. Брат мне ее потом передал. А я репетировал в это время Кина в театре имени Чехова у Трушкина. И там такой текст от автора: «Нельзя никому играть Сару Бернар или Михаила Чехова, Эдмуна Кина или Евгения Евстигнеева. Актер, который старается их изобразить, похож на бифштекс, который пыжится на сковородке, пытаясь достичь размеров быка. Великие мастера прошлого ушли вместе с эпохой, и ничто не повторить». Мы репетировали в Театре Вахтангова, а рядом антикварный магазин, я показал эту руку там, и антиквар мне сказал, что эта длань была на подставке, это видно, там отверстие в руке, и это рука – Сары Бернар. Тогда, в начале века, были сувениры – руки знаменитых людей.
И тут я вспомнил одну историю, а моя мама подтвердила, – что у нас однажды ночевала девушка: она сошла с парохода, и ей нужно было ехать дальше, в другое село; ей нужно было садиться на попутную машину или на подводу, а пока она решила переночевать. Я это помню отчетливо, поскольку городская девушка – не сельская, она была чрезвычайно красива; я ее видел только утром; когда мы явились с братом ночью после своих молодых шатаний, то мама сказала, чтобы мы в свою комнату не заходили – там девушка спит. А девушка маме сказала, что она артистка или учится на артистку, и запах по дому шел городской. И под подушкой потом, когда она уехала, обнаружили мы вот эту руку. Мама подумала, что это золото и быстро руку спрятала, она думала, что девушка поедет обратно и явится за рукой. Но девушка не вернулась. Мама перепрятывала-перепрятывала и наконец закопала кисть на чердаке. И про это все забыли. И когда история подошла к музею, а я подошел к роли Кина, то рука нашлась и упала… Вот что значит судьба, понимаешь!»
…Нормой речи эпохи были стихи (ритмически организованный текст наперекор бесформенной массе выхолощенных, кастрированных слов, селем текущих с трибун). Я переписывала стихи Андрея Вознесенского в специальный блокнот, они становились исключительно моими. Когда я слышала, что их читает кто-то другой, то изумлялась, мне казалось, что меня не только обокрали, но еще и как в страшных рассказах Роальда Даля щеголяют передо мной в украденном.
Музыкальным инструментом была гитара. Струны рвали, терзали, перебирали. Молодые люди, у которых не было мозолей от струн на подушечках пальцев, не могли рассчитывать на успех. Всё время пели хором (у костра) и брались по-братски за руки. Как-то мой отец стал расспрашивать, с кем из одноклассников у меня роман, а с кем дружба; я долго и сбивчиво ему отвечала, он вздохнул: «Что-то, смотрю, у вас любовь не сильно отличается от дружбы…» Да так оно и было, дружба – то есть стихи и песни – были важнее.
И голоса у мужчин-артистов на Таганке были иные, чем позволительно: они хрипели, они шептали, они обволакивали, они обнимали, они завораживали:
Валерий Золотухин играл в «Добром…» Водоноса. В нем уже была повадка Бумбараша – эта профильная, летящая легкость, способность промелькнуть, оставив фантомный след в воздухе, эта льняная простота, хуже воровства отнимавшая способность сопротивляться его обаянию. Он был добрым, наивным обманутым Водоносом, певшим под дождем:
Он наклонялся и сгибался, как наклоняется и сгибается складной нож, и эта нерастраченная страстная сила согнутого складного ножа сохранилась в его актерской личности навсегда – он никогда не пел до дна голоса; скупой рыцарь актерского арсенала, – это дорогого стоит в большом артисте.
– Купите воды, собаки! – просил он с укором зал и вдруг добавлял с простоватой хитрецой: «Антракт».
То есть притворяется, что ли? А на самом деле он артист, не Водонос? То есть они, на сцене, люди, такие же, как я? То есть мы с ними заодно? То есть я права – есть в нашей стране смерть (спустя десять лет мне из первого сборника стихов редакторша слово «смерть» вымарывала, разрешила только «издохший фикус» оставить, видимо, фикус был лишним при социализме). И зонги Брехта, и стихи Цветаевой – всё это из нашей жизни?
Театр немыслим без зрительского простодушия. В «Глобусе» партер стоял, ел, пил, тут же мочился на стены театра, – и ничего: понимал «Гамлета». Конечно, были места над сценой, где рафинированная публика не видела кривляния лицедеев, а только слушала стихи, но разве мы не знаем, чего стоит такая публика? Не она разжигала зимней ночью костры возле театра, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки, на которых химическим карандашом записывались номера; отлучаться из очереди не разрешалось, отдавать свой номер тоже было запрещено; стояли и зябли всю ночь в безумной надежде купить в кассе Таганки, в первые десять минут после ее открытия, заветный билетик. Не эту публику разгоняла конная милиция, не эта публика заполняла собой балкон Таганки по «входным» и стояла по нескольку часов в неудобной позе, скривившись и при этом встав на цыпочки, и какая-то пожилая дама мне, ёрзающей в толпе, заметила: «Не беспокойтесь, впечатление то же самое…»
Я помню, это было на «Гамлете», чуть не стоившем дружбы Золотухину и Высоцкому… Как бы посмел, если бы так решил Любимов, не отнять роль у друга Золотухин?! В том спектакле Лаэрт и Гамлет стояли по разные стороны сцены во время дуэли, между ними был густой воздух распри, беды, удушья, тут совсем не обязательно отравленное острие. Тут всё решает за тебя Рок, Мастер, Гений. Тот Мастер, что после твоей смерти скажет:
– Не надо было Валере браться за руководство театром, не его это дело…
И сам тяжело болел, лежал в больнице, потом встал и пошел репетировать в Большом театре «Князя Игоря».
Артисты – не сукины дети! Они – дети в сиротском приюте, лица прижали к окнам, стирают дыхание со стекол: возьмите, пригрейте! Придут, возьмут, истерзают и бросят; так и они зарежут благодетеля, разве на них можно за это сердиться?!
– Валера, – как-то спросила я, – зачем ты сам все время поддерживаешь легенду о вашей с Высоцким дружбе (вражде), что ты всегда, мол, был вторым, вслед за ним?
– Все понимается, – ответил он, – не так, как пишется. Никогда я не говорил, что я второй по таланту, по мастерству. Я второй по качеству характера. Любимов как-то спросил меня, может, ты, Валерий, попробуешь что-нибудь поставить? Я тогда родил формулу: я по своей природе, по характеру – ведомый, второй. Не ведущий. Это терминология военная. Летит ведущий в эскадрилье – а за ним несколько самолетов, которые ведут бой; ведущий, первый, отходит в сторону, а остальные вступают в бой. И по статистике ведомые погибали гораздо чаще. Потому что они были действующие. Я люблю подчиняться воле, говорю я Любимову. Режиссер навязывает свою волю всем окружающим. Я единоличник, я подчиняюсь воле. Что это значит? Я пытаюсь вас понять и всю вину перекладываю на себя. По дарованию я себя всегда считал первым. Высоцкий обо мне сказал: «Золотухин хвалит, потому что он знает, что он – лучший»; это было, когда мы смотрели материал «Интервенции».
В Володиных словах была огромная психологическая угадка. Но опять же понимают не то, что написано. А то, что хотят. Я пишу: да, я завидую Владимиру Высоцкому, но не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому… Все хватаются за первую часть фразы и опускают вторую… Как я мог завидовать Высоцкому, если у меня был, например, Кузькин – не сыгранный, но известный всей Москве, создававший мне легенду. Я, кстати, двадцать один год ждал часа, когда смогу в этой роли – в запрещенной инсценировке по повести Можаева – выйти к зрителю, и дождался…
«Дневники» Валерия Золотухина – затяжной, тяжелый, мучительный приступ правды. Правды, которая уже не ищет и не хочет справедливости; и, против всех ожиданий, именно эта дикая, ненужная правда, именно эта постыдная нагота оказалась прекрасной и жизнетворной. Разграбленная жизнь стала наливаться дородством смысла; утраченные привязанности стали обустраиваться уютом терпения и долга; заканчивается одна тетрадь, открывается другая; у Бога страниц много.
Золотухин-писатель окружает Золотухина-артиста, как волка флажками, и затравливает, и заставляет жить, жить, жить дальше. И задыхаешься, читая, и обжигаешься, читая, и собственную жизнь, мучась жаждой, начинаешь выжимать, как камень, в поисках влаги.
И все-таки, не доверяйте до конца этой правде. Это – рафинированная проза, выполненная в жанре правды, в жанре исповеди, в жанре дневника для самого себя. Золотухин – писатель крупный и серьезный, строящий дневниковую прозу на приеме двойничества. Писатель знает, что только болотные, торфяные, табачные залежи тоски и неудачи, отчаяния и безнадежности могут породить текст, могут сложить слова в строчку, дышащую свежестью и теплом; а артист знает, что играть на разрыв аорты, да еще с кошачьей головой во рту можно только в шампанских брызгах успеха, в переполненном зале, в последнем, звенящем напряжении струны, берущейся за руки с другими струнами в аккорд; артист знает, что тоска мешает жить в согласии с ремеслом, мешает жить, то есть мешает выйти на сцену; а писатель помнит, что только помехи жизни, сильные, страшные помехи, когда изображение остается лишь выключить, – помехи одни и помогают писать.
Писатель и артист, хроникер и герой, персонаж, ищущий автора, и автор в поисках персонажа – в чем, собственно, состав трагедии, проливающей кровь из страницы в страницу тома?! А расцарапанная ногтями душа? А ужас равнодушия, когда глядишь на тех, кого когда-то обнимал, обожал, прижимал к себе на вечность? А устройство глазного хрусталика, видящего в самом дорогом, милом, родном изъяны фальши и тщеславия? А неизбывное желание простить и принять, смириться и забыть обиды, а все равно обижать и мучить, а потом вновь раскаиваться? А вы думали, на плахе жить приятно и легко?!
Мой Телемак,
Троянская война окончена. Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки…
В 1994 году Валерий Золотухин приехал с концертом в Таллин, я опубликовала о вечере заметку, где, в частности, говорилось и о книге «Дребезги». В ответ пришло письмо: «В статье есть большая угадка, выдан вексель, постараюсь его оплатить. Вы просто как бы навязали, заткнули мне его в карман, и некуда деваться, да и не надо – надо оплатить, – делов-то на копейку, и это трудное самое, но заманчивое… Я хочу так уметь писать. У меня болезнь – у меня строка разъезжается, разваливается часто, как пьяная (но красивая) баба в широких санях…»
Спустя несколько лет. Позвонил Валерий Золотухин: «Лиля, пришли мне ту фотографию, которую сделала твоя дочка, когда вы вместе с ней приходили ко мне за кулисы на гастролях в Петербурге, ту, где мы с тобой сфотографировались обнявшись. Мне нужно для книги». Я сказала, что фотография получилась плохая. «Это ты говоришь как женщина или как полиграфист?..»
Действительно, мы с Маринкой пришли к Золотухину в гримерную во время гастролей Таганки в Питере. Я сказала дочери: хочешь сфотографироваться с гением? Золотухин закричал: «Замолчи, здесь фанерные перегородки, не дай Бог услышит Любимов, у нас в театре один гений» – и на всякий случай прокричал еще громче: «Юрий Петрович, не слушайте ее!» И тут же, с пинг-понговой быстротой: «Ой, Лиля, как я бестактен, ведь под гением ты, вероятно, подразумевала себя…»
И проверяет – держу ли реплику.
И пишет на следующей книге: «Обожаемой Елене Скульской с волнением и трепетом передаю на суд и прочтение. Люблю, читаю, восхищаюсь». Прижав эту книгу к груди, я сидела в первом ряду на спектакле по Петеру Вайсу «Марат и Маркиз де Сад». Валера Золотухин – Маркиз де Сад – в халате психиатрической больницы Шарантон подошел ко мне во время представления, взял книгу и прокомментировал: «Хорошая книжка, нам здесь такие не дают читать…» Сидевший рядом со мной знаменитый польский режиссер наклонился к соседке: «Отличный ход!»
На «Бориса Годунова», где Золотухин играет самозванца, я страшно опоздала, попав в московскую пробку; меня, в виде исключения, все-таки впустили в зал. Неловко хлопнула дверь. Зрители, привыкшие к таганковским неожиданностям, обернулись.
произнес Золотухин, приветствуя меня со сцены и включая в спектакль мой невежливый приход.
Сколько уже написано о войне и дружбе Юрия Петровича Любимова и Анатолия Васильевича Эфроса, двух лучших режиссеров своего времени! О белоснежном, задыхающемся, облетающем «Вишневом саде», поставленном на Таганке Эфросом, раскрывшим в 1975 году в любимовских артистах неведомые им самим глубины. Страшный спектакль – я его помню, – где белоснежность была саваном, смертью, могильными крестами на погосте. И вишневый сад был лишь украшением кладбищенского одичания. И пьяненький Петя Трофимов – Валерий Золотухин ползал по этому кладбищу со своими пьяными и нелепыми обещаниями прекрасной будущей жизни. И ясно было, что никакой такой жизни никогда не будет. И Чехов звучал зловеще. Эфрос отменил все чеховские обещания, в которые мы смутно все-таки верили. Эфрос наталкивал нас на мысль – через множество лет не будет ничего, всё умрет, а пьеса Треплева из «Чайки» станет хроникой событий: «…все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь… Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно…»
И это страшное, эта пустота была явлена прежде всего в образе Пети Трофимова – Валерия Золотухина, который спустя двадцать лет дописал в Дневнике закулисную белоснежность кладбища – раздевающего, обирающего, замораживающего дыхание.
– Я знаю, я в тебе не ошибся, ты напишешь обо мне. Напишешь? – сказал по телефону незадолго до смерти.
– Конечно, напишу. Вот так: Валерий Золотухин – народный артист, знаменитый писатель. Когда он играет деревенскую правду Федора Кузькина – «Живого» и высшую поэтическую правду Юрия Живаго, когда поет, когда пишет, то кажется мне раненым солдатом, рассматривающим в любопытствующем шоке вывороченные свои внутренности, расползающиеся по запыленной траве: маленькие водопроводные шланги, – не больно… Мухи в зеленых праздничных френчах оставляют в воздухе воронки зуда… Боль отрезвляет, как нашатырный спирт, возвращая от литературного обморока к смерти.
– Хорошо, я согласен.
– Или лучше так: жизнь Валерия Золотухина мне хочется назвать святой, ибо он никогда, ни на одну секунду не отказывался от своего предназначения – театра и слова, а то, что копошится порой в быту, в низинах страстей… так какая же святость без сомнений и преодолений…
Он сорок лет прослужил в Театре на Таганке. Юрий Любимов присвоил ему звание «Домового». Конечно, ему иногда хотелось сбежать – то сыграть Павла Первого в Театре Российской армии, то поработать с Трушкиным в «Цене» и «Кине IV», то сняться в кино. А когда он уходил из алтайского села, то думал, что будет играть в Малом – с Ильинским, с Жаровым. Почему-то был уверен, что сыграет с Ильинским в «Ревизоре». И даже спустя сорок лет, став артистом совсем другой эстетики, думал, что если случится что-то с Таганкой, то придет в Малый, чтобы поговорить по-человечески, пообщаться, пожить, пожить той внутренней жизнью, которая свойственна психологическому театру.
И с Таганкой действительно случилось. То ли неудачно сыграл Юрий Петрович Любимов Короля Лира, то ли вдруг показалось, что он Голый Король, но театр его был разграблен, сам он изгнан, а Валерий Золотухин, его Домовой, сел в его кресло. Так захотели артисты, так они проголосовали. И потом давали интервью по телевидению, рассказывая и рассказывая о командировочных деньгах, без которых оставалось им только помереть голодной смертью. И еще показывали какого-то молодого артиста, который демонстрировал квартирку, снимаемую в Москве (сам из какой-то деревни), а в квартирке-то ветхие стены, дверь легко спрыгивает с петель, а Любимов договор прерывает в июне, чтобы возобновить (или не возобновить) в сентябре – а как лето прожить? Чем питаться?
За сорок почти лет до этого я попала чудом в кабинет Юрия Петровича Любимова и брала у него интервью. С чудовищной бестактностью молодости я заявила:
– В Москве свирепствует грипп, Юрий Петрович, всё может произойти. А с театром что будет?
Он ответил:
– Если я хоть чего-нибудь стою как режиссер, то театр должен умереть вместе со мной. Театр не может жить дольше своего режиссера.
– Тогда не умирайте, – посоветовала я.
И он послушался. Не умер.
Я смею судить о книге, о спектакле, человеческой правоты я не решаю – не мое дело и нет у меня права. Не знаю. Я пишу не о Любимове. Я пишу о большом артисте, о крупном писателе Валерии Золотухине. И вспоминаю его запись о высоте и низости в любви. Оставьте середину обывателю. Оставьте ему семейные воскресные застолья, поездки на побережье Атлантического океана, тихие переговоры с женой на фоне ночника, почтительных детей и внуков, женские романы и изыски в виде Паоло Коэльо, Бориса Акунина и Мураками – типа зловонного сыра и жирной фуа-гра. Нет, нам подавай другое: уютную лунку в теле, предназначенную для ножа, а также «яд, рельсы, свинец – на выбор!». Братство таборное – верх и низ, без середины, без убивающей пошлости, в пространстве отчаяния и света, предательства и жертвенности; не будет вывороченных кишок – искусства не будет. Не будет раны в живот – не будет и морошки. Так примерно представляю себе ход его мысли.
Золотухин думал, что если сказать правду, всю правду, то совсем плохо уже никогда не будет:
– Я, Лиля, дневники пишу с 17 лет, думал, что никто это читать не будет. Потом я у Платонова вычитал, что слово – игрушка горячая. Горячая, но и моя главная профессия, актерская, тоже горячая игрушка. И актерству я предан так же, как тогда, зимней ночью в клубе, когда понял, что наша профессия – подвиг. Мне говорят, да брось ты играть, уйдет игра, а книга останется. Нет, я не верю. В актерском ремесле миф, легенда важнее, чем документальные подтверждения. Кинопленка ничего не доказывает в актерской игре, хотя сохраняется на годы. Театр же сиюминутен; но ты поражен и – рождается легенда. Она у тебя рождается, у зрителя. И это впечатление не переспоришь. Оно первично. Борис Полевой, главный редактор «Юности», мне говорил: «Что не напечатано, старичок, то не написано», а я уже знал, что есть неизданные рукописи, которые написаны, и есть многотомные собрания сочинений, которые и не начинали писаться. И сочинения Бориса Полевого, с каким бы теплом я его ни вспоминал, имеют к этому самое прямое отношение… Боюсь обидеть живых и ушедших, но… Но у Бродского где-то сказано примерно так: оттого, что Ленин убил Гумилева, стихи Гумилева не стали лучше… Мы часто становимся на котурны и восхваляем произведение, у которого главным достоинством является трагическая судьба автора…
Когда мы познакомились, я стала рассказывать Валере о своем подростковом потрясении «Добрым человеком из Сезуана». Вышла из театра, спустилась в метро и поехала в другую сторону, повторяя, что теперь уже не смогу жить так, как раньше. Чуть раньше увидел «Доброго…» и Золотухин. И понял, что жизнь нужно резко менять. И ушел из Театра Моссовета, где уже служил и где были хорошие роли. Ушел к Любимову с готовностью работать в массовке. И ни разу не пожалел. К молодой Таганке приходили Ахмадулина, Эрдман, Неизвестный, Евтушенко, великие ученые.
«Это было общение творческих умов, душ, – загорается он, вспоминая. – Когда человек выходит из леса? Когда он перестает в него входить. Упрекают шестидесятников, Вознесенского: вот они не помогли Высоцкому напечататься, а я видел, как Володя у них учился, и, может быть, это было важнее. Я видел, когда Возенесенский прилетал из очередного Сан-Франциско и прямо с чемоданом приезжал в театр и выходил в «Антимирах» на сцену и читал нам про битников, то это было знакомство с новыми словами, с новой жизнью, это был новый мир общения, у которого учился всякий, кто способен учиться. Доброму вору все в пору. Я это ощущал кожей – мы сидели на «Антимирах» с Володей рядом, притулившись, и я видел по его глазам, что в нем происходит, это было почти заметно, как он учился».
Я как-то спросила:
– Как ты относишься к славе?
– Что за глупый вопрос! Я должен нравиться, просто обязан. Я что-то хочу сказать людям, как-то на них воздействовать, а иначе дома надо сидеть. Даже Набоков, господин высокомерный, говорил: я вернусь в Россию своими книгами. Пастернак писал: «Быть знаменитым некрасиво». Мне ближе точка зрения Гоголя: слава доставляет наслаждение тому, кто ее достоин… Каждый про себя что-то знает, что-то понимает… А впрочем, славы, как и денег, всегда не хватает. Это в природе человека, а тем более – артиста. Мне многие говорят, зачем ты ходишь на телевизор, снимаешься в кино? Да чтобы примелькаться! Вот звонит мне после «Цены» Трушкин и говорит: Валера, я хочу, чтобы ты сыграл Кина. А я ему говорю: какой я Кин, вот Валя Гафт, он уж Кин так Кин. Трушкин: Гафт замечательный, но все-таки – ты. А я продолжаю: Алексей Петренко. Трушкин: Петренко – выдающийся артист, но он не Ромео. – А я Ромео? – Ты – Ромео, я о тебе в «СпидИнфо» читал…
У многих кинозрителей до конца жизни он ассоциировался с Бумбарашем, хотя сыграны были десятки, сотни других ролей, где он побывал и рефлексирующим интеллигентом, и царской особой. Но в жизни охотно откликался на простачка, на Есенина, дурачащего столичных недотеп. А тех, с кем можно было почитать Мандельштама, Пастернака или Бродского, вокруг становилось всё меньше и меньше.
…Валера рассказывал, что на Таганку первые зрители-патриоты, создатели легенд, стали приводить уже своих внуков. Подошла к нему восторженная пара: «Мы вас, Валерий Сергеевич, помним с самых первых спектаклей». Золотухин приготовился к дальнейшим восхвалениям, а они: «Вы тогда, случалось, и пьяный на сцену выходили, а Зинаида Славина вас заслоняла…»
Валерий Золотухин хорошо относился к моим стихам, писал мне об этом. Одно посвящено ему. Он принял посвящение и сказал, что оно его обрадовало.
Валерию Золотухину
Вопросительная запятая, или Почему Андрей Вознесенский не хотел хранить невинность в борделе. Об Андрее Вознесенском
…Давным-давно мне довелось побывать в гостях у Израиля Меттера (автора знаменитого «Мухтара») и его жены – когда-то прославленной балерины Ксении Златковской. Я собиралась писать об Израиле Моисеевиче, предстояло большое интервью, и Ксения Михайловна накрыла изысканный стол с крахмальными салфетками, хрустальными графинчиками и разнообразными манящими закусками. Мы с моим коллегой и другом Николаем Крыщуком по поводу стола выразили восторги, а Израиль Моисеевич, довольный произведенным эффектом, сказал:
– Ну, это, конечно, не «Мюр и Мерилиз», но все-таки, все-таки…
– «Мюр и Мерилиз»? – переспросила я.
– Ксана, – закричал Израиль Моисеевич, – они не знают, что такое «Мюр и Мерилиз»! Да ведь до 1922 года это был самый знаменитый торговый дом!!!
А теперь я говорю юным своим гостям, пришедшим за интервью, что в 1967 году, в школе, мы, десятиклассники, ставили в подражание Театру на Таганке «зримую песню» – «Первый лед» Андрея Вознесенского. Ну, помните, – добавляю первые строчки: – «Мерзнет девочка в автомате, / Прячет в зябкое пальтецо…»
– Мерзнет в автомате?! – переспрашивают. – В каком автомате? Что это?
– Да это таксофон, телефон-автомат, так его называли – «автомат». Крохотная будочка, обязательно холодная и страшно тесная; заходишь, опускаешь в прорезь монетку в две копейки, и сразу выстраивается очередь, люди начинают стучать своими монетками в стекло, чтобы ты – а ты еще и номер не набрал – быстрее заканчивал разговор. А стекла в будке почти всегда разбиты, руки без перчаток леденеют, номер набирался не кнопками, нужно было засунуть палец в такое колечко с цифрой и провернуть диск; ты надевал себе на палец это липкое, пахнущее металлом кольцо… А если любовь, то как можно быстро закончить разговор? Надо же еще помолчать, подышать в трубку. И одевались мы, тогдашние девочки, именно в зябкие коротенькие пальтишки, а на ногах – и в самый лютый мороз – были капроновые чулки, которые иногда просто вмерзали в кожу… И вот у нас на школьной сцене стояла девочка в воображаемой будке, а у будки выстраивалась очередь, нетерпеливых становилось всё больше и больше, они окружали девочку, она пропадала, стиснутая толпой… Знаете, тогда были совсем другие представления о пространстве: подходили друг к другу очень близко, всё время стукались локтями, терлись плечами, сидели тесно-тесно, буквально прорастая друг другом…
В те времена не только литературно настроенные люди знали наизусть стихи Вознесенского и здоровались его новыми строчками. Я как-то оказалась в компании врачей: на ночном дежурстве, между двумя операциями, они читали только что опубликованное «Бьют женщину»: «Бьют женщину. Блестит белок. / В машине темень и жара. / И бьются ноги в потолок, / как белые прожектора!»[21]
И чуть не плакали от жалости и негодования, и хотели отомстить, и с ожесточенными лицами брались опять за скальпели (последнее, впрочем, шутка).
Андрей Вознесенский вместо строгого темного галстука – обязательного для советских эстрадных выступлений – надел развязный шейный платок! Этот платок поразил страну больше, чем очевидцев выходки Сальвадора Дали, собравшего в своем доме вернисаж китча с комнатой-лицом: диваном-губами, ноздрями-камином с горящими дровами – и способного выйти к гостям обнаженным.
Вознесенский первым начал читать стихи, растягивая согласные, а не гласные. Шипящие и свистящие превращались в мощную, скрипящую и жужжащую мелодию («жжя» – как сказала бы Марина Цветаева), словно пережевывали щебень, известку, гравий, надеясь выжать из них влагу. Этот набат согласных отозвался потом в песнях Высоцкого, изменившего дикцию всей страны.
Самый популярный пародист 70-х Александр Иванов пытался ухватить суть этих новых аллитераций:
Фетиш в шубе: голкипер фаршированный фотографируется в Шуе, хрен хронометрирует на хребте Харона харакири. Хррр!!
«Ау, – кричу, – задрыга, хватит, финиш!»
Фигу!
(Это только первая часть задуманного мною триптиха.)[22]
Но шаржу не поддавалось главное – бесперебойное движение текста, поющего прежде бесправными в вокале буквами, у Вознесенского летела машина с вдавленной до отказа педалью тормоза, поставленная на «ручник». Летела вопреки физическим законам речи, переучивая гортань.
«Монолог Мэрлин Монро» стал нашим паролем: «…идет всемирная Хиросима, / невыносимо, / невыносимо все ждать, / чтоб грянуло, / а главное – / необъяснимо невыносимо, / ну, просто руки разят бензином! / невыносимо / горят на синем/ твои прощальные апельсины…»[23]
Бесконечное «с», словно мечущееся по лабиринту Дедала, требовало артикуляционных усилий, смелого раскрытия рта; «согласные» заговорили и не соглашались со своим «согласным» положением.
Руки, разящие бензином, были признаком жирной буржуазности: частные машины в 60-х всё еще были редкостью, отдавали фарцовкой, гэбэшностью, начальственным задом. Только в 80-х машины стали частью обычного быта, но на первых порах их как-то одомашнивали, делали членами семьи. Одна моя приятельница звала свой «Запорожец» Мурзиком, а вторая свой «Москвич» – Долли. И они так разговаривали: «Ой, Мурзик всё время капризничает!» – «А мою Долли так жалко, она молчит и терпит любые наши издевательства!»
В «Монологе Мэрлин Монро» поражало еще и то, что поэт, мужчина лирическое стихотворение писал от имени женщины: «Я – Мэрлин, Мэрлин./ Я героиня /самоубийства и героина»[24].
«Я же не мог написать о себе: «невыносимо, когда раздеты / во всех афишах, во всех газетах, / забыв, / что сердце есть посередке, / в тебя завертывают селедки…»[25]
Чтобы это сказать, мне нужно было влезть в чью-то кожу. А тут так трагически совпало: когда Мерилин Монро покончила с собой, то сообщение о ее смерти в одной из французских газет было на соседней с моими стихами странице, и мои стихи просвечивали сквозь ее лицо. Но никто не заблуждался: все понимали, что невыносимо жить нам с вами, а не кому-то другому, в какой-то другой стране».
Иосиф Бродский ответил на это самое популярное стихотворение Вознесенского своим «Представлением»:
Впрочем, они оба бравировали сочетанием сленга, даже плохо «заэвфемизированного» мата с высоким штилем.
Оба многому научились у Цветаевой. Бродский писал об этом, хотя формально никакого сходства не было, и если бы не его настойчивость, то такая мысль, вероятно, и не пришла бы никому в голову. Вознесенский не говорил об этом, но тайная зависимость была.
Мне думается, Вознесенский вспоминал эти стихи Цветаевой, когда сочинял свою «Параболическую балладу»:
Иногда мне кажется, что ему самому эта зависимость от Цветаевой была тягостна, он от нее открещивался странными демонстративными ошибками. Написал, например, «Вьюга безликая пела в Елабуге. / Что ей померещилось? – скрымтымным…» (1971). Марина Цветаева повесилась 31 августа, вьюга была совершенно неуместна, да и то, что померещилось ей, было известно не только Вознесенскому, но и в значительной части уже обнародовано. Потом, в переизданиях, он исправил: «Лучшая Марина зарыта в Елабуге. / Где ее могила? скрымтымным…»
Они – Вознесенский и Бродский – кстати, повидались.
«Я был однажды приглашен в его квартиру в Гринвич-Виллидже, – рассказал мне Вознесенский. – Мы до этого не встречались, но я много лет дружил с его друзьями – Людой Штерн, Геной Шмаковым… В хозяине не было ничего от его знаменитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной корректности. О чем мы могли заговорить? О котах! У Бродского был любимый кот Миссисипи. «Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук «с», – пояснил Иосиф. «А почему не СССР?» – поинтересовался я. «Буква «р-р-р» мешает», – засмеялся в ответ Бродский. Я сказал, что мою кошку зовут Кус-Кус. Бродский очень обрадовался этому имени: «О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика». А дальше уже пошел обычный литературный разговор – о Мандельштаме и о том, что Ахматова любила веселое словцо. Об иронии и идеале. О гибели империи. «Империю жалко», – умехнулся Бродский. Я запомнил и эти слова, и эту усмешку…»
Вознесенский ввел в обиход слова, которые мы знали только по словарям: «Камелии», «Абсент», «Баркарола»…
В Тартуском университете, где в 1967 году выступал Иосиф Бродский, приехавший по приглашению Юрия Михайловича Лотмана, считалось постыдным знать и цитировать официальных шестидесятников. Но для Вознесенского делалось некоторое исключение. Его стихотворение «Гойя» разбиралось Лотманом самым что ни на есть структуральным методом на занятиях по семиотике стиха. В 1972 году я написала диплом «Слово в поэзии Вознесенского», посвященный семантическим сближениям рифмующихся слов, влиянию плана выражения на план содержания и еще каким-то загадочным кинетическим продуктивным моделям словообразования. Мой научный руководитель профессор Павел Самойлович Сигалов писал Вознесенскому и просил откликнуться хоть несколькими доброжелательными предложениями на мой диплом, но Андрей Андреевич промолчал – как я теперь понимаю, вполне разумно. Тартуский университет, несмотря на свою славу, мало развивал человеческий ум и эрудицию, во всяком случае, когда на выпускных государственных экзаменах мой сокурсник в ораторском беспамятстве прокричал: «И тогда Кирибеевич выхватил свой пистолет и застрелил поганого купца Калашникова!», Лотман грустно прокомментировал: «Что же это мы с вами за пять лет сделали! Вы поступали в университет такими милыми, интеллигентными…»
Так бывает: по какой-то ассоциации вспомнился мне этот пример с Лермонтовым, а о Лермонтове же вспомнил и Вознесенский, говоря о своих первых стихах:
«Самое первое стихотворение я написал про Бородино. Ревнивое подражание Лермонтову. А потом уже всю жизнь писал только о любви. Во время войны, в эвакуации, у меня была собака Джульба, я выменял ее на самое заветное мое сокровище – лупу; мальчишки мучили собачонку, изображая гестаповцев; она была у них партизанкой, и они собирались вздернуть ее на дереве. Мое увеличительное стекло спасло Джульбу, и я понял, что на свете есть еще кто-то более беззащитный, чем я сам – голодный второклассник, ворующий подсолнухи и жующий жмых. Я думал, что мы никогда не расстанемся с Джульбой, но родители, обещав взять собаку с нами в Москву, потом сдались хозяйственнику по фамилии Баренбург, запретившему сажать псину в вагон; меня обманули, Джульба осталась на перроне. Так кончилась моя первая любовь. Так я увидел первое предательство. Я писал:
У прославленного Андрея Вознесенского была прогремевшая статья в «Литературной газете» «Муки музы», опубликованная, думаю, году в 1977-м. Там он вскользь похвалил мои стихи, написав: «А вот аукается с Киевом таллинка Елена Скульская», следовала цитата. Полагаю, его уговорили процитировать меня мои друзья, работавшие тогда в «Литгазете», во всяком случае, когда статья вышла в очередном сборнике Вознесенского, меня там уже не было. На моем месте был другой поэт, и Андрей Андреевич похвалил его «вопросительную запятую». Наверное, за того, другого, попросили его друзья, работавшие в издательстве. Но как бы там ни было, а «Литгазету» читала вся страна, я подхватилась и помчалась в Москву, мне казалось, что теперь-то я непременно познакомлюсь с Вознесенским (спустя лет десять, активно восполняя зияющие пробелы тартуского образования, я прочла у Лидии Яковлевны Гинзбург, что совсем не стыдно искать встречи со знаменитостью, если это связано с твоей профессией, работой, творческим интересом). Встречи не получилось, но со своими приятелями я побывала в его квартире, нас принимал его сын, мы чудесно выпивали большой компанией, и я, подобно простушкам из какого-нибудь сочинения Ирвина Шоу, пыталась надышаться воздухом выдающейся поэзии.
«Впервые я прочел стихи Пастернака в «Правде», они поразили меня, – рассказывал Андрей Вознесенский. – Потом мой друг достал мне сборник Пастернака. Я помню дождь, ливень за окном всю ночь, я читал стихи и понял, что должен написать ему. Я взял тетрадку в линеечку и вывел что-то вроде того: «Милый Борис Леонидович! Я очень уважаю Ваше творчество…» – и прочую какую-то глупость.
Он позвонил мне по телефону, и фраза обомлевших родителей: «Тебя Пастернак к телефону!» стала поворотной в моей судьбе. Я встретился с гением. Стал часто бывать у него. Читал стихи во время застолий в очередь с ним самим. Однажды оказался за столом рядом с Анной Андреевной Ахматовой. За столом вскипал громоподобный Борис Ливанов, мелькнул неподражаемый Вертинский, упоительно артистичный Ираклий Андроников, сухим сиянием ума высвечивался Генрих Нейгауз…
Пастернак – вечный подросток, поэтому очень быстро мне стало легко с ним. Однажды Пастернак взял меня с собой на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Ромео играл Юрий Любимов, тогда – герой-любовник, и не помышлявший еще о своем театре, и мне, конечно, не могло тогда прийти в голову, что в этом будущем театре на Таганке поставят спектакль по моим стихам. Но вдруг у Ромео сломалась шпага, и обломок, описав баснословную параболу, упал на ручку, соединявшую наши с Пастернаком кресла. Судьба постоянно шлет нам вести, нужно только уметь их слышать.
Как я теперь жалею, что поссорился с ним! Он попросил меня что-то переписать для него, я счел, что для меня такое поручение унизительно, встал в позу, ах, как жаль!
Но знак судьбы на «Ромео и Джульетте» я почувствовал.
Театр в шестидесятые годы прошлого века, как и вся страна, возвращался к стихам. Любимов так был одержим поэтическим театром, что даже предлагал мне играть Гамлета. Вначале я сам участвовал в спектакле «Антимиры», ну а потом уже актеры читали в моей манере.
Бывало, я приезжал на спектакль прямо из аэропорта, возвратясь из Парижа или, например, Нью-Йорка с ворохом впечатлений и новыми стихами, и мои рассказы для многих артистов были окном в огромный мир – они учили и воспитывали. А случалось, я привозил вещи и сугубо материальные. Боре Хмельницкому привез из Америки ремень с крупной пряжкой для джинсов. Но главное, конечно, было в стихах – были в них заграничные приметы или нет – не важно; мои стихи по форме точно соответствовали духу Таганки, было такое совпадение, которое сказалось потом и на стихах Высоцкого. В них есть мое влияние.
А на самой заре театра тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева велела мне написать экспромт. Я написал на стене: «Все богини – как поганки перед бабами с Таганки!» Увидев, что я написал поперек стены, Фурцева так возмутилась, что хлопнула дверью. Напуганные таганковцы даже пытались смыть надпись, но она устояла.
«Антимиры» прошли более девятисот раз!»
Я помню «Антимиры» не только по Москве; в 1975 году Таганка приезжала на гастроли в Таллин; тяжелый, медный голос Хмельницкого слышался на улицах, Дмитрий Межевич устраивал «квартирники», где неподражаемо симулировал Вертинского, его песню о Сталине:
Это было приторно-страшно, словно вся пошлость мира была призвана на суд чести…
В других домах в это время Леонид Филатов читал свои стихи о Вознесенском, который сидит в Театре на Таганке, – это была добрая любовная пародия, обыгрывавшая прием Вознесенского – в волнении переходить на прозу среди стихов:
Такое скопление людей я видел только трижды в жизни: во время студенческих волнений в Гринвич-Виллидж, на фресках Сикейроса и в фильмах Бондарчука.
Знаменитости стояли в очереди особняком. Банионис кричал: «Я – Гойя!» Ему не верили. Все знали, что Гойя – Я.
Весь наш маленький город колыхался, подрагивал, пританцовывал, подпевал, подкрикивал Таганке. И мой коллега по Дому печати писал яростные стихи машинистке, не отвечавшей ему взаимностью, переиначивая последние строчки «Монолога Мэрлин Монро» «Я баба слабая, я разве слажу? / Уж лучше – сразу!» на: «Я баба слабая, я разве слажу? / Отдамся сразу!» Когда и это виртуозное сочинение не помогло, то написал мстительно: «Я баба слабая, я разве слажу? / С меня не слазят!»
«Григорий Поженян как-то сказал мне, что после моих стихов ему хочется писать самому. То есть в них был какой-то витамин, побуждающий к творчеству… Да, и представляете, после такого грандиозного успеха «Антимиров» «Юнону и Авось» у меня на Таганке не приняли. Я ведь, разумеется, им сначала принес. Но не нашел там отклика. И к лучшему. Музыка Рыбникова, постановка Захарова, мое сочинение – все совпало идеально. Такое бывает один раз в жизни. На «Антимирах» публика была протестующая и в стихах искала протеста и перемен… А теперь на «Юноне» и «Авось» сидят плачущие девочки, тоскующие о любви.
Судьба всегда вела меня за руку. Был момент, когда в Кремле мне кричали: «Вон из страны!» Хрущев орал мне: «Ишь ты, какие, думают, что Сталин умер… Вы рабы… Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад – граница открыта». Я ответил: «Я русский поэт. Зачем мне уезжать?» Не буду сейчас вдаваться в подробности специфического отношения Никиты Сергеевича к искусству, но после его топанья на меня в Кремле состоялось собрание в Большом зале Центрального дома литераторов. От меня требовалось публичное покаяние, но судьба подсказала мне быть стойким. Я вышел и сказал, что не буду каяться. Дело было в том, что в одном интервью я сказал, что делю литературу не по горизонтали, на поколения, а по вертикали и выстроил такую лестницу: Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Пастернак, Ахмадулина. Пастернак, которого вынудили отказаться от Нобелевской премии, был для Хрущева как красная тряпка для быка. Тогда я не струсил…
Мои близкие знают, что я никогда не жалуюсь (только листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам, не делюсь неприятностями на бабский манер. Но один раз, сознаюсь, я задумал самоубийство. Не печатали мою поэму «Оза». Я считал ее самой моей серьезной вещью, считал, что там созданы не только совершенно новые стихи, но и новая, небывалая проза. Шок любви и поэмы опустошил меня, мне казалось, что больше я ничего уже не сделаю. Пора кончать. Я написал два предсмертных письма. Одно адресовалось генсеку КПСС. Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое последнее произведение. Второе письмо обращалось к незнакомому мне президенту Кеннеди. Смысл был тот же.
Я думал над способом ухода из жизни. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления организма тоже. Меня устраивала только дырка в черепе. Но пистолет в Москве мне тогда достать не удалось. Советовали слетать за ним в Тбилиси. Я стал собирать деньги на поездку. И тут вдруг одному журналу понадобилась сенсация, и мою поэму взяли!
Я был тогда кретином, готовым отказаться от чуда дальнейшей жизни. И с каким смехом и недоумением прочли бы мои письма высокие адресаты. Наш бы генсек утвердился в мысли, что я обыкновенный шиз и галиматью мою печатать не надо. Американцы бы просто пожали плечами. Страдания виртуального Вертера. Хочу пожелать молодым литераторам: когда вы в полном крахе, и враги вас достали, и кругом невезуха – есть одно верное средство поправить дела. Небрежной походкой забредайте в Центральный дом литераторов, садитесь за столик и пейте шампанское с красивой девушкой на глазах давно схоронивших вас врагов. Пусть сдохнут».
С Андреем Андреевичем Вознесенским мы встретились единственный раз. За несколько лет до его смерти. Он был болен, половина тела была обмякшей и полуживой. Он был почти совершенно лишен голоса, еле-еле доносился его шепот. Почему спустя тридцать лет после того, как я написала о нем бессмысленный тартуский диплом, он вдруг захотел со мной повидаться и поговорить, – не знаю. Но он назначил мне встречу в Центральном доме литераторов, зашел за мной: он был похож на Элизу из «Диких лебедей» Андерсена – вместо одной руки было как бы крыло, не хотевшее помогать ходьбе. Мы не пошли в кафе, но сели в машину – невыносимо разило бензином, мне кажется, это была старая «Волга», изношенная до последней моральной усталости. На заднем сиденье, где мы расположились, почему-то грудой лежали желтые худые, словно прокуренные, кабачки, они метались по сиденью и довольно сильно били нас на ухабах; Москва грохотала и скрежетала в ушах, Вознесенский приникал к диктофону и пил шорох пленки, настоянный на батарейках. Много часов мы ездили по загадочным районам, Андрей Андреевич выходил и возвращался с целлофановыми пакетами, уверена почему-то, что в пакетах этих были лекарства на разные случаи жизни, он собирался ехать в Америку и выступать там с помощью мощнейших микрофонов. Обрастая этими загадочными пакетами, за спиной молчаливого шофера, который ни разу не спросил, куда теперь ехать, мы двигались по биографии поэта, по его судьбе, по самым главным событиям прошлого. Путешествие становилось всё более странным: я задавала вопросы, но не могла разобрать ответов, их исправно (как потом оказалось) втягивал в себя диктофон, но не делился с моим слухом. Несколько раз Вознесенский предлагал покормить меня, заехав в какое-нибудь кафе, я всякий раз соглашалась, но мы так никуда и не заехали за целый день. Вдруг мы остановились на каком-то мосту, переброшенном через пустоту, и Вознесенский предложил нам сфотографироваться на прощание. Шофер сделал два снимка моим фотоаппаратом, потом они с Вознесенским сели в машину. Вознесенский прошептал мне в ухо: «Как жаль, что было так мало времени!» и протянул мне свою книгу. Больным, как тревожная кардиограмма, почерком на ней было написано: «Как жаль, что было так мало времени!» И они уехали, оставив меня в этом железном пейзаже в духе Эшера.
Знакомые, через которых мы договаривались с Вознесенским о встрече, позвонили мне на следующий день и сказали, что в Центральном доме литераторов, куда он заезжал за мной, он оставил для них на проходной записку: «Как жаль, что было так мало времени!»
У хорошего поэта, – так мне объяснял еще на лекциях Ю. М. Лотман, – повтор никогда не бывает бессмыслен, с каждым следующим повторением слово прирастает новым и новым смыслом, нагревая пространство и расширяя его тем самым. Так примерно.
– Есть ли разница, зазор между вами и вашим лирическим героем?
– Нет никакой разницы. Андрей Вознесенский и есть лирический герой Андрея Вознесенского.
– Вы не разделяете жизнь и искусство?
– Нет, конечно. Включаешь себя, как в розетку штепсель, и начинается сумасшествие. Пишешь слова, не всегда даже понимая смысл написанного. Тебе диктуют, и все тут. Кто знает, может, сверху, а может – снизу.
– Вы тоскуете по той славе, которая собирала на ваши выступления многотысячные стадионы – в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые?
– Нет, мне важнее то, что происходит сейчас. Я стал писать серьезнее, глубже. Стадионы влияли на меня, я им поддавался, я был их выразителем. Я вел жизнь поп-звезды, такие у меня и были поклонники. Сейчас я пишу только для себя, хотя все равно мои стихи печатает «Московский комсомолец», выходящий миллионным тиражом.
– Так все-таки вы изменились или нет?
– Изменился. Перестал хамить, вести себя непозволительно. Говорю об этом, с грустью думая о недавней смерти замечательной французской писательницы Франсуазы Саган. Мы с ней встречались в середине шестидесятых в Париже. Я был наглым, юным; Франсуаза привела меня в какой-то ночной кабак, там я обратил внимание на случайную девицу и ушел с нею, бросив Саган. Мне тогда хотелось всего сразу и я не понимал, до какой степени оскорбил Франсуазу. Потом она рассказывала об этом случае Евтушенко, так и не простив моего хамства. Жаль, что все было именно так.
– Вы дорожите чьим-то мнением?
– Мнением женщин.
– Тех женщин, что отвечали Вам на стихи любовью?
– Конечно.
– Вы были лично знакомы практически со всеми знаменитостями планеты. Кто из них произвел на Вас самое сильное впечатление?
– Немецкий философ-экзистенциалист Хайдеггер и американский поэт Ален Гинзберг, идеолог битников. Чем-то я сам в свое время был похож на битника. Вот еще судьба: Ален Гинзберг, побывав у меня в гостях, уходя, оставил в номере на рояле таблетку ЛСД. Я просидел с этой таблеткой несколько часов, раздумывая, принять или не принять. Сожрал все-таки. И моментально отключился. Потом пришли какие-то люди, надели на меня брюки, свитер, вывели на улицу. Я шел, безвольно поглощая окружающее. Свалился. И тогда я стал читать стихи. Сначала медленно по складам. Начал с «Гойи»: «Я – Гойя!/ Глазницы воронок мне выклевал ворог…» И я пришел в себя. Потом психоаналитик говорил мне, что своими стихами я победил дьявольский инстинкт.
– Андрей Андреевич, вы верили в социализм?
– Я никогда не был фанатиком, но всегда считал и сейчас считаю, что социализм довольно хорошая штука. Теоретически. Практически же мы видим, что и капитализм – вещь довольно страшная. А что до веры – то я верил в себя.
– А в Бога?
– Конечно, я верующий человек. Бог диктует мне стихи. Высшие силы ведут меня по жизни. Были, были у меня сомнения, не дьявол ли подделывается под эти ритмы, но я научился отличать темное от светлого.
– Вы в молодости писали: «– Мама, кто там вверху голенастенький – / руки в стороны и – парит?/ – Знать, инструктор лечебной гимнастики, / Мир не может за ним повторить». Ваша вера совместима с такой ироничностью?
– Совместима. Ирония не обижает веру. А мир действительно не может за ним повторить.
– У вас очень много стихов – мгновенных откликов на политические события. Вы всегда уверены в своей прозорливости и точности оценок?
– Повторяю: стихи диктуются мне свыше, и если мое мнение не совпадает с мнением мира, то прав я.
– Значит, у вас нет ни одного случайного стихотворения, нет стихов, от которых вы отрекаетесь?
– Почти нет. Нет. Может быть, хотелось изменить отдельные строчки, слова.
– А скажем, поэму «Лонжюмо» о Ленине?
– Это очень внутренняя для меня вещь, как это ни покажется вам странным. Там ничего карьерного не было. Там был очищающий ритм, который нес меня. И потом было очень важно: все, что говорилось о Ленине, перечеркивало Сталина. И опять повторю про ритм: у Маяковского тоже было много стихов с дозволенной атрибутикой, но ритм делал их подрывными.
– В сегодняшнем поэтическом мире победитель – поэт-песенник. Несколько раз в жизни вы примеривали на себя этот облик. Понравилось или нет?
– Микаэл Таривердиев любил мне повторять: «Надо писать песни. Нельзя быть целкой в бардаке». Я пал. Как-то на пари я написал для Раймонда Паулса песенку «Барабан». Утром я проснулся под внятный шорох за окном. То был шорох не листьев, но денежных купюр. Во всех ресторанах страны играли «Барабан». Естественно, коллеги не смогли простить мне этого успеха: на нас с Паулсом написали донос – будто в песне замаскирована мелодия… гимна Израиля. Песню на время запретили. Тогда мы с Паулсом сделали «Миллион алых роз» и отдали песню победоносной Алле Пугачевой. После этого я перестал писать песни. Как в спорте: попробовал, достиг результата и бросил.
– Вам однажды запросто позвонил Рейган и пригласил в гости. Как это произошло?
– Это было в период резкого обострения отношений между странами. Только что Рейган назвал Советский Союз империей зла. Я был в Америке, мой паспорт был на продлении в советском посольстве. Я понимал, что после такой встречи у меня могут быть большие неприятности и поставил условие. Я сказал: приеду, но чтобы не было прессы и телевидения. Рейган с удивлением согласился.
– Как же вы вошли в Белый дом без паспорта?
– Пришел секретарь, опознал меня и сказал: «Вы, наверное, первый человек, прошедший в Белый дом без документов». И провел меня в знаменитый Овальный кабинет.
– О чем Вас спрашивал Рейган?
– Первый его вопрос: где вы шили свой пиджак, он очень элегантный? Мне бы с гордостью ответить, что в «Москвошвее», но я признался, что пиджак у меня от Валентино. Рейган сообщил, что у него тоже есть пиджак от Валентино, в клетку, но поярче. Я указал президенту Америки на то, что «поярче» уже не носят. Настало время и мне задавать вопросы. Я спросил, кто повлиял на него из русских классиков – Толстой, Достоевский или Чехов? Президент ответил невнятно: «В молодости я много читал классиков…» Через год чета Рейганов прибыла в Москву. Отношения между странами потеплели. В своих речах американский президент цитировал стихи Пастернака из «Доктора Живаго», чем совершенно покорил нашу интеллигенцию.
– А за самовольную встречу вам все-таки досталось?
– Прощаясь и узнав, что я сейчас собираюсь в советское посольство за паспортом, Рейган предложил мне съездить на его лимузине. И вот, представьте, перед обалдевшим посольством останавливается президентский лимузин и из него выхожу я. «Какими судьбами?» – спрашивает посол. «Да так, – отвечаю я, – был сейчас у президента, теперь вот к вам заскочил за паспортом.
И тут я подумала: какой славный спектакль был задуман: подкатить к ЦДЛ на разбитой, старенькой «Волге» с дачными развязными прокуренными кабачками, подхватить в эту машину разодетую, немолодую, взволнованную даму, ждавшую встречи тридцать лет (отчего бы не представить меня героиней чеховской «Драмы», мадам Мурашкиной, утверждающей, что и ее «капля меда есть в улье»), помотать ее по Москве, пока не сдастся (не сдалась!), отвечать на вопросы так, чтобы она не слышала ответов… А дальше… дальше как получится. Но времени, времени, времени оставалось ужасно мало.
2015
Иза Мессерер, или «Стихотворения чудный театр». О Белле Ахмадулиной
От того, что Белла Ахмадулина всегда стояла на пуантах в речи, многие, особенно при начале знакомства, взбирались вокруг нее на котурны, табуретки, подоконники, падали потом в неудачи и ушибали гортани; поднимались с попыткой достоинства, но все-таки продолжали подслащать суффиксами и разными приставочками свои плоскостопные танцы.
Во время первой нашей встречи, в семидесятых еще годах минувшего века, я брала у нее интервью в Таллине. Сидели в роскошной по тем временам гостинице «Олимпия», на двадцать четвертом этаже с видом на город – черепичные крыши, отливающие под дождем серебром рыбной чешуи; Борис Мессерер заказал щедрый завтрак. Я задала тщательно подготовленный и изысканный, как мне казалось, вопрос с цитатой из Цветаевой: может быть, все женские стихи написаны одной женщиной? Что вы об этом думаете?
– Творчества не будет! – словно рысь взглянула в глаза. И весь зефир, всё придыхание осенней листвы моментально исчезло из ее голоса.
– О, вопрос мой не отраден вам? – вполне вероятно, что я как-то даже заломила руки или сжала их «под темной вуалью»…
– А чему это я должна радоваться?! – И уже была в голосе хрипотца московского подростка, шестерочки с чинариком, прилепленным к припухшей губе; в пиджаке не по росту, в кепочке воробьиной, поигрывающего ножичком… Бьющим степ во втором отделении концерта по заявкам.
«Как вы относитесь к пародиям на вас?» – спросили ее в телевизионной передаче тех далеких лет. «Благосклонно», – отвечала она. Ловила на готовности прислуживать ей всякими «как хороши гортензии в саду…», «позвольте поднести вам анемоны…», «вдыхая аромат забытых встреч…», сбивала на лету просторечным словечком, но иногда и сама попадала в собственные изящные капканы. Мы были с ней в гостях у моей приятельницы в большом, старинном деревянном доме среди деревьев, дом шел вразвалочку на снос, приседал на нижний этаж, книжные полки повсюду нависали тяжелыми бровями, кипел самовар, мне кажется, Белле было хорошо, и она на мгновение отвлеклась от себя, оставила себя без присмотра. И тут же хозяйка, грузная, разумеется, женщина, опустилась перед ней на колени и, тяжело всхлипывая, запела:
– Белла, умоляю, прочтите нам «Сластёну»! Просит «Сластёну» моё естество! Жаждет мое ненасытное сердце!
А речь-то шла о Мандельштаме:
И Белла растерялась, не нашлась, что ответить…
В Абхазии, в Пицунде, у Дома творчества советских писателей был свой маленький пляж. В необыкновенной тесноте, стукаясь локтями, наступая друг другу на полотенца, соприкасаясь потными спинами, принимали солнечные ванны писатели. Они были так близко друг от друга, что когда в одной компании выкрикивали «Семь треф!» или, там, «Девять бубей!», то в другой какой-нибудь начинающий преферансист успевал взвизгнуть: «Вист!», пока его не приводили в порядок более опытные игроки.
Пляж никак не был огорожен или закрыт, и границы его проходили исключительно в воображении. Он был так же каменист, как и весь окрестный берег. В теплой воде плавали те же мучнистые медузы, что в любой точке побережья создают ощущение супа с клецками. В камышах, как и положено, попискивали те же водяные крысы, селившиеся порой в писательских номерах и выкармливавшие свое потомство в писательской столовой; однажды такое семейство оказалось в моем номере, и я долго наблюдала за веселой возней котят, идиллически прикидывая, кто же именно мог их из жалости подобрать и приютить у меня, пока один из них не развернул ко мне свою острую, как карандаш, мордочку крысы…
Так вот, пляж писательский был крохотным, а рядом, по обе стороны, сколько хватало глаз, простирались необозримые прибрежные пространства покоя и воли, куда каждый мог удалиться в поисках свежих впечатлений или уединения. На этом пространстве куда менее скученно, а точнее, совершенно не беспокоя друг друга, загорали дикари. Но никто из писателей ни разу на моих глазах не решился перейти Рубикон, отделяющий его от читателей.
– Ты пойми, – объяснял мне Эдвард Радзинский, – здесь, на своей территории, все лежащие знают друг друга и помнят, что они – цвет литературы. Особенно цвет литературы – секретари Союза писателей, редактора журналов и издательств. Не какие уж есть писатели, а – писатели! Но как объяснить это дикарям?
Итак, на писательском пляже лежали в тесноте. Но и в обиде: почти всем хотелось перебраться из своей социальной группы в другую: выйти замуж с повышением или удачно пристроить рукопись. Когда появлялся над шевелящимся пляжем фарфоровый профиль Беллы, всё земное исчезало. Она шла всегда в сопровождении большой свиты, в белой блузе и белых брючках, не оскальзываясь, в отличие от всех остальных, на крупной прибрежной гальке, но проплывала как во сне, как в рапиде, и все понимали, сколь они нелепы и неуклюжи рядом с ней.
Никто и никогда в Пицунде не смел читать при ней свои стихи. Милейший Роман Сеф, выпустивший новую чудесную детскую книжку, дарил ее всем на пляже с прелестными четверостишиями. Белле и Борису Мессереру он написал:
Собирались по вечерам в номере Беллы и Бориса. Борис рассказывал, как однажды в июльскую жару в Ялте встал в безнадежнейшую очередь за пивом; солнце шипело над головой, подступала дурнота. И вдруг Борис увидел, что огромная бочка с пивом, из которой пивница лениво цедила в кружки пенистую влагу, украшена плакатом с изображением Беллы Ахмадулиной. Борис выбежал из очереди и закричал: «Да вы знаете?! Да я же!!!» И осекся. «А что, собственно, я бы мог сказать?!»
Все вежливо засмеялись.
Борис внимательно следил за тем, чтобы аристократизм хозяйки оттенялся его ласковостью и не приводил к излишнему холопству гостей.
Слушали Беллу с замиранием, восторгом, шевеля губами в такт стиху, а потом шли в какой-нибудь другой номер и уж там, размахивая руками и форсируя хрипы, читали собственные сочинения и чувствовали себя анархистами, подпольщиками, готовящими заговор против императрицы, а утром вновь рассыпались в прах.
Приезжали в Пицунду налегке, с какой-нибудь дорожной сумкой, только жена Романа Сефа Ариэлла прибывала из Парижа с огромными чемоданами на колесиках, из которых добывались неведомой нам красоты одежды. Послушав однажды стихи Беллы, она выбежала в волнении из ее комнаты, метнулась к себе, распахнула чемоданы и вернулась к Белле с белоснежным комбинезоном с еще не снятыми бирками Армани или Диора. Белла надела подарок, все спустились в бар выпить кофе, Белла вертела в руках сигарету:
– Ну и как ей объяснить, что мне нужны маленькие линялые джинсики, и больше ничего! Неужели она не понимает?!
– Завтра же Белла передарит эту роскошь, – подтвердил Борис.
Она знала, что рампа горит всегда, сцена не меркнет ни на секунду и счет обязан быть сухим – в ее пользу. При любых обстоятельствах.
…У меня дома висит большая фотография, на которой Белла Ахмадулина снялась с Эдиком Елигулашвили. Они снялись обнявшись, с рюмками в руках, и смотрят друг на друга с такой нежностью, что я как-то спросила Эдика:
– Может быть, у вас был роман?
Он ответил:
– Ты думаешь, что может быть роман с иконой?
«Дорогой Эдик, благодарю тебя за долгие годы нашей дружбы, ни разу ничем не омраченной», – написала она ему в 1995 году, спустя не одно десятилетие после начала знакомства.
Белла очень тонко и точно чувствовала, в каком литературном жанре должны складываться отношения. С Эдиком Елигулашвили, которого Евгений Евтушенко прозвал «Ели-гуляли-пили-швили», проводившем половину жизни в грузинских застольях, где нежность нарастает по законам мастерства и ритуала, – жанр должен был соответствовать краткости и афористичности тоста, с броским, запоминающимся финалом, допускающим многократное цитирование.
Эдик, как многие грузины, охотно гулял по берегу моря, но не заходил в воду.
– Неужели, Эдик, ты никогда не купаешься в море? – удивлялся Борис Мессерер.
– Никогда!
– Даже в такую жару?!
– В любую. Я не могу войти в воду, в которой уже кто-то побывал…
– Нет, Эдик, я все-таки не понимаю, – продолжал Борис, – как это можно – всю жизнь провести на берегу Черного моря и ни разу в него не окунуться?!!
– Что же тут непонятного, Боря? – вступилась за Эдика Белла. – Вот ты, Боря, живешь в Москве, но ты ведь не бегаешь каждый день в Мавзолей?!!
К Белле, сидевшей в баре в Пицунде в большой компании, подошел местный сочинитель и, не веря своему счастью, попросил разрешения поднести ей свой сборник стихов. Ахмадулина с ласковостью медсестры заверила его, что подарок будет принят. Ошарашенный свалившейся на него удачей, поэт остолбенело держал в руках сборник, не в силах приступить к написанию слов восторга.
– Значит, вы разрешаете надписать вам свою книгу?! – всё переспрашивал он.
– Ну конечно, – утешительно кивала ему Белла.
– Прямо вот сейчас вот так возьму и напишу прямо: «Изабелле Ахатовне Ахмадулиной» (Белла Ахмадулина по паспорту действительно Изабелла. – Е.С.)? Прямо так и напишу?
– Можете написать: «Изе Мессерер», – улыбнулась Ахмадулина.
…Сидели в духанчике недалеко от Тбилиси. Произносили бесконечные тосты, выпивали. В углу сидел какой-то старик со слезящимися глазами, сидел один, среди шума и веселья, никто к нему не подходил, никто не звал его за свой столик.
– Бедный дедушка, – сказала Белла.
– Не жалей его! – ответили Белле. – Он был подручным Берии, все это знают!
– Бедный дедушка-убийца, – отозвалась Белла.
Еще одна домашняя фотография: мой отец стоит, обнимая Беллу Ахмадулину. Это 1962 год, писательская поездка в Югославию, мой отец, прозаик Григорий Скульский, включен в делегацию, Юрий Нагибин был с Беллой Ахмадулиной.
Спустя много лет Белла сказала мне:
– Хотите о моей матери? Она писала в ЦК письма с просьбой помочь ее заблудшей дочери встать на правильный путь!
В той югославской поездке она, может быть, скучая среди слишком взрослых людей, по-детски приникла на несколько дней к моей матери. И послала в Таллин в подарок какой-нибудь из дочек мимолетной покровительницы свой голубой костюмчик с золотыми пуговицами. Он достался мне, двенадцатилетней, и я долго его носила тряпичным предисловием к стихам.
Я очень рано вышла первый раз замуж. Мой товарищ по полудетскому браку к стихам был равнодушен, к моим особенно, и сколько бы я ни ходила с загадочным видом по квартире, кусая карандаш, непременно устраивал скандалы из-за немытой посуды.
– Я – поэт, понимаешь, поэт! – кричала я.
– Вот станешь Беллой Ахмадулиной, тогда и не будешь мыть посуду! – парировал муж.
При этом «Белла Ахмадулина» была для него не реальным поэтом, а неким собирательным «Пушкиным». «А посуду за тебя Пушкин будет мыть?» – мог бы он спрашивать меня на манер классного руководителя.
И вот однажды Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером оказались в нашей квартире. Мой муж был так потрясен этой встречей с «Пушкиным», что буквально лишился дара речи, он только что-то шептал, лепетал и припадал к ручке. Уходя, уже в дверях, Белла обернулась:
– А вдруг ваш муж, Лиля, лучше моего? Не прихватить ли мне и вашего с собой?
И мой, сорвав с вешалки пальто, кинулся за ней по лестнице…
…Дома у моих родителей Белла была беззащитна и состояла только из стихов.
– Григорий Михайлович, – говорила она моему отцу, – ведь вас никто, наверное, не называет «товарищ»? Вам, наверное, говорят «сударь», «милостивый государь», признайтесь!
– Кошечка, прелестная кошечка, – расплывался отец.
Борис Мессерер нарисовал в альбомчик маме традиционный граммофон из своей коллекции, а Белла вскочила из-за стола, ушла в отцовский кабинет и оставила такую запись в семейном альбоме:
«Милому и родному семейству Скульских – слабоумный медленный экспромт.
Скульптура черного олененка стоит у крепостной стены; всякий, кто идет с вокзала к центру, непременно видит эту фигурку. Но мало кто обращает на нее внимание: у нас сейчас на центральной улице сидит на скамье бронзовая корова с золочеными копытами, сидит, закинув ногу на ногу, и туристы непременно присаживаются к ней и фотографируются на память. А неподалеку, буквально за углом, на булыжном возвышении стоит бронзовый трубочист с позолоченными пуговицами; не сразу и не вдруг сможешь с ним сфотографироваться – очередь.
…О смерти Беллы Ахмадулиной я узнала из короткой записки Тээта Калласа: «Жаль, что больше нет Беллы… Почти все они уже ушли».
В 1980 году Белла приехала с выступлениями в Таллин. Как-то поздним вечером, собственно говоря, ночью ей вдруг пришло в голову, что она должна познакомиться с каким-нибудь настоящим эстонцем. Только настоящим, Лиля! В таком хемингуэевском свитере крупной вязки с оттянутым воротом, с бородой, с трубкой; чтобы попыхивал, а в промежутках тяжело и важно ронял слова – сплошь философские максимы.
Ночью и к тому же выпив, можно было позвонить только Тээту Калласу. Тээт тут же откликнулся:
– Невероятное везенье! Приехала мама Аллы, и они напекли столько пирогов, что можешь вести за собой всю компанию!
Стали собираться, решили пройтись по ночному Таллину.
– Только, Белла, – говорю, – Тээт хоть и настоящий эстонец, хоть и в свитере, хоть и курит, а, боюсь, он совсем не тот, кого вы хотите увидеть. Он яростный. Ради любимой женщины вошел в клетку к тигру. Да-да, к тигру. И тигр отгрыз у него палец…
Белла поморщилась, моя выдумка отдавала безвкусицей.
– Он уговаривал Аллу выйти за него замуж, – напирала я, – пытался завоевать расположение ее шестилетнего сына. Мальчик пообещал: «Если ты подаришь мне настоящего живого зайца, я всё устрою!»
Поехали в зоопарк, директор был давнишним приятелем Тээта. Алла с сыном остались ждать на скамейке возле клетки с тиграми, а Тээт отправился к начальству. Выпили с директором коньяка, директор вник в проблему и распорядился принести зайца. С зайцем под мышкой Тээт победно подошел к скамейке. Однако шестилетний Роман вовсе не имел на маму того влияния, на которое они с Тээтом так рассчитывали.
– Если ты не выйдешь за меня, – сказал Тээт, – то я открою сейчас клетку с тиграми и войду к ним. Может быть, они снисходительнее и сговорчивее, чем ты.
Директор, во всем сочувствующий тээтовой любви, моментально отпер клетку. Тээт пошел на тигра, тот кинулся, сосредоточив, впрочем, внимание на зайце. И вырвал добычу и проглотил вместе с одним пальцем Тээта.
Всё произошло за секунду. Алла с сыном успели только вскочить со скамейки и медленно на нее опуститься. Тээт стоял перед ними. Из руки хлестала кровь.
– «Скорую!» – орал протрезвевший директор.
– Не надо, – возразил Тээт, – я буду стоять так, пока она не выйдет за меня замуж…
– И вот, – завершила я рассказ, – у них в доме повсюду только книги и тигры, книги и тигры, ну, разумеется, мягкие такие тигры, игрушечные…
Белла раздраженно молчала.
Пришли. Нас ждали пышные горячие ночные пироги и охлажденная выпивка. Тээт рассказывал, как он переводил на эстонский язык Юрия Казакова. Когда они вместе приезжали поработать в какой-нибудь Дом творчества, администрация принимала против них самые решительные меры. Им категорически запрещалось употреблять и проносить на территорию спиртные напитки. Это было во времена пишущих машинок. Писатели брали с собой пустой чемоданчик от «Эрики» и задумчиво выходили за ворота, чтобы постучать по клавишам на природе. Спустя час возвращались с заметно потяжелевшим чемоданчиком, набитым бутылками, и продолжали пьянствовать. Близкая и искренняя дружба не мешала им часто ссориться:
– Не смей со мной спорить, – орал Казаков, – ты же знаешь – я великий русский писатель!
– Я-то знаю, – кричал в ответ Каллас, – а вот ты не знаешь! Я тебя читал, а ты меня – нет! Я сам – великий эстонский писатель!
– Все равно, – гремел Казаков, – я больше тебя!
– Почему же это?
– А потому что Россия больше Эстонии!!!
А Белла очень по-домашнему рассказывала, как в один из приездов в Таллин она захворала: кашляла, поднялась температура. Нужно было вызвать терапевта, но день был воскресный, и поликлиники закрыты. Белла попросила меня, если возможно, все-таки найти какого-нибудь толкового врача. Я позвонила домой Александру Левину – прекрасному доктору и одновременно поэту и переводчику. Через полчаса в гостиничный номер Ахмадулиной постучали, я открыла дверь, доктор Левин стоял в проеме с огромной, заслонявшей его лицо стопкой книг: тут были и его сочинения, и сборники переводов, и просто книги, достойные внимания Ахмадулиной.
– Видимо, болезнь помешала мне внятно сформулировать свою просьбу, – покорно принимая книги и столь же покорно готовясь слушать стихи, сказала Ахмадулина.
У Тээта с Беллой оказалось много общих знакомых, одним из самых близких друзей обоих был Василий Аксенов, словом, очень быстро они заговорили как старые давнишние приятели. Под утро стали надписывать друг другу новые книги. Тээт взял ручку, и тут Белла заметила, что у Тээта не хватает на руке пальца; Тээт перехватил ее взгляд:
– Это у меня была не очень удачная встреча с тигром…
Белла воскликнула:
– С какой стремительностью в Эстонии литература становится фактом жизни!..
В один из следующих приездов тоже в начале 80-х Белла захотела пойти в клуб художников и литераторов «Куку», который и тогда был на нынешней площади Свободы. Сейчас это просто подвальчик с удушливой комнатой для курения – именно в ней вечно проводятся конференции, с которых не сбежишь; чувствуешь себя рыбой в аквариуме (прозрачная стена в соседние залы) – только нет тебе, рыбе, воды. А тогда в ресторанчик пускали только членов клуба, а принимали в клуб почти как в масонскую ложу – со сложной системой рекомендаций и проверок. Считалось, что именно там, в «Куку», художник может не только напиться (это-то везде!), но и болтать безнаказанно.
Белла моментально почувствовала себя своей в «Куку»: словно внешняя, кажущаяся жизнь осталась за дверями подвала, наступила жизнь иная, подлинная, хранящая тенистые недомолвки. И эти недомолвки, эту тайну, скрытую в табачном дыму, в чуть оплывших от выпитого лицах известных писателей и артистов, Белла прочитала. На нашем столике сменили уже несколько графинчиков; вдруг Белла поднялась, вышла в центр зала, поклонилась до земли и буквально пропела-проплакала, как стихи: «Простите меня! Простите, что я ничего не сделала для того, чтобы ваша прекрасная страна стала независимой! Простите, что я ничего не сделала для вашей свободы, которая непременно придет к вам!»
Стоп-кадр. Выключенный звук. Никто не шелохнулся. Белла растерянно постояла в центре зала и вернулась понуро за столик. К нам подошел один из завсегдатаев клуба и тихо, но категорически посоветовал нам уйти. Борис Мессерер нервно и с вызовом принялся объяснять: Белла – великий поэт, сам он – художник, он потрясен подобной реакцией на искренние слова своей жены.
– Вам лучше уйти! Поверьте, вам лучше уйти. – И нас уже теснили к дверям, и взгляды нас провожали жесткие и холодные.
И только спустя четверть века я узнала, что же тогда произошло. Я рассказала эту историю эпатажному и дерзкому литературному критику Ваапо Вахеру; он угрюмо кивал, вздыхал и сказал наконец:
– Я ведь тоже выпивал в тот вечер в клубе. Понимаешь, мы тогда все были на заметке в КГБ, а Белла Ахмадулина говорила так вдохновенно и открыто, что мы решили: органы подготовили очередную провокацию…
…Помню несколько ее коротких новелл. В Америке какой-то человек устроил скандал на заправке, всех терроризировал, а она опаздывала на выступление. Белла выскочила из машины и вступила в перепалку.
– А, – заорал тот, – ты смеешь так со мной разговаривать потому, что я черный!
– Я не вижу, какого ты цвета, но я вижу, что ты идиот, – спокойно отвечала Белла. И скандалист сник.
Советских поэтов принимал в Штатах Рейган. Он спросил у Беллы:
– Какой поэт у вас считается самым лучшим?
Белла – под пристальными взглядами сопровождающих гэбистов – ответила:
– Наш лучший поэт находится у вас – Иосиф Бродский.
Подобные истории, наверное, хранятся в памяти у всех тех, кто был с ней знаком или дружен. Но самое главное – нет историй других, в которых она выглядела бы как-то неприглядно. «Главное для поэта, – повторяла Белла, – приглядывать за своею нравственностью!»
…Однажды мы сидели в Таллине в кафе, и к Белле все время подходили какие-то люди за автографами. И Белла всякий раз вскакивала из-за столика, чтобы их поблагодарить.
– Даме вовсе не нужно вскакивать, – удерживал ее Борис Мессерер.
– Даме не нужно, – оборачивалась Белла, – а поэту, Боря, совершено необходимо!
Для одного из интервью фотограф очень долго фотографировал Беллу. Снимал в гостинице, водил по парку. Когда снимки были проявлены, то оказалось, что почти везде Белла снята на фоне каких-то решеток – парковой ограды, ресторанного ограждения, но именно – решеток. Бдительный художник газеты «Советская Эстония» Стас Маклаков побежал к главному редактору и, заикаясь и пришепетывая, рапортовал:
– Опять Скульская хочет протащить на наши страницы антисоветчину! Смотрите, поэт у нее за решеткой. Это в нашей советской стране, значит, у него, у поэта, нет свободы слова.
Редактор побледнел и интервью снял. На следующий день Беллу Ахмадулину наградили орденом Дружбы народов. Интервью опубликовали. Там она говорила, что «Таллин – подарок для глаз».
Я рассказала как-то про эти решетки Евгению Рейну. Он тут же ответил. Пришел он в гости к Белле Ахмадулиной. Поднялся на шестой этаж и видит, что вход на лестничную клетку забран решеткой. Стал кричать, звать хозяев; из квартиры вышла Белла и говорит, что Борис ушел, а ключ от решетки унес с собой. Рейн хотел распрощаться, но Белла его удержала: она принесла столик, накрыла скатертью, Рейн открыл принесенный коньяк, сели они по разные стороны решетки, выпивают. Вечером вернулся Мессерер и говорит: «С какой стороны ни посмотри, а поэты у нас сидят за решеткой…»
Пытаться понять ее лирическую героиню по законам реальности невозможно. Особенно тогда, когда автор сам настаивает на реальности, низведенной до быта, до обыденности. Почему ее героиня все время ходит в гости к немилым людям, которые чужды ей и которые не любят ее?
К Белле обращается хозяйка дома:
Белла комментирует:
В другом стихотворении Беллу Ахмадулину приглашают в гости к литературоведу. И она говорит, что в этом доме она поест и отогреется за «Мандельштама и Марину»…
В третьем стихотворении Ахмадулина просит читателя не плакать о ней, поскольку она постарается как-то выжить, быть «веселой нищей, доброй каторжанкой».
Вероятно, она была убеждена, что всякий Поэт разделяет судьбу всех Поэтов и несет на себе груз страданий и бед, выпавших на долю предшественников. В одном из разговоров она утверждала:
– Никто, как поэт, не умеет радоваться любому проявлению жизни, любому знаку всего живого на земле. Но у поэта разверстая душа, вбирающая благородное страдание, вбирающая боль мира, за который поэт ответствен. А коли груз ему покажется непосильным и он ослабит ношу, то и его звезда-поэзия скажет: «Ступай и благоденствуй, но без меня». Судьба и творчество – неразделимы. Сам дар, само призвание как бы изначально закладывает в художнике сюжет его судьбы. Но это, конечно, не значит, что поэт может быть совершенно безогляден в своих поступках, полагаясь только на путеводную звезду своего таланта. За душою, за совестью своей, за честностью нужно приглядывать, нужно уметь делать выбор и нужно уметь решаться. Важнее всего для меня – не провиниться перед всеми теми, кто мне доверился…
Ахмадулина единственный, наверное, поэт в истории русской литературы, который не нажил себе за жизнь ни одного врага. О ней никогда не сказала ни одного худого слова критика, не ходят о ней в литературных кругах сплетни.
– Сам о себе не расскажешь, никто о тебе не расскажет, – говорила она. – Сплетничают о тех, кто сам о себе распускает сплетни.
Как-то в Москве я была звана в гости в мастерскую к Борису и Белле, где висят штандарты с ее стихами, написанными от руки, где висят прекрасные ее портреты и стоят многочисленные патефоны. Я радовалась встрече, пришла, предвкушая славное и долгое застолье. Но Борис сказал, что Белла даже не выйдет из своей комнаты ко мне, что через несколько часов она должна быть на телевидении, она готовится, и мой коньяк совершенно сегодня неуместен – ей выступать, а ему ее везти. Впрочем, он пытался занять меня разговором и чем-то накормить; отбыв неловкие полчаса, я уехала.
Решила никогда там больше не бывать, но чувство собственного достоинства было обретено все-таки на лестнице, что временами дергало, как больной зуб. Спустя неделю пришла от Беллы книжка: «Милая Лиля, в знак моего искреннего расположения и признательности, во искупление моей случайной неуклюжей негалантности – решаюсь послать Вам бедную книжку». То была «Тайна», вышедшая в 1983 году.
По разным причинам люди приносят извинения: кому-то жаль обиженного ими, кому-то жаль себя, оступившегося в нанесение обиды.
Я бы сравнила пластический дар Беллы Ахмадулиной с пластическим даром Майи Плисецкой. Плисецкая расширила возможности балета, опустившись с небесных пуант на полную ступню, внеся в балет трагическую драматургию пантомимы, жар площадного танца, гомон прозы, бокалы и сигаретный дым; она могла выйти в длинном вечернем платье, встать неподвижно и станцевать одними руками. Ахмадулина перевоплощается в ручей, который не разрушает почву, но течет только по тем местам, какие не противоречат ландшафту, и от этого смирения перед миром, от этого не-бунтарства вода ручья оказывается (парадокс!) прозрачней и чище, чем в бурлящих потоках; в этом ручье нет сорванных веток и раздробленных камней с острыми краями, но можно разглядеть каждый камешек на дне, можно выпить этой холодной чистой воды и прикоснуться к гениальному ребяческому простодушию поэта-артиста, который расширяет поэзию до возможностей балета.
«Есть только один повод для слез, – любила повторять Ахмадулина, – искусство!»
Кик-ин-де-Кёк. О Евгении Евтушенко
Шестидесятники были прежде всего или, точнее, кроме всего прочего – людьми устного жанра. Это не диалог, не интерес к собеседнику, это проверка будущего текста на будущих читателях (если, конечно, текст будет напечатан, что не обязательно). А устный жанр требует особой чистоты, то есть склоняется к анекдоту. Сюжет – непременно, вымысел – обязательно, но и документальная неоспоримость – без попытки симулировать (или симулировать безупречно).
Шестидесятники уходят, почти ушли, и анекдоты о них – такая же важная часть истории литературы, как и их творчество и его анализ. Добавлю: творчество и его анализ никуда не денутся, а анекдоты исчезнут вместе с их рассказчиками. Поэтому спешу перевести несколько историй из устного жанра в письменный.
В 1981 году в Таллин приехал Евгений Евтушенко со своей фотовыставкой. Открытию предшествовал поэтический вечер: на маленьком столике для записок стоял прозрачный кувшин с молоком или кефиром – поэт наливал белое в стакан, прижимал к красному свитеру, вспоминалась его строчка из прозы, где девушка в красном комбинезоне была похожа на струйку томатного сока. Зал был полон, но при этом казался полым: не было жажды; именно тогда стало ясно, что небывалая слава поизносилась, поистёрлась и никакие заплаты не помогут.
Я служила в газете «Советская Эстония», персонажи которой уже перешли в прозу Сергея Довлатова, но продолжали жить, не замечая своей литературной исчерпанности. По-прежнему возглавлял газету Генрих Францевич Туронок.
На планерке заговорили о приезде Евтушенко, решили, что можно ограничиться маленькой заметкой отдела информации. И тут раздался звонок из… Генрих Францевич, схватив телефонную трубку, воздел палец к потолку; этот жест начальника известен всем, кто работал при советской власти, – имелось в виду не напоминание о высшем суде, но указание на связь с Центральным комитетом Коммунистической партии. Центральный комитет был возмущен тем, что в нашей партийной газете до сих пор не вышло интервью с выдающимся советским поэтом Евгением Евтушенко. Генрих Францевич моментально отправил меня на поиски великого стихотворца и настоятельно рекомендовал не возвращаться без интервью.
Евгений Евтушенко был недостижим. На телефонные звонки не отвечал, на записки, переданные через администрацию гостиницы, не реагировал, по историческим местам города не прогуливался. Наутро я пришла на планерку, не выполнив журналистского задания. И тут милейший Генрих Францевич не выдержал.
– От вас, Лиля, – корил он меня с надсадом, – давно попахивает богемой, вы просто не хотите приложить усилия, чтобы встретиться с истинно народным поэтом! Идите. Если завтра не будет интервью, вам придется искать себе новое место работы.
За день ничего не изменилось, найти поэта мне не удалось… Ночью я приехала в гостиницу «Олимпия», где селились иностранцы и особо важные гости столицы, и расположилась у дверей номера Евтушенко с пачкой сигарет. Сидела на ковре у люкса, курила, трижды предъявляла журналистское удостоверение коридорной, интересовавшейся родом моих занятий.
В седьмом часу утра дверь номера приоткрылась, и две хорошенькие девушки, оглядевшись, выпорхнули в коридор. Я стремительно подлетела к проему и успела наполовину втиснуться в комнату. Евгений Александрович в похмельном изумлении смотрел на меня.
– Я из газеты «Советская Эстония», дайте, пожалуйста, интервью!
– Интервью не даю, уходите!
– Тогда вам придется платить мне по двести рублей ежемесячно!
Он с тревогой присмотрелся ко мне, убедился, что видит впервые, и уточнил:
– За что же это?
– А за то, что меня уволят, если я не принесу интервью с вами, а платит мне газета как раз двести рублей в месяц.
Евтушенко впустил меня в номер и даже заказал завтрак, узнав, что я караулила его с четырех утра. За завтраком говорили о фотоискусстве.
– Я думаю, мы все недооцениваем фотографию, – убеждал меня поэт, – ведь она может быть не только репортажем с места событий. Фотография может негодовать и смеяться, славить и выносить приговор. Вы уже видели мою выставку?
Выставка открывалась официально только через два дня, но Евгений Александрович полагал, что представители центральной газеты могли с ней познакомиться заранее. Я тут же приняла его версию и охотно пропела:
– На ваших фотографиях – жизнь, застигнутая врасплох, неприбранная, шумная. Жизнь, открытая вами, и жизнь, открывающая вас, – особое, поэтическое устройство вашего глазного хрусталика…
Генрих Францевич выписал мне премию и похвалил за истинно партийную журналистскую оперативность и находчивость. На следующее утро газету одобрительно прочли в Центральном комитете. И даже решили, что первые лица партии и правительства посетят открытие знаменательной выставки.
И вот уже, превозмогая одышку и колотье в боку, промокая лбы хирургически чистыми платками, взбираются на шестой этаж средневековой башни Кик-ин-де-Кёк народные избранники. Рассматривают фотографии. Есть, конечно, сомнительные: вот стоит обнаженная беременная женщина, а маленький мальчик трогает ее огромный живот, пытаясь представить себе братика или сестричку. Но, впрочем, ничего страшного. И тут один из помощников-советчиков наклоняется к уху первого секретаря партии:
– Обратите внимание! Все фотографии, сделанные в Советском Союзе, – черно-белые, а все снимки из-за границы – цветные.
– И в самом деле, посмотрите, товарищи, нет ли здесь какого-то подтекста?
– Есть! У нас жизнь, видите ли, черно-белая, мрачная, бесцветная, а за рубежом всё полно красок, веселья, разнообразия и счастья!
Руководители партии и правительства ринулись с шестого этажа башни вниз, на свежий советский воздух. Генриху Францевичу позвонили и отчитали за близорукость, за неуместное восхваление сомнительного стихоплета, попытавшегося к тому же очернить с помощью своего фотоаппарата нашу лучезарную жизнь.
Я узнала, что от меня не только попахивает богемой, но уже и воняет. Меня лишили и премии, и гонорара за интервью. Мой дальтонизм, не позволивший мне отличить подлинное искусство от его грубой подделки, был взят на строжайший учет.
Спустя много лет Евгений Рейн рассказал мне в ответ на мою историю – свою, совершенно замечательную.
«Со славой Евтушенко, – начал Евгений Рейн, – в свое время не могла сравниться ничья популярность. Как-то я попал на собрание армянской общины. И там один из восторженных почитателей поэта сообщил мне, что назвал свою дочь в его честь. «Евгенией?» – уточнил я. «Нет, я назвал ее Евтушенкой», – ответствовал почитатель. И показал мне свидетельство о рождении, где документально было подтверждено: «Евтушенко Акоповна Мирзоян»…
Однажды молодой Евтушенко показал мне продавленную золотую монету; сказал, что монета досталась ему от прекрасной и юной мексиканской графини. У них в Мексике есть такой обычай: в высший момент страсти счастливая женщина сжимает в зубах золотую монету.
– Что же ты носишь ее в кармане? – изумился я, – нужно повесить ее на золотую цепочку и носить на груди!
Евтушенко чрезвычайно понравилась эта идея, и мы отправились в ювелирторг. Но даже для прославленного Евгения Александровича золотой цепочки не нашлось. Проклятый советский дефицит! Евтушенко загрустил. Но тут меня осенило: моя тогдашняя теща буквально боготворила Евтушенко и, если у нее есть золотая цепочка, то она конечно же отдаст ее ему. Поехали ко мне. Теща была счастлива, готова была на все, но – вот ужас – золотой цепочки у нее не было.
– Женя! – воскликнул я, – а почему, собственно, эта чертова цепочка должна быть непременно золотой?! Сейчас в первом же магазине купим кулон за 3.60, кулон выбросим, а на цепочку от него повесим монетку.
Пошли в магазин. Нет кулонов!
И тут Евтушенко строго и властно говорит заведующей магазином:
– Сколько человек у вас служит?
– Всех считать? – переспрашивает заведующая.
– Всех.
– Вместе с грузчиком и уборщицей?
– Вместе.
– Восемь.
– Зовите их немедленно сюда.
Пришли. Встали. Евтушенко воздел руки и выкрикнул:
– В стране рабства нет цепей!!!»
Всё прочее – литература.
2017
Три застолья. Об Израиле Меттер, Натане Эйдельмане, Алексее Германе
I. Красные чашечки в белый горошек
У меня плохая память на лица, такая плохая, что студенты порой спрашивают: «А как вы узнаете своего мужа?» – «Очень просто, – отвечаю. – Прихожу домой, и тот, кто открывает мне дверь, и есть мой муж, кому же там быть еще!»
Впрочем, и дорогу домой найти мне совсем не просто, разве что из очень привычных мест; меня не нужно уводить в лес, чтобы я потерялась, даже три сосны выращивать не обязательно, я заблужусь непременно.
Дом для меня – это накрытый стол: с клеенкой, протертой на сгибах и открывающей исподнее рядно, всегда немного липкой, в ней увязают локти, – на кухне или с крахмальной белоснежной скатертью на обеденном столе в гостиной, где в годы моего детства и юношества блюда украшали розочками, вырезанными из вареной моркови, в пустые глазницы селедки втыкали фонтанчики зеленого лука, звездочки из огурцов и редиски облепляли салаты, на дне блюд лежали нарезанные сыры и колбасы, но их нельзя было поддеть вилкой, они были нарисованными, особенно трогательной была килечка, лежавшая скромно на боку в узкой мисочке (у Магрита есть такая картина – женщина-килечка лежит на прибрежном песке).
Эти столы я помню прекрасно, придвигая к ним всё новые и новые, где бы ни оказывалась, всё оседает в памяти.
Так вот: красные чашечки в белый горошек. Старенькие, но без щербинок, без обгрызенных временем краев и трещин, но потускневшие от многолетнего мытья. Они уже были не насыщенно-красного, а малокровного цвета, и белый крупный горох на них не стойко держал границы, готовый расплыться в красноватом фоне. Чашки были дешевые, а рядом стояли изящные, тонкого фарфора, с накладными бабочками на ручках. Но Ксения Михайловна сказала:
– Так хорошо, что вы пришли, мы вам так рады, что будем пить чай сегодня из этих, в горошек. Этот сервиз нам подарил Толик Мариенгоф.
Мы попали в гости к Израилю Моисеевичу Меттеру, автору «Мухтара», и Ксении Михайловне Златковской, балерине и актрисе, с моим товарищем Николаем Крыщуком в начале 90-х, за несколько лет до смерти писателя. Мы договаривались о встрече, но не думали, что наш приход будет поводом накрыть небывалый стол: с новогодними лучами хрусталя, с грозными трезубцами, воткнутыми в куски буженины, с утиными носами соусниц, с тугими салфетками, схваченными серебряными держателями в виде рыцарской перчатки, и рыцарским же шлемом, венчавшим бутылочную пробку. А надо вам сказать, что сливочное масло в это время продавали по талонам…
Мы были смущены, и я пискнула что-то вроде того, что роскошь необыкновенная. И Израиль Моисеевич, обрадованный произведенным впечатлением, которое, уверена, далось семье непросто, самодовольно поддакнул:
– Ну, конечно, не «Мюр и Мерилиз», но все ж таки… Помните песенку: «Всё становится хуже и хуже в отношении «Мюр-Мерилиз»». Не помните? Подождите… Ксана! Посмотри на них – они не знают, что такое «Мюр и Мерилиз»! Я попал на другую планету. Как же так? Это был знаменитый съедобный магазин, там, где теперь ЦУМ. В двадцатые годы сложили о нем такую песенку…
Я понимаю, что к ним всё реже и реже заходят гости, с которыми связывает общее прошлое, и наш приход – повод оживиться, найти усердных слушателей, не дать болотной табачной тине сомкнуться над прожитой жизнью. Беру книгу, оставленную в кресле, читаю надпись: «С чувством большой симпатии – очень милой и тихой Ксаночке на память и с надеждой на дружбу. Мих. Зощенко».
– Разве вы были тихой, Ксения Михайловна? Вот ваша фотография с тигром…
– Просто мне этот тигр приглянулся, я с ним и снялась!
– А здесь вы на одной сцене с Улановой, танцевали вместе…
– А сегодня, если хотите, могу станцевать с вами.
– Газета 1936 года. «Полина Осипенко возвращается с купанья с К. М. Златковской, киноактрисой Ленинградской студии Союзтехфильма. Севастополь». Так все-таки были тихой?
– Я просто боялась упустить что-нибудь из тех разговоров и действительно чаще молчала…
И улыбается. Как умели улыбаться только женщины на переходе от немого кинематографа к звуковому: так, чтобы я догадалась до какой степени Михаила Зощенко волновало ее молчание, но при этом так, чтобы у Израиля Моисеевича не было повода возвращаться к выяснению тех давних отношений, и все-таки так, чтобы он встал из-за стола и переложил томик Зощенко подальше от нашего кружка.
А вокруг – книги с автографами Ахматовой, Шостаковича, Евгения Шварца, Юрия Германа.
– Кого из них вы сейчас читаете? – спрашиваю.
– Не их. Только что перечитал «Палату № 6» и всё думал об этом человеке. Ему было тридцать два года, стоял 1892-й, и, наверное, вокруг происходило множество событий, которые казались самыми важными, определяющими будущее. Забастовки, холерные бунты. А вот он не писал о них, писал о чем-то своем, как бы малосущественном. А сегодня именно он современен, злободневен, и у него можно искать ответы на наши вопросы.
– Но нельзя же вовсе не выглядывать в окно? То есть я пытаюсь ничего не знать о политике, однако не знак ли это жеманства и кокетства?
– Я сейчас объясню. – Израиль Моисеевич отодвигается от стола с закусками, которые Ксения Михайловна называет «пыжами», сопутствующими каждой рюмке. – Понимаете, писателю свойственно знать что-то большее, чем окружающая среда. Додумываться. Это, вероятно, дано ему Богом. А за политические соблазны приходится расплачиваться страшно. Вот вы слышали, конечно, читали о тех диких собраниях тридцатых, сороковых, пятидесятых годов и относитесь к ним отстраненно, как к истории. А я ведь на всех этих собраниях сидел, видел, что делалось с людьми. Я вам сейчас прочту заголовки из «Литературной газеты» за 26 января 1937 года. Пушкинский номер. «Милость к падшим призывал». Шапка: «Смести с лица земли троцкистских предателей и убийц». Статьи крупнейших писателей времени. Алексей Толстой: «Сорванный план мировой войны»; Николай Тихонов: «Ослепленные злобой»; Константин Федин: «Агенты международной контрреволюции»; Юрий Олеша: «Фашисты перед лицом народа»; Всеволод Вишневский: «К стенке»; Исаак Бабель: «Ложь, предательство, смердяковщина»; Мариэтта Шагинян: «Чудовищные ублюдки»; Евгений Долматовский: «Мастера смерти»; Виктор Шкловский писал: «Эти люди – кристаллы подлости».
(Я тоже часто думаю об этом январе, о том, что всенародный праздник был приурочен к гибели поэта, а не к его рождению. То есть внезапно с горних Кремлевских высот пришло известие о гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вслед, парашютным десантом, приземлились списки убийц. Картавили по углам дантесовцы. Зазывали дворяне Арину Родионовну в дворницкие к себе на чай. Строились в шеренги, кто не успел отомстить за Пушкина под Перекопом. Гвоздикой распускалась на губах пена. Штормовыми брызгами упадали на страну бакенбарды. Портрет был сравним с солнцем.)
А Израиль Моисеевич продолжает:
– Вы полагаете, что всеми руководил страх? Или что все свято верили в дьявола? Нет, многие сознательно шли на компромисс со временем, искренне полагая, что эти уступки ничего существенного не означают, а просто позволяют спокойно работать и заниматься своим делом. Рассуждали они примерно так: ни одной нотой не сфальшивлю в своей музыке (Шостакович, например, время от времени повторял: «Указчикам – говно зá щеку»), ни одним словом не наблужу в своей прозе, а уж на собраниях буду вести себя, как велено, и подписывать буду все, что прикажут.
– Но вы, Израиль Моисеевич, вели себя по-другому!
– Не я один. Каверин никогда ничего не подписывал, Паустовский, Чуковский… А другие в той или иной мере повинны в том, что происходило в стране, в гибели своих товарищей, коллег. Но ужас жизни заключается в том, что все эти угодливые, верноподданнические, холуйские поступки никак не сказывались на творчестве людей. Кто-то был до конца циничен, кого-то потом терзала совесть, кому-то не протягивали руки друзья, но на творчестве эти обстоятельства никак не сказывались. Чистая совесть не дает ничего, кроме нее самой. Многие писатели, пренебрегавшие ею, сохранили свой талант и остались в истории литературы замечательными своими произведениями. Только не стоит читать их письма, дневники, разбираться в их личной жизни – может открыться много отвратительного. На мой взгляд, только Пушкин выдерживает такое испытание, Чехов да еще, конечно, Короленко. Чистейшей души. Уникальнейший человек. Страдал за людей, голодал вместе с ними, отказался от дополнительного пайка, и только, когда крестьяне, скинувшись, привезли ему на телеге еду, заплакал и согласился… А писатель, впрочем, был посредственный. Думаю, за талант и совесть отвечают разные участки мозга, и тут уж ничего не поделаешь.
Я не посмела тогда сказать, что Израиль Моисеевич сам себе противоречит: сначала сказал, что за политические соблазны приходится расплачиваться страшно, а потом настаивал на независимости таланта, на его защищенности от уколов совести, не способной нанести ему урон. В это время вышел его роман о любви «Пять углов», был переведен на несколько языков, получил в Италии премию за лучшую переводную книгу, Меттеры собирались на вручение премии, подарили нам с Колей по книжке с нежнейшими надписями, но… Но, думаю, было все-таки у Израиля Моисеевича ощущение правильно прожитой жизни, не давшей правильных результатов. Нет, он бы вновь поступал бескомпромиссно и бесстрашно, вернись те времена, но ощущение, что чистая совесть не насыщает честолюбия, не утоляет жажду славы и признания, окрашивало грустью всё, о чем бы он ни рассуждал.
Я, конечно, попросила его рассказать о знаменитых аплодисментах, которые он позволил себе после выступления Зощенко. Мне было важно задать этот вопрос, ему было приятно на него отвечать:
– Я ужасно любил Михал Михалыча. (Добавлю от себя, что, вероятно, не только любил, но и немного ревновал к Ксении Михайловне, как стало ясно в самом начале встречи, но это просто маленький плюс к благородству…) Не могу сказать, что был с ним особенно близок, смотрел на него почтительно, но нас связывали добрые и хорошие отношения. Так вот, уже после смерти Сталина, в 1954-м, приехали в Советский Союз английские студенты. Прибыли в Ленинград. На приеме у городских комсомольских секретарей поинтересовались судьбой Зощенко и Ахматовой, мол, на Западе известно, что знаменитые писатели сидят. Оксфордцев или, там, кембриджцев разуверили и тут же устроили показательное собрание писателей, на котором следовало продемонстрировать живых и процветающих Зощенко и Ахматову. Вести собрание поручили Александру Дымшицу. Он был человек поротый и столь напуганный, что на него уже можно было положиться. Собрание состоялось в знаменитом зале, где Ленин объявлял советскую власть. Пришли писатели, ученые, вся интеллигенция Ленинграда. И вот двум измученным людям англичане задали один и тот же вопрос: как вы относились и относитесь к речи Жданова и постановлению ЦК партии сорок шестого года?
Анна Андреевна, не шевельнув бровью, ответила: «Я и тогда верила и сейчас верю в справедливость» (У нее был расстрелян муж, сидел сын…)
А Зощенко позволил себе черт знает что: мол, и тогда ему всё казалось диким и сейчас кажется.
Анну Андреевну выслушали молча, Зощенко зааплодировали, защелкали фотоаппараты.
А спустя несколько дней в «Ленинградской правде», без объяснений, без ссылок на приезд английских студентов, еще раз крепко ударили по Зощенко. И сработала обычная история. Долбанули в газете, теперь надо собирать общее собрание писателей.
Председательствовал Кочетов, из Москвы прибыл Симонов. Прихожу, а собрание никак не начинают. Я в Союзе с 1936 года, знаком с секретарями, разузнал: просят Зощенко выступить с покаянием. Симонов уговаривал: все ведь пройдет, все забудется, вы только скажите, что были неправы… Зощенко вроде бы согласился, можно было выпускать его на сцену. Во время его выступления я стоял в конце зала, в проходе – вошел в последнюю секунду, бегал хватить коньяка. Так вот во время речи Зощенко я заплакал, физически заплакал. Зощенко говорил о том, как его оскорбил Жданов и что это оскорбление унижает нас всех. Писателя назвали трусом и подонком, а именно такими словами пользовались в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», эти слова нравились Сталину, и все об этом знали. Зощенко говорил страстно. Зал сидел ко мне спиной, но я был уверен, что мои чувства разделяют все. Здесь было много моих друзей, почитателей и обожателей Михал Михалыча. Зощенко вдруг прервался и кинул в зал: «Не надо мне вашего снисхождения…» – махнул рукой и ушел.
Тут я и зааплодировал, не сомневаясь, что меня поддержат. Хрен меня поддержали!
А потом я шел домой с двумя моими близкими друзьями, и они укоряли меня: зачем ты это сделал? Ты думал помочь, а только навредил и себе и другим. Не сознавайся, ты стоял в толпе, могли и не заметить, что аплодировал именно ты… Что ж, один из них был великим драматургом, да и второй был известным прозаиком.
Я представляю себе, как идут по городу Израиль Меттер, великий драматург Евгений Шварц и популярный писатель Юрий Герман; вспоминаю, как терзался в Дневниках Шварц, называл себя дилетантом, как язвительно, точно и беспощадно писал о современниках; он шел тогда по городу, уже написав «Дракона» – на все времена; я думаю о прозе Юрия Германа, о том, как вырастал в согласии и противоборстве с ней талант или, точнее, гений его сына – Алексея Германа; я думаю о «Мухтаре» Меттера, который остался его главным произведением – и не без помощи знаменитого фильма с Юрием Никулиным в главной роли. Свободен ли талант от совести, сидят ли они в разных камерах и даже не перестукиваются? Не знаю.
Ксения Михайловна разливает наливку собственного приготовления, готовит крепчайший кофе. Израиль Моисеевич рассказывает анекдоты из литературной жизни. Про дачу, например, Александра Штейна: драматург безумно разбогател, пьесы его шли во всех театрах, он купил огромную дачу в Переделкине, потом купил вторую и поставил ее на первую; к нему пришла в гости Ольга Берггольц, ела, пила, а в дверях все-таки крикнула: «Шурка, всё это когда-нибудь будет принадлежать народу!» Или про начинающих писателей. «Я ненавижу учительство в литературе, но ловлю себя на том, что мне все время хочется что-то проповедовать». На одном из семинаров попался Меттеру рассказ «Лесные сторожа». О лесниках, не о лесничих, те с высшим образованием, а именно о лесниках, хозяевах леса. Меттер написал письмо Александру Твардовскому, с которым был в хороших отношениях. «Новый мир» вызвал за свой счет молодого автора в редакцию. Тот немедленно купил себе немыслимые малиновые брюки, голубой берет, еще что-то под стать и в таком виде явился к Твардовскому, полагая, что теперь, несомненно, похож на талантливого писателя. Твардовский этого «шика» не любил, но рассказ был принят, и Александр Трифонович лишь попросил исправить одно место про колодезный сруб. Его в рассказе рубили из березы, а Твардовский прекрасно в таких вещах разбирался: на это годится только осина, осина не гниет. Протеже Меттера в малиновых брюках стал спорить, рассорились. Но Израиль Моисеевич от молодого дарования не отступился и пристроил рассказ к Вадиму Кожевникову в «Знамя». Улыбается и горько заключает:
– Думаете, он меня поблагодарил хоть одним словом? Никогда! А вот для Сережи Довлатова я ничего особенного не сделал, мне понравилась его «Зона», и я везде говорил, что он хороший писатель, однажды устроил ему выступление, он прочел несколько «конвойных» рассказов, все на него набросились… Сережа ничего не забыл и писал мне из Америки замечательные письма, острые, смешные, в них такая преданность литературе.
Преданность литературе и/или совестливость, порядочность, благородство? Талант и совесть – две вещи несовместные?
Я помню – на столе рукопись. Израиль Моисеевич разрешил мне выписать последние строчки. О том, что будет с ним после смерти. После смерти он оказывается там, где «…мои покойные друзья справляют обычное свое застолье, то самое, тогдашнее хмельное, доброе, окаянно веселое, полное безрассудных надежд и мудрого отчаяния; за этим же столом уготовано место и для меня.
– Штрафную! – завопят они хором.
И я залпом опрокину стопку и начну торопливо рассказывать, как длилась жизнь в их долгое отсутствие. Но меня тотчас оборвут:
– Заткнись!
А я не заткнусь и буду продолжать и продолжать, покуда не увижу, как побелели их лица, омертвели глаза, и только тогда заору во всю глотку:
– Братцы! Я пошутил… Давайте по второй».
II. Не советуйтесь с Огаревым
Попав в конце 80-х впервые в квартиру Натана Яковлевича Эйдельмана и его жены Юлии Мадоры, я с порога почувствовала обиду: мы были все-таки немного знакомы, я специально приехала из Таллина, чтобы сделать интервью с выдающимся историком, мне «было назначено», а между тем я увидела из прихожей сквозь распахнутые двери столовой празднично и роскошно накрываемый стол; Юля несла из кухни по коридору все новые и новые блюда в боярскую трапезную, здесь явно ожидали почетных гостей, и я, значит, своим неизбежным появлением откладывала застолье, откладывала встречу с действительно приятными семейству людьми, и запахи вплывали в кабинет, куда мы с Натаном Яковлевичем ушли, и чем больше ласкали они обоняние, тем горше была нарастающая обида.
– Вы, видимо, ждете гостей, – наконец произнесла я, – я вас задерживаю…
– Мы вас ждали, – удивился Натан Яковлевич, – больше никого…
– А стол?
– Мы с Юлей полагали, что вы не откажетесь пообедать с нами…
Тот обед длился много часов, Натан Яковлевич понадобился за это время множеству людей: кто-то просил совета, кто-то научной консультации, кто-то заезжал проведать его, кто-то принес обещанные книги, и всех, кто переступал порог дома, приглашали к столу, и конечно, дело было не только в еде, а в том внимании к собеседнику, на которое был способен Эйдельман, ибо ему действительно были интересны люди – не как персонажи, не как литературный материал, а как участники его собственной судьбы, его времени.
Интересно, а с кем советуется сам Натан Яковлевич, когда бывает смутно на душе?
– Когда мне бывает трудно, когда я растерян и не могу принять решение, то чаще всего советуюсь с Герценом.
Признаться, я вздрогнула, может быть, даже оглянулась по сторонам в поисках устойчивой реальности и переспросила:
– С Герценом??!
– Ну не у Огарева же спрашивать! Я, во всяком случае, не стал бы с легкостью ему доверяться…
Историк ренессансной широты интересов, писатель праздничных исторических ассонансов и перекличек, Натан Яковлевич Эйдельман в реальной жизни придерживался простенькой и застенчивой ученической идеи: более всего человека воспитывает пример – жизненный, литературный ли, но непременно реальный пример поведения, на который можно равняться. Он говорил:
– Я занимаюсь Карамзиным, Пушкиным, Луниным, Герценом. Я не могу стать ими. Я не могу стать такими, как они. Но их пример может помочь мне, моим читателям выстроить собственную судьбу, искать путь к собственной свободе… Свободный человек может быть наделен внешними очевидными признаками доблести, а может быть нелеп и смешноват. Он странен. Он выдерживает пытки и истязания. Он проходит тюрьмы и лагеря, он терпит неудачи и редко торжествует. Но он свободен, и его пример западает в души.
– И он ничего не боится?
– Очень боится. Инерция страха необычайно велика. Пушкин рассказывал друзьям: «Говорил с государем, а страх по жилочкам так и забегал». У Некрасова есть «нужные» стихи. Чехов всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. Карамзин говорил, что ему нужна только та свобода, которую у него никто не может отнять.
А тот страх, что еще у многих в памяти, – что заберут, убьют, растопчут не только самого, но и близких?! И самые свободные порой шли на компромисс той или иной степени…
Впервые я увидела Натана Яковлевича Эйдельмана в 1985 году в майском Тбилиси. В Союзе писателей Грузии он рассказывал о своей новой работе – он изучал дневники и, главное, черновики Булгакова к «Мастеру и Маргарите». (Тогда это было совершенно в новинку.) Он говорил о своем пристрастии историка-сыщика, который должен непременно сам подержать в руках каждый документ, и только его взгляду могут открыться тайные «улики»; копии, переводы, машинописные перепечатки уничтожают драгоценные детали: какая-нибудь закорючка пропадет, поблекнет чернильная клякса, цвет бумаги станет иным, и готово – историк уже не ученый, а робкий переписчик из «Подпоручика Киже». Да еще вдохновение, догадка, озарение – они рождаются только от встреч с оригиналом.
Натан Яковлевич рассказывал о множестве персонажей романа, которые не вошли в окончательный текст, о злых и беспощадных страницах, которые потом смягчились. Помню замечательный эпизод, как по крикливому базару двигался старик – в нечесаной бороде, с клюкой и в лаптях – и высокомерно приценивался у торговцев квашеной капустой – Лев Николаевич Толстой.
Блистательны были разработки, касавшиеся Воланда и его свиты, связанные с историей религии… Неожиданно он оборвал рассказ на полуслове и добавил как-то рассеянно:
– А может быть, главная загадка «Мастера и Маргариты» в том, почему Мастер не заслужил Света, а заслужил только Покой?
С необдуманной бойкостью я тут же предложила:
– Да потому, что Мастер попросту струсил.
Эйдельман усмехнулся:
– Конечно, в Мастере много от автора, от свободного Булгакова, написавшего все-таки «Батум», качнувшегося однажды в сторону Сталина. Но смелость и трусость в тридцатых годах были совсем иными, чем вам кажется сегодня.
Встреча в Союзе писателей закончилась, и мы большой компанией отправились гулять по городу. Лучшие знатоки старого Тбилиси пытались блеснуть перед Натаном Яковлевичем редкими сведениями, но это оказалось совершенно невозможным – он сам указывал на дома и улочки, о которых знал удивительные новеллы, находил чутьем места, где никогда не был, привел нас к домику, где жил Лермонтов, очертил в городе XIX век, а потом заторопился – он непременно хотел побывать в серных банях и проверить точность Тынянова, описавшего в «Смерти Вазир-Мухтара» то, что испытал Грибоедов, попав в руки опытного тёрщика.
На прощание Эйдельман подарил моей дочке свою книгу «Прекрасен наш союз…». «Она о школьниках, об истории одного класса, в котором учились Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер и другие замечательные ребята», – добавил он, вручая томик семикласснице.
Потом мы неоднократно виделись в Пицунде, в Доме творчества писателей. У Эйдельмана особенно всем нравилось собираться. Юля каким-то загадочным образом устраивала в казенном гостиничном номере филиал их московской квартиры: накрывались роскошные столы, где с кавказской зеленью, мясом и вином соперничали московские кулинарные достижения. Потчуя гостей, Юля, однако, просила самого Натана Яковлевича, склонного к полноте, есть поменьше.
– Нет уж, дорогая. Как говаривал Крылов, «Я только в тот день не поужинаю, когда уж и не отобедаю». А, кстати, – добавил он, – вы знаете, ведь дедушка Крылов видел восстание декабристов. Да-да, проезжал в коляске мимо, поинтересовался, что происходит, махнул рукой и поехал дальше.
И Натан Яковлевич изображал Крылова – язвительного, ироничного, с некоторым восторгом подражая его стилю речи.
Продолжалось застолье, а когда Юлия опять что-то шепнула про злоупотребление едой, Натан Яковлевич так же тихо что-то ответил ей и неожиданно для собравшихся добавил громко:
– И потом мне ведь так мало осталось – я не переживу шестидесятилетия. Я знаю точно.
Все загомонили, протестуя, но так оно и случилось.
Натан Яковлевич говорил в тот вечер:
– В истории, как и в литературе, всегда два пласта: есть вещи, принадлежащие только тому или иному времени, – например крепостное право, – а есть вещи вечные. Задача историка – наложить историческую сетку на общечеловеческую и сделать свои выводы. Если в нас нет ничего из прошлого, то прошлое нас не интересует. А если мы полностью повторяем прошлое, то это уже не история, а аллегория. Мы часто декларируем необходимость учиться у природы. Замечательно, конечно, наблюдать за животными и растениями, но есть примеры и поближе – если мы хотим знать, как жить, куда идти, то нужно учиться у истории…
В одну из московских встреч Эйдельман рассказал, что побывал на уроке истории в средней школе:
– У них по стенам, как положено, висят портреты великих деятелей прошлого, писателей-гуманистов, всеми силами приближавших Отечество к нынешнему дню. Восемнадцать портретов. И только четверо: Белинский, Чернышевский, Чехов, Горький – не дворяне. Интересно, что об этом думают учителя? Что они говорят ученикам о социальном происхождении «буревестников» революции?
Беда наша в том, что укоренился знак равенства между протестом, сопротивлением и революционным призывом. Вся великая русская литература – литература протеста. И вся она, провидя неминуемый взрыв, бунт, отшатывается от крови и террора.
Страстен был протест Радищева. Предсказание неминуемой ломки. И – трагический финал – самоубийство после разразившегося кровавого террора Французской революции.
Пушкин писал оду «Вольность», но он же называл русский бунт «бессмысленным и беспощадным».
Достоевский говорил: «Стань свободным, и других свободными сделаешь». И он написал «Бесов».
Достоевский… Толстой… Герцен – разные, принципиально разные, но сходные в триединстве протеста, сопротивления, предвидения революции и отшатывания от нее.
Русская литература – учебник свободы, но прежде всего – свободы внутренней, без которой внешняя – насмешка. Ее можно сравнить разве что с навязыванием парламента примитивным дикарям.
Русская литература всегда на стороне гонимых, всегда она отстаивала вольность личности перед государством. В «Медном всаднике», казалось бы, Петр торжествует. Но он назван кумиром «на бронзовом коне». А кумир по тем временам – слово оскорбительное, то есть идол. Николай был возмущен и запретил «Медного всадника».
Чехов говорил: «Прокуроров много, а вот адвокатов не хватает»…
Лидия Корнеевна Чуковская как-то замечательно все это сформулировала: когда писатели клеймили во время очередной кампании своих товарищей, она сказала: «Вы нарушаете лучшую традицию всей нашей литературы – всегда защищать гонимых».
И опять все по кругу приходит к понятию внутренней свободы.
Мне нравится максима Анатолия Стреляного: «Без свободы нет ответственности. Без ответственности нет морали. Без морали нет человека. Без человека нет народа».
Натан Эйдельман говорил, что в Советском Союзе неважно обстоят дела со свободой на душу населения, кажется, еще хуже, чем с ситцем и зерновыми… Почти никто не знал, что много лет он собирал документальные свидетельства и более или менее достоверные рассказы современников о сталинской эпохе. Эти материалы он называл «Заметками о нравственности», надеялся, что когда-нибудь он их опубликует… Он умер раньше, чем это стало возможным… Но четыре новеллы сохранились, он прислал мне их в одном из писем. Вот они.
Знаменитый критик и писатель Аркадий Белинков рассказывал, что, приговоренный к расстрелу, он ждал более двух месяцев решения своей участи в камере смертников. Однажды ночью его повели, как он думал, на казнь, но вдруг появился хорошо знакомый мучитель-следователь и начал избивать Белинкова. После первого же удара Белинков понял, что расстрел отменяется, ибо вряд ли в этом случае стали бы так бить. Каждый удар следователя стоил Белинкову крови, зубов, но он совершенно не чувствовал боли и только повторял себе: «Жив! Жив!» Избивавший, грязно ругаясь, подтвердил, что заключенный останется жить, но добавил, что тому придется ответить на разные вопросы; однако все это было второстепенно: Белинков помнил, что удары казались ему сладостными и ободряющими: значит, жив! Вскоре после того он получил сравнительно короткий тюремный срок, позже, впрочем, увеличенный…
В крымском пионерском лагере «Артек» регулярно собирали школьников, связанных единством каких-то сходных дел – например пионеров-цветоводов или пионеров-тимуровцев, помогавших одиноким старикам. Один из таких слетов – в 1938 году – был посвящен памяти пионера Павлика Морозова, прославившегося тем, что в 1932 году он разоблачил и сдал властям собственного отца, «врага народа», после чего был убит своими родственниками. На слете 1938 года собрались со всех концов страны юные доносчики, сумевшие «вывести на чистую воду» тех, кто, по их мнению, вредил или хотел вредить советской власти. По вечерам у костра «юные герои» рассказывали своим сотоварищам истории о том, как они раскрыли злой умысел соседа, знакомого, председателя колхоза, близкого родственника. Рассказы были страшные, нередко кровавые, изобиловавшие мучительными подробностями. Одна девушка, молодая вожатая, пожаловалась директору лагеря, что после страшных вечерних рассказов дети очень плохо спят, мучаются кошмарами, стонут, плачут; вожатая предложила, чтобы рассказы о подвигах звучали утром или днем, а никак не вечером. Директор был бдителен и тут же сообщил куда следует о вредительских намерениях девушки, старающейся помешать столь важному обмену опытом. Вожатая была арестована и вышла из заключения 17 лет спустя. Она продолжала так же любить Сталина, нисколько не сомневалась в героизме Павлика Морозова и подобных ему пионеров и лишь повторяла, вспоминая роковой для нее эпизод: «Я только хотела, чтобы дети лучше спали, они очень плохо спали ночью, мне было их жаль…»
Кузнец В. был неоднократно в 30-х годах отмечен советской печатью и радио, награжден орденами как один из первых стахановцев, то есть рабочих, во много раз перекрывающих на своем производстве принятые нормы. Стахановцев регулярно собирали на специальные съезды в Москве, где В. предстояло однажды выступить перед членами правительства с рассказом о собственных успехах и достижениях своего завода. Однако, когда за несколько часов до выступления директор завода принес В. его заранее написанную речь, кузнец отказался выступать с этим текстом и объявил начальнику: «Хоть я необразованный, малограмотный, но ясно вижу, что вы хотите, чтобы я помог вашему обману: ведь дела на заводе очень плохи, и мы все это хорошо знаем, а вы предлагаете, чтобы я сказал, будто все у нас хорошо и прекрасно». Директор грозил кузнецу, назревал скандал, потому что выступление В. было уже запланировано. И этот план был известен самому Сталину. Тем не менее рабочий решительно отказался читать лживую речь. В перерыве между заседаниями стахановского съезда к В. подошел главный редактор газеты «Правда» Михаил Кольцов (позже репрессированный) и поинтересовался, почему В. не хочет выступать. Кузнец отвечал, что не желает врать; Кольцов повел его за кулисы, где в специальной комнате сидел Сталин и несколько других членов правительства. Снова – вопросы к В., и опять его честный ответ, что пока дела на заводе не поправлены, он не хочет их восхвалять и обманывать людей. Услышав все это, Сталин, дружески улыбаясь, посоветовал кузнецу выступить и сказать всю правду. В. был очень рад, благодарил и вскоре поднялся на трибуну, чтобы рассказать о том, что на самом деле творится на его заводе. Речь В. была сильной и правдивой. Когда же директор завода попытался, на том же заседании, дезавуировать сказанное В., и доказать, что дела на предприятии не так уж плохи, – Сталин из президиума одернул директора и сказал, что лгать стыдно и нужно всегда говорить правду, как это сделал товарищ В.
Все поздравляли В. с открытым, смелым выступлением, однако по возвращении домой он узнал, что его директор и несколько ведущих инженеров завода арестованы как «враги народа», пытавшиеся обмануть свое правительство. На В. стали смотреть косо, как на доносчика; когда же прошли годы и после смерти Сталина лидеры завода были реабилитированы (почти все посмертно) – дети и внуки этих несчастных людей стали бить стекла в доме погубителя их родных.
«Чем же я виноват? – спрашивал В. у приезжавших к нему журналистов и историков. – Я правду говорил, никому не хотел втирать очки, что же, лучше было бы, выходит, если бы я как попугай прочитал всё, как мне директор написал?! Я не сажал моих начальников, а выходит, будто посадил. Чем я виноват?»
В августе 1946 года Жданов клеймил перед ленинградскими писателями Ахматову и Зощенко. В конце обратился к залу: «Называйте других недостойных, тех, кто вредит нашему делу!» И из зала тут же начали выкрикивать десятки фамилий.
Казалось, все называли всех, и только что объявивший своего соседа врагом мог быть через минуту назван так же…
Много лет спустя, однако, люди клялись, что они выкрикивали имена своих товарищей не с тем, чтобы их погубить, а, наоборот – чтобы спасти! Последующая практика показала, что тех, кто попадал в фокус общественного внимания, обычно не арестовывали по какому-то странному правилу. Многие же, избежавшие публичного оглашения, были вскоре репрессированы и погибли в лагерях…
…У меня хранится письмо Натана Яковлевича, которое я получила в августе 1989 года, перед самой его смертью. Может быть, это было даже последнее письмо, которое он написал в жизни, как говорила мне потом Юлия Мадора. Я писала тогда книгу об отце и послала Эйдельману несколько глав. Натан Яковлевич тут же доброжелательно откликнулся и написал, что сам мечтает выпустить книгу о своем отце, что, проведя большую часть жизни в веке прошлом и позапрошлом, он все острее чувствует неоплаченный долг. Близкий друг Эйдельмана Александр Борин рассказывал, что отрывки из будущей книги об отце Натан Яковлевич читал ему в последние месяцы жизни.
Натан Яковлевич называл область своих интересов «продленное прошлое». Письмо его ко мне завершается так: «Желаю не покоя (которого не будет), а Вам все-таки – счастья (которого, кажется) «на свете… нет».
То есть он никого не подталкивал к поискам «воли», никого не заставлял, не побуждал идти своим путем. И все-таки написал мне еще: «Воображаю, как нелегко Вам в «минуты роковые»: наверное, ведете дневник и когда-нибудь напишете?»
Дневник не веду, Натан Яковлевич. Что написала – не мне судить, что напишу еще – не мне знать. Но всё, что вы говорили мне, помню. А это – большое утешение.
III. Правда о том, что можно
В 1984 году Алексей Герман приезжал в Таллин со своим фильмом «Мой друг Иван Лапшин». Фильм был выстроен как стихотворение Хлебникова: невнятные бормотания; слова, заглушенные грохотом маршей; недоговоренные эпизоды складывались в ту гениальную достоверность и правоту, которую ощущаешь физически.
Как герои Достоевского в минуты крайнего душевного волнения всегда заболевают физически, их бьет лихорадка, они бредят, так и герои Германа почти сплошь больны. Простуда, кашель, вечные скомканные носовые платки, потные рубашки, несвежее белье, глубокие затяжки папиросой, снова кашель, бессонница, слезы под утро на глазах. Лихорадка. 1937 год.
У главного героя – Лапшина в Гражданскую была тяжелая контузия, дикие боли, страшные приступы, и он не только не собирается лечиться, но и стыдится этих приступов до безумия. Его сосед, вынимая градусник, говорит лихо: «Вот, уже 37 и семь». И с той же лихостью выбегает в коридор и раскачивается на канате. «Мигрень, второй день мигрень!» – кричит героиня фильма, актриса местного театра, и все понимают, что она кокетничает с актерской чрезмерностью. А когда бандиты ударяют ножом Ханина, московского журналиста, участвующего в облаве вместе с милиционером Лапшиным, мы слышим только одну жесткую и деловую фразу: «Полотенце дайте, кишки вываливаются!» Тяжело раненного Ханина везут в больницу на грузовике. Лицо стянуто грязью, как маской. Он лежит на спине и, по логике толстовского повествования о князе Андрее, должен смотреть в небо, но нет, он скашивает умирающие глаза на дорогу, пытается разглядеть – поймали его товарищи бандитов или нет…
Все герои влюблены, все несчастны, все одиноки. Ханин (эту трагическую роль сыграл комик Андрей Миронов) с легким смешком повторяет: «А у меня жена умерла, приказала долго жить». Улыбается и крадет пистолет, чтобы застрелиться. Он не может и не хочет жить без своей жены. Но дело в том, что для самоубийства необходимо уединение, а оно невозможно. Все всегда вместе, все ходят строем, все поют хором; Ханину негде спрятаться, в общую ванную начинают через несколько секунд стучаться; он остается жить. Чтобы через несколько часов его зарезал бандит.
Этот фильм Герман, как бы продолжая спор со своим отцом, снял по мотивам произведений Юрия Германа. Там все время гремят марши, там все время ездит по улицам трамвай, увешанный флагами, там очень любят театр и ставят «Маленькие трагедии» Пушкина, ведь Сталин в 1937-м – кровавом году назначил Пушкина главным советским поэтом и столетие его гибели превратил в грозный и торжественный праздник.
Я пригласила Алексея Германа выступить перед журналистами газеты «Советская Эстония», где тогда, в 80-х, работала. Выпросила у редактора большой конференц-зал, бегала по коридору, заглядывала в каждый отдел, звала на встречу, звонила коллегам из «Молодежки», «Вечерки»… Видя, что никто особенно не заинтересовался перспективой вечера с режиссером, я попросила более скромный, но все-таки просторный кабинет, в котором у нас проходили планерки. Но перед самым приходом Алексея Германа я заняла крохотный предбанник, куда мы обычно сажали назойливых графоманов с их поэмами и памфлетами и заставляли подолгу ждать, чтобы умерить их пыл или, если повезет, вынудить даже уйти.
На встречу с режиссером пришло девять человек. Герман сказал: «Хорошая аудитория, как раз для меня, мне больше и не надо». Он говорил в тот день о достоверности. О той последней, почти физиологической правде, без которой невозможно искусство. Девять человек, ждавших откровений, с удивлением слушали о том, как по комиссионкам, по старым сундукам, по знакомым выискивала съемочная группа для Германа подлинные вещи конца 30-х годов. С жаром и страстью он хвастался где-то чудом найденной пуговицей, ридикюлем, лампой, а главное: удалось не только найти машину нужного времени, но и отремонтировать ее, заменив заржавевшие детали на хорошие, но того же, 40-го, кажется, года.
Его спросили: а почему в ваших фильмах такой плохой звук, ничего не слышно? Он закричал: нельзя пить дистиллированную воду, нельзя выделять чистый звук, голоса и в жизни растворяются в различных шумах; мне важно было передать не конкретный разговор, а шум времени.
Он говорил тогда:
«Я хотел снять фильм о любви. О любви к прошедшему, к отцу моему, к маме, к тем людям, которые разделяли их жизнь, их веру, их надежду. Не бывает любви вообще. Любовь всегда очень конкретна. Всегда облюбовывает нечто очень осязаемое и реальное. Поэтому, конечно, не мог я создавать атмосферу каких-то абстрактных 30-х годов. Я вытащил старые альбомы, любительские фотографии моих родителей, сохранившиеся вещи. Когда мы снимали фильм «Двадцать дней без войны», я раскопал ботинки, которые, по моим представлениям, точь-в-точь соответствовали роскоши начала сороковых. Помню, как Алиса Фрейндлих (она потом не смогла сниматься в фильме), примерила их и горестно воскликнула: «Бедная моя мамочка!» Вот так и надо обживать пространство фильма. Заботиться не о том, чтобы реалии быта говорили о времени, а о том, чтобы ни одна из реалий не была диссонансом ему.
Кто-то из первых зрителей, – продолжал Герман, – возмущался: «Как вы посмели сделать такую картину! Ведь это же времена «Волги-Волги»!» Да, люди порой думают, что это не фильм – продукт времени, а что время было действительно такое, как в «Волге-Волге», – парадное, веселое, торжествующее. А жили по-разному. И мы хотели снять не парад, не парадную хронику, а быт. Атмосферу. Атмосфера и есть главное лицо этого произведения, и именно поэтому нам не хотелось акцентировать сюжет. Именно поэтому второстепенные реплики, случайные шумы перекрывают основной диалог. Диалог – сюжет, случайные реплики – атмосфера. Да и что, собственно говоря, происходит? Один хороший, добрый, честный человек полюбил женщину – и что из этого вышло?..
Нам хотелось сделать фильм на пересечении двух линий: их реальности и нашего знания. Нашего знания о том, что ждет героев: помните, они рассуждают о том, сколько в стране будет выпускаться шампанского в 38 году, а сколько в 42-м? Как страшно звучат эти реплики для нас, в чью жизнь (и жизнь отцов и дедов) вошло это время смертью и подвигом, окопами, танками, голодом и блокадными морозами…»
Вечером мы сидели у нас дома за обильным столом, и Алексей Герман спорил об искусстве с моим отцом, прозаиком Григорием Скульским. Мой отец близко и много лет дружил с Александром Борщаговским, тестем Алексея Германа, так, по родительским следам, и оказались у нас в гостях Алексей и его жена и сценарист Светлана Кармалита.
Я очень хорошо помню приезды Борщаговских, рассказы о московских новостях. Помню, как в 1979 году Александр Михайлович приехал огорченным, растерянным, признался отцу, что его вызвали обсудить и осудить альманах «Метрополь». «И ничего там такого особенного не было! Рассказ Беллы Ахмадулиной про собачку, ерунда какая-то, стихи… А пришлось…» И отец не отвернулся от старого друга, но и не ободрил, молча курил, пили коньяк…
Алексей говорил о необходимости свободы; отец мягко его утешал, мол, можно же все-таки писать правду о том, о чем можно писать, и что вечные темы любви, жизни и смерти открыты для всех. Тогда Алексей с негодованием прокричал: «Если мне будут защемлять дверью половые органы и при этом велят петь свободно, то я конечно запою, еще как запою и с той именно свободой, какую от меня потребуют!»
Спустя много лет я смотрела фильм «Хрусталев, машину!» в пустом зале во время кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине. Был декабрь. Было очень холодно, и те шесть человек, что начинали смотреть со мной, в середине фильма вышли из зала. На экране – 1952–1953 годы. Последнее дело, которое Сталин успел задумать, но не успел осуществить, – дело врачей – «убийц в белых халатах». Главный герой фильма, знаменитый врач, арестовывается и сажается к уголовникам. Его избивают, насилуют, пытают. А потом внезапно везут к Сталину, который агонизирует, и ему уже нельзя ничем помочь, и герой гладит его по разбухшему, умирающему животу.
Но сюжет почти не виден в густом, сером, с запахом серы, безвоздушном пространстве, где все живое уничтожено, остались только грузовики, фургоны, вагоны, в которых везут на убой, на смерть, на пытки. В густом зловонном супе коммуналок уродцы с гипертрофированными от страха глазами наталкиваются друг на друга, слипаются на миг, отшатываются и бегут доносить, стучать, предавать, разоблачать. Небо лежит жестью на крыше грузовика.
В «Моем друге…» бродят проститутки с землистыми, отечными лицами поденщиц и бандиты с крысиными, гнилыми мордами. В «Хрусталеве…» уродство бандитов доведено до виртуозности кошмара: нет ничего страшнее их харь, которые сведены судорогой блаженства в тот момент, когда они насилуют главного героя. Но и лица тех, кто гоним и ни в чем не виноват, похожи на экспонаты кунсткамеры…
2016
«Я не рифмуюсь с нашим временем». О Юрии Норштейне
Меня привела впервые к Юрию Норштейну моя теперь уже покойная подруга сценарист Алла Мелик-Пашаева. Мы с ней вместе смотрели те двадцать минут «Шинели», которая, наверное, никогда не будет закончена, потому что человеческий гений достиг в ней той вершины, дальше которой Бог не пускает.
…Длинные журавлиные буквы на снегу, на краешке тротуара… Петербургская, в шинелях, толпа сгущается: всяк по своим делам, почти стукаясь друг о друга, но все-таки не соприкасаясь, чуть выше, чуть ниже – от шага; точно документальные кадры позапрошлого столетия; и маленький Акакий Акакиевич оторвется от дела, лапкой ухо почешет или чулок у него сползет – все отвлекает от главного, от буквы, поскорее отмахнуться; а то, что отвлекает от главного, и есть самое существенное; а потом он уляжется под ветхим, редким одеялом, отдельно все части свои устроит и пристроит перед сном, и на лице тоже все приведет в порядок, распределит, чтобы удобно, и несколько помечтает о сладкой неизвестности, мол, завтра-то что выпадет переписывать, а в глазах страх за свое счастье, такая тайная покорная виноватость, такое бесстыдство тоски…
Я говорю:
– Лучше, чем у Гоголя.
Он говорит:
– Не кощунствуйте.
Из диалога с Юрием Норштейном никогда ничего не выходит: задаешь ему любой вопрос, а потом просто слушаешь, слушаешь, слушаешь – его слова разрастаются как дерево, вырастают новые ветви, расправляются листья, зреют плоды. Включаешь диктофон, а Норштейн усмехается: «Не трудитесь, техника при мне не работает!» И правда: диктофон не записывает. Но то, что скажет Норштейн, можно и запомнить…
На рисунке из «Шинели» он пишет: «Подтверждаю, что рисунок отдан добровольно (в том смысле, что не уперт со студии) Лиле Скульской от Юры Норштейна».
– Хорошо, – говорит, – поговорим. Только не нужно меня потом делать умнее. Дайте мне остаться таким дураком, какой я есть…
«Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Шинель».
Юрий Норштейн:
«В мультипликации я оказался случайно. И сейчас, когда о душе думать надо, все еще не уверен, что это – мое. Сядь я не в тот троллейбус или подойди он на пять минут позже, моя судьба была бы другой и, полагаю, более независимой (притом что на студии у меня была кличка Независимый).
Я хорошо помню, как следом за мной в отдел кадров «Союзмультфильма» вошел человек (позже я узнал, что это был Роман Давыдов, режиссер фильма «Маугли») и сказал: «Всё, больше ни у кого документы не принимать». На мне закончился прием заявлений.
И сейчас, когда переживания на каждом фильме измотали, изнервнили тебя до предела, когда снова непонятная сила берет тебя за шиворот и толкает мордой к съемочному станку, в невероятное количество труда на очередной «миллиметр съемки» (как сказал однажды наш студийный художник Анатолий Курицын), в который раз в отчаянии задаешь себе вопрос: а твое ли это было занятие?
Ведь что ни делай, все равно к мультипликации будут относиться, как к дебильному ребенку, который вдруг, например, заговорил.
– Так ты еще и разговаривать умеешь?! Что же ты раньше молчал? А до этого все было хорошо, и суп был теплый.
Казалось бы, ясно, что истоки искусства в религиозных откровениях. При этом не важно, верующий ты или нет. Имеют значение сами вопросы веры или безверия. Они, эти вопросы, толкают художника к проявлениям смыслов жизни.
Подлинный художественный результат не зависит от иерархии героев, любая человеческая жизнь от Эйнштейна до последнего бомжа соединяется в голове и душе художника с его собственными мучительными поисками истины. Поэтому нет для художника высокого и низкого в реальной жизни. Шарден писал луковицы, горшки, гнутые закопченные кастрюли. Но каков результат!
Пятки «Блудного сына» Рембрандта отнюдь не сандалии Гермеса, но где подлинный художественный смысл – понятно без объяснений.
Естественный вопрос: где контекст?
Вспомним судьбу Веласкеса или Рембрандта.
Веласкес – придворный художник. Допущен во дворец молодым и на всю жизнь. У Филиппа IV хороший вкус, если он выбрал этого художника. Но если бы Веласкес писал с пиететом только знатных особ, он остался бы благополучным, медленно омертвляющимся при жизни художником. В чем же контекст и что не давало ему умирать в благополучии – придворные шуты-карлики, их судьба. Они давали ему меру жизни. Сочувствие к ним возвышало его творчество. Поэтому портреты Филиппа IV так человечны.
Только контекст определяет меру творчества. Он заменяет самонадеянность сочувствием. Но такой порядок вещей относится не только к творцам, но к каждому живущему.
Рембрандт не придворный художник. В отличие от Веласкеса. Но судьба поставила его в условия неотделимости его жизни от жизни простого бедняка. Его живопись резко меняется. Надо заметить, всполохи ее озаряли Рембрандта и раньше. Он пишет «Блудного сына» своей судьбой, а не просто кистью и красками.
Чаще всего мультипликация в противоположность мировому искусству помещает себя в пространство чистых развлечений без принципа древних – развлекая, наставляй. Предпочтение первому: во-первых, доходно, а во-вторых – опять же доходно. При этом компьютер, основной технический производитель, этот прожорливый зверь, жрет чистую форму, выплевывая запрограммированную.
Но ведь понятно без подробностей; только чистая форма, только сужение технических возможностей повышает энергию результата.
Я всегда рисовал. Ходил в изостудию Дома пионеров. Почему-то забыли, что Дома пионеров были прибежищем детей двора. Жили мы с родителями в Марьиной Роще, в классической коммуналке с длинным коридором, с большим количеством семей. У нас была комната метров 13 на четверых: мама, папа, брат и я. По тем временам неплохие условия. Жили и похуже. Папа был наладчик деревообрабатывающих станков, умел все делать сам, обладал абсолютным музыкальным слухом. Вагнера свистел наизусть, хотя все его образование – незаконченный хедер. А мама – педагог дошкольного воспитания.
Рисовал я все время, но папа с мамой не культивировали эту часть моей жизни.
Но я не о том…
Так вот, после тусклых лампочек, после корыт белья, после шума, скандалов, сопровождавших жизнь коммуналки, не лишенной и братства, когда болезнь одного объединяла всех и если чья-то печаль – тоже на всех, и радость, собиравшая за столом обитателей нашей общей квартиры, и после этого гвалта ты в Доме пионеров, в пространстве с итальянскими окнами, где, если занятия шли днем по субботам и воскресеньям, было море света, с потолка свешивались лампы, высвечивающие натюрморты, и тут же ходил преподаватель, и шорох карандаша, и болтание кисточки в акварельных стаканчиках, сам этот звон, сама эта музыка…
А потом художественная школа; я точно не знаю, но мне кажется, что там собрались опальные учителя, они по своему мышлению не рифмовались, как я теперь понимаю, с общей линией нашей жизни, они жили искусством… Впоследствии выяснилось, что в этой школе учились многие союзмультфильмовцы: художник-график Геннадий Новожилов, режиссер Володя Попов («Каникулы в Простоквашине»), Валя Караваев, Эдик Назаров («Жил-был пес»), Франческа Ярбусова, моя жена, но мы с ней познакомились не в школе, позже…
А потом мой друг написал мне – я тогда был в Крыму, – что он подал документы на мультипликацию. Я приехал и вдруг, совершенно непонятно зачем, тоже подал туда документы. Был достойный конкурс, 20 человек на место. Я поступил на курсы при киностудии «Союзмультфильм». Чистый случай. Когда я поступал, да и потом уже во время работы, я смотрел на будущих приятелей и коллег как сквозь аквариум, как на что-то совсем не близкое. Хотел поступить во ВГИК – провалился, в Строгановку – провалился (там, правда, были причины нехудожественные, о чем я узнал впоследствии).
До сих пор во мне живет тот первый ужас, который я пережил когда-то, читая Гоголя. Ужас подростка. Вообще-то все наши страшные сны детства нам запомнились, и мы постоянно к ним возвращаемся. И у меня есть несколько таких снов… И если мне нужно истончить себя до предела, я начинаю вспоминать те сны и дохожу до состояния полной невменяемости и только с этим ощущением могу работать. Оказывается, есть еще что-то более сильное и страшное, чем реальность, которой мы живем. Этот возврат к страшному дает мне больше, чем чтение или вчитывание в гоголевский текст. Плохо делать кино, вчитываясь в текст. Это то, что потом назовут бережным перенесением литературы на экран.
На самом деле невозможно договориться, когда речь идет о соответствии прозы и ее изображения. Каждый читатель мгновенно распахивает в сознании собственное изображение, и ему трудно согласиться с тем, что кто-то другой навязывает ему свою материю. Ведь само по себе слово нематериально, за ним можно увидеть все что угодно… (хотя Пастернак, да и не он один, считал слово материальным, способным убить. Поэты стихами пророчат свою судьбу, и все сбывается, слово оказывается сильнее воли и желания. В этом смысле оно материально. Но в смысле, знаете, такой своей неухватываемости, нет, не материально…). А изображение – уже материально, и это всегда страшно, это всегда новая материя, отделившаяся от текста, летучая, рвущая с ним прямые связи. Нужно соединить в гармонии литературный текст и киноизображение.
Можно подробно разобрать строение фразы Гоголя, узнать, как она сделана, но это нисколько не приблизит к истине Гоголя. Фразу Гоголя лучше всего попытаться ухватить тем боковым зрением, тем боковым слухом, который позволяет услышать то, что мы обоняем. Как у Гоголя сказано про капитана Копейкина, который идет по Невскому проспекту, и нос слышит, как пахнет тысячами. Видите, какой перескок от одного к другому. Как эту материю ухватить? Конечно, она не ухватится. Но на самом деле глагол «слышит» объясним. На украинском языке слово «слышит» означает «чует». Гоголь меняет направление глагола, прививая его в русский контекст. Эффект ошеломляющий, энергия фразы повышается.
Или обожаемое мною место из его переписки; Гоголь пишет своей приятельнице о римском воздухе, что воздух так хорош, что хочется превратиться в один нос и чтобы ноздри были – каждая величиной с ведро. Да это же чистая мультипликация, но попробуй сделать!
Все кричат: «Нос» – чистая мультипликация. В этом-то и весь ужас: все кричат, и у режиссера возникает ощущение, что сейчас-то он все и схватит. Что же проще – пустить нос по Невскому проспекту. Парадокс: то, что очевиднее, не производит впечатления; запустил нос по Невскому проспекту, а ничего не вышло. Кинематограф не должно интересовать то, что подробно описано, он должен обращаться к тому, что пропущено, к тому, что предполагается, но не воплощено в слове. Разрыв в тексте – самое подробное, самое живое место для кино.
Эйзенштейн разбирал пушкинскую «Полтаву». Брал строфу: «Выходит Петр. Его глаза / Сияют. Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен». Для учебы – полезно, для творчества – мертвая задача. Кино живет другими категориями, другим течением материи. Пушкинское членение, перенесенное на экран, разорвет единство кинодвижения.
Есть вещи, которые живут только в тексте, только в этом слове, только в этой строчке и не разворачиваются в изображение. У Цветаевой есть строчки:
Они будто сняты широкоугольником с нижней точки, земля проворачивается толчками от нас в глубину кадра, чуть разворачиваясь по кругу. В сознании открывается грандиозное пространство, но только в сознании, а на экране это было бы просто смешно. Ну, попробуйте показать «духовной жаждою томим». Невозможно, дико…
Я пережил ужас от фразы Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» «Обижаете» может сказать только ребенок, но не взрослый человек, и в детстве эта несочетаемость героя и слова поразила меня больше, чем история с воровством шинели и мертвым чиновником. Несочетаемость, неожиданность. И сквозь это проскакивает молнией абсолютная физическая достоверность. Тут момент истинности, истинности искусства.
Я все вспоминаю пространство, которое сопровождало фразу Гоголя. Тихий вечер, двор, сумерки, свет из окон фабрики, где постоянно челночно двигались ткацкие станки в одном и том же ритме, с точностью до доли секунды, и за ними ходили работницы; линии станин удалялись в бесконечность, будто два зеркала поставлены – одно напротив другого, вечность этого движения, никогда не умолкающего даже во сне. Этот звук шел через мое детство. И тусклый свет фонарей в таких металлических абажурах, и запах вечера, пыль, и пьяные крики… Вот из чего делается «Шинель», и меньше всего из вчитывания в Гоголя.
Я тогда на эту фразу снизу вверх посмотрел: как же у взрослого человека может быть обиженность? Это же моя фраза, это я могу к маме прийти и сказать: меня обидели. А ему-то пожаловаться некому…
Ощутить в «Шинели» и Акакии Акакиевиче все сразу – невозможно; нужно все это чувствовать, как очень далекое свечение, далекое мерцание, а вблизи нужно видеть конкретно какую-то очень маленькую деталь. И если она окажется правдивой (хотя ты этого пока знать не можешь), если она окажется гармоничной тому постоянному отзвуку гоголевского текста в тебе, давним ощущением детства, которые оскорбляли или возвышали тебя, тогда все будет постепенно разматываться органично и правдиво.
Чувствилище Акакия Акакиевича находится в пальцах, которые держат перо, и в лице, которое целиком подчинено букве. И тут он похож на собаку, что подходит к пище и, прежде чем есть, обнюхивает ее. И не больше. Я наблюдаю за животными. Я наблюдаю за пожилыми людьми, которые давным-давно ничего не стесняются. Они, а сейчас особенно, живут своей сосредоточенной страшной жизнью, не подозревая, что, посмотрев на них, можно просто разреветься.
У меня в картотеке есть фотографии из концлагерей. Снимки людей, обреченных на смерть. И из американского журнала – фотографии убийства котиков, их дубинками забивают. Что там в глазах! Не могу описать, никто не сможет, может быть, Гоголь. С такими глазами Акакий Акакиевич будет перед значительным лицом стоять. Я все это знаю – я эту униженность, эту гадливость ощущал, когда приходил к ермашам и камшаловым. Сидел передо мной нетрезвый человек, нетрезвый с вечера и рассуждал о моей судьбе, судьбе оператора или судьбе фильма.
До «Шинели» в течение шести лет я сделал четыре фильма, просто стремительно снимал… Если переделить время работы над фильмом на нашу съемочную группу, то есть на трех человек, а снятый метраж на меня одного, так как я был единственный мультипликатор, то могу сказать, что так быстро на студии не работал никто.
Сейчас японцы пригласили тридцать пять режиссеров, чтобы снять фильмы по циклу стихов Басё, который называется «Сцепленные строки. Зимний день». Каждый режиссер получил по три строчки. Мои три строчки первые, и звучат так: «Безумные стихи. Осенний вихрь. О, как теперь в своих лохмотьях я на Тикусая нищего похож». Тикусай – имя нарицательное, лекарь-шарлатан, у него своя лавка, но он ничего толкового не делает. Он схож с нашим Иванушкой-дурачком или, точнее, он – Иванушка-дурачок пополам с юродивым. Каждый маленький сюжет продолжительностью 30 секунд. У меня по раскадровке и сценарию получилось семьдесят. Съемка и сама работа мучительны, поскольку раскочегаривать надо топку на полную железку, будто делаешь десятиминутный фильм. Плотность материала на единицу фильма высокая. Вроде бы японская поэзия рифмуется с мультипликацией – и по краткости изложения, и по свободе метафорической. Да, рифмуется. Но все попытки срифмовать сочиненные кем-то строчки с изображением, заканчиваются крахом. Разные языки выражения – слово и рисунок – действуют на разные центры. В стихах мысль следует за словом и каждое слово взрывается в твоей голове, оно не ограничивает тебя в пространстве; изображение же берет тебя за шкирку и водит мордой по булыжной мостовой. Дал ли ты столько же свободы зрителю в изображении, чтобы он мог бы быть так же не привязан и притянут к материи, как не привязан он был словом?
Никто не знает, каковы критерии поиска этих свобод. Никто заранее не знает, получится ли у него открытие свободы или нет. Я зависим от строчки. Строчка – десять секунд, а фильм по ней может быть равен десяти минутам. У меня одно преимущество – свободный стих Басё. Нет рифмы, нет четкого ритма. Пушкинские строчки, как я уже говорил, могли бы дать тяжелое зрелище. В моей раскадровке Басё будет встречаться с Тикусаем, а Тикусай будет прослушивать деревья старинной медицинской трубкой – стетоскопом, японцам очень понравилась эта встреча автора и героя. Они говорили, что сами до этого почему-то не догадались, ну а мне пришла в голову эта идея, наверное, от дурости. Я же не знал, что они не могут встретиться в реальности, вот и пересек их пути.
В работе я жестокий деспот. В жизни – нет, мне немного надо. А в работе не дай бог попасть под мою тяжелую руку. Я начинаю орать или ухожу в себя, когда чувствую, что встретился с тупой силой, которая ничего не способна отдать обратно, а только поглощать. Я перестаю тогда существовать…
С трудом дается трудная работа не обращать внимания на все, что делается вокруг. Конечно, я все замечаю, это как лавина, но ты с ней ничего не можешь сделать. Была ужасная жизнь, теперь всё поменялось, теперь всё по-новому, но зачем это новое, если оно ужесточило взаимоотношения между людьми и вытащило из них жажду власти, жажду одного человека задавить другого. Новые русские за редким исключением вчерашние стукачи. Стукач – тот, кто хочет сам выжить, поэтому он стучит на другого. И новые русские хотят выжить, а потому давят другого. Это чума. Просто так богатство не сваливается. Оно чье-то преступление и чье-то несчастье.
Я бы многое понял в капитализме, если бы точно знал, что деньги в чьих-то руках не для жажды захлебнуться в роскоши, до блевотины, для того, чтобы ими умело распорядиться в целях просвещения общества, просвещения до того состояния, когда достоинство человека меряется не деньгами и связями, а тем, кто он сам по себе, как он мыслит, в какой степени развит его чувственный, эмоциональный состав, его способность к сочувствию.
Если не так, то я пытаюсь предположить, какие же книги читают эти новые русские, или они вообще не читают, или читают то, что лично их близко не касается. Что переживают они, кроме боязни потерять прибившиеся к их берегу деньги?
Испытывают ли реформаторы сочувствие к пострадавшим от их деяний? Вглядываясь в их лица, я всё пытаюсь найти следы угрызений совести по отношению к тем, чей карман был полностью выпотрошен. Вспоминают ли о них, оглядывая свои владения? В нашей стране капитализм как система является воровством в законе по принципу «Умри ты сегодня, а я завтра». Если не я тебя, то ты меня.
Получается так, что просвещение не нужно, поскольку оно обозначает относительность положения каждого.
И от понимания свободы мы одурели. Мир прекратил бы существование, если бы вся его материя не была бы взаимозависима, а значит – не свободна. А мы, разве мы свободны от своих переживаний, я уж не говорю о поступках. Свободен знающий, поскольку знания дают ему выбор пути. В противном случае мы рабы свободы.
Не нужен мне этот капитализм, когда человеческие отношения меняются на холодный расчет, встречи за дружеским столом – на презентации по случаю «выпечки» очередного крутого кино.
Какие же мы свободные, если не способны остаться самими собой, если не можем сказать: «Старик, ты что-то не то сделал». Почему не говорим, потому что за все заплачено?
Вот и получается: у этих заплачено, у тех схвачено. Где же настоящее?
А что с историей? Когда же начнут ее писать по-настоящему, а не «о том, как в баснях говорят». Любой досужий журналист мнит себя историком. Когда же вместо хлопотунов-Полониев появятся настоящие историки уровня Ключевского с его беспощадной оценкой исторических событий и Эйдельмана с его образным пониманием истории.
Сегодня большинство фильмов – на компьютере. Но компьютер создает ложность творца, отсюда бледная интеллектуальная сторона творчества. Сильный авторский фильм – редкость. На восстановление творческого корпуса мультипликации нужны немалые деньги. Мы же, как всегда, хотим даром, но непременно с последующим получением золотых яиц. Но мышка уже давно пробежала. И пока мы несем авоську с «боем», как пишут на ценнике.
А между тем, по статистике, в стране два миллиона беспризорных детей. Выводы можете сами сделать. Дома пионеров позакрывались. Кому они мешали, позвольте спросить? Или у детей исчез интерес к жизни? Конечно, наркотики быстрее насыщают организм кайфом, чем ежедневная кропотливая работа, ежедневный интерес к миру, ко всему живому. Мы и есть авторы подрастающего поколения. Церковь пытается что-то сделать. Организуются какие-то мастерские, кружки. Может быть, она станет тем местом, где дети будут оттаивать от жестокости.
Исчезает самое важное – чувство взаимопомощи, сочувствия. Неужели оно должно проявляться только в болезни и на похоронах, этакие уголки взаимоподдержки. Хочется орать от ужаса, но все равно встретишь тупой взгляд бритого затылка в кожаной куртке.
Уехать? Не интересно мне нигде жить, не хочу уезжать… Я не могу жить другими чувствами… В Америке я не могу принять их эстетику, их индустрию искусства. Всё, что делают у нас те, кто хочет приспособиться к новой жизни, срифмоваться с ней, – пошлость. Не у всех надо брать деньги; если бы сегодня люди культуры осторожнее общались с новыми русскими, то этот сорт людей понял бы, что, оказывается, не все можно купить. И не каждому можно кинуть ключи от новой машины, чтобы заткнуть ему пасть. Но этого не происходит. Эта жажда – иметь – для людей культуры гибельна; ведь в конце концов есть же тот минимум денег, который дает возможность жить и оставаться Человеком. Открываешь журнал, что показывают – кухню, спальню, кухню, спальню. Снимаются либо на кровати – на ложе битв и побед, либо на кухне, и у всех кухни одинаковые. Все хотят быть индивидуальностями, но в этой жажде, в этой погоне за необыкновенным все рифмуются друг с другом и все абсолютно похожи, даже в том, как сидят или возлежат перед фотоаппаратом. Это и есть пошлость.
Друзья? Здесь, в студии, в этом доме бывает много хороших людей. И я их жду в предвкушении радости общения. Предвкушение радости – это когда ты убежден, что не будешь разочарован. Так из коммуналки по длинному коридору я выбегал во двор, а солнце прямо у порога, и дверь открыта, а там слышны слабые крики твоих друзей, и все это великолепие залито теплым воздухом и теплым солнцем, и ты вот-вот увидишь своих приятелей, которые тебе заорут: иди к нам, скорей!
Что такое талант? Это умение открывать все время заново то, что казалось уже пройденным, известным, и вдруг ты по-иному на это смотришь, по-иному видишь. Талант – возможность смотреть по-иному на законный порядок вещей. Талант можно сравнить с возрастом детства. Дети все талантливы. А почему? Как только они обретают способность сравнивать, они тотчас обретают способность к метафорическому языку, а он метафоричен не потому, что им хочется метафоры, а потому, что это их способ определять природу вещей. У них это реалистическое видение. Моя внучка, после того как ей прочли «Золушку», попросила тыквенное семечко у бабушки, посадила его и стала ждать, когда вырастет карета. Это и есть норма, а потом начинается отрочество, умственное мужание… Поэтом становится тот, кто открывает невидимую суть вещей. То, что не находится в материальной оболочке. И это так поражает людей, что они вслед за поэтом повторяют его открытие и удивляются его очевидности и говорят: это так ясно. Куда же я смотрел?
Гений и злодейство? Лидия Корнеевна Чуковская очень жестко сказала: гений и злодейство совместны, я это знаю, и назвала Шостаковича. Но это было несправедливо. Справедливо на малом, но несправедливо на большом отрезке времени. За что она его так распяла? За то, что он подписал письмо против Солженицына. Чтобы его оставили в покое, чтобы он мог заниматься своей божественной музыкой. Думаю, сам Солженицын не стал бы так жестко судить Шостаковича… Хотя… Солженицын Шаламова осудил. За то, что больной Шаламов написал протест против публикации его вещей на Западе. Ему, Шаламову, оставалось дожить крохи, ему нужно было дожить и дописать. Всё это вечная проблема выбора между Галилеем и Джордано Бруно. Эта проблема нерешаема. Компромиссы естественны для любого художника. Есть категории, которые двигаются через время, и выводы можно делать, только посмотрев на большой отрезок пути.
Это было в 1977 году, я приступил к «Сказке сказок». Мне было предложено подписать письмо, в котором евреи Советского Союза давали гневный отпор западной пропаганде, «клеветнически утверждавшей, что в нашей стране процветает антисемитизм». Я прочел письмо и сказал, что подписывать его не буду. И тут меня стал убеждать Федор Хитрук; он сказал: «Юра, подпишите, от вашей подписи ничего не изменится, никто не пострадает, а если вы откажетесь, то вам закроют фильм, вообще не дадут больше снимать». И в конце концов я подписал. После этого я долго мучился, не мог спать. Франческа мне говорила: «Ну хорошо, ты бы не подписал, и не было бы «Сказки сказок». Успокаивает лишь то, что мне в разных странах мои соотечественники говорили, что этот фильм был для них глотком свободы. И все-таки саднило долго, и я помню, какой ценой мне достался этот фильм.
Творчество – непереносимое напряжение. Должна быть разрядка. Кто пил, кто играл в карты, как, например, Некрасов, а Пушкин уходил в любовный разгул. Чехов на Сахалин рванул, ему нужно было в путь выйти. Каждый находит свое. Вот Довлатов пил, но его пьянство было вызвано, полагаю, не только невозможностью печататься. У меня свои прибамбасы – часто бываю плохо уживчив, переживаю нервные срывы. Убегаю от всех. Запираюсь. От творческой лихорадки я спасаюсь еще большей лихорадкой. Пока не заболеваю. Нормальной здоровой жизни не бывает у художника! Вы спросите: а иконописцы? Они иссушают себя постом. Творческого человека нельзя судить никакими общими законами…
Вот посмотреть бы на меня со стороны здоровым взглядом – на неотвратимость прохождения творческой чувственной мысли через физику – через движущиеся стекла. Что-то рисую, беру пинцетом какую-то деталь, и опять: стекло сюда, стекло туда. Да что же ты делаешь, здоровый мужик?! Увидит тебя крестьянин и скажет: да этому бугаю дайте лопату, он же здоровый мужик, а стоит над съемочным станком и говорит об искусстве. Толстой заметил о стихах, над которыми мог плакать в другое время: писать стихи, это все равно, что танцевать за сохой. Я понимаю: я иду за сохой и пританцовываю. А в результате что-то уплотнится и станет или не станет духом, воспаренной материей…»
…На одном из моих творческих вечеров в Москве в большом зале было не так-то много народу. Зал в ЦДЛ был огромным, а пришло примерно человек двести. Но зато в первых рядах сидели Юрий Норштейн, Сергей Юрский, Роман Сеф, Лидия Либединская…
– По-моему, зал переполнен! – строго сказала мне Алла Мелик-Пашаева. На том вечере я читала стихотворение, посвященное Юрию Норштейну:
Юрию Норштейну
Чистый звук. О Сергее Юрском
Я спросила Сергея Юрского:
– Вы больше пятидесяти лет провели на сцене, на экране, в гримерных, на гастролях, на репетициях, и при этом молва не закрепила за вами никаких пороков, даже неизбежное, традиционное и почти входящее в состав профессии пьянство вам не приписывается. Как же так получилось?
– Действительно, странно. Как-то в молодости я попал на дачу к одному старому артисту; мы с ним играли в БДТ в «Горе от ума»; он предложил мне выпить, я отказался, сославшись на то, что вечером мне предстоит быть Чацким. «А-а, понимаю, больны», – посочувствовал мне старый артист. «Нет-нет, я здоров, – поспешил я заверить, – но вечером спектакль!» – «Ну-с, и какая связь?!» – «Так ведь вечером мы с вами вместе играем, вы Фамусова, я – Чацкого. Я не могу перед спектаклем». – «Понимаю и уважаю. Хотя должен признаться, что особой близости с такими людьми не получается – больно строги. И к себе, и к другим. Но уж если человек трезвенник…» – «Да нет, я как все. Я только перед спектаклем не пью». – «А так-то пьете?» – «Так пью!» – «Фу, точно гора с плеч! А перед спектаклем?» – «Ни одной!» – «А когда же вы пьете? Насколько я знаю, у вас в месяц 25–28 спектаклей, так, стало быть…» – «Стало быть, после спектаклей…» – «Так вы, стало быть, пьяным спать ложитесь? Не гигиенично!»
– Ответили ли вы на главный зрительский вопрос, непременно задаваемый кумиру, – в чем смысл жизни?
– Смысл, наверное, в том, чтобы догадаться, зачем все это было… Я стал употреблять термин, то ли приснившийся мне, то ли прочтенный где-то, не знаю… Даже не термин, а формулу – «чистый звук». Я понял, что эта формула лучше всего описывает мою зрительскую радость, восторг, когда абсолютно точно взята нота без всяких мешающих обертонов. Здесь еще очень важна ритмическая безупречность, чтобы длина ноты была не очень велика, не очень мала, а совершенно точна. Я постепенно стал характеризовать этим понятием и вещи, которые не звучат. Картины. Я сейчас реже хожу в музеи, но раньше ходил часто, был поклонником классики, порой приходил в восторг от модерна, выбирал не между школами и направлениями, но между чистым и загрязненным звуками. Так и в театре. Ты зачем занимаешься этим делом всю свою жизнь? Чтобы достичь чистого звука. А чем ты слышишь этот чистый звук? Всеми чувствами. Включая шестое.
– Чем вы пожертвовали ради чистого звука?
– Всем. Оставил огромные пробелы. Пожертвовал тем, что называется личной жизнью, молодым гулянием, веселыми компаниями, богемой, которая всегда сопутствует искусству и на все лады зовет искусство с собой… Я не мог совмещать.
– Цветаева в записных книжках говорит, что ей нравятся богатые. От богатых, как от царей, ничего хорошего не ждешь. Поэтому, когда они произносят хоть что-нибудь человеческое, немедленно приходишь в восторг. Если нельзя быть Человеком, Личностью, Художником, то нужно быть хотя бы богатым… Это написано в 1919 году. Что вы на это скажете? Какую роль деньги играли в вашей судьбе?
– У меня нет доказательств, но мне кажется, что в мире богатства искусство не нужно. То, что называется дизайном, не является частью живописи. Либо то, либо другое. Некоторое время, конечно, можно балансировать. Можно создать нечто вроде варьете с подачей горячих и холодных закусок во время представления, и даже будет недурно. Но потом либо увольняют официантов, убирают столики и говорят, мол, извините, но у нас тут будет театр, либо артистам сначала предлагают немножко научиться быть официантами и обслуживать по меню, причем вежливо обслуживать, а потом не освоивших это дело увольняют, а остальных продолжают называть артистами. Это качество сегодняшних театральных взаимоотношений. Многие коллеги моего возраста, прошедшие тот же путь, что и я, относятся к нынешней ситуации очень легко и утверждают, что искусство наконец заняло положенное ему место в обществе. Эта гипертрофия литературы, гипертрофия театра, которая была, – говорят они, – это все от бедности нашей, а теперь мы богатые.
А я все-таки не понимаю, кто именно богатый? Да, спектакли стали необыкновенно богатыми и дорогими по оформлению. Приобрели ли они нечто новое и достойное? Я этого не вижу. Более того, я замечаю некоторую удивительную зависимость, которую не могу доказать: слишком дорогой спектакль каким-то странным образом лишен духа. А мне говорят – да ерунда собачья, просто всё наладилось…
Конечно, я дожил до того возраста и достиг той меры известности, когда можно, ни о чем не тревожась, ожидать различных знаков почтения и идти в звезды с соответствующей важностью на лице. Моя раздражительность не позволяет мне занять эту позицию… Старый официант всегда вызывает особое сочувствие и горечь, порой кусок в горло не лезет, когда смотришь на угодливого старичка… Если ты не был официантом всю жизнь, а на старости лет тебе предлагают эту должность за очень хорошие гонорары, то раздражаешься… А раздражаться нехорошо; в раздражении есть осуждение – дескать, и ресторан плохой, и меню скверное, и официанты отвратительные, и хозяин мне не нравится…
Вот только что Валя Гафт прочел мне эпиграмму на знаменитого нашего сатирика, у которого украли машину: «Бандитам, стало быть, виднее – сатирик должен быть беднее…» Тут нет ничего оскорбительного для Жванецкого, это всё шутки, игры, а все-таки…
Сегодня раскрученный певец к 25 годам имеет все высшие звания страны, и цветные журналы печатают фотографии его особняков, точнее, дворцов. Но из дворца выходить на сцену как-то неестественно. Зачем?
Что ж получается? Я призываю сократить зарплаты артистам? Нет. Я просто наблюдаю и несколько теряюсь. И еще я замечаю, что так много, как сейчас, никогда раньше не врали. За вранье очень серьезно раньше наказывали. Журналист, описавший выдуманное событие, мог получить волчий билет. А у меня в портфеле лежит глянцевый журнальчик, где меня объявляют китайцем, да еще пеняют на то, что я долго скрывал истинное свое происхождение. Впрочем, я на журнальчик этот не сержусь, это мило. Славно объявить меня китайцем, но куда страшнее вранье серьезное, которое может оскорбить, изранить…
– Вы считаете, что ложь и деньги непременно сопутствуют друг другу, а бедность обручена с честностью?
– Повторяю: я теряюсь. Меня убеждают, что сегодня те, кто талантливы, – богаты, к ним все приходит, а те, кто бедны, – просто неталантливы. Те, кто богаты, нужны людям, те, кто бедны, людям не нужны. И все на месте. И все хорошо. А исключения? Да не будем заниматься исключениями, давайте заниматься правилами! Я во все это не могу поверить, поскольку я не ослеплен готовыми решениями, готовыми клише, я пока еще смотрю на мир собственными глазами. Я очень много езжу, я вижу страну и вижу страны; много-много городов России, которые совершенно не похожи на Москву; ларьки похожи, а прочие проблемы решаются иначе… Сегодняшние джунгли с их жестокими законами мне интересны, но они меня тревожат. Мне кажется, что в их зарослях прячутся жуткие существа. Иногда, преодолевая страх, я к этим существам приближаюсь: разглядываю в бинокль или просто подхожу. И что же? Смотрю – люди. Это мне только издалека казалось, что они чудовища. А отходишь, слышишь звуки, которые они привычно издают, наблюдаешь их повадки, их взаимоотношения, узнаешь о предложениях, адресованных тебе самому, мол, заходи почаще, сделай-ка для нас то-то и то-то, и понимаешь, – нет, все-таки чудовища!
Мне всегда казалось, что в искусстве есть некий небесный отголосок. Если это так, то оно выживет. А если нет, то оно превратится во что-то, может быть, даже очень полезное, красивое, эстетизированное, но уже не искусство… А мне бы хотелось, чтобы в искусстве сохранился отголосок вечного, истинного, абсолютного. И я не могу смириться с тем, что Бог – деньги, и все нормально. Я мог бы тоже жить богато, но я действительно не хочу. Мне противно. Противно тому самому чистому звуку, о котором мы с вами сегодня говорим. Когда кто-то становится богатым, я начинаю его заранее подозревать в том, что он удаляется от чистого звука. И пока я, к сожалению, ни разу не ошибся…
– А как в вашей семье относятся к деньгам не в теории, а на практике? К тому, что их всегда не хватает?
– В нашей семье денег всегда хватает. Потому что потребности наши абсолютно средние. И так было всегда. То, что у меня есть свое жилье, – для меня величайшее достижение; этого не смог достичь мой отец и никто из моих родных, и то, что дочь будет жить в отдельной удобной поместительной квартире со своей семьей, – вершина практических устремлений. Я сам – коммунальный, до сорока лет я жил в коммунальной квартире.
– А соседи чтили вас?
– Нет, конечно. Билеты просили достать. Ходили на мои спектакли. Но особенного положения в квартире у меня не было.
– Что ж, была воронья слободка?
– Разумеется!
– А когда вы уехали из Питера в Москву, о…
– …то опять все сначала. Крохотная квартирка, потом поменяли ее на большую, но в чудовищном состоянии, и так далее.
– У вас есть домашние обязанности? Выносите мусорное ведро?
– Непременно! Это мое!
– Как вы думаете, почему жанр разоблачений пользуется таким спросом? Почему многие жаждут услышать последнюю и чаще всего отвратительную правду о великом человеке?
– Зависть. Просто зависть. Зависть начинает следствие и непременно находит какие-то доказательства своей правоты: пожалуйста, кумир оказался либо пьяницей, либо наркоманом. Скажем, я в своей жизни был знаком как минимум с несколькими людьми абсолютной, безупречной порядочности. Назову Плятта, Попова, Никулина, Капеляна. Но меня непременно перебьют, махнут рукой: да ладно тебе! Не такие уж они безупречные! И пойдут, и пойдут разоблачать, придумывать, строить. Совершенно исказят облик. Сделают, например, из Раневской заурядную матерщинницу, и больше ничего за ней не оставят… Постепенно возникла даже такая как бы примиряющая стороны теория: если человек бесчестный, низкий, то, вероятно, одаренный и интересный, а если честный и порядочный, то, скорее всего, скучный и бездарный. Это ужасная позиция. Так нельзя!
Разумеется, сентиментальная дребедень – показывать только хорошее. Полный взгляд видит и зло мира, и зло в каждом человеке, и поле битвы добра и зла – как же иначе? Вопрос в том, где находится сам автор?
– А разве есть искусство, где автор на стороне зла?
– О, это сейчас главный посыл. Эстетизация зла очень сильна. Островский, например, с его пьесой «Бедность не порок» выглядит нерукоподаваемым человеком…
Мне кажется, отгадка в том, чтобы рассматривать качества личности не в арифметическом их перечислении, а в динамическом сочетании. Когда я работал с Товстоноговым, то прекрасно видел и его властность, и жестокость, но видел и то, что он прекрасный руководитель, большой художник… Когда-то мне довелось работать, а потом и дружить с польским режиссером Эрвином Аксером, ставившим в БДТ «Карьеру Артуро Уи» и «Два театра». Эрвин говорил, что все великие люди были порочны: вот у того был такой ужасный изъян, а у этого такой. Однажды я осмелился спросить: «А какой же чудовищный порок свойствен вам?» Он ответил: «Так я и не великий…» Полагаю все-таки, что Эрвин Аксер режиссер великий, что, разумеется, ему свойственны были недостатки, но он был гармоничным человеком – так сочетались в нем различные свойства… Это красивая скульптура может быть красива со всех сторон, как ее ни обходи, а живой человек меняется в зависимости от ракурса… Сегодня признаком лихости, витальности считается дурная репутация. Испоганить себя, пустить под откос, вываляться в грязи… Никого не интересует, как играет актер, важно только, как он ведет себя с женщинами, с начальством, как одевается, на какой машине ездит…
– Вы чувствуете зависимость от своей репутации?
– Я чувствую свою ответственность перед репутацией. Я не свободен. Мне нельзя сняться в рекламе, я отклонил предложение сыграть старого Генри Миллера – талантливого, скабрёзного, непристойного… Я дорожу своей несвободой.
Перед моим вечером в ЦДЛ мы договорились с Сергеем Юрским, что я прочту со сцены посвященные ему стихи. Он будет за кулисами, и если стихи ему понравятся, то он выйдет и что-то скажет, а если нет – то не выйдет. Он вышел и говорил обо мне добрые слова. На обложке одной из моих книг стоят слова Сергея Юрского: «Дар писать стихи неотделим от дара любви. Так и происходит в стихах Елены Скульской и в той ее прозе, которая диктуется чувством». А вот и те стихи.
Сергею Юрскому
Воровские истории. О Евгении Рейне
Лет тридцать пять назад нас с Евгением Рейном сфотографировал у него на кухне Александр Кривомазов. Женя прислал мне фотографию с этим четверостишием на обороте: на нем была рубашка в клетку, на мне свитер в полоску; раскраска всегда имела для него поэтическое значение.
Ему было около пятидесяти лет, когда вышел первый сборник его стихов. Почти вся жизнь была позади, впереди оставалась только слава.
В его стихах сюжет образован мыслью, но слово важнее и талантливее ее. Оно стоит в начале, как метафора – раньше предмета. И потому говорит больше, чем может и хочет сказать.
Его строчки – как надпись немого кино. Интимной своей мелодией озвучивай, читатель, промелькание прожитой жизни, всегда за тобой в поднебесье полетит силок: время кончается смертью, пространство кончается географической картой, трагедия кончается слезами и той готовностью к любви и тоске, которая заменяет счастье. «Никто не хочет жить и умереть не хочет». Длится и длится прошлое, и важно, чтобы не исчезнуть, все обозначить, поименовать, отметить: было именно так в той коммуналке, в том деревянном доме, на речном вокзале, с тем именем, с той папироской. О Господи, да не важно вовсе, ибо никто не спрашивает о правильности, никто не сверяет, и когда на резкость наведен заплаканный глаз, то это только прозрение, которое не имеет отношения к искусству. И жизнь отношения к искусству не имеет. А как же? Он же пишет хронику – самый страшный жанр двадцатого века. Летописец безымянный, безымянно упорядочивающий вечность? Но что же тогда со сквозняком – отчаянием, одиночеством, бесприютностью – и все на людях, на годах, на углах, со страстью погублять, растерять… А-а, не в этом дело – «Я подумал о такой свободе, о которой песенки поют». Ерничает, все обман. А на самом деле – не до людей, не до жизни, не до себя, таперское наше бренчание по клавишам примет понять не поможет, музыка, даже та, что «душит Шубертом», – не поможет, ибо есть только простодушный в своей силе вал стиха, синтаксис, затягивающий в воронку, звук, зазывающий в бездну; вал накрывает с головой, переворачивает, бьет по камням и уже никогда не отпустит на берег. И предаешься:
Как-то я спросила его:
– Женя, скажи, ты, Бродский – вы боролись с властью или она сама выискивала вас, отмечала, навязывалась во враги?
Он ответил:
– Конечно, боролись. Мы с друзьями приехали навестить Иосифа в ссылке, в день его рождения, и он объявил нам, что до конца срока не будет чистить зубы.
– ??
– А тебе бы хотелось, чтобы он объявил голодовку, а еще лучше – вскрыл вены?!
Однажды он записал мне четверостишие в альбом:
Жизнь – всегда повод для стихов, чего же еще от нее требовать?
Лет пятнадцать назад мы сидели с Евгением Рейном у меня дома, как сидели не раз, и Женя, соблюдая традицию, написал мне в альбомчик шуточные стихи:
Написав, Женя сказал:
– Бродский гениально писал экспромты. Они создавались сами собой, без секундного промедления. Я как-то попросил у него книжку для Собчака, он тут же написал на ней: «Городскому голове от городского сумасшедшего». А вот мне нужно хоть немного подумать, сосредоточиться.
– Неужто тебе хотелось бы прослыть великим сочинителем экспромтов, импровизатором?!
– Нет, конечно. Более того, мне кажется несколько обидной моя слава замечательного рассказчика, о чем теперь многие пишут, оттесняя как бы моими устными рассказами мои же стихи. Но что бы я ни рассказывал и как бы ни рассказывал, это все-таки не так уж важно. Я был и остаюсь прежде всего поэтом.
– Но ты все-таки переживаешь, когда у тебя крадут какой-то сюжет…
– У моего серого вещества такая особенность – выдумывать новые сюжеты. Сочинять. Кроме того, я сам вечно попадаю в невероятные истории, рождающие небывалые сюжеты. Долгие годы я вполне легкомысленно относился к этой своей способности, но сейчас, когда мои сюжеты, мои истории вошли в литературу под совершенно другими именами, когда у меня отнято авторство, стало обидно. Я бы, пожалуй, и сам о многом написал, да теперь стану выглядеть плагиатором…
Крыса с червонцем в зубах
– Знаменитая история про крысу, – продолжает Женя, – выдумана мною от начала до конца. Юрий Ряшенцев написал по моему устному рассказу повесть «Крысы нашего двора»; но Юра благородный человек – он посвятил мне произведение и пояснил читателю, что сюжет принадлежит мне. Далее этот же сюжет, но уже без всяких на меня ссылок, использовали для своих повестей известный прозаик Георгий Семенов и малоизвестный Петр Бакштейн. Оригинал же выглядит так. Слушай.
В речном пакгаузе крепко выпивает бригада рабочих. Бригадир пьет больше других, и сон сковывает его прямо среди остатков пиршества. Остальные расходятся. Бригадир просыпается глухой ночью и встречается взглядом с крысой. У крысы в зубах зажат червонец. Бригадир понимает, что это белая горячка, зажмуривается и трясет больной головой. Через несколько времени он снова открывает глаза – крыса на месте, червонец тоже. Хмель выветрился, голова ясная, но крыса все равно не исчезает. Десятка в ее зубах протянута бригадиру. Он замечает, что лежит, облокотясь на кусок колбасы. Он медленно пододвигает колбасу крысе. Зверек моментально кладет на пол червонец, берет колбасу и скрывается в норе.
Следующей ночью, никому не сказав ни слова, бригадир проникает в пакгауз с куском колбасы и ждет. Крыса приходит и протягивает ему десятку.
Начинается жизнь необыкновенная и счастливая. Каждую ночь бригадир получает за кусок колбасы червонец, на который по тем временам можно купить три бутылки водки, если по 2.87, или почти три, если по 3.62.
Но вот жена бригадира, мало понимающая в счастье, покупает путевку в Крым, в санаторий, на двадцать четыре дня, и не поехать нет ни малейшей возможности. Бригадир доверяется своему лучшему другу Степану, рассказывает о крысе, поручает кормить ее в его отсутствие, забирать, естественно, деньги себе, а по прошествии 24 дней вернуть крысу хозяину.
Наступает ночь. Степан с колбасой. Появляется крыса с червонцем. Однако не отдает его Степану. Она привыкла к бригадиру, привязалась к нему, а Степан ей кажется чужим; крыса медленно удаляется со своим червонцем в нору. Степан стервенеет, мастерит капроновую петлю, подкарауливает крысу и душит ее. Десятку он, разумеется, получает, но больше – ничего.
Из отпуска возвращается бригадир. Степан уверяет его, что крыса просто перестала появляться; бригадир смиряется и вскоре забывает о зверьке. И вот снова крепко выпивает бригада в пакгаузе. Степан выпивает больше других и сознается в содеянном. Оскорбления. Дикий мордобой. Увечья. Дело передается в суд.
На суде бригадир открывается народным заседателям: рассказывает всю правду про крысу, носившую червонцы, и про ее жестокое убийство, учиненное Степаном. Естественно, бригадиру никто не верит, и ему грозит большой срок… Тогда верная жена бригадира нанимает ушлого, пронырливого адвоката. Тот вынюхивает, что год назад на складе были обнаружены крупные хищения, прошли аресты, но деньги не были найдены. Прорывают ход по движению крысиной норы, и… находят огромный ящик с червонцами, на котором спят вечным сном пятеро крысят. То есть, понимаешь, крыса была еще и заботливой матерью, не для себя, для детей старалась…
Кто бежит на ловца?
А вот история, которую позаимствовал у меня Фазиль Искандер. Итак. Однажды, это было очень давно, при советской, разумеется, власти, я выступал в Ташкенте, а оттуда поехал в Туркмению, в город Чарджоу. Не помывшись, не побрившись, не выпив чаю, я прямо с вокзала отправился в обком партии, чтобы отметиться и получить формальное разрешение на выступления. Так было положено. А надо сказать, что поезд из Ташкента в Чарджоу прибывал где-то в час дня, пока я добрался до обкома – обеденный перерыв. Жара, духота, обеденные перерывы в Азии – почти до вечера. Но делать нечего – сижу, жду. Мне нужен товарищ Хаджибеков, секретарь по идеологии. Наконец к вечеру, когда жара чуть отступает, я вижу, как по коридору движется нечто толстое и убедительное. Я кидаюсь к нему:
– Товарищ Хаджибеков?!
– Да, это я.
– Прекрасно! На ловца и зверь бежит!
Доброжелательное выражение тут же исчезает с его лица:
– Как вы смели обозвать меня зверем?! А?!
– Что вы, – отвечаю я, легкомысленно надеясь на то, что все обойдется, – вы тут, товарищ Хаджибеков, совершенно ни при чем. Это такая русская пословица, мол, когда кого-то ищешь-ищешь, ждешь-ждешь, а он вдруг идет тебе навстречу, ну и говорят: «На ловца и зверь бежит!»
– Слушайте, – багровеет он, – я про русские пословицы все знаю сам. Только как вы смели меня обозвать зверем?!! Зачем?!!
В ужасе я продолжаю твердить про пословицу. Он же идет куда-то по коридору, стучится в дверь, я вижу табличку – кабинет первого секретаря обкома, заходим вместе. За столом сидит точно такой же убедительный и толстый. Хаджибеков что-то говорит ему на своем языке, я ничего не понимаю, звучит шершавый рокот и только одно слово четко пробивается наружу по-русски: «зверь». Наконец первый секретарь поднимает на меня глаза:
– Вы зачем, – спрашивает он, – назвали секретаря по идеологии зверем?
– Есть такая русская пословица, – ору я не своим голосом…
– Понятно-понятно, – усмехается первый, – про пословицы довольно, про пословицы мы поняли. А вот кто вам позволил людей оскорблять?!!
Словом, ни о каких выступлениях в Чарджоу уже не могло быть и речи, и я уехал несолоно хлебавши…
Как-то я был в гостях у Фазиля Искандера и рассказал ему об этом приключении. Прошло довольно много времени, Фазиль мне звонит:
– Женя, позволь мне использовать твой сюжет про ловца и зверя…
– Понимаешь, Фазиль, а я уже сам написал об этом небольшую новеллу в три странички…
– Так и я уже написал. Большую повесть.
– Но я уже свою новеллу отдал в «Новый мир»…
– Так и я уже отдал свою повесть в «Новый мир»…
Через несколько дней звонит мне зав. отделом прозы «Нового мира» прозаик Руслан Киреев:
– Женя, что же получается? – спрашивает он с некоторой укоризной.
Мне, конечно, жаль, что все так складывается, но от своей новеллы я не отрекаюсь.
– Тогда, – говорит Руслан Киреев, – мы опубликуем оба произведения. Так будет справедливо!
Опубликовали. А еще через некоторое время опубликовали новую повесть Фазиля Искандера «Поэт», где я выведен в качестве главного героя. Ну, тут уж Фазиль все сочинил сам и, разумеется, не должен был просить у меня никаких разрешений…
Я говорю Евгению Рейну:
– Ладно, Женя. Вот Пушкин подарил Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» и не жалел…
– Еще как жалел! – отвечает Рейн. – «С этим хохлом нужно держать ухо востро!» – жаловался Пушкин. Пушкин поехал в Оренбург за материалами для своей «Истории Пугачевского бунта», а оренбургскому губернатору сообщили, что, мол, Пушкин едет не только и не столько как сочинитель, а что он – тайный ревизор. Губернатор рассказал об этом Александру Сергеевичу, а Пушкин по простоте душевной доверился Гоголю. Гоголь тут же написал «Ревизора».
– Да еще, – подливаю я масла в огонь, – вывел Пушкина Хлестаковым!
– Конечно, – прикидывает Рейн, – можно утверждать, что сам бы Пушкин никогда не взялся бы за этот сюжет, а взялся бы – так, может быть, написал хуже Гоголя. Можно говорить, что мои сюжеты у хороших прозаиков как раз на месте, они из них романы делают, а я только эссе да новеллы коротенькие сочиняю.
– А может быть, Женя, ты понял ценность этих историй только тогда, когда их начали красть? «Что имеем – не храним…»
– Знаешь, историю про угрей, которую Ира Новодворская опубликовала в Питере, а Люда Штерн – в Америке, действительно, жалко. Я ее выдумал от первого до последнего слова.
Люди и рыбы
В Литве жил отец с двумя сыновьями. Все трое рыбачили; добывали угрей, коптили, продавали. Сыновья, как и положено прибалтам, были молчаливы, но крепко любили и уважали отца.
Однажды в шторм отец ушел в море и не вернулся. Напрасны были усилия спасателей. Через неделю сыновьям вручили справку о его смерти. Но что было делать парням с этим листком бумаги?! Несмотря на то что религиозность преследовалась советской властью, молодые люди были ревностными католиками и их убеждения требовали, чтобы тело отца было предано земле с совершением всех необходимых обрядов.
Во что бы то ни стало они решили выловить труп отца. Раз за разом выходили в море и баграми шарили по дну. И вот наконец рок сжалился над ними – тело отца было найдено. Когда труп втащили в лодку, то оказалось, что он весь обвешан угрями, ибо угорь, как и сом, например, жаден до мертвечины.
Угрей сняли с тела, прокоптили, повздыхали, даже заплакали скупыми мужскими слезами, а потом – дело есть дело – вновь опустили тело отца в море. Стали ловить на него угрей…
Долго ли, коротко ли, время бежит, от трупа остались одни косточки. Тут сыновья отправляются на кладбище, но оказывается, что справка о смерти уже не действительна, кончился срок годности. Тогда они сговариваются с русским пьяницей-сторожем, и он каким-то образом за тысячу рублей и бутылку водки соглашается похоронить в католической земле дорогого родителя героев.
Похоронили. Выпил сторож бутылку водки. И в первом же кабаке проболтался… Ну, дальше ясно: арест, суд… Впрочем, тут много поворотов…
Женя закуривает, задумывается, пьет кофе…
Седой волчонок
Люда Штерн, – продолжает Рейн, – написала повесть и про седого волчонка, а он был славным и тоже совершенно выдуманным.
В Советский Союз приезжает с визитом премьер-министр Великобритании Макмиллан. В толпе встречающих робко наставляет на него свою камеру тихий пожилой фотограф Дункель. Официальные рукопожатия. Обычный протокол. И вдруг Дункель, холодея, чувствует на себе пристальный взгляд премьер-министра. Как и положено не раз обиженному еврею, Дункель пытается спрятаться от этого взгляда, но тут Макмиллан что-то говорит своему референту, тот подходит к Дункелю и сообщает, что премьер-министр Великобритании хотел бы с ним, Дункелем, поговорить, а потому референт имеет честь пригласить Дункеля на прием в посольство Великобритании…
Естественно, Дункель решает никуда не ходить, а о приглашении забыть. Не хватало ему еще загреметь за связь с иностранцами!! Но в назначенный день в квартире фотографа раздается звонок. Сотрудник Комитета госбезопасности интересуется, получил ли Дункель приглашение на вечер. Дункель чеканит в ответ, что приглашение получил, но идти не намерен. «Отчего же? – интересуется тихий доброжелательный голос. – Отчего же не пойти? Нет, вы как раз сходите, узнайте, почему вами так интересуются».
Пошел Дункель, куда денешься. Через переводчика Макмиллан поинтересовался, откуда у Дункеля шапка-ушанка, которая была на нем в аэропорту? Дункель купил ее по случаю в какой-то командировке и сбивчиво объяснил это английскому гостю. Тут объяснился и Макмиллан. Оказывается, у него была мечта иметь шапку из седого волчонка. О-о, это редчайший мех, это совсем не то, что седой волк. Седой волчонок – детеныш, поседевший от сильного испуга, нервного стресса, и именно из этого уникального меха была, по утверждению Макмиллана, шапка-ушанка Дункеля. Не может ли господин Дункель продать ее?
Как только прозвучал этот вопрос, Дункеля немедленно оттеснили представители спецслужбы и заверили англичанина, что вовсе нет нужды покупать старую сомнительную шапку, а следует принять в подарок от советского правительства шапку новую из самого что ни на есть седого волчонка.
Наступает день отъезда. Премьер-министру торжественно вручают шапку. Он рассматривает ее, пожимает плечами и вежливо, но грустно комментирует: «Прекрасная шапка из седого волка. Но я мечтал о седом волчонке, который принадлежит господину Дункелю…» Отношения с Англией испортились…
…Лиля, я страшно жалею о своей застольной болтливости. Думал, не пригодятся истории, вечно буду поэтом, а теперь их не вернуть. Помнишь, как у Зощенко: «У одной женщины умер муж. А, – думает она, – ерунда. Оказалось, что не ерунда!»
– Женя, но теперь, когда ты знаешь, что истории твои крадут, ты все равно продолжаешь доверять их собеседникам?
– Это сильнее меня. Сидим за столом, кому-то нестерпимо хочется выпить, а мне хочется рассказать что-нибудь интересное.
– Ну и рассказывал бы порядочным людям, которые не умеют сочинять, а не своему брату писателю!
– Простодушие!.. Как ты знаешь, существовал пожизненный конфликт между Гончаровым и Тургеневым. Гончаров уверял, что Тургенев украл у него сюжет «Отцов и детей». Никто ему не верил, и постепенно сложилось мнение, что Гончаров просто сумасшедший и страдает манией преследования. Но Анна Андреевна Ахматова, которая читала архивы, говорила мне, что в основе этого конфликта действительно лежит воровство. Тургенев долго не был в России, приехал, встретился с Гончаровым, тот ему рассказал о новых людях, об их взглядах, принципах, вкусах; рассказал замечательно, ярко, подробно; в этот момент у него зрел замысел «Обрыва». Тургенев внимательно выслушал и побежал писать свой роман. Гончаров писал медленно, а Тургенев писал быстро…
– Интересно, а Бродский заимствовал у тебя что-нибудь?
– В поэме «Колыбельная Трескового мыса» у Бродского есть такие строчки: «Как бессчетным женам гарема всесильный Шах // изменить может только с другим гаремом…» Это моя шутка: я как-то сказал, что шах не может изменить своему гарему с одной женщиной, изменой может считаться только его роман с другим гаремом… И еще – в стихах о Таллине у меня луна карабкалась по трубам как капля в ватерпас; у Иосифа в стихах встречается этот образ – втягивается луна каплей в ватерпас…
– Женя, прости, что говорю тебе об этом, но и у тебя в стихах есть одна строчка из Бродского: «Вечер с красным вином в нигде…»
– Понимаешь, была у нас с Иосифом такая тайная переписка, дружеский обмен цитатами… А я рассказывал тебе о замечательной сцене на похоронах Бродского? Нет?!
Крестный отец
На похоронах Бродского. Нью-Йорк. Крематорий. Два придела – левый и правый. В одном стоит гроб с Иосифом, во втором – с каким-то крупным итальянским мафиози. Мы с приятелем вышли покурить на улицу. Подъезжает вереница машин, из головной выходит Виктор Черномырдин в роскошном черном кашемировом пальто, с букетом белых лилий в руках, на пальцах сияют бриллиантовые перстни. Итальянцы сразу понимают, что прибыла очень важная персона; один из них почтительно подходит к Черномырдину и говорит через переводчика: «Мы очень просим вас подойти и к нашему покойнику. Наш покойник не хуже вашего!»…
А я тебе рассказывал, как Иосиф вернулся из ссылки, и Евтушенко пригласил нас в ресторан? Евтушенко позвонил в «Арагви», нам накрыли в отдельном кабинете, мы приехали, все хорошо. Но тут Женю внезапно озаряет, что поэт должен пить со своим народом – в общем зале. Однако в общем зале нет мест, тогда Евтушенко требует, чтобы туда перенесли наш столик. Все встают, утесняются, вносят наш стол. Евтушенко выпивает, смотрит на Бродского и замечает: «Что это ты так плохо одет? Поехали ко мне, у меня дома есть почти новый пиджак, я тебе его подарю…» Думаю, ты догадалась, что Иосифу, вернувшемуся из ссылки, все это не понравилось.
Но на самом деле Евтушенко был чрезвычайно добрым человеком и всем старался помочь. Однажды он приволок меня в загородный дом всемогущего в свое время писателя Сафронова, редактора «Огонька». Это был невероятный особняк, который и не снился нынешним новым русским. В зале сидел хозяин в окружении литературной челяди. Евтушенко должен был назавтра улетать с Сафроновым в Австралию и пришел под этим предлогом, а дальше попросил тут же прочесть мои стихи и дать указание их напечатать. Сафронов прочел и отказал. Евтушенко тут же потерял интерес к этому визиту, откланялся и вышел со мной на улицу. Особняк горел огнями, из него доносилась музыка. «Всюду жизнь…» – прокомментировал Евтушенко…
Веселые поминки
Я переводил Силована Нариманидзе, и он, по всем законам гостеприимства, должен был меня угостить. Силован сказал, что в Тбилиси, в ресторане, нас не сумеют вкусно накормить, а нужно нам поехать на его родину – в кахетинское село, где будет устроено настоящее застолье. Я, разумеется, соглашаюсь. По дороге Силован рассказывает, что его односельчане чрезвычайно высоко ценят мой талант. Я удивляюсь, ибо книги я еще не издал, и как-то затруднительно было бы крестьянам в Кахетии меня полюбить. Но Силован меня успокаивает; он объясняет, что односельчане любят меня с его слов, ибо он, Силован, постоянно им рассказывает о моих выдающихся стихотворениях и читает им наизусть исключительно меня и Тютчева. Ну, ты знаешь, поэт – дурак, я начинаю верить; черт его знает, может, и правда… Приезжаем. Стоит огромный стол, вокруг сидят все крестьяне деревни. Все в черном. Я начинаю тревожиться. Силован объясняет, что все они пришли меня приветствовать. Он произносит первый тост, сообщает, какой я замечательный поэт, и предоставляет слово следующему. Тот уже говорит по-грузински и при этом страшно кричит и плачет. Я в ужасе, а Силован успокаивает меня: «Это он убивается, что тебя не печатают!» Ну, разумеется, оказалось, что мы прибыли на поминки, и Силован решил меня к ним присоединить, чтобы сэкономить…
Знаешь, Лиля, жизнь была чрезвычайно щедра на сюжеты. Видно, она любит таких олухов, как я… Недавно я попал в больницу, и у моего соседа по палате прочел на груди татуировку: «Жить хочу, но не умею». Это про меня…
Евгений Рейн написал предисловие к одному моему поэтическому сборнику в 1996 году. Оно начиналось так: «Я мало в чем разбираюсь: только в стихах и в людях. Только в ритмах и строчках». Это абсолютная правда. И не только разбирается, у меня недавно был случай убедиться, что стихи для него – святыня, за которую он умеет постоять. Он приехал в Таллин на Довлатовский фестиваль. В числе многочисленных мероприятий было и такое: девятнадцать русских актрис читали по одному стихотворению Анны Ахматовой, а замечательная эстонская поэтесса Дорис Карева читала свои переводы этих стихов на эстонский. Очаровательные женщины окружали Женю, сидевшего возле самой сцены, прочитав, они садились у его ног, настроение было совершенно идиллическое. И тут настал черед стихотворения.
И так далее.
Так вот, когда Дорис Карева переводила это стихотворение, то первые две строфы еще не публиковались, а стихотворение начиналось со строки «Мне голос был. Он звал утешно…». Во время подготовки к концерту я решила, что актриса не будет читать восстановленные две строфы, поскольку Дорис не бралась их срочно перевести к выступлению; пусть лучше эстонский и русский варианты совпадают – так мне представилось уместным для сцены. Актриса принялась читать, но тут, казалось бы мирно дремавший, Рейн вскочил и, перебив ее, громокипящим голосом прокричал две первые строфы и потребовал: «Скульскую сюда!» – и отчитал меня при всем огромном зале. Был он в этот момент прекрасен!
И тогда же: я вела его творческий вечер. И мне так хотелось рассказать о Евгении Рейне публике, я ведь знала о нем столько замечательных историй, и зал был так внимателен…
– Какой замечательный у тебя получился вечер, – сказала я Жене.
– Мне показалось, что это был скорее твой вечер, – ответил Рейн.
Что делать, у него воруют не только сюжеты и строчки…
Я сказала, что хочу посвятить ему, если он не против, какое-то стихотворение из сборника, к которому он писал предисловие. Он закивал:
– Выбери что-нибудь симпатичное.
Евгению Рейну
И в самом финале: Женя рассказывал мне не только о проводах Бродского в Нью-Йорке, но и о том, как потом Поэта решили все-таки похоронить в Венеции. Эти вторые похороны, по словам Рейна, были проникнуты не только скорбью, но и очнувшимся в людях желанием продемонстрировать себя и свои заслуги перед литературой…
Словом, этот рассказ Евгения Рейна побудил меня написать стихотворение, посвященное Иосифу Бродскому:
Шарф, перчатки и берет: история небывалой любви. О Валли Лембер-Богаткиной
Эстонская художница Валли Лембер-Богаткина и ее муж – русский художник Владимир Богаткин были близкими друзьями моих родителей. С детства я помню их приходы в наш дом – шумные (Владимир был балагуром) с непременными щедрыми подарками – рисунками, графическими листами, акварелями, альбомами, огромными картинами маслом. На одном графическом листе – вид на старинную церковь Нигулисте из окон нашей квартиры. Как-то на вечеринке Владимир Богаткин – в нашем доме любили веселые хмельные выходки – по просьбе мамы разрисовал стены в туалете – там были наклеены легкомысленные ножки, вырезанные из журналов, а художник пририсовал к ним еще более легкомысленные, забавные и пышно-эротичные тела. Потом, на протяжении многих лет, ремонт непременно огибал этот коллаж или, точнее, инсталляцию…
(Дружите с художниками, и ваш дом никогда не будет нуждаться в ремонте – стены, как у меня, будут завешаны картинами и ветшающие обои никто не увидит.)
Владимира Богаткина давно нет, как нет и моих родителей, родственные отношения с Валли передались по наследству; казалось, она легко миновала старость и в девяносто четыре года выглядела так, словно у нее еще всё впереди, и масса надежд и мечтаний не дают ей уснуть по ночам. Не один десяток лет я бывала у нее в мастерской, где всегда отвлекала ее от работы, где всегда на мольберте стоял незаконченный портрет или пейзаж. На влажных акварелях сосны крепко держат корнями прибрежные валуны, пейзажи пахнут морем.
Да, она рисовала до последнего дня жизни и, подшучивая над своей «паспортной» старостью, просила порой уточнить у ее сыновей, сможет ли она меня принять. Память у нее была отменная: за несколько месяцев до смерти она участвовала в радиовикторине и выиграла несколько тысяч евро, ответив на все вопросы.
Валли была маленькая, с голубыми прозрачными глазами. Словно два камешка на дне ее акварелей.
А у Владимира Богаткина пейзажи маслом темные, мрачные, болотистые, торфяные, а рисунки лунные и пепельные.
Я хочу вам рассказать историю небывалой любви, связавшей трех художников и несколько стран; эта история просится в кинематограф – можно было бы написать «фильм основан на реальных событиях» и можно было бы показать реальные картины трех живописцев. Собственно, рассказываю не я, рассказывает сама Валли Лембер-Богаткина.
Валли была убеждена в том, что ей заведомо уготована редкостная судьба:
– Подумай сама: я родилась ровно в двенадцать часов в ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 октября; врач сказал: давайте сделаем девочку помоложе, – и меня записали 30 октября. Мне подарен лишний день жизни, и он – праздничный. Этот праздник я все еще берегу, я никогда не разбрасывалась временем попусту.
В тринадцать лет, в 1935 году, я уже поступила в Высшую художественную школу, а до этого у меня были постоянные конфликты с учителями, поскольку на всех уроках я только рисовала – в тетрадях, альбомах, учебниках. В нашей семье не было художников, мама – домохозяйка, папа – строитель, и, конечно, они понимали, что это никакая не профессия – рисовать, но мешать мне не стали, да я думаю, это было невозможно. Прочтя свое имя в списке поступивших, я всю дорогу до дома шла и плакала. «Девочка, что ты плачешь?» – спрашивали меня прохожие. «От счастья», – отвечала я.
Я училась с упоением, с утра до позднего вечера, по два курса проходила за один год и закончила Высшую школу с отличием. А в то время для всех выпускников-отличников устраивал прием во дворце Кадриорг президент страны Пятс. Я была в национальном костюме, а на ногах у меня были новенькие туфли, которые непереносимо жали. От боли я опустила глаза и вдруг вижу: сам президент вышел к нам не в парадных башмаках, а в домашних туфлях – очень красивых, в клеточку, но домашних!
И представляешь: через шестьдесят шесть лет, день в день, на том же месте, в том же зале того же дворца, президент Рюйтель вручил мне Белый крест за заслуги перед Отечеством.
– Скажи еще, что туфли по-прежнему жали!
– Нет, за шестьдесят шесть лет разносила. Но этот Белый крест – очень важное для меня напоминание о юности и начале пути. Судьба всегда дает мне возможность вернуться к точке отсчета и увидеть все произошедшее еще раз…
Получив диплом, я очень много работала: акварели, мозаики, расписанные стекла. В нескольких домах до сих пор сохранились окна, расписанные мною.
Потом началась война, большую ее часть мы провели на острове Сааремаа у бабушки, там было спокойнее и не так голодно, а после войны в Таллин из эвакуации стали возвращаться художники и сразу организовали свой творческий Союз. Мой билет – номер 15, один из первых.
Тогда в Союзе царила необыкновенно теплая и дружественная атмосфера, старшие поддерживали молодых; моя мозаика «Сватовство» поехала на выставку в Москву и получила хороший отклик; я проиллюстрировала несколько детских книг, и они имели такой успех, что вышли несколькими тиражами; мои росписи по стеклу обращали на себя внимание.
– Да я знаю, что ты знаменитость, но ты обещала рассказать о другом!
– Не перебивай, я как раз приближаюсь к самому главному. Так вот: мне предложили в Союзе путевку в Дом творчества художников в Дзинтари. Для меня все это было в диковинку: бесплатная поездка, Дом творчества. Я срочно стала шить себе новое красивое платье. Мама болела, и это задержало мой отъезд, а моя подруга поехала к сроку и написала мне, что Дзинтари – чудесное место и в доме прекрасные условия, но страшная скука, поскольку вокруг одни старики, а единственный молодой и красивый художник приехал со своей мамой – знаменитой актрисой, к ним не подступиться; он заносчив и холоден, ни на кого не обращает внимания…
Я не придала значения этой строчке письма, никакого дыхания судьбы не ощутила, но стоило мне приехать в Ригу, добраться в Дзинтари, как первый человек, который мне там встретился – как в сказке, – был именно он!
Подруга нас познакомила, он пожал мне руку, и впервые в жизни я почувствовала особенное тепло, исходящее от другой руки. Его первое рукопожатие я запомнила навсегда. Он ушел рисовать, а подруга зашептала, что, мол, это он и есть, тот самый неприступный.
Дальше: так как я опоздала, меня посадили в столовой не с подругой, а на свободное место. И это место оказалось рядом с ним! Его мама захворала, и меня временно посадили за стол вместо нее. А надо сказать, что в те времена я страшно смущалась при посторонних и ужасно краснела. Просто как рак. Прихожу утром на завтрак, все на меня смотрят, он сидит рядом, на тарелке – вареные яйца, и, вместо того чтобы сказать что-нибудь умное, я беру яйцо и говорю: «Давайте стукнемся!» Он тоже берет яйцо, стукаемся, оказывается, яйца не крутые, а всмятку, и его костюм – весь в яйце. Он встает, извиняется: ему придется отлучиться, чтобы привести себя в порядок, возвращается, видит, что я уже не красная, а синяя, хочет меня утешить, предлагает кофе, берет кофейник, и чашка, наполненная до краев, опрокидывается на мое новое парадное платье.
– И вы оба поняли, что это любовь?!
– О, до любви еще было далеко! Мама Володи Богаткина выздоровела, и я ей очень понравилась. Она велела ему встречаться со мной, а не с теми сомнительными актрисками, с которыми он проводил время. Володя заходил за мной и моей подругой утром, чинно вел нас на пляж мимо окон мамы, а потом бросал нас и устремлялся к своим приятельницам.
Правда, однажды мы компанией поехали кататься на лодке; мы с Володей были отличными пловцами, прыгнули в воду и поплыли. А остальные решили над нами подшутить и оставили одних. Мы плавали, плавали, а потом в одних пляжных костюмах вышли на берег и стали ждать возвращения лодки. Вокруг – ни души. Володя потом говорил: «Я думал: обнять, что ли, девушку, поцеловать?» А я думала: «Только пусть попробует!»
Потом мы переписывались, и Володя с приятелем собрался в Таллин. Они должны были остановиться у моей подруги, но так получилось, что поселились у нас в доме. Мы много гуляли, фотографировались. В Москве он показывал фотографии друзьям, и те стали его расспрашивать: у тебя роман с этой красоткой? И изумлялись его отрицательному ответу. Тут-то он и призадумался. А потом я приехала в Москву, жила у них в Лялином переулке в удивительной двухэтажной квартире, о которой речь впереди.
Начался роман, состоящий из переписки и телефонных звонков. И вот мы снова гуляем по Москве, и он делает мне предложение. Но делает его в таких изысканных выражениях, а я еще так слабо владею русским, что, ничего толком не поняв, отвечаю: «Как хотите, как хотите!» Мы были на «вы». Тогда он меня впервые поцеловал…
– Вы поженились, но он не переехал в Таллин, а ты не перебралась в Москву…
– Да, но мы постоянно ездили друг к другу, летали. Я очень полюбила их московский дом.
Володина мама Ксения Георгиевна Семенова, профессор Щукинского училища, бывшая актриса Вахтанговского театра, была из княжеского рода Маминых, и в доме хранилось несколько реликвий стародавних времен. С отцом Володи – Валерьяном Богаткиным – богемным вертопрахом, тоже когда-то игравшим в Вахтанговском, она рассталась. Володя вспоминал, что отец так лениво относился к профессии, что мог для эпизодического выхода загримировать только ту часть лица, которая была обращена к зрителю.
Ксения Георгиевна болела, не выходила из дома, но ученики и друзья приходили к ней (она вела дома занятия по сценречи, принимала экзамены); мы познакомились и подружились с Пляттом и Марецкой, Улановой и Завадским, Раневской и Ульяновым, бывали непременно на всех спектаклях в Большом, Вахтанговском, Театре Советской армии, для которого Володя делал декорации.
Каждый год, всю жизнь, мы непременно приезжали на место нашей первой встречи в Дзинтари, потом возили туда своих сыновей…
Впервые вместе рисовать мы начали во время свадебного путешествия по Волге – плыли на медленном пароходике, показанном в фильме «Волга-Волга», он такой тихоходный, что очень удобно было рисовать, сидя на палубе.
– Тут по сценарию должен быть крутой поворот…
– Не торопи меня. На первом этаже квартиры в Лялином переулке висел фотопортрет очень красивой девушки. Я никак не решалась спросить, кто она. Ждала, что Володя когда-нибудь мне расскажет. И однажды он рассказал. На портрете была его первая любовь – Мила Джованни, итальянка по отцу, русская по матери. Мила и Володя познакомились, когда им было по шестнадцать лет. Они победили на конкурсе юных талантов – из ста претендентов выбрали их двоих и определили в школу для одаренных детей при Художественной академии, где они потом и продолжили учебу.
Однажды они гуляли по Ленинграду, зашли в кафе на берегу Невы, выпили немножко, смеялись, были наполнены друг другом и беззаботны. Мила спросила: «А что тебе нужно для полного счастья?» Володя ответил: «Шарф, перчатки и берет». Так он представлял себе идеальный вид настоящего художника…
Мила погибла при эвакуации из Ленинграда, Володя очень долго ее помнил, тосковал, любил о ней рассказывать…
Сам он во время войны был связан со студией Грекова – оттуда художников отправляли на фронт, они рисовали, возвращались в Москву, оставляли свои работы, альбомы, что-то заканчивали, доводили и опять возвращались на фронт.
Во время взятия Берлина, когда еще шли бои, Володя рисовал на улицах. Однажды за его спиной остановились двое немцев, и он услышал: «Что это за странный русский? Не воюет, а рисует!» А Володя знал немецкий, повернулся и спросил: «А вы кто?» Оказалось, что один из немцев – Балцер – художник. Они разговорились, Володя поделился с ним хлебом, выкурили самокрутку. Эта мимолетная встреча имела долгое продолжение – они встретились после войны на одном из приемов в Москве, Балцер бывал у нас в гостях. Но и это еще не все. В 1966 году Дрезденская галерея купила у Володи графическую серию работ о войне.
Они запоминались прежде всего потому, что батальные сцены в них не заслоняли красоту городов. Война на его фронтовых рисунках никогда не побеждала созданное людьми в мирное время.
Володя отказался от денег, просто подарил свои работы галерее, и тогда скрупулезные немцы пригласили его на открытие выставки. Нас принимал министр культуры Германии, у нас была персональная машина, газеты пестрели заголовками: «Владимир Богаткин и его белокурая жена», хотя фотографии тогда были черно-белые, снимали в основном вечером со вспышкой, и то, что я натуральная блондинка, никак не отражалось в печати. Мы объехали множество городов, и везде рисовали, и конечно встретились с Балцером и другими художниками. Наша совместная с Володей выставка открылась сначала в Москве, а потом целый год ездила по городам Германии.
Нас опять туда приглашали, но власти сочли это излишним.
– Мы отошли от главной линии сюжета. Раз висел портрет Милы, значит, Володя все-таки не до конца верил в ее гибель.
– Наоборот, он был уверен, что ее нет в живых. Это была память о прошлом, поэтому он и мне о ней рассказывал.
– И вдруг…
– Наш дом в Лялином переулке перестроили. Квартира была на седьмом этаже, мы ее называли седьмым небом. И вот в конце пятидесятых мы получаем на седьмое небо посылку на Володино имя из Лондона. Открываем: там шарф, перчатки и черный художнический берет. Мы были потрясены. И не только мы – многие наши друзья знали эту историю. Кто-то пошутил: «Посмотрите на Богаткина – вот человек, достигший полного счастья!»
Оказалось, что Мила не погибла во время бомбежки, она уцелела, была угнана в Германию, попала в лагерь, лагерь освободили англичане, один английский офицер влюбился в нее, она вышла за него замуж, уехала в Англию. И неустанно пыталась разыскать Володю, в чем ей помогли родственники художника Осмеркина, связанные и с ней родственными узами.
Она сделала блестящую карьеру – десять лет была художником в королевской семье, ее кисти принадлежит, например, портрет трехлетнего принца Чарльза. Рассталась с первым мужем, вышла замуж за пробкового плантатора из Португалии, но и с ним не была счастлива…
– Ты боялась, что они встретятся? Препятствовала? Уговаривала? Положилась на судьбу?
– Володя хотел встретиться с Милой, слетать в Англию, но его не пускали. Потом в Праге открылась выставка его работ, и туда ему поехать разрешили. Позвонил Миле, она прилетела к нему.
Вернулся сам не свой. Им обоим было тяжело. Но я не выясняла отношения, не попрекала, а, напротив, попыталась пережить все это вместе с ним. И через несколько месяцев жизнь вернулась в прежнюю колею. Они переписывались, но письма становились все спокойней и спокойней.
Мне кажется, мы были счастливы. Очень много путешествовали. Я с самого детства мечтала о путешествиях, хотя была страшная трусиха. Боялась остаться одна в комнате, боялась темноты, стеснялась прочесть стихотворение, чтобы получить подарок от Деда Мороза. Но странствовать хотелось всегда. Я прекрасно ездила на велосипеде, особенно любила поездки под дождем, когда природа столь прекрасна, и остро пахнет мокрыми березами, и все в пелене, и только по запахам узнаешь предметы… И Володя полюбил велосипедные прогулки…
А когда в 51-м родился наш старший сын Владимир, Володя сказал, что одновременно мы родили и девочку – «Победу», на которой объездили весь Советский Союз. Мы ездили по разбитым, невероятным дорогам, но зато нам встречались очень интересные люди и потрясающие пейзажи. Володя очень любил Крым, Кавказ; мы везде рисовали, потом стали знакомить с любимыми местами своих сыновей.
Привезли как-то Владимира и Георга в Крым, целый день показывали им красоты, уложили спать, а утром спрашиваем: «Ну, что вам больше всего запомнилось?» Мальчики ответили: «Мама, кошка, которую ты вчера выставила за дверь, ночью залезла к нам в окно и спала вместе с нами!» Потом из одного вышел оператор, а из второго художник, так что наши поездки все-таки как-то на них повлияли…
– Но ведь история на этом не заканчивается?
– В 1971 году Володя был членом жюри конкурса акварельных работ в Ленинграде, вечером позвонил мне, мы долго говорили, хотя он уже собирался на вокзал и утром должен был приехать в Москву, где я его встречала. Он уснул в поезде и не проснулся…
Я была в таком горе, что никому не писала, никому ничего не сообщала, была просто выключена из жизни. Миле я тоже ничего не сообщила.
Прошло много-много лет, и вот в 2005 году мы с друзьями собрались в Англию. Я заболела и не смогла отправиться вместе с ними. Они вернулись и показывали фотографии, и мне больше всего понравился Кембридж, и я сказала, что если бы куда-то поехала, то только в Кембридж. И вообрази: на следующий день в мастерской раздается звонок. Со мной связывается русская редакция Би-би-си и сообщает, что со мной ищет встречи первая любовь моего мужа.
– И ты захотела с ней встретиться?
– Да! Она позвонила мне и произнесла: «Валечка, наконец я вас нашла!» И вот мы с сыном Владимиром отправились к ней в Кембридж. Добирались из Лондона очень долго, друг моего сына, который должен был нас встретить, застрял в пробке, потом мы не знали, где съехать со скоростной трассы, словом, добрались к ее дому глубокой ночью. Нас встретил ее сын, который специально приехал из Франции, чтобы меня повидать, он обнял меня и сказал: «Мы не виделись сорок лет!» (сыновья Милы приезжали к нам в гости в Москву) и добавил, что мама уже спит, предложил нам английского чаю и уложил спать. Утром мы встали раньше Милы, она вызвала к себе парикмахера, ее долго приводили в порядок. И наконец мы увидели друг друга. Она оказалась очень красивой женщиной, с трудом уже передвигающейся, почти не встающей с кресел.
Мы плакали, вспоминали и чувствовали, что мужчина, которого мы любили всю жизнь, сидит сейчас с нами.
– Ты мне много раз говорила, что ваша связь не оборвалась с его смертью, а ведь прошло уже столько лет…
– Так и есть. В 1956 году, в разгар дружбы между Китаем и Советским Союзом, под песню «Москва – Пекин, Пекин – Москва» мой муж поехал в Китай в составе делегации художников. Потом Володя выпустил книгу рисунков.
Спустя пятьдесят лет наш президент Арнольд Рюйтель отправился в Китай, и было решено, что его визит будет сопровождать выставка моих работ. Отобрано было двадцать картин, посвященных народным танцам, пять портретов артистов в национальных костюмах, двадцать пять акварелей с пейзажами Эстонии. Выставка имела большой успех, ее оставили в Китае, и она до сих пор путешествует по городам страны.
Я подружилась с устроителем – художником, скульптором, чрезвычайно активно популяризировавшим мои работы. Показала ему книгу рисунков Володи, сказала, что хочу порисовать в тех местах, где рисовал мой муж. Конечно, Пекин очень изменился за пятьдесят лет, и те дома, что казались высокими Володе, представились мне маленькими на фоне выстроившихся за ними небоскребов. Но одно место почти не изменилось – Южные ворота Пекина. Мне казалось, что я выбрала как раз ту точку, с которой рисовал мой муж (потом оказалось, что он рисовал сверху, а я – снизу), но то, что он стоял все это время за моей спиной – несомненно. Я показала рисунок китайскому художнику, а он сказал: «Смотрите, у Богаткина полицейский показывает направо, а у вас на рисунке – налево». Подумать только! Я ведь не помнила полицейского у Володи, и первоначально его у меня на рисунке не было, но потом я смотрю – пустое место, как-то его нужно заполнить, ну и нарисовала полицейского…
…А однажды, в день моего юбилея, 30 октября, в осеннюю комнату влетела яркая бабочка. Это был знак от Володи, маленький подарок, не улыбайся, совершенно точно!
Она умерла незадолго до своего 95-летия, готовя новую выставку к этому событию и собираясь объездить с ней несколько стран. В церкви было множество молодых людей, ее подружек и приятелей, – она, правда, так и не научилась считаться с возрастом.
2008–2017