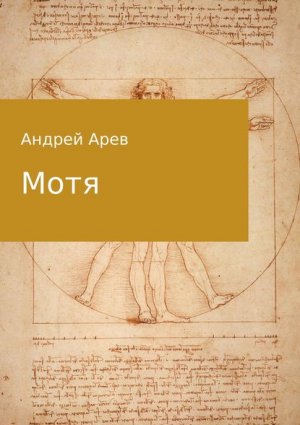
Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет;
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе,
не устоит. И если сатана сатану изгоняет,
то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
Матф. 12:25-26
Глава 1. Либерея
-3
Моте было холодно. Стоять одной на февральском ветру в коричневой школьной форме с черным фартуком, белыми манжетами и воротничком, белых гольфах и туфельках, не зная, куда идти, потому что ты умерла, кровь твоя свернулась и уже не сочится из дырки в виске – стоять так не только холодно, а еще и тоскливо. Мотя раскачивается и напевает, чуть шевеля сиреневыми губами: «… по головке гладит, черствый пряничек дает…». Её похоронили неправильно, не отрубив кистей рук, ступней и не отделив головы, поэтому ночью, почувствовав тяжесть на груди, Мотя выкопалась, плача и размазывая слезы, смешанные с землей, и вытирая их красным шелковым галстуком. Теперь она стояла у стеклянной витрины «Лакомки» и смотрела на красивую выпечку, любуясь и не понимая, почему ей не хочется сладкого. Что-то тяжелое медленно толкалось внутри, в правом боку, заставляя двигаться, двигаться не хотелось, а хотелось заползти куда-нибудь, сжать ноги вместе до боли, свернуться калачиком и оцепенеть, не обращая внимания на пропитанное мочой и кровью белье, схватившееся на морозе коркой…
1
Когда холодно, за 30, и такая погода держится недели две – время начинает замерзать. Сначала вымерзает лишняя влага из настоящего, и дни, плотно сбитые, как мячи для пионербола, пугающе быстро, с легким хлопком меняют друг друга. Потом замерзает прошлое, сначала створаживается в подобие холодца, который вполне себе можно резать ножом, а затем становится более плотным, как рахат-лукум, и таким же белесым. Дни, не насыщенные событиями, замерзают в лед, прозрачный или цвета бульона. И тогда их можно увидеть сложенными в сенях, вместе с намороженными плитками молока, пельменями, колобками фарша и квашеной капустой. Конторские приносят его на работу, и часов в 10 утра раздается клич: Девки, айдате чай с яблоками пить!
Задастые пятидесятилетние «девки» крошат в чай яблоки, кусочки замороженного прошлого, достают домашнее варенье из лесной клубники – и сутки их удлиняются на пару часов.… А еще в лед замерзают дни, не наполненные ничем, кроме какого-либо чувства – счастья или там, любви. Получается такой радужный лед, его можно наколоть на этакие небольшие монпансьешки, и рассасывать весь день. Челюсть немеет, во рту остается неуловимое послевкусие – невозможно понять, чем ты тогда был так счастлив или, вот, любил же – а сейчас что? Но все равно, приятно – как после хорошего, красивого сна, который не можешь вспомнить, и пока вспоминаешь – все исчезает.
2
Мотя жила в маленьком городке, настолько маленьком, что на окраине он уверенно превращался в деревню – совсем недалеко от центра по утрам орали петухи, пахло хлевом, а зимой можно было видеть, как трактор затаскивает в чей-то двор смётанный на березу стог сена. Население окрестностей Эмска состояло, в основном, из скроенных по одному лекалу сухоньких мужичков, лысоватых и рыжеусых, одетых вечно в теплые клетчатые рубахи, застиранные джинсы-варёнки и такие же жилеты, и здоровенных теток, которые были выше своих мужей на голову, и, кажется, так и родились в этих своих серых плащах и всепогодных галошах на босу ногу. Летом окраина торговала на городском рыночке сепарированными сливками, а зимой – копченым салом, хотя самые распространенные местные фамилии были как-то связаны с едой, вернее, с ее отсутствием: Худяков, Постовалов, Художитков, Баландин.
Жительствовала Мотя в кирпичной двухэтажке, забитой как барк капитана Хёрда грузом мороженого мяса и картошкой; мясо на балконах нагло тырили синички, а картошка в самодельных подвалах сморщенными кракенами тянула свои щупальца к свету. Дом вообще был похож почему-то на торговое судно, застрявшее в водорослевых покосах Саргассова моря, и давно переставшее дрейфовать. Команда постепенно спилась, обзавелась семьями, переженившись на местных русалках, которые быстро обабились, развешали из больших эмалированных тазов свежевыстиранные простыни и пододеяльники, и наплодили племя младое, незнакомое, сидевшее по подъездам с «Балканкой» и «Ягой» – Ангка в их глазах не то, чтобы не горела, а просто не была оплодотворена.
Старшее же поколение разными темпами уверенно двигалось к смерти – чаще всего, она приходила в виде сковородки жареных грибов, съеденных на ночь, и наутро самому человеку было не ясно, жив он или прикалывается, уходя серым осенним утром на работу в свою контору или на завод; на самом же деле, окружающие видели очередной никчемный труп, а мозг, обманутый грибами, плавно входил в русло посмертных мытарств, – и начиналось: какая-нибудь бухша никак не могла понять, почему она не может сдать отчет, а ведь уже конец месяца, почему на нее орет начальник, почему сын-оболтус снова проспал первый урок, а еще и месячные, и все это одновременно. Или там, знаешь, миома матки, а еще невыплата по кредиту и отправляют на маммографию в город с подозрением на онкологию. Такова была замысловатая осенняя смерть; еще была белая и искристая зимняя, наполненная запахами весенняя, и скучная, с мухами – летняя.
Мотя мало с кем общалась во дворе, разве что с дворником и его детьми. Дворник-татарин Фарид, который обычно молча сметал в кучу листья, либо скалывал гиреем лед, и приветствовал знакомых лишь кивая, к Моте почему-то чувствовал особое расположение, всегда улыбался при встрече и говорил, снимая шапку: здравствуй, девочка! Остальное время он мычал про себя какую-то песню, иногда останавливаясь чтобы, воздев указательный палец, произнести какое-нибудь дацзыбао на своём смешанном русско-татарском наречии, например: Мечетта никакой урыс сюзе булмасэн1 или же: бер курешу узе бер гомер, тугие паруса… я список кораблей прочел до середины2.
У него была жена Фаина, тихая женщина с мягкой улыбкой, и двое сыновей – Уримка и Тумимка, лобастые погодки семи и восьми лет, вечно стриженые "под чубчик". Братья заболели Древним Египтом, когда валялись дома со свинкой, и теперь младший, Уримка, шастал по городу в поисках тюбиков от «Поморина» и «Мэри», чтобы замочить найденное в детской ванночке, затем разрезать бывший тюбик, прокатать на самодельных вальцах, и вогнать в установленный размер на гильотинке для фотографий – на нем была техническая сторона дела. Старший, сидя по-турецки где придется, чеканил на этих жестяных листах жизнь древнеегипетских богов, которые стояли в очередях за молоком, развешивали бельё и разбирались с мирозданием при помощи мастерка и нивелирной рейки: все во дворе знали, что, например, птицеголовых Ра и Монту звали как попугайчиков – Кеша и Гоша, а Сет носил имя соседской таксы Тильды – аналогично было и с остальными.
Когда братья обшили этими листами одну из стен комнаты, и она стала напоминать внутренность какой-то жестяной египетской пирамиды («у Хеопса была избушка каменная, а у Уримки и Тумимки – жестяная…»), родители мягко объяснили им, что делать этого больше не стоит. Молчаливые, как отец, братья теперь проволокой сшивали листы в книги и хранили их в подвале – часто можно было видеть, как младший, сопя, снимает сапожным ножом оплетку с куска многожильного кабеля, а старший, прикусив кончик языка, корпит над новым листом летописи, украшая их иероглифами собственного изобретения.
Еще Мотя иногда заходила к ювелиру, немцу Тицу. Вернее, это в какой-то прошлой жизни Тиц был ювелиром, а сейчас работал кочегаром в ближайшей котельной. Он жил здесь так давно, что никто уже не знал, потомок он екатерининских переселенцев, или же бывший пленный. После того, как из рук Тица перестали выходить цепочки и броши, а вместо них стали появляться малюсенькие полиспасты и ручные тали, все поняли – свихнулся. Из мастерской его выгнали, но дома Тиц упорно продолжал делать миниатюрные золотые кран-балки, на крюках которых висели микроосколки кирпичей дома Ипатьева, монетки с могилы дятловцев или кусочки челябинского метеорита. Потом он охладел к металлу, и начал работы по выведению магнита для дерева – на даче он скрещивал различные деревья и кустарники, называя результаты своих мичуринских экзерциций сплавами – говорили, будто один из его "сплавов" примагничивал дерево, поэтому немца тут же забрали в тайную кремлевскую лабораторию доктора Календарова3, на дверь квартиры повесили секретную милицейскую бумажку с печатью, и Мотя больше его не видела.
В школе Мотя дружила с Нюрой Одинцовой. Нюра всегда собирала и сдавала больше всех в классе мухоморов – желтенькие отдельно, красненькие отдельно. Еще Нюра собирала для заготконторы выброшенные пионерские галстуки, – с тех пор, как шелкопряда научились кормить красными ягодами тутовника, алый шелк перестал быть дефицитом, и многие выбрасывали порванные или испачканные галстуки, – их потом отправляли северным народцам, чтобы те заготовили как можно больше копальхемов4 для заблудившихся в тундре советских геологов, которые искали на северных просторах нефть и газ, необходимые Советской стране. А ведь всем известно, что пометить притопленный в болоте копальхем лучше всего пионерским галстуком или хотя бы вымпелом «Лучшему оленеводу».
Нюра была девочкой тихой и странной, по воскресеньям ходила к городской тюрьме, где сидели немецкие пленные, которые всю неделю строили в городе красивые дома с фундаментом из природного камня, и враги СССР. В стену тюрьмы была вделана клетка, в которой сидел захваченный вместе с немцами белый петух Миша. Мишу собирались откормить и съесть, но петух специально почти ничего не ел и стал больше походить на кусок трески, чем на птицу, поэтому над клеткой была надпись: "Зверь weißenHahn". Нюра приходила разговаривать с петухом, чтобы подтянуть себя по немецкому – петух говорил с четким берлинским акцентом. Еще Миша оставлял Нюре вишневые косточки, которые давали ему вместе с зерном – это были косточки от специальных вишен, выращенных в Бабьем Яру, – ими кормили перед казнью главных врагов СССР. Враги с удовольствием ели эти вишни, потому что от них кровь быстрее покидала обезглавленное тело и становилась очень красной, что не могло не нравиться зрителям. Нюра ела косточки, чтобы узнать мысли врагов и понять, как они могли ненавидеть СССР.
3
Сама Мотя даже не знала толком, как ее зовут. Мама Моти умерла родами: когда ее спросили, как назвать новорожденную, мама улыбнулась и ответила: Мотя.
"Хорошо-хршо. Хрш", – сказало мамино сердце, и остановилось. Папа называл Мотю "мое солнце", но он бывал дома редко, потому что все время пропадал в командировках, и воспитанием Моти занимались попеременно приходящие бабушки. Бабушка – папина мама называла Мотю Матильдой, говорила, что это имя переводится, как "опасная красота", и рассказывала о святой Матильде Рингельхаймской. Моте нравился перевод имени, но само имя напоминало о соседской таксе Тильде. Тильда была умной и доброй собакой, но Мотя, если и хотела быть каким-то животным, то никак не собакой, а тогда уж южным ктототамом, который живет в Амазонии, где тепло и мало людей.
Бабушка – мамина мама называла Мотю Матрёной, рассказывала о Матрёне Московской, которой слушался сам Сталин. Матрёной Мотя тоже быть не хотела, поэтому писала свое имя двумя арамейскими загогулинами – тау и мим. Арамейский она выучила по найденной в папином кабинете книге.
А с бабушками у нее не складывалось. Мамина мама постоянно приносила Моте просфоры, бормоча что-то про тело Христово, и пыталась запихнуть их Моте в рот – скушай, деточка. Маленькой Моте, смотревшей на распятье из глубины своего
крохотного роста («госпоже Правой ноге…») телом Христовым представлялся почему-то только большой палец ноги, наверное, немытый и с толстым желтым ногтем, ее начинало мутить, и она убегала.
Папина мама вообще пугала Мотю. Она говорила, например: не будешь слушаться – превратишься в косулю, и таким же серым вьюжным днем в конце ноября за тобой приедут на УАЗике четыре пьяных клоуна, и ты будешь убегать, плача и сбивая ноги о наст, только хрен что у тебя получится; или: не будешь слушаться – придут китайцы и увезут тебя в свой специальный пластмассовый китай; или: не будешь слушаться – родишься лавровым деревом, и все будут бросать твои листья в суп.
Но и это было не самым страшным. Папина мама часто напевала: только крышеснег, и, кроме крышеснега, – никого.… Вот что было самым страшным. Мотя видела себя одну в доме, в сумерках… и вдруг – быстрый маховой промельк, дрожь вторженья, и – появляется крышеснег, одетый в белое, и ступающий мягкими неслышными лапами.
Да! Прошлогоднее унынье! Да! дела зимы иной. Иной, как вы не понимаете? Иной, нездешней, нечеловеческой зимы!
Белый снежный ужас проникал тогда в Мотю, она хватала на кухне самый большой нож и с бешено колотящимся сердцем караулила под дверью тихие неслышные шаги. Но страшных незнакомых шагов не было – просто приходила бабушка и забирала нож.
Зато Мотя любила папу. Папа, наверное, тоже любил Мотю.
– И это так страшно, – сказала как-то Мотя Нюре, – так страшно, когда тебя кто-то любит, ничего от тебя не хочет, а просто любит, а ты не знаешь об этом или, что еще хуже, знаешь, но тебе это не нужно и даже противно, ведь это такой ужас леденящий, такая бездна… И все эти ваши ангелы, трубящие по сравнению с этой бездной – как гипсовые пионеры-горнисты, а геенна огненная – как котельная на улице Ленина.
– Я думаю, что по-настоящему могут любить только мертвые, – ответила Нюра, – например, меня любят мертвые мамонты, которые живут глубоко под землей. Когда долго идет дождь, то в их подземных норках становится очень печально и сыро. И они начинают плакать. А дождевые черви не выдерживают их плача, и выкидываются на поверхность, как киты на берег…
– Да, или вот, как мне Кока Смирнов рассказывал, живешь-живешь, любишь-любишь, и вдруг оказывается, что по-настоящему ты любил только кота Ваську, который умер, когда тебе было шесть лет, да и то все забылось, и не осталось от этой любви ничего, кроме, разве что, когда на игре в порнопсевдонимы ты сказал, что тебя бы звали Василий Ленин, и все ржали.
Кока Смирнов, одноклассник Моти и Нюры, круглолицый мальчик, вечно поправляющий очки, как-то сообщил Моте, что порнозвезды выбирают псевдонимы, используя для имени кличку первого домашнего питомца, а для фамилии – название улицы, на которой прошло детство. Мотя тогда еще подумала, что советские порнопсевдонимы были бы крайне забавными: Муся Куйбышева, Тихон Киров…
4
В декабре Моте и позвонил тот самый Кока Смирнов.
– Здравствуй, Мотя, – важно сказал Кока.
– Здравствуй, Кока, – ответила Мотя, и хихикнула. Она так живо представила толстенького Коку, поправляющего свои круглые очки, и ведь, верно же, прежде чем позвонить, он непременно репетировал минут сорок, потому что был очень стеснительным.
На том конце провода замолчали.
– Ну же, Кока, что ты хотел мне сообщить? Я слушаю, – Мотя улыбалась, и так вся лучилась хорошим настроением, что Кока почти перестал стесняться, и сообщил, что в городской музей приезжает выставка – Детская Янтарная Комната.
Мотя удивилась, а Кока ответил, что да, существует такая, и если знаменитую Янтарную Комнату так и не нашли, то Детскую Янтарную удалось спасти, потому что она же маленькая, и теперь президент Медведев возит ее по стране, чтобы показать детям. Еще обещали привезти Доспех цесаревича Алексея, его же кукольный театр Гиньоль, а следующей зимой – Детский Ледяной дом Анны Иоанновны. Доспех цесаревича Мотя уже видела, когда ездила к тёте в Златоуст, кукольный театр ее не интересовал, а до следующей зимы было далеко, поэтому не слышала, что там говорил Кока, а представила президента Медведева, которого Путин запер в Спасской башне, чтобы он держал руками стрелки курантов, дабы устранить бардак со Съеденным временем, который начался еще во времена СССР, когда шахтеры Кузбасса что-то там колдовали с календарем, чтобы приблизить Новый год. Медведев пытался спасти положение, меняя часовые пояса, но ничего не получилось. Тогда Спасскую башню обшили досками, будто для ремонта, а на самом деле там прикованный цепью к самым главным государственным часам Медведев сжимал стрелки курантов руками так, что из-под ногтей текла кровь. Говорят, когда становилось невмоготу, Медведев танцевал там под песню "Одинокий парень", он смотрел на часы, и напевал:
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
I'm a lonely boy
I'm a lonely boy
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Она потом долго была самой модной на дискотеках, и все танцевали ее, как Медведев, поглядывая на часы....
– Мотя? Ты меня не слушаешь? – обиженно сказал Кока.
– Слушаю, Кокочка. Ты говорил о Детской Янтарной Комнате.
– Да, так вот. Я тут кое-что почитал и понял, что в этой комнате можно найти оч-чень интересную вещь…, – Кока выдержал паузу.
– Какую же?
– Детскую Либерею Ивана Грозного!
– То есть, ты хочешь сказать, что кроме детской янтарной комнаты существует еще и детская библиотека Ивана Грозного?
– Да! Ведь все делалось всегда в двух экземплярах – оригинал и уменьшенная детская копия, чтобы с детства готовить наследников к… в общем, готовить.– Ахха. И что ты предлагаешь?
Кока ответил, что можно спрятаться в музее, и ночью поискать в Янтарной Комнате библиотеку. Особо никакой охраны не было – вечером, в половину пятого придет уборщица тетя Клава, а в пять музей уже будет закрыт, так что у них в распоряжении будет вечер и вся ночь, потому что из музея все равно не выйти. А утром можно улучить момент, пока никто не видит, и прикинуться ранними посетителями. Спрятаться, конечно же, лучше всего в самой Янтарной Комнате. Осталось только придумать причину не ночевать дома, но Кока сказал, что для него это не проблема, потому что у родителей опять это. Мотя знала, о чем говорит Кока – у его родителей было два состояния – запой и хождение в церковь. Правда, между этими двумя состояниями еще был период ремиссии, недели две-три, когда родители Коки были вполне себе родителями, заботливыми и внимательными. Мотя узнала об этом давно, еще в первом классе, когда Кока на уроке, посвященным семейным традициям, смущаясь, сказал, что у них в семье традиция – в хлам. Брови учительницы поползли вверх, и только потом до всех дошло, что картавящий Кока произнес: «в храм», имея в виду семейные походы в церковь, хотя и в своей логопедической оплошности был не так далек от истины. Семья после потери взрослыми постоянной работы жила случайными заработками и пенсией, получаемой на старшего сына-инвалида. В хлам – ремиссия – в храм.
Мотя сказала, что папа опять в командировке, а уйти от присмотра бабушек можно будет, если позвать к себе ночевать Нюру Одинцову, а потом взять ее с собой в музей; Кока знал, что девочки были подругами, и был не против компании Нюры. На том и договорились.
Мотя позвонила Нюре, и сообщила о плане Коки. Обстоятельная Нюра согласилась идти в музей, но спросила, зачем Коке детская Либерея, и почему она должна быть именно в Янтарной Комнате.
– Это же не важно, Нюра! – сказала Мотя, – главное – приключение! А Кока просто любит читать, ты же знаешь.
Вечером все трое собрались в музее. Янтарная Комната сверкающим новогодним ящичком стояла посреди музейного зала. Когда хоровод первоклассников, скакавших вокруг Янтарной Комнаты, как Ганзель и Гретель вокруг пряничного домика, норовивших если не отщипнуть, то хотя бы лизнуть блещущее медом чудо, струйкой вытек в коридор, а директор музея пошла их провожать, троица забралась в тесное янтарное пространство и затихла. Слышно было, как директор заперла сейф, как гремела ведром уборщица, как по радио Газманов пел суру «Мчащиеся»:
В знак Моего знаменья – скакуны,
Что мчатся, и, от бега задыхаясь,
Бьют искрами из-под копыт,
И атакуют на заре,
И пыль взметают в облака,
И в стан врага врываются всей массой…
Проголодавшийся Кока развлекал девочек, жутким шепотом рассказывая про то, как осажденные в 1612 в Москве голодные поляки сварили и съели кожаные фолианты Либереи Грозного, а Янтарную комнату с подачи Вилли Цауга немцы после операции «Возмездие» в Кенигсберге перегнали в сукцинат, соль янтарной кислоты, и сожрали его как тонизирующий препарат. Мотя тоже начала поглядывать на горящие медом стены, и тогда Нюра молча вытащила из своего пакета три пирожка с картошкой.
Когда все стихло, Кока вынул из кармана фонарик, и начал медленно водить его лучом по стенам Комнаты. Комната текла медом, липовым, гречишным, падиевым… и вдруг мелькнула слабая зеленоватая точка. Кока поднес фонарик ближе, и девочки увидели застывшего в куске янтаря червячка, отвечавшего лучу фонаря изумрудным свечением.
– Это Иванов червячок, Lampyris noctiluca, – сказал Кока, – символ книжного червя, несущего свет знаний. Закройте глаза, девочки – все, кто близко подходил к Либерее – теряли зрение.
Девочки послушались, и Кока надавил на кусок янтаря с червячком.
Было слышно только жаркое дыхание Коки, деревянный стук упавшего янтаря и шуршание. «Вот, я не ослеп», – сказал Кока, девочки открыли глаза и увидели, что он держит в руках золотую пластину размером в две ладони, завернутую в кусок пергамента, и две тонкие книжки. В свете фонаря они разглядели, что книги называются «Юности честное зерцало» и «Предсказания иеромонаха Авеля», на пергаменте, в который завернута пластина, что-то написано по-церковнославянски, а на самой пластине были видны иероглифы, похожие на египетские, и тоненькие дырочки, словно простроченные бабушкиным «Зингером».
Когда они выбрались из Янтарной комнаты, Кока сказал разочарованно: «Слабенький результат, я думал, там что-то интересное будет…», взял протянутый Нюрой пирожок и уселся прямо на входе в Комнату.
– А что ты хотел там найти? – спросила Мотя, тоже получившая пирожок, и устроившаяся на чучеле косули, пахнувшем мышами и пылью, – комикс по Книге Дзиан? перевод рукописи Войнича? Это же Детгиз, скажи спасибо, что книга Авеля не набрана большими буквами для четырехлеток, и туда картинок не понапихано. А в «Зерцало» не вшиты грампластинки, как в журнале «Колобок».
– Не знаю, – сказал Кока, – «Книгу излечений», или беседы Джона Ди с духами. «Стеганографию» Тритемия…
– Давайте спать, ребята, – зевнула свернувшаяся калачиком в подвешенной к потолку люльке Нюра, – завтра вставать рано.
– Давайте, – согласилась Мотя, – завтра нас ждут три конкретных сурка: Past, Present и Future.
Утром они подскочили по звонку предусмотрительно заведенного Кокой будильника, наскоро умылись над ведром, утерлись носовыми платками и аккуратно изобразили ранних посетителей, объяснив директору музея, что пишут статью о Янтарной Комнате в школьную газету. Немного побродив по залу для достоверности, они помчались в школу, и все равно, конечно же, опоздали не только на политинформацию, но и к первому уроку.
5
На следующий день Мотя и Нюра сидели во дворе за столом, обитом оцинковкой, и разглядывали золотую пластину, найденную в детской Либерее. Кока затемпературил от пережитого приключения, и отлеживался дома, остальные книги лежали под подушкой у Моти, как в самом надежном месте. Пластина пускала ярких веселых зайчиков на зимнем солнце. Подруги разглядывали иероглифы, выбитые на пластине.
– Что будем делать? Как это перевести…, – Мотя задумчиво водила пальцами по странным маленьким отверстиям, которые, если смотреть на свет, делали пластину похожей на перфокарту. Нюра сидела рядом и вслух перебирала варианты: написать письмо в Академию наук, съездить в областной город и порасспрашивать в музее, или в университете, у историков, еще можно…
– Кто такой Кадмон, Мотя?
Девочки подняли глаза от пластины и увидели Уримку.
– Кто такой Кадмон? – повторил вопрос Уримка.
– Кадмон? Какой Кадмон? – удивилась Мотя. Тогда Уримка рассказал, что Мотя уже полчаса сидит и зачем-то пускает им в окно зайчиков. Все бы ничего, но зайчики образовывают на потолке какой-то текст, в котором они с братом успевают прочесть только слово «Кадмон», потому что Мотя не держит пластину ровно, а сидит и балуется. И пусть она либо перестанет, либо уже сидит ровно, хотя бы минут двадцать. Мотя согласилась, но сказала, что тоже хочет знать перевод текста. Уримка на пару секунд задумался, потом молча кивнул и убежал в дом. Девочки переглянулись. Через несколько минут из форточки квартиры, где жил Уримка вылетел стаканчик от йогурта, с привязанной к его донышку леской. Почти тотчас хлопнула дверь подъезда, и появился Уримка. Он подошел к Моте, повертел ее вместе с пластиной туда-сюда и вопросительно посмотрел в окно, где уже маячила фигурка брата. Тумимка кивнул, тогда Уримка подбежал к болтающемуся на ветру стаканчику, и потянул леску в сторону Моти. Леска натянулась струной, и Уримка сказал в стаканчик: «Даю пробу! бер, ике, оч, дурт…»
– Что он делает? – одними губами спросила Мотя, боявшаяся пошевелиться.
– «Зайдите, я хочу вас видеть». Это телефон, Мотя, – улыбнулась Нюра.
Связь была налажена, и Уримка начал диктовать Нюре текст, который читал и переводил с потолка Тумимка.
Вскоре Мотя держала в руках Нюрину тетрадь с переводом золотой пластины. Слева от текста нарисованные человечки несли на руках скелет огромной рыбы с эмблемой Сбербанка вместо головы. Под человечками полууставом шла надпись: О трех предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвердишься в вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих, и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. /Святитель Николай Сербский/
Буква "в" в слове вера была зачеркнута, и сверху приписано "Сб" – получалось, что не надо рассуждать о Боге, пока не утвердишься в Сбере.
– Что это? – спросила Мотя.
– Это я антикризисный плакат Сбербанку рисовала, – ответила Нюра.
– А скелет рыбы почему?
– Рыба – символ Христа. А скелет – ну я же не виновата, что у них эмблема на скелет похожа.
– Ммм… и что, взяли плакат?
– Обещали к следующему кризису.
"Вере, вере-сбере, werebear… Надо Коке позвонить", – подумала Мотя, захлопнула тетрадь, и потащила Нюру за собой к ближайшей телефонной будке.
– Спасибо, мальчики, – на ходу крикнула Уримке вежливая Нюра, но братья ее уже не слышали – один сматывал «телефон», а другой обдумывал, как приспособить переведенный текст в новые жестяные летописи.
В телефонной будке Мотя сунула в щель для монет двушку на леске, дождалась соединения и сразу закричала в трубку: – Смирнов, ты щас обалдеешь! Мы текст пластины перевели!
– Здравствуй, Мотя, – сказал невозмутимый Кока, – приходите ко мне, я тут валяюсь еще.
И подруги отправились к больному.
Кока лежал в постели, рядом на табурете стояла банка малинового варенья – мама суетилась на кухне, и девочек накормили блинами. Мотя рассказывала, как Уримка и Тумимка переводили, а Кока держал в руках тетрадный листок в косую линию, где каллиграфическим Нюриным почерком был записан текст:
И земля была пуста и безвидна. И он, Иалтабаоф, полупламя и полутьма, сказал властям, которые были с ним: пойдем, создадим среди зла и безумия человека по подобию нашему.
И они создали общими силами по знакам, которые были даны им. Головной мозг его создал Мениггесстроеф, пальцы правой руки его Тренеу, костный мозг его Абенленархей, печень его Сострапал, тестикулы его Эйло, три сердца – Агромаума: сердце разума, сердце силы и сердце красоты. И они сказали: “Назовем же его Адамом Кадмоном, дабы имя его стало для нас силой света”.
И они сказали Иалтабаофу: “Подуй в его лицо от духа твоего, и тело его восстанет”. И он подул в лицо духом своим, который есть сила его и средства. И тогда взревновали остальные силы, ибо Кадмон стал существовать из-за всех них, и мудрость его укрепилась более чем у тех, кто создал его, и более чем у Иалтабаофа. И когда они узнали, что он превосходит их, ибо способен совершенствоваться, и свободен от злодеяния, то создали кристалл, каждая часть которого была связана с частью Адама Кадмона. И, создав этот кристалл, Иалтабаоф разделил его на два неравных куска: Чашу и Камень, женскую и мужскую части Адама Кадмона, превзошедшего своего отца Иалтабаофа. И Адам Кадмон распался на 365 сил, и силы эти собрались снова в Адама и Еву. И Адам, и Ева не имели ни знания, ни силы Адама Кадмона, но могли обрести их снова, только соединившись. И тогда подсказал им Иалтабаоф как соединиться. И вся сила Адама Кадмона стала раздроблена на мириады мириадов сил, ибо люди стали плодиться и размножаться. И сказал Иалтабаоф: Я, я – бог ревнитель, и нет другого бога, кроме меня; и бросил Чашу и Камень в нижнюю часть всего вещества.
– Здорово, – сказал Кока, – «бросил в нижнюю часть всего вещества». Платонов прямо-таки.
– Выздоравливай, Смирнов, – сказала Нюра, – пластину перевели. Теперь вот еще бы пергамент с церковнославянского перевести – там тоже что-то про Кадмона написано.
– Да ерунда, – Кока положил листок с переводом в лежащий на кровати томик «Острова сокровищ», – у меня в Свердловске один знакомый есть, я ему отправлю тупилаком копию, переведет.
– Чем отправишь? – спросила Мотя.
– Ну почтовым тупилаком, дней через десять дойдет, мы же не торопимся?
– Тупилак… это голубь, что ли? – хихикнула Мотя.
– Почему голубь? ты что, с нами на экскурсию в почтовое отделение не ходила? по профориентации?
– Нет, я на олимпиаде по русскому была.
– Ааа… ну, в общем, где-то 4000 лет назад эскимосы придумали тупилаков, северный аналог голема, карающее чудовище, которое шаман изготовлял из частей тел зверей или умерших детей – кости, кожа, волосы, сухожилия и все такое. Скелет делался из костей, тело изо мха, земли и водорослей, а глаза из торфа. Все это в шкуру заворачивалось. Тупилака делали ночью, с помощью несложных заклинаний, только чтобы его оживить, еще надо было совершить с ним сексуальные действия. Слышала поговорку: весь мозг через… гм, ну, в общем… высосать?
– Фууу, – сказала Мотя, – ну фу же!
– Шаманы… – развел руками Кока и продолжил, – Вот, а чтобы тупилак мог плавать, нужно было добавить китовый ус, чтобы был авиатупилак – птичьи кости. Считалось, что тупилак способен принимать форму любого животного, из частей которого сделан, или объединять в себе части нескольких животных сразу. Единственной задачей тупилака было уничтожить врага его создателя, собственной воли тупилак не имел. Но если враг обладал более могущественной магической силой, чем изготовитель тупилака, то тупилак мог быть отправлен обратно, чтобы убить своего создателя вместо его жертвы. В этом случае уйти от этого северного бумеранга он мог лишь одним способом: публично признаться в содеянном.
– Ну хорошо, а почта тут при чем?
– Страна у нас очень большая. Дороги плохие, зимы длинные. Сколько лошадей, людей задействовать надо было… А наши когда до Чукотки добрались, про тупилаков узнали, то как-то сразу решили их использовать. Сажаешь мощного шамана в губернском почтамте, а помельче рангом – в уездных. Почта накопилась – уездный шаман делает тупилака, грузит его почтой, и отправляет в губернию с заданием убить тамошнего почтового шамана. Губернский шаман, как более сильный, отправляет тупилака обратно, попутно тоже нагружая его почтой, а уездный прилюдно сознается в создании тупилака. То есть, все живы, и почта доставлена. Сплошная экономия, ни лошадей кормить, ни людям жалованье платить. Отсутствие дорог и климатические аномалии тупилаку пофиг – он же неживой. А после революции, в Гражданскую, их еще и для хранения ценностей использовали.
– Это как?
– Нууу, Мотя, – протянула молчавшая до того Нюра, – ты будто не в России живешь. Это даже я знаю:
Мой черный карлик целовал мне ножки,
Он был всегда так ловок и так мил!..
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил.
– Точно, – сказал Кока, – тупилаку вручался ящик с ценностями, и его отправляли куда-нибудь, так они и курсировали туда-сюда. Все их трогать боялись, жуткие существа все же. А потом их ЧОНовцы перестреляли – деньги для индустриализации нужны были.
– Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос…
Вотще ему я целовала ноги -
И сам ушел, и сундучок унес!
– снова продекламировала Нюра.
– Ага, а потом снова про них вспомнили, сейчас опять на почте используют. Удобно же. Одно время их еще в плановых и сквозных караулах применяли, зэков перевозить, но после Усть-Усинского восстания перестали, – Кока добавил себе в чай варенья, – а почта в России – магическая организация.
– Бедненький, – пожалела Мотя тупилака, – ему же как раз в праздники достанется идти, Новый год скоро.
– Ничего, я ему киндер-сюрприз подарю, когда вернется, – сказала Нюра, – Татке в детсаду целую кучу шоколадных заготовок дали для уроков творчества, они всей группой эти яйца лепили, детям Африки отправлять. Сделаем ему яйцо, туда положим дужку куриную и… да хотя бы нори. Хочешь – игрушечного тупилака себе делай, утенка для ванны, хочешь – в «беру и помню» с другими тупилаками играй.
– Точно! – обрадовалась Мотя, – а я фольги красивой принесу, разноцветной.
На том и расстались.
6
Через пару недель, почти сразу после Нового года, Кока созвал к себе девочек на совет – по телефону было слышно, как он растерян.
– Call all girls, – сказала вместо приветствия Нюра.
– Ты собрал нас, чтобы сообщить пренеприятное известие? – сказала Мотя, раздеваясь, – к нам едет тупилак?
– Проходите, девочки, – сказал Кока, – тупилака не будет.
– Как?
– Почему?
– Знакомый мой запил, Новый год, десятидневная синяя яма. Позвонил вчера, извинялся, говорит, не помнит, отправил тупилака, или нет. И пергамента нету – то ли отправил, то ли потерял – тоже не помнит.
– Вот тебе раз…
– А еще ученый!
– Да он не такой и ученый, – сказал Кока, – так, студент-лингвист. Но текст с пергамента он перевел. Вернее, думает, что перевел – там не просто текст оказался, а тайнопись. Шифровка. Он по разным ученым бегал, консультировался, вот они и наконсультировались вместе, до розовых тупилаков.
– Ну, и что он перевел? – девочки поснимали шубки и расселись на кровати Коки. Щеки у обеих горели с мороза.
Кока закрыл дверь в комнату, расставил перед ними на табуретке заварочник, чашки, тарелку с воздушной казахстанской халвой и рассказал, что в тексте кто-то, возможно, сам Иван Грозный, обращаясь к своему сыну, говорит о том, что, изучая каббалистические книги, пришел к выводу, будто материк Евразия является телом первочеловека Адама Кадмона. И, если Евразия станет одним государством, то сможет оживить Адама Кадмона, запустить три его сердца, которые находятся тоже в Евразии. И тогда наступит мир и благоденствие, и агнец возляжет со львом.
– Тут он что-то путает, – сказала Нюра, аккуратно отрезая кусочек халвы, – чего бы ягненку со львом ложиться?
– Ну так-то да, – покивала Мотя, – может, он имел в виду, пастись будут вместе?
– Ага, – сказал Кока, – но это не важно. Важно, что пишущий полагает, будто возродить Кадмона может только Россия. Возможно, это и был Грозный, при нем и Сибирь присоединили, и Ливонскую войну он начал… Земли собирал. И дальше мы только и собирали, не отдавали почти ничего. А еще текст сообщает, что делать работу по воскрешению Кадмона лучше зимой – но это, наверное, еще от монголов осталось, дорог нормальных в России нет, а зимой можно по замерзшим рекам передвигаться. Вот тут, кстати, студент говорит, что нечетко понял смысл текста: там говорится о трудностях пути и зиме. Но говорится так иносказательно, что непонятно, то ли действительно о замерзших реках, то ли о том, что работу по воскрешению должен делать мертвый человек.
– Сыну, значит, писал, – сказала вдруг Нюра, – а когда он его убил?
– Кто кого убил? – спросила Мотя и тут же скривилась, – ммм… щеку прикусила…
– Ты про Грозного? – спросил Кока, – В 1581 году, в ноябре. Пятнадцатого числа.
– Ну, вот тебе и мертвый, и зима.
– Точно! – сказала Мотя, забывшая про щеку, – Ой, как интересно… А про сердца что-нибудь написано?
– Про сердца – нет. Хотя, возможно, он не понял. Или забыл. В любом случае, пергамент уже утерян, мы ничего не узнаем, – печально развел руками Кока.
– Слушайте! – Мотя вскочила, и забегала по комнате, размахивая рукой, в которой все еще держала кусочек халвы, – а давайте в Москву съездим, пока каникулы? В библиотеку имени Ленина, что-нибудь про сердца найдем. А? Поехали? Представьте, узнаем о сердцах, а территория у нас и так уже о-го-го! И запустим Кадмона, заведем его, как пламенный мотор, и все-все будет вокруг хорошо, и счастье для всех, и никто не уйдет обиженным… Поехали, а?
Кока и Нюра завороженно смотрели на бегающую по комнате подругу.
Глава 2. Москва
7
Итак, пионеры решили не откладывать все в долгий ящик, и, воспользовавшись зимними каникулами, ехать в Москву, в библиотеку имени Ленина – узнать поподробнее о сердцах Кадмона, которые создал Агромаума. Ехать предстояло Коке и Моте, как более свободным, а Нюра оставалась «держать тыл».
На перроне Нюра поправила Коке шарф, сунула в руки Моте пакет с едой, еще раз проинструктировала друзей, как себя вести в поезде, что есть первым, чтобы не пропало, а что можно подержать подольше, сказала, чтобы обязательно позвонили, как доберутся, потом зашла в вагон, осмотрелась, любезно уступила Мотину нижнюю полку молодой маме с ребенком, похлопала Коку по спине, чмокнула в щеку Мотю, и ушла, подняв в прощальном приветствии кулачок – no pasaran.
Голос железной женщины в морозном вечернем воздухе сообщил об отправлении поезда, и посоветовал гражданам провожающим проверить, не остались ли у них билеты отъезжающих. Через минуту перрон медленно потек вдоль окон поезда, оставляя у себя тоненькую Нюрину фигурку. Ехать предстояло недолго – чуть больше суток и чуть меньше двух. Мотя и Кока поужинали жареной курицей, которая нашлась в Нюрином пакете, и болгарскими перцами в качестве салата, выпили чаю с железнодорожным сахаром, да и завалились спать. Кока сунул в настенную сеточку для вещей свой вечный томик «Острова сокровищ», туда же положил очки, свернулся калачиком – и уснул. Мотя повернулась на живот, разглядывая в окно проплывающие мимо огни, раздумывая, как хорошо засыпать под мерное покачивание и постукивание, и как хорошо, что полка верхняя, и запах креозота, и как она все это любит, поперебирала, как книги на развале, странные и забавные мысли, возникающие на грани сна и яви, и тоже, заснула.
Проснулись друзья к обеду. Доели курицу, выпили чаю с имбирем и вкуснющим кексом, испеченным Нюрой, познакомились с попутчиками – молодой мамой и ее сыном Нурсултаном, гудевшим как двигатель пластмассового танка, которым он путешествовал по столику, по обеим нижним полкам, по маминой «Анжелике – маркизе ангелов», по собственной голове – гудение танка, похожего на гибрид Чужого и Хищника иногда прекращалось, и тогда юный танкист пел песню собственного сочинения «Военная война начинайся!», поиграли в карты с солдатиком с верхней боковой – на его рыжей шинели красовались черные погоны и желтая буква Ф, полистали принесенные глухонемым календари и гороскопы, снова выпили чаю, да и забрались обратно на свои полки – Кока задремал за томиком «Острова», а Мотя занялась разглядыванием в узорах ламината багажной полки знаков руницы. «Кто Mannaz и Tiwaz не найдет – тот Ленина убьет», – бормотала она неслышно. М и Т нашлись почти сразу, увеличились, замерцали, закрутились – и Мотя провалилась в сон.
На ужин у них были яйца вкрутую и помидоры, ветчину, запаянную в вакуумную упаковку, по совету Нюры решили оставить на утро перед прибытием, чтобы выйти в Москву сытыми и полными сил, потому что неизвестно, когда и где доведется поесть.
Ночью Моте снились Твидлдум и Твидлди, оба почему-то с азиатскими медальными лицами и реденькими китайскими бородками, оба курили трубки и пели:
Rosencrantz and Guildenstern
Agreed to have a battle;
For Rosencrantz said Guildenstern
Had spoiled his nice new rattle
Сама же Мотя будто бы лежала в колыбели, которую близнецы тихонько покачивали. Иногда она качали слишком сильно, и тогда Мотя просыпалась, слушала, как женщина с нижней боковой рассказывала кому-то невидимому про своего сына Овира, который умер от менингита в четыре года, и снова засыпала.
Утром Мотя и Кока позавтракали остатками Нюриных припасов, выпили чаю, сдали проводнице белье, и уселись ждать прибытия в столицу.
8
Утренняя Москва встретила их суматохой Казанского вокзала, двуглавыми орлами, сжимающими в лапах рубиновые звезды, и желтым баннером над входом в метро «Комсомольская»: Всякий раз иди прямо, или вместо тебя под лучи Солнца выйдет то, что не должно ступать по земле.
Они доехали до станции «Библиотека имени Ленина», и вышли к своей цели. Потратив какое-то время на оформление читательских билетов, друзья окунулись в поиски с головой: Мотя искала любую литературу об Адаме Кадмоне, Кока шерстил географические справочники.
К вечеру, уставшие и голодные, они уныло сидели за столом с зеленой лампой. В зале больше никого не было, кроме взлохмаченного усатого старичка, строчившего что-то в ученической тетрадке. Урна рядом со старичком была забита скомканными листами – старичок исписывал лист, качал головой, выдирал его из тетради, и бросал в урну. Комкая лист, и начиная новый, старичок приборматывал что-то вроде:
Ехали казаки из Дону до дому,
Подманули Галю – забрали с собою…
Везли, везли Галю темными лесами,
Привязали Галю до сосны косами…
– Нашел что-нибудь? – спросила Мотя.
– Ну, так. Собирание тела Кадмона началось при Грозном, как и было написано в пергаменте, – сказал Кока, – с покупки у Литвы Себежа, сейчас Себежский район Псковской области. И даже Федор Иоаннович, хотя и Блаженный, не забывал о Деле, тоже присоединял, только держись. Взял Югру, будущий Красноярск, Свердловск с Курганом, и Кемерово с Томском. А вот Аляску, Форт-Росс и Елизаветинскую крепость потому так легко и отдали, что это не Евразия – тело Кадмона, как мы помним, только этот материк и есть. Большевики, которые были еще большими мистиками, тоже идеей прониклись и решили соединить Адама Кадмона с советским Адамом Ришоном, воплощением которого был терафим вождя, до времени хранящийся в Мавзолее, в плане являющимся женской маткой. И присоединили кучу азиатских территорий, а там что ни название – то анатомия: алкым – горло, глотка – предгорье; аяк – нога – устье реки; кабырга – ребро – склон горы. Поэтому и Джа-ламу убили, чью голову до сих пор в Кунсткамере держат, чтобы снова не родился – а не заигрывайся!
Дальше, смотри – одна из вершин Сихотэ-Алиня носит название Голова. Еще, тюркские названия Баш-Алатау, Баштау, Башташ, где баш – «голова», на берегу Селенги гора Тологой – «каменная голова».
– Голов-то ему столько зачем? – рассеянно спросила Мотя, – Нам сердца нужны, а не головы.
Старичок швырнул в урну очередной лист.
– Ну, мало ли, может, головки костей каких-нибудь, я не знаю. Caput femoris, caput humeri. И потом, может быть, он исполненный очей, а для очей нужна голова. Дальше смотри – дальневосточный мыс Лопатка, отсюда же метафора об Орджоникидзе/Владикавказе, как о мочевом пузыре СССР, отсюда же – фраза «от мертвого осла уши, а не Пыталовский район». Согласись, странно держаться за никчемный кусочек суши, и в то же время отдать Норвегии огромную территорию в Баренцевом море, да еще с 2 миллиардами баррелей углеводородов – это объясняется тем, что только суша является составной частью тела Адама Кадмона. Но о сердцах ничего не нашел.
– Похоже, нам здесь не одну неделю сидеть придется, – печально сказала Мотя, устало потягиваясь. Она заглянула через плечо старичка, и прочла:
Члену Донского войскового правительства Павлу Агееву
Открытое письмо
Если бы все человечество, за исключением одного лица, придерживалось одного определенного убеждения, а это одно лицо – противоположного, то человечество было бы настолько же не право, если бы заставило замолчать этого одного человека, как был бы не прав этот один человек, если бы, имея на то власть, заставил бы замолчать человечество.
Имеете ли Вы и все войсковое правительство право утверждать, что вы правы с точки зрения Джона Стюарта Милля?
Старичок проследил за взглядом Моти, снова выдрал лист из тетради, и швырнул его в урну: – Письмо вот пишу, с декабря семнадцатого. Никак написать не могу.
– Ой, извините, – смутилась Мотя, – я нечаянно подсмотрела, не специально.
– С декабря семнадцатого? Это же…, – Кока прикрыл глаза, и начал крутиться вокруг своей оси, шевеля губами – Мотя знала, что Кока так считает, у него были свои, особенные отношения с числами.
– Долго, внучек, долго, – закивал старичок, – и все никак не успеваю. Они меня раньше расстреливают.
– Расстреливают? – Мотя удивленно разглядывала странного собеседника, – а вы кто?
– Миронов, Филипп Кузьмич, комконарм-два. Командующий Второй конной армией.
– Аа… расстреливают?
– Точно! – радостно закивал старичок, – расстреливают, шельмы. Каждый год, с Рождества, сажусь им письмо писать, пишу до апреля, все никак не успеваю. А в апреле, стало быть, расстреливают. Да вы не обращайте внимания, тут все привыкли уже. А вы, я смотрю, тоже чем-то озаботились? Расскажите дедушке, а то у меня от писанины уже пальцы сводит, туннельный синдром.
Мотя и Кока рассказали о Либерее, о золотой пластине и пергаменте, о своих неудачных поисках.
– Ага-ага, – покивал командарм, – так зря вы тут ищете. Это вам в секретную Ленинку надо. Я предметом не особо владею, но знаю, что есть там книга о крови – вы ее сразу увидите, не ошибетесь. А когда поймете, что такое кровь, то и о сердцах все станет ясно.
– А как попасть в секретную Ленинку? – спросил Кока.
– Она в метро-2 находится, тоже секретном. Туда пропуск надо. Вход братство магнуситов охраняет. Где пропуск взять – не знаю, – Миронов печально пожал плечами, – но ведь нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, верно?
– Ну это да, это конечно, – сказала Мотя. – Спасибо за информацию.
– Да не за что, ребята, приходите, обращайтесь, если что, я всегда тут сижу. До апреля, по крайней мере.
– И долго вам еще так? ну, писать? – спросил Кока.
– Думаю, до второго Пришествия. Ленина, я имею в виду.
Кока представил себе гигантского Адама Кадмона в виде Евразии с лицом И., и засомневался, правильно ли они делают, что ищут его сердца.
– Ну, до свидания, – Мотя пожала старичку руку, – мы пойдем, пожалуй. Будем метро-2 искать и этих, как их, магнуситов.
Ребята вышли из библиотеки.
– Надо бы перекусить. И где-то переночевать, а утром разберемся, что и как, – сказала Мотя, застегивая шубейку, – какие есть предложения?
– Я думаю, Дом колхозника, дешево и сердито. У меня туда бумага специальная есть, – ответил Кока, разворачивая схему метро, – станция метро «Аэропорт», тут недалеко. А перекусим где-нибудь в пельмешке.
– Идёт, – улыбнулась Мотя.
Они снова спустились в метро, доехали до нужной станции, и быстро нашли пельменную.
Мотя заняла столик, Кока принес тарелки с пельменями и компот. Мотя, смущаясь, взяла еще два тоненьких кусочка серого хлеба: – Есть хочется – жуть…
– Я, знаешь, совсем в детстве, – вдруг проговорил Кока, возя наколотый на вилку пельмень по сметане, – часто один дома оставался, мест в детсаде не хватало, а родителям работать надо было, и бабушки далеко, в другом городе, да им и не до меня как-то, они тогда с братом возились, еще пытались его вылечить. Я читать рано научился, в четыре года, родители мне вываливали на диван подписки журналов, они много выписывали – «Техника – молодежи», «Наука и жизнь», «Человек и закон», «Здоровье», «Работница», и на работу уходили. А я сидел, читал это всё, антология таинственных случаев, человек-луч…. Иногда засыпал в стиральной машинке, знаешь, старая такая, кусок нержавеющей трубы с мотором, у нее дно еще скошенное было, а на боку таймер, поворачиваешь – он тикает… Это мое любимое место было – стиралка. Бросишь туда какое-нибудь одеяло, чтобы не холодно, свернешься, и дремлешь, как притихший северный город.
– Как космонавт, – сказала Мотя.
– Точно. А ведь вся советская космонавтика оттуда и выросла, из этих стиралок – залезть в крошечный железный закуток, и свалить к звездам, и чтобы ни одна падла… И фильм для меня всегда новогодний не эта дурацкая «Ирония» был, а «Иван Васильевич». Там человек машину времени делает, а не шатается пьяным по чужим квартирам. А если и выпивает – то с царем. Ядерный удар до горизонта, Низу Крит спасли, а главных медуз поймали, и в Москву. Только от машины времени мы потом к иронии и съехали, не получилось у нас.
– Ты до сих пор там и живешь, в стиралке, – вдруг подумала Мотя вслух.
– Да, наверно, – согласился Кока, – мне там уютно. А потом мне родители няню нашли, бабу Тасю, она на окраине жила, гусей держала. Мы с ней гусей этих пасли, мне нравилось. Подойдут к тебе, что-то объясняют на своем, птичьем, иногда за шнурки на кедах треплют – мол, не стой истуканом, обрати на нас внимание. А когда самолет вдруг услышат – замолкают, голову так выворачивают, и смотрят в небо одним глазом, забавные…
Кока замолчал и задумался о чем-то своем.
– А я в детстве над песней про розового слона плакала, помнишь такую? Так мне слона жалко было. А потом Нюра мне рассказала, что мамонты не вымерли вовсе, а мимикрировали в людей, чтобы выжить. Они же такие затейники, эти мамонты. В мамонта может старая собака, заяц, лось или щука превратиться, так вогулы говорят. И вот они, представь, ходят среди нас, узнают друг друга по каким-то тайным знакам, плачут над телом мамонтенка Любы, а иногда собираются вместе и поют «Вихри враждебные» … и когда-нибудь они вернутся. Здорово, да? Ладно, Кока, ты ешь, не отвлекайся. Слушай, а про какую бумагу ты говорил, для гостиницы?
– В Москве сейчас слет юннатский проходит. Вот я и оформил меня и тебя, как делегатов, иначе кто нас без взрослых в гостиницу пустит?
– Уууу, ты умный! Я об этом даже как-то не задумалась. Ну что, пойдем? Спать хочется…
Они отнесли подносы с посудой на мойку и отправились оформляться в гостиницу. В белом, с колоннами и портиками здании, украшенном густой лепниной, изображавшей грозди винограда, снопы ржи и конопли, Кока протянул сонной дежурной свидетельства о рождении и бумагу с печатью, где сообщалось, что Н. Смирнов и М. Белецкая являются делегатами юннатского слета по проблемам яровизации посевных культур Урала, Сибири и Крайнего Севера.
– От группы отстали, что ль? – спросила дежурная, – ну идите, ваши спят уже. Юноша в седьмой, а девушка в пятый.
Пожелав друг другу спокойной ночи, Мотя и Кока разошлись по номерам, договорившись встретиться в вестибюле в 9 утра.
9
– Как спалось? – приветствовала Мотя Коку, который уже дожидался в оговоренном месте, протирая платком очки.
– Нормально, – ответил Кока, – у меня шестиместный номер был. Кто-то храпел, но я устал, и сразу уснул.
– А у меня четырехместный. Одна девочка из Сибири страшилки рассказывала, про красную смерть. Красная подушка, красные шторы, еще что-то красное, скатерть, кажется…
– Секта бегунов? – спросил Кока.
– Ага. У нее родители из этой секты были, потом перековались.
– А ты чего? – хитро прищурился Кока.
– А я им про скелет Котошихина рассказала. Пока они переваривали, я и уснула, – улыбнулась Мотя.
– Ну что, какие планы на сегодня?
– Идем магнуситов искать. Вот только где их искать – не знаю. Что-нибудь придумаем?
– Придумаем, – сказал Кока.
Весь день они бродили по заснеженной Москве, иногда спускаясь погреться в метро, но так ничего и не нашли. Встречные прохожие шарахались от них, только заслышав слово «магнусит» или делали вид, что не понимают, о чем речь.
Мотя и Кока уже отчаялись, но к вечеру им вдруг повезло: Guten Tag, Jugendliche, – послышался сзади знакомый надтреснутый голос.
Мотя и Кока обернулись – перед ними стоял бывший ювелир Тиц, а за его спиной маячили два молодца в васильковых галифе, лиц которых было совершенно не разглядеть то ли от того, что за спиной у них было солнце, то ли потому, что от их голов исходило сияние – глаза у Моти сразу начинали слезиться, и она видела только силуэты, отчего Тиц, с его седыми буклями и внешностью Дроссельмейера из детской книжки, в компании с молодцами смотрелся совсем инфернально – не то судейский советник, выгуливающий своих големов-щелкунчиков, на лбу которых написано «не прикасайтесь к помазанным Моим», не то выживший и постаревший Каспар Хаузер в сопровождении охраны.
– Здравствуйте, дядя Вилли! – обрадовалась Мотя, – так вы теперь здесь, в Москве? у доктора Календарова?
– Григорий Семенович арестован, – сказал Тиц, – я теперь в Казахстане, сюда в командировку приехал. А вы? на экскурсии?
– Нет, – ответила Мотя, – дела у нас здесь.
И рассказала о детской Либерее, золотой пластине и пергаменте.
– Ага, – покивал Тиц, – ну пойдемте, присядем где-нибудь.
Он приглашающе протянул ладони вперед, указывая на кафе с вывеской «Отан».
В кафе было малолюдно, на небольшой сцене мужчина в даопао хриплым голосом читал стихи:
На глазах у детей
Съели коня
Злые татары
В шапках киргизских…
Ювелир и ребята расположились за столиком у окна, големы Тица – за соседним. Официант принес карту чаев, и Тиц заказал Japanese Sencha spider legs, на коробке которого была нарисована Людмила Сенчина в костюме спайдермена. Гайвань с чаем и маленькие пиалы принесли почти мгновенно, к чаю же подали удивительно вкусные казахстанские конфеты-трюфели в обертке цвета нацфлага, каждая конфета, как граната, была снабжена пластиковой чекой, пока не сорвешь – до конфеты не доберешься, и засахаренный имбирь.
Ювелир рассказал, что занимался в секретной лаборатории созданием деревянного магнита, но Календарова арестовали по обвинению в участии в антисоветской организации, и тогда работы по магниту передали в ведение Тимирязева.
– А когда Климент Аркадьевич стал борщевым телом, работы свернули, я остался не у дел, хотел уже домой возвращаться, – рассказывал Тиц.
– Каким-каким телом стал Тимирязев? – переспросила удивленная Мотя.
– Ах, да, вы же научный коммунизм не проходите, – замахал руками ювелир, – на втором съезде РСДРП, в 1903 году, партия раскололась на желтошапочных и красношапочных, или меньшевиков и большевиков.
– Ну, это мы знаем, – сказал Кока.
– Да-да, – продолжил Тиц, – лидер меньшевиков Мартов утверждал, что цель истинного социал-демократа – реализоваться в джалу, Тело Света, или, как его еще называют, радужное тело. А Ленин говорил, что настоящий эсдэк может реализоваться в любое тело, хоть в безоболочно-осколочное, хоть в говно собачье – простите, цитирую. Тогда и произошел раскол. Меньшевики, большая часть которых была из Бунда, постепенно отошли от дел и организовали на Дальнем Востоке Еврейскую автономную область, на флаге которой изображена радуга. А большевики, как менее щепетильные и более радикальные – победили. А Тимирязев стал телом борща. Да вы на памятнике ему сами можете прочитать – борщу и мыслителю. Вот так.
– Интересно. Так вы сейчас чем занимаетесь?
– Я со скуки сначала опять в ювелирку ударился, делал конструкции из напряженного золота. Кто-то мои изделия увидел, и мне предложили работу в космическом ведомстве, в казахстанском Степлаге. Там сейчас строится огромный космический дом, очень высокий – решено иметь свое постоянное советское космическое представительство, чтобы в космосе непрерывно находился наш человек, а то мало ли чего буржуи удумают. Социализм – это учёт и контроль.
– Но ведь… но ведь он должен быть ОЧЕНЬ высоким, этот дом? – сказала Мотя.
– Да, конечно! Сейчас дошли до высоты около 20 километров, преодолели линию Армстронга, – гордо сказал Тиц, – взяли разработки Татлина, Меркурова, мои идеи, строим. В следующую пятилетку планируем выйти к тройной точке воды. Проект называется «Объект Вайсс», в честь чешского товарища Яна Вайсса. На первом этаже – лаборатория Майрановского, Григория Моисеевича. Удивительный человек! Лечит всех сверхмалыми дозами иприта и заодно охраняет вход в здание. Отравляющий газ К-2 изобрел, от которого человек уменьшается и умирает через 15 минут. Да и вообще в Степлаге удивительные люди сидят! Чижевский, например, Александр Леонидович – хоть и враг, но какой мощный человечище!
– Здорово! – воскликнула Мотя, – и что, там живет уже кто-то? Ну, наверху?
– Была одна женщина-космонавт, – Тиц печально помакал кусочек имбиря в чай, – Людмила. Погибла. До десятого этажа на лифте, дальше пешком. Несколько дней шла. Передавала постоянно по рации перед самой гибелью: «мне жарко, мне жарко» – думали, это от мандрагоры, у нее такой эффект бывает. Мандрагору космонавтам дают, чтобы не страшно было, потому что она понятие о расстоянии полностью разрушает. А потом оказалось, что у нее проводка в скафандре замкнула. Перед смертью пыталась стекло в шлеме о перила разбить. Страшная смерть…
Помолчали. На сцене девушка в ципао пела «а молодо-ва дайнагона несли с пробитой головой…»
– А в командировку зачем? – Мотя понизила голос, – новые разработки? секретные?
– Да нет… – Тиц замялся, – видишь ли, сейчас в Степлаге Кенгирское восстание. И верховными товарищами решено заменить осужденных кем-нибудь другим. Я приехал в Ленинку, мне нужны книги по криптозоологии, у нас в лагере сидит Мария-Жанна Кофман, согласилась помочь в обмен на расконвоирование. Она крупный криптозоолог. В Ивдельлаге эксперимент по замене прошел удачно, теперь там марганец вместо людей менквы добывают, правда, пришлось девять человек, студентов Уральского политеха, в жертву принести. Но ведь это светлая жертва, ради могущества Родины.
– Ну, да, конечно, – закивала Мотя, – а вы случайно не можете нам помочь в секретную Ленинку попасть, нам тоже вот книги нужны? Для Родины.
– Смело входим в грядущее,
Хоть дорога нелегка,
Все в нашей власти для счастья,
Для счастья на века! – пропел Тиц модную песенку, поднимаясь из-за стола, – конечно, помогу! Пойдемте!
Они вышли из кафе и отправились в сторону Красной площади. По дороге Тиц достал из кармана пластиковый пропуск и назвал код для замка.
– Это пропуск в метро-2, или Д-6, как его еще называют. Пропуск действителен до конца месяца, пользуйтесь. Передавай привет всем во дворе, – сказал Моте бывший ювелир, – а теперь до свидания, мне пора.
Тиц пожал руки пионерам и кивнул одному из своих големов – тот аккуратно приподнял и переставил Мотю на пару шагов в сторону, расчистил ногой снег, достал откуда-то нечто похожее на ломик, и поддел им заледеневший канализационный люк, на котором, оказывается, только что стояла Мотя.
– Вам туда, – улыбнулся Тиц, приложил два пальца к каракулевой шапке-«пирожку», развернулся на каблуках, и ушел. Големы отправились следом.
Из люка парило и пахло сыростью, Мотя и Кока спустились по ржавой лестнице, и оказались в грязном сумеречном помещении со сточной канавой вместо пола и дверью в стене. «Там солнце улыбалось бетону, кирпичу, и Лазарь Каганович нас хлопал по плечу», – пропел Кока.
10
На обитой нержавейкой двери был обычный электрозамок, Мотя набрала 25.11.38, и ребята вошли в помещение с низким сводчатым потолком, ярко освещенное помаргивающими люминесцентными лампами. Комнату перегораживал турникет и стеклянная с окошечком стена, за которой сидел читающий газету человек в монашеском балахоне крапового цвета, перепоясанном толстой васильковой веревкой. На стекле был нарисован глаз в треугольнике, под которым шла надпись: Magnus frater spectat te, и ниже, шрифтом помельче – Московское отделение Братства магнуситов, ЦАО.
Мотя поздоровалась и протянула в окошечко пропуск, который дал ей Тиц. Дежурный магнусит пропуск молча взял, крутанул рычажок полевого телефона ТА-57 и сказал в трубку: два-двенадцать. Положил трубку в гнездо, буркнул Моте: «Ждите», и снова уткнулся в газету.
Пока ждали, Мотя разглядывала комнату. Хотя, разглядывать там особо было нечего – видавший виды стол-тумба с телефонным аппаратом, в углу столик с электрическим чайником и стопкой сканвордов. Над ним – календарь-бегунок с пальмами. Под календарем – привинченный к стене вертикальный ящик со стоящим в нем АКМСУ.
Скучно.
Разве что странный портрет на стене, изображавший человека в форме генерального комиссара ГБ, но с лошадиной головой.
– А что это у вас за лошадка, брат дежурный? – поинтересовалась Мотя у магнусита.
– Это не лошадка, – заученно ответил дежурный, – а Николай Иванович Ежов, нарком внутренних дел и водного транспорта, изображенный в образе докшита, защитника ленинского учения, единственно верного и потому непобедимого, понятно вам? Докшит – это гневный палач переводится, понятно вам? А лошадиная голова – потому что в образе Хаягривы, докшита и покровителя транспорта, понятно вам? Если у Родины не будет докшитов, то это будет не Родина, а бардак № 34, понятно вам? Хаягриве отрубили голову, и приставили лошадиную. А Николаю Ивановичу не приставили. Но он вечно живой и вечно с нами, понятно вам? Пион-неры юные…
Брат дежурный нервно поправил висящий на поясе штык-нож.
– Да, спасибо, – ответила пораженная Мотя, и на всякий случай отошла от окошечка подальше, срифмовав про себя: «Ник Иванович Ежов с утра ходит безголов…»
Вскоре появился брат начальник караула, он был препоясан двумя васильковыми веревками, проверил пропуск, и разрешил дежурному пропустить Мотю и Коку. Ребята прошли комнату дежурного, и снова оказались перед закрытым турникетом. Мотя растерянно посмотрела на Коку и тот, покопавшись в кармане, бросил пару монет в щель висящего рядом с турникетом стального ящика с надписью: «На содержание братства». Турникет открылся и пропустил ребят к эскалатору.
– Вот странно, – сказал Кока, – почему в обычном метро турникет открыт, и закрывается, только если ты проходишь, не бросив жетон? А здесь, в секретном метро, наоборот.
– Наверно, потому что турникеты там – докшиты. Решил обмануть государство – получи.
Они спустились на эскалаторе вниз.
– Здесь все серое. И пластмассовое… – сказала Мотя, осматриваясь.
– Мы же в Д-6, это секретное метро. А серое – специально, как во Внутренней Северо-северной Корее.
– Враки, небось. Ты там был, что ли?
– Мне папа рассказывал, а ему – его папа, мой дедушка. Там тоже все серое и пластмассовое, даже пальмы, только на искусственных окнах маслом подсолнухи вангоговские нарисованы, чтобы не видно было, что за окном вообще ничего нет. И свет люминесцентный. И всего две комнаты: актовый зал и комната отдыха. В комнате отдыха стоит резиновый Майти Маус в человеческий рост, и на подиуме дети-роботы играют на аккордеонах песни группы A-ha. А в актовом зале четырехметровая статуя товарища Кима, вырезанная из цельного рисового зерна. Это гигантское зерно им китайцы из сои 10 лет выращивали. И всё.
– А серое почему?
– Это символ того, что человеку после наступления коммунизма ничего не нужно будет, вообще. Низменные страсти отомрут, а все высокие цели мы достигнем. И наступит вечное Ничего и вечное Теперь.
– А дедушка туда как попал?
– Он секретный инженер-метростроевец был, метро-2 строил, и корейцы его пригласили. А потом отпускать не хотели, даже в тюрьму посадили.
– Во Внутренней Корее? Ты же говорил, что там только две комнаты – и всё.
– Ну, тюрьма-то по умолчанию. Это же, как туалет и забор на стройке, еще ничего не построено, а забор и туалет – есть. В тюрьме две камеры, в одной дедушка сидел, а в другой Хлопчатобумажная Маска.
– Кто-о?
– Про Железную Маску слышала? Вот и у корейцев так же, только с железом тогда тяжело было, ему из х/б маску сделали. Это какой-то секретный физик. Его кормят рисовой кашей с бромом, он у дедушки мыла просил, маску постирать, потому что дырка возле рта заскорузла уже от каши, и губы царапала. Стирать ее надо не снимая, а охранники ему только хозяйственное мыло давали, от него во рту потом неприятный привкус и дедушка ему клубничное подарил. А потом Кеннета Пэ привезли, и дедушку отпустили, потому что камер больше не было, а Пэ важнее, чем дедушка. Он, когда домой вернулся, рис вообще видеть не мог, а от меня все краски и карандаши попрятали, чтобы я рисовать не просил, потому что дедушку от любого слова, где есть рис, сразу рвало – рисунок, риск… Мама говорила, что его рисом пытали, наверно.
Подошел поезд. Мотя и Кока вошли в пустой вагон, сели. Двери закрылись, и поезд мягко тронулся.
– Зато у них, в Корее, интернет не такой зверь, как у нас, – продолжил разговор Кока.