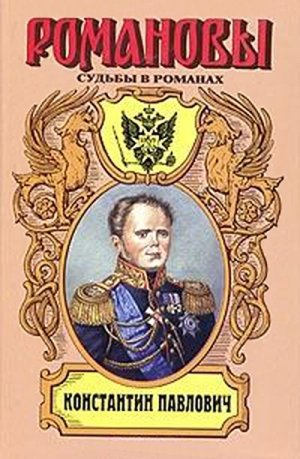
Энциклопедический словарь
Изд. Брокгауза и Ефрона
т. XXXI, С-Пб., 1892.
В царствование Павла Константин участвовал в Итальянском походе Суворова. При Александре I он принимал участие в войнах против Наполеона, и при Аустерлице, равно как и в кампании 1812-1813 гг., командовал гвардией. Со времени аустерлицкого поражения Константин принадлежал, однако, к сторонникам мира с Наполеоном или к так называемой французской партии. В начале кампании 1812 г. он находился при армии, но затем был отослан Барклаем де Толли, с которым у него были постоянные и резкие столкновения, в Петербург. С образованием царства Польского Константин Павлович был назначен в 1816 г. главным предводителем польских войск, но широкие полномочия, ему данные, обращали его скорее в вице-короля, тем более что наместник Зайончек сильно ему подчинялся. Немало усилий употреблено было Константином для организации польской армии, которую он сильно поднял. Но он не успел привязать эту армию к себе и восстановил против себя и сеймовых депутатов, и вообще население Царства. В 1820 г. он развёлся с первой своей женой, герцогиней Саксен-Кобургской Анной, и женился на Иоанне Грудзинской, которую император Александр I возвёл в графское достоинство под именем княгини Лович. Вследствие этого брака Константин отказался от права наследовать после Александра престол, предоставляя последний следующему брату, великому князю Николаю Павловичу. Тайна, в которой сохранялось это отречение при жизни Александра I, дала повод к возникновению смуты, когда император Александр умер. Но Константин остался верен своему отречению. Во время Польского восстания 1830 г. поляки напали на загородный дворец Бельведер, в котором жил Константин Павлович; предупреждённый вовремя, великий князь успел спастись и, став во главе русских войск, отвёл их на границу царства Польского. При усмирении восстания Константин Павлович, находясь под начальством генерала Дибича, командовал русским резервным корпусом. В 1831 г. умер в Витебске от холеры.
Памяти брата моего, Константина Кирилловича
Чиркова, геройски погибшего на Малой Земле
под Новороссийском во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. — посвящаю.
Автор
Лучший способ предвидеть, что будет, —
помнить о том, что было.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Да и что может он? Правда, он пойдёт попросит бабушку, попросит всесильного Платона Александровича Зубова. Ясно же, что эта женщина пришла к нему только для того, чтобы испросить милости, подачки. Едва уловимое презрение, отвращение и внутреннее недовольство отразились на его лице, смешном и курносом. Но он тотчас овладел собой, сделал вид, что внимательно слушает, хотя его большие голубые, немножко навыкате глаза продолжали с немалой долей любопытства следить за всеми движениями просительницы. Отчего она пришла к нему, мальчишке шестнадцати лет, зависевшему от всех и вся, от своих воспитателей и надзирателя за царским детским двором Салтыкова, отчего не обратилась к тем, кто действительно может и хочет сделать что-то для неё...
— Простите меня, ваше высочество, — комкая в руках крохотный платочек, дрожащим голосом заговорила женщина. — Не знаю, хорошо ли я делаю, что обращена... к нам, но мне так много рассказывали о вашем добром сердце, о вашем милосердии, о том, что вы не оставляете без внимания ни одной просьбы...
Константин ещё сильнее насупил свои густые, нависшие над глазами брови, прикрыл веками глаза, сжал пухлые губы.
— Всегда рад помочь, если нужда какая, — растерянно произнёс он в ответ на эту цепь длинных комплиментов и снова удивляясь про себя: кто бы мог говорить этой странной женщине о его милосердии?
Наоборот, все при дворе укоряли его за излишнюю жестокость, за грубость и своевольство, недавно он просидел под арестом едва ли не целый день за то, что сломал руку этому старому ловеласу Штакельбергу, вызвавшемуся помериться с ним силой.
— Наша семья очень старинного рода, — слегка выпрямившись, с гордостью сказала женщина. — Мой муж, Ласунский, был в числе тех, кто стоял рядом с великой императрицей, и много помогал ей...
Ласунский... Что-то далёкое мелькнуло в этом имени. Как будто бабушка когда-то упоминала о нём, но не в связи с тем давним переворотом 1762 года и совсем в другом тоне. Может, он просто путает: ему никогда не было дела до забытых теперь, шумных и торжественных дней, да и когда это было-то, почти тридцать пять лет назад? Далёкая старина, о ней уж никто и не помнил...
— В чём нужда ваша? — стараясь попасть в манеру женщины и немного гордясь собой оттого, что принимает просительницу и даже может повелеть помочь ей, снова повторил он.
— Муж мой умер давно. — Она едва не всхлипнула, и Константин невольно поморщился: он терпеть не мог женских слёз, даже плач маленьких сестёр раздражал и давил его. Сам он никогда не плакал, ему с пелёнок внушили, что плакать — выказывать слабость, а он мужчина, солдат, и это ему не пристало.
Но Ласунская справилась с собой очень быстро.
— Слышала я, — немножко робея под пристальным взглядом этого разодетого в шелка и бархат мальчишки со смешным курносым носом, делающим его лицо слишком открытым и простоватым для императорского внука, и внутренне храбрясь, продолжила Ласунская, — что скоро, очень даже скоро вы будете набирать штат при вашем дворе...
Вот оно что, отметил про себя Константин. Уже теперь везде жужжат о его скорой свадьбе, о том, что и он заживёт своим домом, и потому просители полезут наперёд. Да только он знал, что ни одного человека для своего собственного дома не сможет он пригласить — на всё будет повеление бабушки, а уже потом и батюшки.
— Сын у меня достойный, добрый, храбрый и скромный мальчик. Я бы так хотела, чтобы он попал ко двору, но не к большому, потому что ему там места нет, я уж просила, а к вам именно. Вы так же добры и так же молоды, и кто знает, возможно, он вам пригодится во всём...
— Оставьте ваше прошение, — не выдержал паузы Константин и поднялся во весь свой невысокий рост с неудобного стула. — Я дам вам знать...
Странная это вещь — людская молва. Ещё только пригласила себе в гости Екатерина, его царственная бабушка, принцесс Кобургских, ещё они только выехали, торопясь к великой государыне, своей соотечественнице и немножко родственнице в каком-то десятом колене, а уж и в Москве знают, что принц, великий князь Константин, намерен жениться, хоть и всего-то ему шестнадцать, обзавестись своим домом и своим, пусть крохотным, двором, а значит, открывается несколько вакансий, значит, могут быть тёпленькие местечки, где золотом осыпают лишь за то, что подашь на золотой тарелочке золотую шпильку для прикалывания салфетки за обедом или невесомый кружевной носовой платочек. И потому аж из старой столицы прискакала в Санкт-Петербург исплаканная вдова госпожа Ласунская, сумела втереться в доверие и милость к старому его слуге греку Куруте и добилась, что Константин принял её прошение...
От этих мыслей ноги Константина замедлили свой бег по мраморным ступеням Зимнего дворца, застланным пушистыми персидскими коврами, а бесчисленные зеркала сразу отразили всю его поважневшую и выпрямившуюся фигуру, ещё угловатую и голенастую. Увидев себя в зеркале, Константин с важным видом поклонился своему отражению, степенно отведя руку назад и чуть отставив в сторону ногу, милостиво кивнул головой со взбитым хохолком над высоким и широким белым лбом. Но не выдержал минуты, показал своему высокомерному двойнику язык и расхохотался прямо ему в лицо. И куда только девалась его важная осанка, когда полные, резко и красиво очерченные губы открыли целый ряд блестящих, жемчужно-белых зубов, а нос слегка сморщился и вовсе потонул между круглыми румяными щеками!
Послав своему отражению воздушный поцелуй и ещё раз высунув язык, Константин помчался в угловой кабинет, где бабушка принимала своих секретарей за причудливо вырезанными столиками, называемыми бобками за похожесть на это растение, где она беседовала с генералом Зубовым о вещах сложных, едва понятных Константину, прыгавшему через две и три широкие ступени.
Впрочем, у самых дверей кабинета мальчишка опять превратился в важного, полного собственного достоинства молодого вельможу и слегка указал глазами на дверь, молча спрашивая гайдуков, стоявших на часах, там ли бабка и можно ли ему войти. Один из гайдуков также молча едва заметно приспустил веки, и Константин понял, что Екатерина у себя, но сердится и вообще милостива. Уже давно научился Константин различать по косому взгляду, движению бровей и век, лёгкому жесту состояние царственной бабушки, перед которой трепетали все, даже они, любимые внуки, общую атмосферу двора. Всей кожей чувствовал он собирающуюся грозу, гневные упрёки и выговоры и в такие минуты старался не попадаться на глаза не только бабушке, но и любимцу её, наглому и надменному Платону Александровичу Зубову, с которым приходилось говорить заискивающе, просительно, добиваться его дружбы, хотя сам любимец был едва на пять лет старше второго внука императрицы. Что делать, если всевластная бабкина рука была донельзя благосклонна к этому субтильному, изнеженному и задаренному баловню судьбы.
Шагая по длинным анфиладам залов, изредка оглядывая себя в зеркалах, украшающих простенки, и бездумно скользя глазами по громадным картинам и роскошным гобеленам, потолочным медальонам живописи среди позолоченной лепнины, Константин складывал в уме слова, с которыми можно было бы обратиться к бабушке: «Государыня, позвольте слово молвить...» Нет, не так, он скажет ей прямо: «Нежная моя бабушка, великая императрица, окажите милость сироте вдовице...»
Какая гадость! Ну почему нельзя просто поцеловать бабку в щёку и шепнуть ей на ушко: «Сыну госпожи Ласунской нужно место...»
Чёрт, никогда у него ничего не выходит с просьбами! Не умеет он подольститься к бабушке так, как умеет Александр, всегда спокойный и холодный. Он, Константин, часто завидует плавной речи брата, его рассудительности и благоразумию. Давно ли оба они, сорванцы, рвали по ночам цветы в запретных оранжереях Царского Села, осыпали ими дворовых девок и с наслаждением слушали их визгливый хохот, грубые словечки, нелепые отмахивания и увёртки! Но теперь, когда Александр, и всего-то на два года старше Константина, стал главой семьи, оба брата словно отдалились друг от друга. Нет уже прежних выходок, смешливых излияний, тайных сборищ у старой осины, в клочья изорванных кружевных манжет и шёлковых чулок, нет секретов и тайн между ними, будто каменной стеной встала между братьями, неразлучными с самого детства, гибкая и тоненькая, как болотная камышинка, Елизавета, и взгляд её, искоса бросаемый на молоденького мужа, словно отнимает у Александра и стремительность, и желание броситься в очередное приключение, и полные значения тайные перешёптывания с ним, Константином. Неужели и он, Константин, будет таким, как Александр, когда и его поставят перед аналоем и поднимут над его головой золотой венец, означающий конец весёлой беспечной жизни? Но бабушка сказала, что пора жениться, и уже одиннадцать принцесс приезжали к ней и к нему, Константину. И каждый раз он находил какой-нибудь изъян в невесте — то крива, то коса, то слишком тонка, то слишком толста. Но больше тянуть нельзя, бабушка сурово предупредила Константина, что на этот раз не посчитается с его капризами, и он заранее тихо ненавидел предстоящую жену, отнимавшую у него радости и утехи юношества...
Впрочем, если одна из трёх приезжающих принцесс Кобургских будет похожа на подругу его ночей, весёлую разбитную вдовушку, научившую его всем тонкостям постельной жизни, то он не прочь и жениться. Ему вспоминались упругие большие груди, на которых его голове лежалось мягче, чем на самой мягкой пуховой подушке, колыхающийся широкий зад, шлёпнуть который доставляло удовольствие, а уж облегчить свою вздыбленную плоть и вовсё было огромным наслаждением. Эту чувственную сторону жизни он познал давно, едва ли не с тринадцати лет, когда его застали с безобразной дворовой девкой, ласкавшей мальчика. Уже много позже он понял, что это бабушка позаботилась обо всём — у отца в Гатчине он бывал редко, и отец, Павел, никогда не говорил ему ни о чём подобном.
Екатерина же приказала своим верным слугам найти чистенькую, здоровую и не болтливую вдовушку, умелую и обходительную, чтобы и второй её внук получил возможность узнать все тайные пружины этой стороны жизни. Вдовушка даже сына зачала от неумелого мальчишки-принца, но, слава богу, Константин никогда не видел его, хоть и слышал от вдовушки, что назвала его Семёном, а сама кликала Великим. О нём тоже позаботились...
Константин внутренне подтянулся, нацепил на весёлое курносое лицо важную мину и толкнул золочёную тяжёлую дверь. В крохотной прихожей-приёмной кивнул старому, согбенному годами, но со светлым и умным взглядом крохотных сверлящих глазок камердинеру императрицы Захару и большим пальцем показал в сторону двери, ведущей в кабинет. Захар молча мигнул глазами под растрёпанными седыми бровями и медленно потянул тяжёлую дубовую дверь за длинную полированную ручку. Константин скользнул в приоткрывшуюся щель.
Его бабушка, императрица Екатерина, сидела на низком мягком пуфе и «чесалась», как она называла причёсывание. Возле её оплывшей фигуры, покрытой пудромантелем[1], суетился придворный куафёр[2], тут же стояли, вытянувшись, фрейлины, держа наготове на крохотных серебряных тарелочках резные костяные шпильки и тяжёлые узорные гребни. Длинные густые волосы закрывали почти всю императрицу каштановым плащом, и куафёр по ходу причёсывания то и дело удивлённо хмыкал, выказывая этим своё восхищение гривой чудесных волос Екатерины. Красоте их действительно могла бы позавидовать самая хорошенькая женщина — седые волоски лишь изредка проскальзывали в этой пышной пене.
Екатерина не смотрела в зеркало — ежедневная эта процедура не мешала ей думать, беседовать, следить взглядом за беспокойно расхаживающим, разодетым в генеральский мундир Зубовым и отмечать про себя нервное похрустывание его тонких пальцев. Но она не заговаривала, лишь наблюдала его тревогу и смятение. И было из-за чего: вести от Валериана, брата Зубова, мальчишки, покрасивее самого Платона и усланного им с глаз Екатерины, назначенного главнокомандующим Южной армией, пришли плохие. Валериан жаловался на недостаток продовольствия, не вовремя поставляемые припасы и сильную жару, от которой солдаты мёрли, как мухи...
Константин сперва раскланялся с Зубовым, едва кивнувшим своей завитой, напомаженной головой, неслышно подкрался к сидевшей к нему спиной Екатерине и через густую прядь волос громко чмокнул её прямо в ухо.
Екатерина откачнулась:
— Ох, Константин, оглушил, право, сорванец!
— Я в щёчку хотел, — встал на одно колено Константин, — а тут всё, как мантильей, закрыто, ничего не разберёшь...
— Ах, ты плут, — сразу заулыбалась Екатерина, — так молод и такой льстец!
— Да чистая правда, а не лесть, — сделал вид, что обиделся, Константин, — тут такие волосищи, что на десять фрейлин хватит...
— Небось что-нибудь нужно, — засмеялась Екатерина, протягивая ему из-под пудромантеля полную, всё ещё белую и гладкую руку, — раз так льстишь, непременно что-нибудь просить будешь...
— И вовсе ничего, — скроил обиженную донельзя мину Константин.
Он поднялся с колена, захватил широкой ладонью горсть волос и прижал их к губам. Волосы сладко пахли травами.
— Знаю я тебя, — погрозила ему бабка пальцем. — Едва нужда придёт, бежишь, на коленках стоишь, а в другое время тебя и не дозовёшься.
— А вот и ничего, — отмахнулся Константин и принялся целовать бабушкины пальцы по одному — они всё ещё были изящны и ровны, хоть их владелице давно уже перескочило за шестьдесят. На пальцах не было ни одного перстня: Екатерина надевала тяжёлые кольца только в парадных случаях.
— Прошение тебе подали, — заключила Екатерина. — Кто?
Константин поднял глаза на бабушку, изумляясь её прозорливости, но тут же опустил их к пальцам.
— Недаром вы великая императрица, — теперь он польстил ей, — всё знаете наперёд, ничего утаить от вас нельзя, — скороговоркой сказал он ей по-французски.
— Да уж много ума не надо, чтобы разгадать твои увёртки, — опять засмеялась Екатерина, — ровно и не знаю я тебя с пелёнок, ровно и не я тебя воспитывала.
Константин сокрушённо покачал головой: всё знает, всё видит его бабушка.
— Так кто же? — переспросила Екатерина.
— Госпожа Ласунская, — со вздохом ответил Константин, с ещё большим жаром продолжая целовать бабушкины пальцы.
Хорошо, что глаза его были опущены: если бы он поднял их, испугался бы. Глаза Екатерины вмиг потемнели, широкий рот сжался в нитку. Но это выражение лишь мелькнуло на её лице — через мгновение весёлость вернулась, и тучки, набежавшей на него, словно бы и не бывало.
— И чего же она хочет? — прежним ровным весёлым тоном спросила Екатерина.
— Сына определить ко двору. Вдова, без мужа трудно, а тут ещё четверо дочерей. Сын всех содержит, и ему тяжело. Очень ей предан сын...
— Зато отец не очень-то был предан короне нашей, престолу нашему, — негромко, словно про себя, пробормотала Екатерина.
Константин в недоумении поднял взгляд.
Екатерина смотрела на этого мальчика, которого собиралась женить, и думала, стоит ли рассказывать ему о заговоре Хитрово, в котором состоял и Ласунский и которого она пощадила — только выслала в пожалованные ему после переворота 1762 года деревни. Но не могла простить ему до самой смерти участия в этом заговоре.
Правда, заговор этот вроде бы и не был направлен против неё лично. Группа храбрых офицеров, решивших, что им всё по плечу, очень уж возмутилась, когда пошли слухи о её марьяже[3] с Григорием Орловым. Бестужев тогда дал пищу этим слухам — пользуясь её отсутствием, объехал всех знатных вельмож с письмом-прошением к ней самой обвенчаться с Григорием. Вот и зароптали офицеры, и Екатерина поняла, что не может венчаться с любимым ею человеком.
— Ответишь, что изменническим сынам места в столице нет, — коротко ответила она, — о другом же после поговорим...
Константин с изумлением взглянул на бабку. Куда девалась ласковая улыбка, отвердели и слегка сжались пальцы! А причёска шла сама собой: куафёр уже зачёсывал роскошные волосы Екатерины в высокую и красивую башню на её голове. И не надо было даже надевать корону — пышная корона из волос венчала чело императрицы.
— Да успокойтесь, Платон Александрович, — кинула она в сторону всё хрустевшего пальцами субтильного своего любимчика, — будет вам расстраиваться из-за нескольких потерь.
— Да, — живо отозвался Зубов, — но ведь поход в Персию срывается, великий поход в Индию откладывается...
— Где та Персия, где та Индия, — усмехнулась Екатерина, — что нам до тех далёких стран? Пусть всё идёт, как идёт. Всё устроится.
Она всё ещё не могла оторваться мыслью от заговора Хитрово, вдруг почувствовав, сколь сильного защитника имеет Павел в лице двух своих сыновей.
— Иди, внука моя любезная, — ласково сказала она Константину, — вечером принцессы Кобургские приедут, придёшь ко мне в срединную залу, взглянем из окошка, как выходить будут. Со стороны всегда виднее, кто чего стоит...
Константин вышел от бабки в полном недоумении. Почему она сказала о сыне изменническом? И что кроется за этими её словами о Ласунском?
А Екатерина всё ещё думала о том далёком времени, когда она так волновалась, едва сидя на шатающемся троне. Это теперь она может спокойно поглядеть на покрытую уже туманной дымкой времени полосу своей жизни. А тогда внутреннее волнение не оставляло её ни на минуту...
Восшествие её на престол было необычным, совершилось при преимущественном пособничестве гвардии, и потому она, сев на трон, поспешила наградить всех, кто участвовал так или иначе в возведении её в сан императрицы. В числе других награждён был и капитан Измайловского полка Михаил Ласунский. Она пожаловала ему чин камергера двора, отделила 800 душ крепостных в подмосковных деревнях. Но заговор Хитрово перечеркнул все заслуженные Ласунским награды.
А началось всё, как узнала потом Екатерина, с вовсе безобидного разговора в гостях у княгини Хилковой в её богатом барском доме в Москве. На следствии Михаил Ефимович Ласунский полностью привёл этот разговор с товарищем своим, тоже участником переворота Фёдором Александровичем Хитрово. Екатерина слово в слово помнила эти показания Ласунского:
« — Слышал ты о новом марьяже? — спросил Хитрово.
— О каком марьяже? — переспросил Михаил Ефимович.
— Как тебе не слышать! Я с тобою играть не стану: за Орлова государыня идёт.
— Слышал и я об этом, а правда или нет — того не знаю.
— Что ты против этого думаешь делать?
— Я думаю, что больше делать нечего, как нам всем собраться и идти просить её величество, чтоб она изволила отменить, рассказав резоны, какие можно будет.
— А как наших резонов не примут, что в таком случае делать?
И Ласунский прямо ответил:
— Делать больше нечего, как остаться в её воле: как она изволит. Средств никаких нет, да и быть не может.
— Нет, в таком случае надобно средства изыскать, чтоб их отвести от этого. Теперь этот слух распускается по городу — чтоб чего не произвело.
Подумав, Ласунский осторожно ответил:
— Быть ничего не может от народу, да и ни от кого...»
Все были против её брака с Орловым. Однако на пути следствия открылись для Екатерины опасные обстоятельства. Хитрово откровенно рассказал всё о заговоре, когда его схватили, и добавил ещё: «А что государыня престол с тем принимала, чтоб быть правительницею до совершеннолетия Павла, и Панину о том сказать изволила. И случилось ему, Хитрово, быть в карауле при бывшем покойном императоре Петре Третьем, и разговорился он с Алексеем Орловым. И вот тут-то Алексей и выдал Хитрово важную эту тайну...»
Императрица почти физически почувствовала, как заколебался её трон. Не дай бог, чтобы дело дошло до открытого суда, иначе станет известно, что обещала она перед переворотом. И она приказала покончить дело административным порядком: виновных выслали в свои деревни, а Николай Рославлев, сообщивший о переговорах Панина с императрицей, был посажен в крепость. Тогда впервые решилась Екатерина употребить свою власть — наказать виновных без суда, по справедливости.
Так и Ласунский был выслан в свои деревни, проживал там без всякого участия в государственных делах, как частное лицо. А теперь вот вдова его хочет...
Но как объяснить всё это внуку, как изложить причины, заставившие её отобрать престол у сына? Нет, ничего нельзя открывать Константину, никаких тайн не выдавать, пусть лучше ничего не знает, а женить его надо поскорее, заставить погрузиться в семейный очаг так, как погрузился в него сам Павел...
Какими пустяками по сравнению с этой задачей показались ей неудачи Валериана Зубова! Да Бог с ними, с мрущими солдатами, Бог с ними, с миллионами, которые мальчик потратил без ума и смысла, оба они — и Платон, и Валериан — преданы ей, не станут замышлять ни о чём подобном, как замышляли в своё время Хитрово и Ласунский. И близко к столице нельзя подпускать сына Ласунского — уж, верно, отец рассказывал ему, за что вышла такая ссылка...
Обратно в свои покои Константин шёл, глубоко задумавшись. Что за тайна крылась в словах бабушки, почему Ласунский был изменником? Куруте он приказал больше не пускать Ласунскую во дворец, а известить её письмом, что в просьбе ей отказано...
Смутно чувствовал Константин, что бабушка и в заключении его брака руководствуется какими-то ей одной ведомыми соображениями. Он знал, что ещё два года назад, когда ему было всего четырнадцать лет, уже были предложения насчёт его женитьбы. Русский посланник в Неаполе граф Мартын Павлович Скавронский, родственник Екатерины Первой из той бедной шведской семьи, которую после смерти Петра Первого призвала к трону царственная прачка, повёл было переговоры с императрицей Екатериной Второй о женитьбе Константина на неаполитанской принцессе. В то время в Неаполе правил правнук Бурбоны — король Фердинанд Четвёртый, супруг дочери австрийской императрицы Марии-Терезии — эрцгерцогини Каролины-Марии, достаточно известной своим жёстким и развратным нравом. Но Скавронский как-то быстро и незаметно ушёл из жизни, и туда прибыл послом Андрей Кириллович Разумовский, внук того самого хитрого хохла, что работал на пользу Екатерины в перевороте 1762 года. Не прошло и нескольких месяцев, как красавец хохол стал любовником Каролины-Марии, и через него решила она пристроить одну из своих дочерей за Константина. Разумовский очень усердно принялся хлопотать об этом браке, но с условием, чтобы Константину был выделен независимый удел из русских владений. Екатерина почувствовала опасность такого дела для себя и потому резко ответила на предложение:
«Из письма графа Разумовского следует заключить, что неаполитанскому двору пришла охота весьма некстати наградить нас одним из своих уродцев. Я говорю «уродцев», потому что все дети их дряблые, подвержены падучей болезни, безобразные и плохо воспитанные. Этот двор не дождался ответа на свой первый зазыв через графа Скавронского, и вот снова посланник маркиз Галль убедил графа Разумовского сделать мне это предложение как весьма хорошее и полезное и будто им самим придуманное...»
Конечно же, принцессы из дома Бурбонов не были подвержены падучей, не были безобразны и плохо воспитаны. В самом предложении отделить часть русских владений и сделать Константина независимым владетелем почуяла Екатерина скрытую опасность, она легко просчитывала возможные последствия. Независимый владетель, подстрекаемый родственниками Бурбонами, легко может восстановить правоту Павла, да ещё и призвать войска для возведения отца на русский престол. Она сразу поняла, где таится угроза, и потому приберегала для своего второго внука самую безопасную возможность для себя женить его на бедной немецкой принцессе, у которой не было бы никаких политических видов.
Вечером, едва только столицу накрыли туманные сумерки, Константин с бабкой стояли у одного из больших окон Зимнего дворца. Опираясь одной рукой на плечо внука, а другой придерживаясь за ставшую уже необходимой резную трость, Екатерина вглядывалась в неширокую щель, услужливо приоткрытую слугами, — тяжёлые бархатные портьеры прикрывали все окна.
— Поглядим, как будут выходить эти немецкие принцессы, — бормотала Екатерина. — И тебе полезно знать, которая из них...
Она не договорила, но Константин понял: вот тут, теперь, у окна, решится его судьба.
Из окна весь парадный подъезд был виден, как на ладони — фонари блистали так ярко, что за кругом света темнота как будто сгущалась ещё больше. Широкая мраморная лестница, устланная ковром, заполнена была блестящими вельможами, вышедшими встретить знатных гостей.
Екатерина послала для встречи кобургских принцесс роскошную карету, и они ещё по дороге пересели из старого, покрытого кожей, жёсткого возка в удобный и вместительный рыдван[4].
Едва карета остановилась перед парадным подъездом, из неё выскочила старшая немецкая принцесса. Щеголиха и резвушка, она быстро взбежала по лестнице, с изумлением оглядывая блестящие мундиры и енотовые шубы встречающих.
— Ровно вьюн какой, — покривилась Екатерина.
Средняя чуть замешкалась, держась за дверцу, высунула ногу в лёгком башмаке, ступила на следующую подножку, но не удержалась и повалилась прямо на руки лакеев, поддержавших неловкую девушку.
— Экая недотёпа, — дёрнула плечом Екатерина.
Настала очередь младшей выйти из тёмного нутра кареты. Осторожно, не придерживая длинные тёмные юбки, она сошла ровно и спокойно, словно всегда делала это, взошла по ступенькам лестницы, поворачивая голову в допотопном капоре с достоинством и величавостью.
— Хороша, — отметила Екатерина, и Константин понял, что в эту самую секунду судьба его решилась: вот эта третья, лица которой даже разглядеть было невозможно, уже стала его невестой. Раз уж решила бабушка, выбор её никто отменить не может.
— Бедноваты, — тут же сказала Екатерина, — ну да это не беда...
Константин тоже всматривался в трёх принцесс — весь двор начал бы хохотать над их потрёпанными заячьими шубками, едва доходившими до колен, широкими тёмными юбками, старомодными капорами, отделанными тем же крашеным зайцем.
— Ничего, — вздохнула Екатерина, — приоденем — заблистают...
Подозрительность и наблюдательность Екатерины простирались до того, что, прежде чем доставить багаж в комнаты принцесс, она приказала принести его к себе. Но сделала это уже без Константина: не хотелось ей, чтобы внук выказал презрение к бедности своей будущей невесты. И опять легко улыбнулась Екатерина: даже она, приехав в Россию с двумя-тремя платьицами, парой чулок и нижних рубашек, была побогаче этих принцесс. Очень хорошо, будут покорны, ослеплены блеском и роскошью её двора, станут влюблёнными глазами смотреть в неказистое лицо Константина.
Екатерина хорошо знала злые языки своих придворных и потому сразу же послала принцессам две громадные корзины, заполненные ворохами драгоценных материй, и отправила десятка два лучших портных дворца — обшить, приодеть, принарядить девушек хотя бы к первому представлению императрице.
Плохо одеты, бедны, но какая же богатая родословная сопровождала их! Происходили они из знаменитого Саксонского дома, начало которому положил Витекинд, предводитель саксов-язычников, упорно противостоявший ещё Карлу Великому, французскому королю, вешавшему язычников на всех деревьях своей обширной империи. Конец восьмого века, времена, покрытые седой стариной.
Екатерина подробно объяснила Константину всё это, он был раздавлен, унижен такой славной родословной. Однако Екатерина утаила от него, что принадлежали принцессы к младшей ветки этого саксонского родословия. Владения Саксен-Заафельд-Кобургов были теперь самые незначительные, как говорится, курице некуда ступить, но русская императрица словно провидела будущее: представители этой знатной нищей фамилии в любое время могли занять три королевских престола — бельгийский, португальский, великобританский. Потому и считалась эта фамилия в Европе такой значительной...
Родство завидное, и Константину необходимо это понять. Но мальчишка упрям и своенравен. Приискав Александру невесту из принцесс Вюртембургских, Екатерина вторую, младшую, прочила за Константина. Александр не возразил ни слова, хоть и заметно было, что теперь он очень ровен и холоден с женой. А Константин взъярился, наговорил грубостей и от второй принцессы Вюртембургской наотрез отказался. Ну да ныне вроде поумнел и должен понимать, что царские браки не для души, а для продления власти династии. Впрочем, младшая Вюртембургская и самой Екатерине не понравилась: девочке не было и тринадцати, она ещё совсем не оформилась, была худа, как щепка, с плоскими грудью и задом, с тонкими ручками, заканчивающимися широкими ладонями. Екатерина знала, что со временем этот гадкий утёнок превратится в настоящую красавицу, но у Константина не было интуиции бабушки.
Младшей Вюртембургской пришлось уехать ни с чем. Зато Екатерина щедро одарила её, наговорила ласковых комплиментов, и бедная девочка с тех пор грезила лишь об обширном русском царстве, где так холодно и так роскошно...
20 октября 1795 года владетельная герцогиня Кобургская и три её дочери были, наконец, представлены Екатерине. Она ласково приняла их, собственноручно надела на них ленты и бриллиантовые знаки ордена Святой Екатерины и в тот же день посетила их апартаменты, приведя с собою и Константина.
Восторженное и изумлённое письмо отправила на другой день герцогиня своему мужу в Кобург. Описав роскошь обстановки, невиданную прелесть Зимнего дворца, она перешла к описанию будущего жениха какой-нибудь из её дочерей:
«Константин кажется с виду не менее 23 лет, и видно, что он ещё подрастёт. У него широкое круглое лицо, и если бы он не был курнос, то был бы очень красив. У него большие голубые глаза, в которых много ума и огня. Ресницы и брови почти совсем чёрные, небольшой рот и губы совсем пунцовые. Очень приятная улыбка, прекрасные зубы и свежий цвет лица. У обоих братьев такие здоровые лица, такое крепкое, мускулистое телосложение, что они резко отделяются от всех придворных кавалеров. В ясном взгляде их видны благородная кровь и душа неиспорченная. Константин, кажется, воин и душой и телом, со всей военной ловкостью... У Александра черты лица гораздо более правильные и выражение лица прелестное, но у Константина более блеску в глазах и глаза красивее. У Александра придворные, располагающие манеры, и он разговорчивее в обществе... Оба брата чрезвычайно привязаны друг к другу и постоянно вместе, но у Константина более характеру, и оттого он совершенно владеет братом, что не мешает, однако, их взаимному доверию...»
Читая эти строки, Екатерина только усмехалась: немного же разглядела герцогиня Кобургская в обоих братьях...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Трясясь в старом, неудобном, продуваемом насквозь встречным морозным ветром возке, крытом износившейся рогожей, Ласунская с тоской и злобой припоминала все подробности своей неудавшейся поездки в столицу, раздумывала о беспросветной жизни в крохотной бедной деревушке, где ещё сохранился теперь уже разваливающийся господский дом, требующий ремонта, дров и ухода, о ленивой дворне, норовящей стащить, что плохо лежит, о замшелых избушках, расположенных по Тверскому тракту, о хитром и пронырливом старосте, все доклады которого начинались лишь с одного: неурожай, скот мрёт, крестьянишки обнищали, выгоны сокращаются, межи порушены, жадные и ухватистые соседи запускают стада коров и свиней, коз и телят в её огороды.
Она устала биться с нуждой и разрухой, но всё ещё старалась выколачивать из оброчников и барщинников последние гроши, копила, пересчитывала эти крохи и отдавала сыну, Полю, её ненаглядной радости и единственной утехе, снимавшему в Москве дорогую квартиру, заведшему дорогой экипаж и пару высокородных жеребцов для выезда. Поль почти не служил, проводил время в весёлых пирушках и ночной игре по крупной, а потом умолял мать заплатить его карточные долги чести. Она выбивалась из сил, стараясь содержать квартиру Поля и платя его неисчислимые долги, всё думала: вот-вот мальчик найдёт себе полезные знакомства, сведёт близкую дружбу с такими же, как он, но богатыми и нужными людьми, поступит на службу, станет примерным статским советником или хотя бы служащим в управе. Но это чудесное время, о котором она мечтала как об избавлении, всё отдалялось. Поль действительно завёл обширные знакомства, но друзьями его были такие же шалопаи, как он сам, служившие в полку лишь по названию, прожигавшие остатки отцовских вотчин и не думавшие нисколько о завтрашнем дне.
И всё-таки она страстно любила сына, потакала ему во всём, потому что на свете у неё не осталось более никого. Поль был опорой и последней надеждой её рано начавшейся старости, её радостью и гордостью. Когда она оглядывала его модные камзолы и белоснежные кружева манжет, его холёные бакенбарды и высоко зачёсанные височки над белым широким лбом, она преисполнялась чувством удовлетворения. Ни у кого нет такого красавца сына, и неужели никто не видит, какой он прелестный мальчик, как свободно болтает по-немецки и по-французски, как лихо скачет на вороном коне, как умеет затравить оленя или зайца, как поднимает на дыбы своего вороного, как умеет арапником ожечь лису...
Дочери её давно вышли замуж, зятья не жаловали тёщу, единственной темой разговора которой был её ненаглядный Поль, она редко наведывалась к ним. Сперва она пыталась выколотить из зятьев, солидных военных, деньги для Поля, но и дочери стали поглядывать на мать с неудовольствием, и она перестала просить их о чём-либо.
Ласунская видела, как бесцельно, впустую проводит свои дни Поль, но никогда ни единого слова упрёка не вырывалось у неё. Он умел так рассказать о своих долгах и нуждах, что у неё выступали слёзы на глазах, и она снова старательно ограничивала себя, отдавая ему последнее. «Мальчик должен пожить, — думала она, — прежде чем войдёт в курс взрослой жизни».
Мальчику шёл двадцать восьмой год...
Осень в этом году выдалась суровая, но бесснежная, на чёрных полях лишь кое-где промелькивали застрявшие в низинах хлопья снега, лежала на озимых настывшая корка наста, да гулял вволю северный ветер, взмётывая мёрзлую чёрную пыль.
Она приказала запрячь в старый возок лучших лошадей из своей изрядно поредевшей конюшни, но клячи едва тащили поклажу, и она опять с горечью и обидой вспоминала приём, которого она так добивалась через знакомых и дальних родственников в столице, всё надеясь, что мечты её исполнятся, Поль будет пристроен при вновь создающемся дворе молодого великого князя Константина. Но надежды её не сбылись, и приходилось возвращаться в свою глухую тверскую деревеньку без всякого просвета в будущем.
Кучер Ерёмка, сидя на облучке облупленных козел, и не мыслил погонять старых кляч, опасаясь лихого встречного ветра в лицо, и, закутанный в большой толстый тулуп, мало думал о том, что барыне холодно, а дорога ухабиста и грязна.
— Да скоро ли кончится эта проклятая дорога, — вслух подумала Ласунская, чувствуя, что ноги её в наскоро сшитых деревенским сапожником козловых башмаках уже коченеют.
— Дозвольте, барыня, пробежаться рядом, — глухо попросила её горничная Груша, тоже терпя холод, забравшийся в самые коты[5], в которые были обуты её ноги.
— Небось, не замлеешь, — со злобой ответила Ласунская. — Что, Ерёмка проклятущий спит, что ли, на козлах? Стучи ему в спину, пусть везёт скорее...
Пробурчала, но знала заранее, что Ерёмка тотчас отговорится: кони-де слабо кормлены на постоялом дворе, где ночевали прошлой ночью, понукать их всё равно без всякой пользы, падут ещё по дороге, тогда и вовсе погибель, и так уж сколь вёрст отмахали, а где ещё придётся остановиться, никто про то не знает. Умеют все они, эти лохматые мужики и бабы, отговориться, умеют так засыпать барыню словами, что и не пробьёшься с упрёками. И потому смолчала Ласунская, только со злобой и ненавистью глядела прямо в лицо бедной Груше.
Коляска, однако, вдруг резко вздрогнула и стала валиться. Груша, громко визжа от страха, начала клониться на её рогожный бок, а Ласунскую кинуло на мягкое и упругое тело Груши.
Обе они не сразу поняли, что возок перевернулся; копи встали, перепревшая рогожа рвалась под тяжестью их тел, и скоро они очутились на стылой земле, кое-где заполненной талой водой в колеях, разъезженных многими колёсами.
— Что ж, негодник ты эдакий, сделал с нами! — дико закричала Ласунская, пытаясь выбраться из возка.
Но Ерёмка не слышал: ещё раньше женщин он скатился с облучка, по-прежнему туго натягивая поводья узды, намотанные на его тяжёлую меховую рукавицу.
Лошади понесли было, дрожа под натянутой уздой, но погнувшаяся ось твёрдо упёрлась в землю и остановила их. Слетевшее колесо, прыгая через ямы и колдобины, покатилось с откоса. Задержала коляску лишь высокая наледь с одной стороны её, а промоина на дороге не позволила возку скатиться вниз...
Ерёмка вскарабкался кое-как с откоса, куда едва было не слетел, степенно и не спеша освободил натянутые вожжи и теперь стоял, почёсывая кудлатую голову — треух его свалился и росшие дыбом чёрные волосы упали ему на лоб, закрывая весь обзор.
— Что стоишь, треклятый? — кричала ему в стенку возка Ласунская, словно бы видела сквозь рогожу неловкие и тяжёлые движения своего неповоротливого крепостного.
Ерёмка медленно двинулся к возку, решая, как помочь женщинам выбраться, и то и дело почёсывал лохматый затылок.
Со стонами, визгом и проклятиями Ласунская и Груша еле выбрались через дверцу, оказавшуюся у них над головой. Ерёмка помогал сильными могучими руками, и скоро обе они стояли на мёрзлой земле, на самом скользком от наледи обочном верху.
— Что стоишь? — накинулась на него Ласунская, едва придя в себя после неожиданной оказии. — Растопырил глаза, убил, завалил нас, да ещё и стоит.
Она кричала больше от прошедшего страха, пережитого ужаса, но слова вылетали из её сухонького рта грозящие и проклинающие. Но Ерёмка стоял на дороге, осматривая погнувшуюся ось, ушедшую глубоко в землю, и молча думал, что делать.
Ласунская сошла с наледи на чёрную и вязкую землю возле дороги и огляделась. Вдалеке синел лес, редкие деревья перемежались полосами вспаханной с осени земли, кое-где с проплешинами снега, вилась чёрная расхлёстанная дорога, отороченная наледями по обочинам. Нигде никого.
Ерёмка обошёл возок, покачивая непокрытой кудлатой головой и находя в душе, что дело совсем пропащее. Слава Богу, обошлось только синяками и ушибами, но Ласунская продолжала причитать:
— Убил, без ножа зарезал, треклятый супостат! Что вот теперь делать, ежели не поправишь возка?
Ерёмка отправился искать слетевшее и закатившееся под придорожные кусты колесо. Груша рыдала во весь голос, кляня и погоду, и Ерёмку, а Ласунская вдруг судорожно схватилась за грудь. Там, перевязанные платочком, лежали заветные двести рублей от великого князя Константина, которые Курута тайком сунул ей. Деньги были на месте, и Ласунская немного успокоилась. Теперь вся надежда была на Ерёмку: неужто не найдёт способа поправить возок и ехать дальше?..
Всхлипывания Груши, мрачное молчание Ласунской да бормотание Ерёмки, шарившего по мёрзлым стылым кустам, стояли над землёй, уныло прикрытой сереньким небом с темнеющими облаками.
От тёмно-синей стены леса отделились какие-то точки. Они быстро приближались и скоро превратились в две норовистые тройки, разбивавшие треньканьем бубенчиков тишину степи. Лошади неслись во весь опор, и стало видно их дыхание, сгущавшееся вокруг заиндевевших морд. За ними катились две лёгкие рессорные кибитки, похожие на модные нынче кареты, немного покачивающиеся в такт движению.
— Слава тебе, Господи, — торопливо перекрестилась Ласунская и встала посреди дороги: не могут же лошади наступить на живого человека, а она словно предчувствовала, что такие барские тройки могут и пронестись мимо, оставив после себя лишь взметнувшуюся снежную пыль да летящие из-под копыт мокрые комья земли. — Никогда ещё русские в беде не бросали человека на дороге, — бормотала она. — Вот ежели немцы либо другие иноземцы, те боятся остановки, боятся лихих людей. Да какие ж мы лихие, мы — несчастные!
И она стояла позади перевёрнутого возка, махая ручкой и крича гайдукам[6], чтобы остановились.
Тройки и впрямь, не доезжая до возка, остановились, но сделали это только потому, что объехать его не было никакой возможности: высокая наледь по сторонам дороги не давала объезда.
Ласунская побежала к дверцам красивой богатой кареты и ещё издали начала кланяться и кричать несчастным голосом:
— Люди добрые, помогите, сделайте милость, не дайте пропасть бедной вдове!
Она кланялась и кланялась в пояс закрытой дверце и даже не заметила, как легко порхнула на подножку маленькая ножка в меховом башмачке, и, лишь приподняв голову, увидела рядом с собой хорошенькую девчонку лет четырнадцати в легчайшей меховой дорогой накидке и таком же капоре, с висевшей на шнуре меховой муфте.
Девчонка соскочила на землю скоро, вспрыгнула на высокую обледенелую обочину и звонко закричала тем, кто ещё только начинал выбираться из кареты:
— Ой, смотрите, смотрите, возок поперёк дороги лежит, осью в землю ушёл, а лошади все закуржавели...
Смущённо обернувшись к Ласунской, она тихо произнесла:
— Ой, простите, ведь это ваш возок? С вами такая немочь приключилась? А я так кричу, простите великодушно...
Ласунская скорбно качнула головой, но от всего вида егозливой девчонки её так и потянуло к лёгкой улыбке.
— Да это ж не беда, — затараторила девчонка, — мы вас подвезём, у нас на всех места хватит, а лошадей надо припрячь к нашим или привязать сзади...
Из кареты неловко, согнувшись, полезла дородная, нестарая ещё барыня. Ловкие руки двух дюжих гайдуков подхватили её, закутанную в тяжёлую меховую шубу, и аккуратно поставили на мёрзлую землю позади обочины.
Словно и не было здесь старших, девчонка умело и ловко распоряжалась, и даже Ерёмка очнулся от своего унылого бестолочья и побежал распрягать своих кляч, а Груша восторженно смотрела на барышню, несмело трогая её дорогую меховую накидку, и широко улыбалась в ответ на все слова девчонки.
— Марго, — строго сказала по-французски барыня, вынутая из кареты и стоявшая теперь в отдалении от дороги, — что ты так кричишь... — И, обернувшись к Ласунской, виновато произнесла по-русски: — Оглушила, право, эта егоза.
— Что вы! — страстно молвила Ласунская, — да вас прямо сам Господь послал! Слава, Господи, тебе! — истово, широко перекрестилась она.
— Марго, — снова строго сказала барыня, — надо же представиться, а ты сразу со своей помощью, может, она ещё и не понадобится...
— Ах, маман, — насмешливо ответила девчонка, — да какие могут быть церемонии, ежели у людей беда?
— Мы уж отчаялись! — тихо изрекла Ласунская, почтительно склонившись перед богатой барыней. — Мороз на дворе, а мы тут одни-одинёшеньки...
Она говорила по-русски, немного картавя, чтобы показать, что и сама знает по-французски, да о беде надо рассказывать по-родному, по-русски. Слегка склонив голову, она жеманно произнесла:
— Позвольте представиться: вдова капитана Измайловского кавалергардского полка Михаила Ефимовича Ласунского.
— Известная фамилия, — смущённо пробормотала дородная барыня.
— Зовут меня Марья Андреевна, ехала вот из столицы к сыну в Москву, у него там квартира, а уж потом ещё дальше, в тверскую... — Передохнув, она возмущённо продолжила: — Негодник Ерёмка вывалил нас, едва выбрались из возка, да так и остались на дороге, и нигде никого...
— А мы Нарышкины, едем из поместья в Москву. Маргарита выпросилась последние осенние денёчки провести в деревне. А уж нас в Москве, — опять строго глянула она в сторону дочери, — заждались...
Ласунская тоже кинула взгляд в сторону бойкой девчонки и не удержалась от комплимента:
— Дочка у вас какая! А глаза-то прямо как изумруды!
— А ты не слушай, не слушай! — прикрикнула на дочку Нарышкина. — Самые обыкновенные глаза, — недовольно заметила она.
— Что вы, — сразу поняла Ласунская, — да таких глаз по всей Москве не сыскать...
Нарышкина невольно покраснела от такой похвалы, но, скрывая свою гордость красавицей дочкой, сурово заметила:
— Бойка не по годам, прямо огонь-девка, сладу с ней нет...
Ласунская умильно улыбалась, глядя на девчонку.
Та распоряжалась, да так ловко и уверенно, что и Ерёмка, и гайдуки, соскочившие с облучков и запяток, подчинялись ей с удовольствием и охотой.
— Распрягите, не то обрежьте постромки, — командовала девочка, — а возок отвалите в сторону, он весь худой да драный, небось и не пригодится больше...
Ласунская так и застыла на месте, услышав фамилию от своей дородной попутчицы. Она давно была наслышана о знатном и богатом роде Нарышкиных. Муж Варвары Алексеевны, урождённой княгини Волконской, происходил из того самого рода, откуда была вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра Великого. С тех пор как иностранцы наводнили Россию и царский род украсился шведской прачкой, семья Нарышкиных, все его ветви, пришли в запустение.
— А ну, мужики! — кричала тем временем Маргарита. — Свалите в сторону этот дрянной возок да глядите, осторожнее, не повредите бабки у лошадей, да привяжите их назад, да не к коляскам, а вон видите, обоз наш подъезжает, к телегам и привяжите, он медленнее едет, а мы вместе с нашей пострадавшей сядем в карету... Правда ведь, маман, мы подвезём угодивших в оказию? — умильно спросила она у матери.
Варвара Алексеевна только улыбнулась в ответ на крики дочери: видно было, что она гордилась ею, любовалась и любила, видимо, без памяти.
— Как я своего Поля, — вздохнула Ласунская.
Скоро подъехали и телеги с наваленными на них коробами, рогожными кулями, бочонками и коробками. Ерёмка захлопотал возле возка, снимая с него оставшиеся колёса, и бережно тащил их в сторону телег: не пропадать же господскому добру.
— А от нас вы поедете в нашем возке, мы вам его отдадим, правда ведь, маман? — обращалась Маргарита к матери и так взглядывала на неё, что той ничего не оставалось, как кивнуть головой. — Вот и славно, вот и уладилось всё! — опять закричала Маргарита. — А мы все уместимся в карете, у нас славная карета, тёплая и мягкая!
Ласунская в некотором смущении и растерянности смотрела на Варвару Алексеевну.
— Конечно, — сказала княгиня, — все уместимся, а горничную посадим к нашим девушкам.
Она лишь махнула рукой, а уж из второй кареты выпорхнули богато одетые здоровые девушки и, облепив Грушу, потащили её в другую коляску. Рослые и дюжие гайдуки легко отвалили на обочину возок, подтолкнули с наледи на землю, и скоро дорога была свободна.
— Садитесь, садитесь, — торопила Ласунскую Маргарита, подавая ей руку и приглашая в тёплое и полутёмное нутро кареты, куда уже успела вспрыгнуть, даже не воспользовавшись подножкой.
Ласунская нерешительно оглянулась на Нарышкину, но та только ласково кивнула головой, и Ласунская полезла за Маргаритой внутрь. Гайдуки подсадили и Варвару Алексеевну, гикнули молодцеватые погонялы, засвистели в воздухе длинные арапники, и лошади дружно поднялись вскачь. Ерёмка взобрался вместе с колёсами на одну из телег, и скоро обоз покатил по чёрной дороге, далеко разнося в морозном воздухе весёлое треньканье бубенцов.
Ласунская сидела прямо напротив Маргариты, примостившейся на скамейке спиной к движению кареты, и с удовольствием вглядывалась в свежее, розовое с мороза лицо девочки, в её сияющие в полутьме зелёные глаза, полные розовые губы и белоснежную кипень ровных, сверкающих зубов.
«Чудо как хороша», — думала она. Тонкие нежные руки девочки ни минуты не оставались в бездействии — она то перекладывала ненужную в тепле муфту, снимая её с шеи, то взбивала мягкую подушку, то тянулась пальцами к морозным узорам на стекле окошек кареты и протирала в нём крохотную щёлочку, в которую виднелись проносившиеся мимо чёрные поля с проплешинами снега, голые переплетённые сучья придорожного леса, высокие вешки, отмечавшие каждую версту, снежная пыль и комья земли, летевшей из-под копыт лошадей!
Как беззаботна и весела была эта четырнадцатилетняя девчушка, выросшая в неге и роскоши! С завистью и восхищением оглядывала Ласунская просторное нутро кареты, небольшую закрытую медную жаровню на высокой ножке, от которой шло живительное тепло едва тлеющих углей, пушистые ковры, покрывавшие пол и стены кареты, и мягкие пуховики, набросанные поверх этих ковров. Век бы сидеть и ехать в этой карете, ни толчка, лишь лёгкое покачивание: хороши рессоры у такого возка, и карета, словно детская люлька, качается на широких кожаных ремнях.
Она опять потрогала заветный комок на груди, и тёплое чувство к мальчику — великому князю — охватило её.
— Вы только что из столбцы, — обратилась к Ласунской Нарышкина, — расскажите мне самые последние новости. И какие моды теперь, мы, в Москве, всегда отстаём от столичных новостей.
— Ах, маман, — быстро вмешалась Маргарита, — ну почему вы так говорите? Мы и журналы столичные получаем, и ноты новые, а про моды и говорить нечего — что в них хорошего?
— Наш пострел везде поспел, — с неудовольствием отозвалась Варвара Алексеевна, — небось госпожа Ласунская была при самом дворе, ей есть что порассказать...
Ласунская улыбнулась, гордая, что и она может стать источником самых свежих новостей.
— Да я при дворе была лишь у великого князя Константина, — раздумчиво начала она, — везде слухи, что женят его, уж вызвали из Германии сразу трёх невест.
— Какой он из себя, великий князь? — живо заинтересовалась Нарышкина. — Про сватовство-то мы знаем, а какой он — не видывали...
— Прелесть что за мальчик, — восторженно заговорила Ласунская, — такой вежливый, учтивый, приветливый, а уж щедрый — выше меры.
Она снова потрогала деньги и всё более и более начала рассыпаться в похвалах великому князю.
— А невеста его тоже красива? — вдруг спросила Маргарита. — Уж, верно, выбрали самую красивую из всех немецких принцесс...
— Не видала я их, к сожалению, но слухов по столице много. Говорят, действительно редкой красоты все три принцессы.
Что ей было до принцесс там, в Петербурге, когда на уме у неё было только одно — пристроить Поля. Но мечты её рухнули, и она тяжело вздохнула, но тут же подобралась: нельзя показать и виду, что бедна и никчёмна. Она с восторгом принялась описывать столичные достопримечательности, хотя лишь слышала о них, а сама не видела.
— А что теперь носят? — спросила Нарышкина.
— Вам бы, маман, только о том, что носят, — перебила Маргарита мать, — а какие новые стихи, романсы, какие новые рассказы появились?
— А у тебя одно на уме — стихи, да романсы, да новые романы французские, а нам, старшим, важно, какие платья шить...
— Да разве мы шьём, мы же всё из Парижа получаем, — запротестовала Маргарита. — А в Париже теперь в моде платья с поясом под грудь. И очень даже некрасиво, — протянула она, — прямо уродкой выглядишь в таком платье...
— А это уж у кого какая фигура, — съязвила мать.
Ласунская ответила так, чтобы угодить и матери, и дочери:
— Всё-таки греческая мода была получше, да и то сказать — эти ленты под самой грудью не очень-то красиво. Но как светлейший Потёмкин умер, так и прекратились всякие разговоры о греческом, хоть и не в такой чести всё французское: больно уж эти якобинцы раздражают матушку-императрицу...
Нарышкина искоса взглянула на Ласунскую и не стала поддерживать разговор. В её замечании она увидела нескромный намёк на изменившуюся политику Екатерины и хоть с мужем и самыми близкими друзьями и осуждали немку-царицу, но с посторонними боялась затевать такие разговоры: слишком уж много было угодливых людей и в старой столице, что доносили Екатерине каждое неосторожное слово. Она отвернулась к морозному оконцу и заметила:
— Должно быть, подъезжаем...
За крохотным окошечком и впрямь замелькали неказистые деревенские домишки; высокой стеной отгородился от дороги громадный господский дом, потом показались огороды, забранные кривоватыми плетнями.
Зачернела спокойная вода речушки, всё ещё не замерзшей и лишь по берегам покрытой тонкими полосами синеватого льда.
Пошли наскоро мазанные избёнки пригорода старой столицы, мелькнули в окошке и исчезли из глаз красные стены Кремля, и карета остановилась у резных дубовых ворот господского дома Нарышкиных — тяжёлого, длинного, приземистого, строенного ещё в старомосковском стиле дворца с высоким резным деревянным крыльцом под тесовой крышей и аллеями, ведущими с двух сторон к парадному подъезду.
Пока коляски подкатывали к крыльцу, на него выскочил хозяин — Михаил Петрович Нарышкин, высокий, прямой, ещё не старый боярин, отставной подполковник, в наспех накинутой шубе и с седой непокрытой головой. Выбежал и кричал младший брат Маргариты — пятилетний Мишаня, за ним выскочил ливрейный слуга и принялся одевать непослушного мальчишку.
Не дожидаясь помощи рослых гайдуков, Маргарита легко соскочила с подножки кареты и бросилась к отцу, зарылась лицом в его мохнатую шубу и расцеловала крепкое, немного грубоватое лицо. Обе его румяные щеки она разгладила своими нежными тонкими руками, пригладила поседевшие бакенбарды, влажные от мороза усы, а потом ткнулась носом в пухлые щёки младшего брата.
— Ох и непоседа, — горделиво вздохнула Варвара Алексеевна и тяжело полезла из кареты, поддерживаемая крепкими руками гайдуков.
Ещё не поднявшись на крыльцо, она приостановилась, обернулась к Ласунской и ласково сказала:
— Добро пожаловать в нашу берлогу...
Ласунская несмело поставила ногу на подножку, чуть не поскользнулась и ступила на землю, тоже подхваченная могучими руками слуг.
— Принимай гостей, Михайла Петрович, — громко произнесла Варвара Алексеевна, едва успев взойти по ступенькам, словно бы предупреждала мужа о посторонних.
— Заждался вас, красавицы вы мои, — бормотал Михаил Петрович, тыкаясь маленьким красным носом в свежее, пылающее с мороза лицо дочери и раскрывая объятия жене, тяжело поднимающейся по ступенькам.
— Прежде позволь тебе представить спутницу нашу, Марью Андреевну Ласунскую, — скороговоркой представила она гостью мужу и предупреждая его поцелуи и объятия.
— С миром вас, добро пожаловать, — склонился над дряблой холодной рукой Ласунской старый подполковник, — уж не взыщите, чувствуйте себя как дома, а мы с мамой поцелуемся, не осудите...
Он чмокнул воздух над рукой Ласунской и кинулся к жене, уткнувшись лицом в холодный меховой воротник и оглаживая её свежее, всё ещё молодое лицо. — Заждались, девчонки теребят, Мишаня и вовсе извёл, где моя милая матушка да сеструня моя родная...
Ласунская с острой завистью наблюдала за этой тёплой встречей. Пятилетний мальчишка жался к ногам матери. Маргарита, успевшая слетать в дом и снова выскочившая на крыльцо уже без меховой накидки и капора, тащила её за руку в тёмные прохладные сени, а потом в большую круглую горницу с жарко пылавшей большой русской печью.
— Теперь пойдут поцелуи да приговоры! — закричала она и скомандовала: — Глаша, Груша, помогите госпоже раздеться! — И сама принялась помогать Ласунской распутывать многочисленные тёплые платки.
Старенький потёртый баульчик Ласунской уже стоял у дверей комнаты, и она несмело вошла, чувствуя себя чужой и лишней в этой богато и аккуратно убранной горнице. Хоть и была низковата она, но старинная резная мебель, просторные кресла и диваны, в алькове кровать под балдахином, прикрытая кашемировыми занавесками, — всё это вызвало у неё умиление и воспоминания о былой роскоши, окружавшей её в доме родителей, а затем и мужа...
Она подошла к старинному высокому зеркалу, вгляделась в своё постаревшее лицо, в поседевшие волосы, забранные под старый, поношенный чепец, увидела щётки и гребни, разложенные на подзеркальнике, положила голову на руки и заплакала тихо и беззвучно...
Потом вскинула голову и принялась приводить себя в порядок. И ни на минуту не выходила у неё из головы ещё в дороге промелькнувшая мысль: как бы сделать так, чтобы её Поль, её дорогой мальчик, и эта милая резвая девочка...
Она ещё не додумала свою мысль, но отчётливо встала перед ней вся эта большая, дружная и весёлая семья. Как они добры и щедры и как беззаботна и ласкова эта четырнадцатилетняя девочка! Она сразу почувствовала в ней родную себе, близкую, её живость, её щедрое сердечко так много обещало в будущем! «Дай ей Бог хорошего жениха», — подумала Ласунская и внезапно увидела лицо Поля и лицо Маргариты перед сверкающими огоньками свеч в церкви.
И она начала свою игру очень тонко и умно. За огромным обеденным столом в большой столовой зале, низковатой, но просторной, собралось больше двадцати человек. Тут были и все дети, притихшие и старательно соблюдавшие весь обеденный ритуал, и воспитатель Миши, худой и мрачный старик француз, и бонны девочек, у каждой своя. Ласунскую посадили рядом с хозяйкой дома, и она обрадовалась этому как хорошему предзнаменованию.
— Какая у вас чудесная семья, — тихонько сказала она Варваре Алексеевне перед второй переменой, — а дети... Боже, я так давно не видела таких воспитанных и смышлёных детей...
Нарышкина покосилась на неё, но ничего не ответила. Правда, видно было, что похвалы гостьи ей приятны. А Ласунская, заметив это, продолжала хвалить и дом, в котором живут так ладно, мирно, и живую обстановку всего обеда. Но особенно налегала она на комплименты Маргарите: и весёлая, и добрая, и умница...
Варвара Алексеевна смотрела на свою семью словно бы глазами гостьи и радовалась, что есть и человек со стороны, который оценил по достоинству её большое семейство.
— А какая замечательная была семья у нас, — тихонько рассказывала Ласунская Варваре Алексеевне, — какой прекрасный человек был мой супруг! — Она едва заметно выпустила слезу, но как бы спохватилась: не время и не место для печальных историй. — Прелестные девочки, все четыре удачно вышли замуж. Теперь только Поль у меня на руках... Впрочем, что я говорю. Поль с его образованием, его доброй душой и прекрасным сердцем составит счастье любой женщины. Он так добр ко мне, — продолжала она нахваливать сына, — так предан мне, что даже не хочет жениться, чтобы не покинуть меня.
Она так расписывала достоинства Поля, что Варвара Алексеевна не преминула пригласить Ласунскую в гости вместе с её замечательным сыном.
Несколько раз ещё съездила Ласунская к Нарышкиным и через несколько месяцев решилась показать сына.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Своенравный дерзкий упрямец Константин от души радовался предстоящей свободе. Но не тому, что обзаведётся собственным домом, женой славного и знатного рода, начнёт строить собственную семью, как и старший брат Александр, а тому, что кончится, наконец, это нудное учение, наставления Лагарпа, поучения славного старика Салтыкова, что можно будет забросить книжки подальше в угол и больше не вспоминать о них. Он не заботился о том, что воспитателям его приходилось бесконечно трудно с ним, сорванцом и упрямцем, Не вспоминал, как в припадке гнева и бешенства от бесконечных и нудных поучений прокусил Лагарпу руку, а своих непосредственных воспитателей изводил бесконечными «не хочу», «не стану», «не буду».
Но и то сказать, ближайший его воспитатель граф Карл Иванович Остен-Сакен, по отзывам современников, был дураком, интриганом и завистником и по своему слабоволию, снисходительности и подхалимству никак не мог внушить к себе какого бы то ни было уважения со стороны великого князя, с самого детства отличавшегося разнузданностью и невоздержанностью характера. И Константин, как он сам не раз потом говорил, делал с Сакеном всё, что хотел.
Заставлял воспитатель маленького упрямца читать — в одиннадцать лет великий князь ещё с трудом разбирал склады, — а Константин, нагло глядя в глаза своему наставнику, холодно отвечал:
— Не хочу читать...
Остен-Сакен терялся от такого прямого заявления и продолжал настаивать, и тогда Константин бросал ему:
— А не хочу именно потому, что вижу, как вы, постоянно читая, глупеете день ото дня...
Дерзкая и грубая речь эта не нашла отповеди в окружающих. Наоборот, льстя детскому самолюбию, лакеи и другие придворные хохотали, отмечая остроумный и находчивый ответ непокорника.
— Безоглядность заменяет у него ум, — отзывался один из придворных, — а дерзкими выходками он заменяет популярность...
Однако добрые задатки Константина оставались в его сердце; их, правда, тщетно старался развить республиканец Лагарп. Воспитатели не заметили в Константине щедрости и храбрости, предельной откровенности и подавляли эти задатки. Его храбрость была настолько безоглядной, что все его дерзкие и грубые выходки шли именно от неё, но разглядеть в нём эту черту характера удавалось немногим. Даже царственная бабка, так любившая обоих своих старших внуков, разразилась раздражённым письмом графу Салтыкову, отвечавшему за их воспитание, незадолго до сватовства немецких принцесс:
«Я сегодня хотела говорить с моим сыном и рассказывать ему всё дурное поведение Константина Павловича, дабы всем родом сделать общее противу вертопраха и его унять, понеже поношение нанести всему роду, буде не уймётся. И я при первом случае говорить собираюсь и уверена, что великий князь со мною согласен будет. Я Константину, конечно, потакать никак не намерена. А как великий князь уехал в Павловское, и нужно унять хоть Константина как возможно скорее, то скажите ему от меня и именем моим, чтоб он впредь воздержался от злословия, сквернословия и беспутства, буде он не захочет до того довести, чтоб я над ним сделала пример. Мне известно бесчинное, бесчестное и непристойное поведение его в доме генерал-прокурора, где он не оставлял ни мужчину, ни женщину без позорного ругательства, даже обнаружили к Вам неблагодарность, понося Вас и жену Вашу, что столь нагло и постыдно и бессовестно им произнесено было — что не токмо многие наши, но даже и шведы без содрогания, соблазна и омерзения слышать не могли. Сверх того, он со всякою подлостью везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойной фамильярностью, что я того и смотрю, что его где прибьют, к стыду и крайней неприятности. Я не понимаю, откудова в нём вселился таковой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий! Повторите ему, чтоб исправил своё поведение и во всём поступал прилично роду и сану своему, дабы в противном случае, есть ли ещё посрамит оное, я б не нашлась в необходимости взять противу того строгие меры...»
На первый случай Екатерина посадила его под домашний арест на хлеб и воду. И это его, Константина, которому с самого рождения прочила она столько корон!
Сперва это была византийская корона. В пылком и щедром воображении её ближайшего сподвижника, князя светлейшего Потёмкина, зародилась эта мысль, не лишённая, впрочем, реального основания.
Изгнать турок из Европы, овладеть Константинополем, восстановить там древний престол восточно-римских или византийских императоров и посадить на него Константина, наследника великого русского императорского дома, — казалось, при тогдашнем положении политических дел это предприятие не представляло затруднений: раздробленная Германия не могла, да и не видела никакой надобности вмешиваться в дела европейского Востока. Англия ещё не утвердилась там окончательно и бесповоротно, да кроме того, встречала решительный отпор со стороны Франции, соперницы вездесущей. Австрия и Франция враждовали между собой, и нетрудно было возбудить между ними войну из-за этой вековой вражды, а ослабленная Речь Посполитая могла бы стать хорошей добычей и для Австрии, и для Франции и Пруссии, если бы они вздумали препятствовать греческому плану. Да и расправиться с Оттоманской Портой послу Кучук-Кайнарджийского мира не представлялось задачей слишком уж сложной.
Словом, едва появился на свет Константин, уже решено было, что он воссядет на византийский престол. Даже имя его было выбрано с той же самой мыслью о византийском престоле — имя первого основателя Константинополя на месте Древней Византии, то же имя носил и последний представитель славной династии Палеологов, павшей в отчаянной битве при взятии турками Царьграда. И императрица, не стесняясь, стала говорить в кругу своих приближённых о будущей судьбе второго своего внука. Придворные пииты тотчас рассыпались в восхвалении новорождённого:
Князь Фёдор Сергеевич Голицын написал предлинную песнь на его рождение, хоть и скромно подписался одними лишь первыми буквами своего имени:
Впрочем, и в официальном манифесте по случаю рождения Константина Екатерина прозрачно намекнула на мысли, тогда ею владевшие:
«Мы и в сём случае с достодолжным благодарением ощущаем Промысел Всевышнего, судьбу царств зиждущий, что сим новым приращением нашего императорского дома даёт он вящий залог благоволения своего, на оный и на всю империю изливаемый. Возвещая о сём верным нашим подданным, пребываем удостоверены, что все они соединят с нами к Подателю всех благ усердные молитвы о благополучном возрасте, сего любезного нам внука в расширение славы дома нашего и пользы отечества...»
Ещё в пелёнках был Константин именован великим князем и императорским высочеством. И сразу появились у его колыбели греки: кормилицей стала гречанка Елена, а первым слугою — Дмитрий Курута, сопровождавший Константина до самой его смерти...
И товарищами его первых игр были греческие мальчики. Калагеоргий позже стал даже екатеринославским губернатором. Так что с самого рождения Константин знал, что он будет греческим императором, превосходно болтал на греческом и увлекался чтением исторических хроник времён Византии.
Даже греки начинали смотреть на маленького Константина как на будущего своего императора. Был убит наследник Али-паши, и греки отправили в Петербург депутацию, поднёсшую оружие, которым был уничтожен сын Али-паши, правивший от имени турецкого султана подавленной Грецией. Они всемилостивейше выразили желание видеть на своём престоле Константина, и маленький Константин отвечал на эти просьбы и желания по-гречески.
И вот теперь будущий византийский император сидел на хлебе и воде...
Впервые испугался он, хотя и слыл отчаянным храбрецом. Лишь двух людей на свете боялся он — своего отца, сурового и мрачного Павла Петровича, да царственной бабки, запросто могущей лишить его не только будущего греческого венца, но и звания высочества.
Он так испугался, что лихорадка забила его возмужавшее не по летам крепкое упругое тело. Жар прожигал насквозь его пылающий лоб, озноб то и дело сотрясал всё тело, а желудок вдруг ослабел и не переносил даже хлеба и воды.
Предвидя схватки упрямого мальчика с жизнью, его воспитатель Лагарп однажды написал:
«Упорство, гнев и насилие побеждаются в частном человеке общественным воспитанием, столкновением с другими людьми, силою общественного мнения, в особенности законами, так что общество не будет потрясено взрывами его страстей. Член же царской семьи находится в диаметрально противоположных условиях — высокое положение его в обществе лишает его высших, равных и друзей. Он чаще всего в окружающих его встречает толпу, созданную для него и подчинённую его капризу. Привыкая действовать под впечатлением минуты, он не замечает даже наносимых им смертельных обид и убеждён в том, что оскорбления со стороны лиц, подобных ему, забываются обиженными. Он не знает, что молчание угнетаемых представляет ещё сомнительный признак забвения обид и что, подобно молнии, которая блеснёт и нанесёт смертельный удар в одно мгновение, — месть оскорблённых людей так же быстра, жестока и неумолима...»
Воспитатель провидел судьбу этого баловня царского трона.
Лагарп требовал строгости в наказаниях, но Екатерина как могла смягчала это требование. Теперь впервые почувствовал Константин тяжёлую руку своей бабки.
Со смертью светлейшего князя Потёмкина рухнули все мечты Константина, уже видевшего себя в лучах семизвёздной диадемы византийских государей. Напуганная пугачёвщиной и ростом народных волнений в Европе, Екатерина заботилась теперь лишь об укреплении своего трона, и разговоры о Византии были забыты. Не забыл своих мечтаний только маленький претендент на этот престол. Он затаился, не высказывал горьких сожалений и надежд, но его гнев и бессилие проявлялись в его диких выходках и капризах, в ругани и оскорблениях всех придворных.
Едва Константина выпустили из-под домашнего ареста, он помчался к Платону Зубову. Он жаловался ему на жестокое обращение, на арест и, словно бы надеясь на его поддержку, постоянно ходил с ним рука об руку, зная прекрасно, какое влияние имеет этот фаворит на императрицу.
Пятнадцатилетняя Юлиана-Генриетта-Ульрика произвела на Константина неизгладимое впечатление. Тёмные волосы её были уложены в высокую и замысловатую причёску, заколотую прекрасными костяными гребнями, немного увеличивающую её небольшой рост, карие, с блеском и влагой, глаза смотрели серьёзно и вдумчиво; она, не стесняясь, взглянула на Константина в первое же знакомство с таким достоинством и вместе с тем интересом, что он забыл и думать о двух её старших сёстрах, тоже хорошеньких и умненьких. Екатерина призвала его к себе, улыбаясь спросила, которую из сестёр он предпочёл бы видеть своей женой, и, предупредив его ответ, добавила:
— Тебе жениться, следственно, тебе и выбирать...
Он покраснел, смешался и учтиво ответил:
— На которую покажет ваше императорское величество...
— Как насчёт младшей? — весело подмигнула ему Екатерина.
— Бабушка моя милая, угадала моё заветное желание, — ещё больше покраснел Константин, а она, жестом руки отпуская внука, сказала вслед его широкой спине:
— И мне она нравится больше других. Так и будет. Да пригласи-ка их пройтись по Эрмитажу, покажи им дворец, вот и состоится короткое знакомство...
Константин тотчас послал камергера осведомиться, не пожелают ли герцогиня и её дочери прогуляться по Эрмитажу. Те тотчас согласились, и Константин, стоя в парадных дверях роскошной залы, встретил их учтивыми поклонами. Но робость одолела его, он поцеловал руку своей будущей тёщи, повёл всех по залам и, сопровождая свои объяснения лёгкими жестами в сторону картин и статуй, всё взглядывал на герцогиню. Она мило улыбалась, девицы во все глаза смотрели на собранные богатства, изумлялись, но не решались задать Константину ни одного вопроса.
Вспотевший от напряжения и выдержки Константин уже готов был проститься с дамами, вернувшись к входу в их апартаменты, когда герцогиня, мило улыбаясь, пригласила его к чаю.
Так и виделось, что Константину не хочется уходить от этих милых, приветливых улыбок, какой-то особой атмосферы тепла и уюта. Он в восторге наклонил голову, всё ещё не решаясь взглянуть на свою нареченную невесту. А она была чудо как хороша в атласной голубой тунике и положенном на её высокую причёску венком из белых роз. Он лишь искоса бросал на неё мимолётный взгляд, и в его больших голубых глазах загорался огонь любопытства, но природная застенчивость и странное внутреннее смущение заставляли его отводить глаза и останавливать их то на стального цвета нарядном платье матери невесты, то на хорошеньких глазках старших сестёр, тихо пересмеивающихся между собой.
Отпив несколько глотков чаю из тончайшей фарфоровой чашки, Константин встал, собираясь уходить, чтобы освободиться наконец от напряжения, но герцогиня с нежной улыбкой сказала:
— Может быть, вы, великий князь, пожелаете откушать с нами и ужин...
Он хотел было отказаться, но ему показалось, что нельзя быть таким невежливым, и он остался. Но и за ужином он не решался бросить прямой взгляд на младшую из сестёр и чинно говорил какие-то слова, чувствуя себя не в своей тарелке.
Затруднений с брачным договором не предвиделось. Герцогиня согласилась и на принятие Юлианой православного вероисповедания, и на скорое обручение, и на свадьбу, которую так поспешно готовили. Мало того, она должна была уехать ещё до свадьбы, отбыть в Кобург вместе с двумя своими старшими дочерьми. Её расчёт, что удастся выдать замуж старшую, не оправдался, но всё равно она была в восторге от русского двора и в восхищении писала своему мужу:
«Всё решено так, как ты и ожидал. Звезда Юлии взяла верх, и это лучше, что так вышло. У ней больше достоинства и характера, нежели у нашей милой доброй Натты. На взгляд императрицы, всех красивее София, и она сказала другу нашему, генералу Будбергу: «Если б можно было, я оставила бы всех трёх, но раз Константину жениться, то пусть он и выбирает...»
Нисколько не смущалась бедная герцогиня Кобургская, что так бесцеремонно обходилась Екатерина с ней и её дочерьми.
На другой день вечером Константин снова явился в апартаменты кобургских невест и на этот раз вёл себя более развязно, чем в первый. Он просил принцесс играть на клавикордах и петь, старался говорить по-немецки, потому что заметил огоньки смеха в глазах девушек: их забавляло его коверканье немецких слов.
Девушки старательно пели под аккомпанемент Натты, а София начала рисовать пирожницу, которая стоит на улице, продавая снедь. Тогда Константин вынул портрет императрицы, гравированный на медь, и преподнёс его девушкам.
Он теперь во все глаза глядел на свою будущую жену и видел только её одну, хотя и сказал Софии, что хотел бы видеть двух гусаров, потому что душа его исполнена воинственности и всё, что связано с войском, дорого ему и свято. София немедленно отозвалась на это желание великого князя и набросала рисунок. Константин в восторге схватил его и просил подарить ему. София с удовольствием исполнила это желание. Однако со своей невестой он не сказал ещё и двух слов, хотя со старшими девицами уже шутил и много смеялся.
В эту ночь он почти не спал: так и стояла перед его глазами тоненькая изящная девушка с большими карими глазами и маленьким пунцовым ртом, открывающим перламутровые мелкие зубы, её нежный румянец, венок из белых роз на тёмных волосах и нежные белые руки с длинными пальчиками.
Он был охвачен нежностью, готов был восхищаться своей принцессой. О страсти, о любовном порыве не было и речи.
Брачный договор был подписан и скреплён печатями с обеих сторон, императрица уже назначила день свадьбы, принцесса Кобургская со старшими дочерьми принялась готовиться к отъезду, а Константин ещё и словом не перемолвился с невестой.
Весь день он жался к Платону Александровичу Зубову, слушал его наставления и советы и раздражённо взглядывал на то и дело подходившего генерала Будберга, устроившего этот брак. Он показывал на него пальцем и возмущённо бросал:
— Не разрешает мне приходить к невесте слишком часто, а я хотел бы видеть её и знать, что она думает обо мне...
— Зачем? — мило растягивал в улыбке тонкие губы Зубов. — Разве женщины выбирают себе мужей, разве невесты могут противоречить тому, что сказано отцом и матерью?
Константин неприязненно глядел на красавчика фаворита и хотел было едко ответить, что не сам же Зубов выбрал его бабку, а как раз наоборот. Но вовремя прикусил язык: Зубов никогда не простил бы ему этих слов, а Константин ещё не забыл пустую одинокую комнату и хлеб с водой своего недавнего ареста.
Накануне формального сватовства Екатерина призвала к себе внука, обняла его со слезами на глазах, расцеловала и рассказала, какие предприняла шаги, чтобы устроить счастье двух юных сердец. Для жительства молодой пары она определила Мраморный дворец, добавила нескольких придворных Константину, а молодой его супруге установила вовсе небольшой штат — три фрейлины, да три камергера, да в помощь им три камер-пажа. Гофмаршалом их маленького двора назначен был полковник князь Борис Голицын.
— А теперь, внука моя дорогая, произнеси по-немецки самую торжественную фразу, обращённую к герцогине...
— Мадам, — немного оторопелым голосом произнёс Константин, — позвольте мне жениться на вашей дочери Юлиане...
— Нет, — засмеялась Екатерина, — ещё мы и спрашивать у неё позволения будем...
Константин покраснел и твёрдо сказал:
— Милая моя бабушка, ваше императорское величество, я не позволю себе уронить вашей чести и славы нашего отечества...
— Вот таким я тебя люблю, — опять засмеялась Екатерина и снова расцеловала внука. — А теперь иди, милый, и готовься к завтрашнему сражению...
С самого утра Константин твердил вместе с Зубовым треклятую фразу, чтобы она была отмечена и достоинством русского двора, и в то же время отличалась учтивостью:
— Мадам, я прошу вашего позволения сделать предложение руки и сердца вашей дочери...
Бледный, дрожащий стоял он перед герцогиней, но едва вымолвил застрявшую в памяти фразу, как всё его волнение исчезло, и он с большим удивлением увидел на глазах герцогини Кобургской слёзы. Константин терпеть не мог женских слёз и всегда пасовал перед этим самым сильным оружием. Герцогиня не только прослезилась, она откровенно зарыдала — волнения последних дней сказались на её нервах. Константин стоял растерянный и непонимающий: что такого он сказал, чтобы можно было так громко рыдать? Он склонился над рукой своей будущей тёщи и поцеловал её — лишь таким путём можно было усмирить поток слёз. Его и самого подмывало пустить слезу: всё-таки торжественность момента подействовала и на него.
— Успокойтесь, герцогиня, — начал было он, но она уже оправилась и согласно закивала головой.
— Вам, великий князь Константин, вверяю я судьбу и жизнь моей любимой дочери, — всё ещё дрожащим голосом заговорила герцогиня. — Чувства моей дочери к вам дадут вам возможность составить её счастье, и с этой минуты судьба моей дочери и её счастье зависят только от вас...
Она позвонила и позвала появившегося лакея за дочерью. Юлия уже обо всём знала, она встала на пороге бледная и взволнованная. Константин быстро подошёл к ней, взял её тонкую нежную руку и поднёс к губам.
Он не сказал ни слова; она, взглянув на заплаканную мать, сама прослезилась — сжатые губы, бледные щёки и эти крохотные слезинки, падающие на грудь и проложившие две мокрые дорожки на лице, растрогали Константина.
— Не правда ли, вы со временем полюбите меня? — прошептал он.
Она взглянула на его взволнованное и полное доброты лицо, на его курносый нос и румяные щёки и тихо ответила:
— Да, я буду любить вас всем сердцем...
— Как был бы счастлив отец, увидев вас двоих здесь, в этой зале, при такой сцене! Почему не может он увидеть всего этого...
Константин вздрогнул и повернулся к герцогине, а Юлия теперь заплакала уже в голос. Он быстро поворотился к невесте, изумлённый этими бурными рыданиями, взял её за обе руки, прижал к сердцу и проговорил по-французски:
— Клянусь вам перед Богом, что вы увидите вашего батюшку. Обещаю, что повезу вас в Германию, не знаю лишь, когда это будет, потому что зависит от её величества, но уж если я обещаю, то крепко держусь своего слова — вы увидите вашего батюшку, и я увижу его... — Потом, обернувшись к герцогине, снова произнёс: — Вы увидите её у себя, обещаю вам это...
Если б только знал он, при каких обстоятельствах увидит Юлия своих отца и мать!
Слёзы быстро кончились, и Константин присел на широкую ручку дивана, где восседала герцогиня. Юлия поместилась рядом с матерью, и Константин то и дело брал её руку и неслышно прикасался к ней губами.
— Как я люблю вас, — тихо шептал он.
Глаза его были устремлены на Юлию, и она, понимая, что слова эти относятся именно к ней, опускала свои прелестные тёмные глаза, и румянец удовольствия вспыхивал на её смугловатых щеках.
Так и сидел бы Константин подле двух этих красивых женщин, но этикет и приличия не позволяли ему оставаться долее.
На другой же день после формального предложения, сделанного Константином, императрица приняла кобургских принцесс с матерью во время чесания волос. Она не встала с кресла, на котором сидела, лишь Юлия подошла к ней, и Екатерина, не прерывая занятия своего куафёра, несколько раз поцеловала красивую девочку, а на прощание добавила весьма неискусный комплимент:
— Могу вам сообщить, что дочь ваша столько же нравится Константину, сколько и публике...
Герцогиня расцвела от этих слов, бросилась к императрице, поцеловала у неё руку и рассыпалась в благодарственных словах...
Через несколько дней назначена была официальная помолвка великого князя с принцессой Кобургской, а через две недели и выезд её матушки из России. Чтобы не обидеть двух старших дочерей, отвергнутых великим князем, императрица прислала девушкам большой ящик, наполненный драгоценностями. Герцогиня целый день любовалась бриллиантовым ожерельем, подаренным ей лично, серьгами, алмазным цветком для украшения причёски, то и дело примеряла жемчужные браслеты и кольцо с огромным бриллиантом, а потом надевала на дочерей такие же уборы, предназначенные для каждой. Особые подарки были сделаны невесте — сверкающий бриллиантовый убор на голову и чудесные тяжёлые браслеты. Придворные дамы невесты тоже не были забыты: кольца и серьги с бриллиантами украсили их руки. Заботливая бабушка жениха скромно прислала теперешней своей бедной родственнице и вексель на получение 80 тысяч рублей в Лейпциге да для каждой из дочерей по 50 тысяч. Даже прислуга принцесс получила богатые подарки.
Юлию поместили под присмотр баронессы Ливен, занимавшейся воспитанием великих княжон, дочерей Павла. Сам Павел видел герцогиню лишь несколько раз, бывал мрачен и неразговорчив на приёмах и знать ничего не хотел обо всех приготовлениях к свадьбе. Одна только Мария Фёдоровна, его жена, уже грузная, полнотелая женщина, почти на голову выше мужа, субтильного, узкогрудого и постоянно унылого, хлопотала и суетилась.
Под доглядом Марии Фёдоровны и под присмотром всех воспитательниц её дочерей Юлия начала обучаться Закону Божьему, а потом и русскому языку, преподавать который назначено было майору Муравьеву, состоявшему и при Константине.
При большом стечении придворных Юлия приняла через три месяца православную веру. Она прилежно училась, чётко, ясно и звонко произнесла Символ веры, старалась со всеми говорить по-русски, и скоро её немножко ломаная русская речь восхищала всех приближённых.
На другой же день после перехода в православную веру Юлия была обручена с Константином Павловичем. Теперь, впрочем, её звали уже не тремя немецкими именами, а одним русским — Анна Фёдоровна.
С умилением наблюдала старая императрица за обручением своего внука. Они едва коснулись губами друг друга, обменялись перстнями и упали на колени перед Екатериной. Заученные благодарственные слова были сказаны и Константином, и новой великой княжной Анной, как повелела именовать её Екатерина.
Через две недели настал и черёд бракосочетания.
Свадебное торжество проходило с той же пышной торжественностью, что и бракосочетание Александра. В Зимний съехались все знатные люди государства, а на Дворцовой площади выстроились все войска, бывшие в то время в столице. Их строгое каре как будто подчёркивало парадность процедуры.
Анна волновалась, бледная и каменная сидела она перед зеркалом, а возле неё толпились все статс-дамы, одевавшие её к венцу. Строгое и бледное личико пятнадцатилетней девочки украсилось бриллиантовой диадемой, её роскошные густые тёмные волосы были напудрены и уложены в высокую замысловатую причёску. Свадебное платье едва держалось на худеньких плечах знатной невесты, зато широкий и длинный шлейф покрывал весь пол возле зеркала. Позже его несли шестнадцать молоденьких пажей, одетых ангелами.
В самой большой зале дворца устроен был род церкви — всё высшее духовенство столицы собралось для проведения торжественного обряда. Важно выступали в паре два знатных человека, которым предстояло держать золотые венцы над головами новобрачных, — Иван Иванович Шувалов, обер-камергер и всё ещё пользующийся всеми благами фаворит Елизаветы Петровны, высокий и суровый старик с накладным париком старых елизаветинских времён, и блистательный субтильный Платон Александрович Зубов, теперешний фаворит императрицы, теперь уже генерал-фельдцейхмейстер и граф.
Всё это блестящее, сверкающее золотом, бриллиантами и драгоценными камнями сборище устремило свои взгляды на бледную невесту, которую вывели из внутренних покоев, а потом и на одетого в белый кружевной камзол и украшенного звёздами Константина, едва передвигающего ноги от волнения и страха.
Впрочем, скоро его страх прошёл: Екатерина милостиво улыбалась ему со своего места, мать, высокая статная Мария Фёдоровна, ласково кивала головой, и даже отец, резко отличавшийся от всех простым военным тёмно-зелёным мундиром прусского образца, подобрел глазами.
Яркое шествие к устроенному аналою вскоре завершилось, и жених с невестой предстали перед блистающими ризами духовника императрицы, важных и дородных священников, помогающих при свершении обряда.
Поднялись над головами этих детей золотые венцы, священники совершили обряд с подобающей медлительностью и пышностью, едва слышные «да» прозвучали в переполненной зале, и вот уже Константин и Анна повернулись друг к другу.
Константин впервые увидел близко бледное лицо невесты, казалось, она была недалёка от обморока.
— Держитесь, — негромко проговорил он и взял её за локоть.
Но Анна отстранилась, взглянула на него с мольбой и грустью, и в этом взгляде он прочёл всё — и страх, и ожидание неизвестного, и великий ужас перед таинством, совершаемым не по её привычным обрядам, и стремление убежать к матери и спрятать лицо в её широких плечах, и страстное желание оказаться достойной всей этой расфранчённой и раздушенной толпы.
Ещё ближе подвинувшись к ней, Константин тихонько прошептал:
— Мужайтесь, теперь вы жена солдата, а она должна выносить все тяготы солдатской жизни.
Она удивлённо повернула к нему лицо: не таких слов ожидала она от будущего мужа.
Но всё на свете кончается, закончился и этот утомительный и тягучий церковный обряд. И сразу зашумели в зале, проталкивались к молодым, чтобы поздравить и показаться — авось одарят чем-либо, а императрица со слезами поцеловала внука и названую теперь внучку.
Когда поток поздравлений, целований рук и обильных комплиментов иссяк, Екатерина, тяжело подпираясь тростью, встала со своего парадного кресла и подала знак к торжественному обеду. Загремели трубы и литавры, заухали пушки, загрохотало на площади громкоголосое «ура!», донёсшееся сюда лишь неразборчивым шумом, и процессия, возглавляемая самой императрицей, её сыном и невесткой, а потом и молодыми, направилась в столовую залу, где накрыт был длиннейший стол на четыреста самых знатных персон государства. На отдельном помосте возвышался стол для всей семьи Екатерины, для молодых, и за их стульями стояли самые блестящие мужи всего царства.
Почти ничего не ели и не пили молодые — бесконечные здравицы в их честь, в честь императрицы и всей её семьи заставляли их то и дело вставать и пригубливать золотые кубки, стоявшие перед ними. Анна лишь прикладывала кубок к губам, а Константин отпивал часто и к концу обеда был уже заметно навеселе.
Торжественность и распорядок обеда не были нарушены ничем — всё время ухали за окнами пушки, заставляя дребезжать стёкла, ревело многоголосое «ура», трубы и литавры заглушали голоса.
Русский обычай кричать «горько», заставляя молодых целоваться под этот крик, процветал и здесь, и кто только из придворных, желая выслужиться и отличиться, не выкрикивал это насмешливое и игривое «горько». К концу обеда Константин уже впивался губами в бескровные дрожащие губы молодой жены, и Анна бледнела всё больше и больше.
Но вот заревели музыкальные инструменты, зовя на ритурнель[7], за столом задвигались, поднимаясь к танцам и простору больших иллюминованных залов, и первый тур танца пришлось одолеть молодым.
Константин, разгорячённый вином и значительностью минуты, старался держаться горделиво, но это ему плохо удавалось. Он кружил свою молодую жену так, что ей едва удавалось переставлять ноги в такт музыке, наступал ей на бальные туфельки и шептал на ушко какие-то странные слова, которые она никогда не слышала...
Однако и во время бала не случилось никаких происшествий, танцы продолжались со всей строгостью дворцового этикета — императрица не любила никаких нарушений во время балов, хотя на своих интимных приёмах, где присутствовали лишь самые близкие ей люди, позволяла делать всё, что угодно.
Вся придворная знать следила не только за молодыми — особой статью и красотой отличалась и другая пара — Александр и Елизавета. Старший брат умел держаться естественно и непринуждённо, оставаясь в то же время царственно-величественным. А его тоненькая и стройная жена словно обвивалась вокруг могучего дуба — так легка и изящна была её фигура.
Но вот вышли из залы Александр с Елизаветой, проследовали за ними родители — Павел Петрович и Мария Фёдоровна, и молодых пригласили пройти в карету, назначенную для отъезда на новое место жительства. Шестеро блестящих гусар на вороных конях и с зажжёнными факелами в руках сопровождали их по лестнице, торжественный поезд был составлен из золочёных карет, окружённых лейб-гвардейцами, придворным конвоем конногвардейского полка. Родители, старший брат и молодые вместе со штатом придворных отправились в Мраморный дворец, назначенный Константину для жительства.
Везде горели огни, рассекая темноту северной ночи — Петропавловская крепость, Адмиралтейство чётко выделялись на фоне чёрного неба, освещённые парадными огнями; чёткое каре войск на Дворцовой площади сопровождало все выходы всех членов царской фамилии слитным «ура», а восьмёрка белых скакунов перед каретой молодых так и рвалась в путь. Великолепный фейерверк, сопутствовавший до самого Мраморного дворца, — зрелище было необычайное...
На лестнице Мраморного дворца молодых встретили Александр с Елизаветой, родители снова благословили новобрачных, со всеми церемониями отвели их в спальные покои.
Шум торжества и сверкание огней остались за окнами, и они взглянули друг на друга...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Михаил Петрович никак не мог устоять перед старшей дочерью. Сказала, что поедет на охоту вместе с ним, — и поехала. Сказала, чтоб седлали ей Голиафа — вороного жеребца с широкой, как диван, спиной, и Михаил Петрович лишь пожал плечами. Сказала, что наденет мужскую амазонку, — и вот, пожалуйста, вертится в широких меховых сапогах со шпорами, да в ладных толстых лосинах в обтяжку, да в мужском тёплом сюртуке с меховой опушкой. Только вот шляпку-амазонку надела женскую — меховую и с лёгким фазаньим пёрышком.
Сказала, что поедет по-мужски, и седло велела ставить мужское, и поехала-таки по-мужски, широко раскинув ноги на просторной спине Голиафа. Но Михаил Петрович, несмотря на своё брюзжание и строго поджатые губы, взирал на все её проделки с удовольствием и любовью. «Хороша девка, — думалось ему, — огонь, а не девка, будто и не от Варвары Алексеевны родилась. Той и в жизни не примыслилось бы сесть на коня, да ещё по-мужски, могла лишь в карете ездить, да и то тесно набитой пуховиками. А эта ровно и не в княжеской семье родилась, всё под руками горит, а уж рукоделье и за дело не считает...»
Так они и выехали ранним морозным утром — пострелять зайцев, потравить собаками лису, а может, и вепрь попадётся. Недурна охота по такой поре: снежок мягкий, пушистый, на нём все следы как на бумаге — вон ворона побегала в поисках еловых шишек, а вон и заяц пропетлял по кривой да извилистой дорожке.
Ели стояли сплошь облепленные снегом, и не дай бог стать под одну лапу: встряхнёт лёгкий ветерок ветку, и весь снег за воротом!
Поля — словно простыня белая, будто выстирали её к празднику да подсинили на славу — так и отдаёт голубизной.
А лес стоит редкий, дерево от дерева далеко: голыми сучьями топорщатся в небо белоствольные берёзы, раскорячились чёрными стволами дубы, а сосны да ёлки так и прошивают весь лес насквозь — можно строить весь гон...
Михаил Петрович — охотник бывалый. Это теперь, когда постарел да брюхо наел, не может пойти на медведя с рогатиной, как некогда в молодости, или на дикого кабана с одним кинжалом. Теперь всё больше в седле да по мелкой живности — зайца там или лису затравить, а молодых да сильных вперёд пустить. Жаль только, что не родилась дочка парнем — то-то знатный охотник вышел бы из неё. Поглядеть — сидит в седле будто влитая, и кажется, что с конём одно целое составляет: ни тебе вихляния в седле, ни тебе припрыжки при галопе. Одно слово — всадница хорошая...
И пока трусил он мелкой рысцой на каурой смирной лошадке за остальными охотниками, то и дело взглядывал на дочку, гордился, любовался, да и беспокоился: почему-то забрала вправо от всех, поскакала по снежной нови, взмётывая за собой клубы снежной пыли.
— Егор! — крикнул он слуге-егерю. — Пригляди за барышней, куда понесло её!
Егор сразу вырвался из цепочки охотников, помчался вслед Маргарите, и снежный туман из-под копыт лошадей скоро скрыл и его, и Маргариту от отцовских глаз.
А она словно бы приметила невидную отцу точку: чернела у опушки продолговатая чёрточка. «Вепрь, — радостно подумала Маргарита, — выведу, выведу на охотников...»
Не успела она доскакать до опушки, где притаился дикий кабан, как зверь, испуганный несущимся на него конём, вынырнул из подлеска и помчался прямо наперерез ему.
Голиаф не ожидал такого, отпрянул в сторону, потом круто взвился на дыбы. Маргарита не удержалась в седле и со всего размаха опрокинулась на спину. Ноги выскользнули из стремян, рука ещё крепко удерживала повод, а сама она уже летела в мягкий рыхлый снег да так и осталась лежать там. Пригнув морду к снегу, удерживаемый уздой, остановился и Голиаф.
Всего на мгновение сознание покинуло Маргариту. Снежные блестящие точки на снегу внезапно показались ей отблесками свечей, сияющих в непомерно высокой церкви, а глаза святых с тёмных и неподвижных икон печально глядели на неё. Пел какие-то странные молитвы весь в золоте священник, водил за руки её, Маргариту, вокруг аналоя, блистающего так, что глаза слепило, и кого-то ещё, чёрного и страшного. Маргарита боялась взглянуть на этого чёрного и страшного, но понимала, что это спутник её на всю жизнь. И лишь тогда, когда они оба остановились перед аналоем, она решилась бросить взгляд на лицо.
Увидела редкие рыжеватые бачки по сторонам округлого упитанного лица, низкий широкий лоб со взбитым хохолком, пунцовые влажные губы, длинную верхнюю выбритую губу и коротенький, небольшой, словно обрезанный бритвой подбородок. Губы, мокрые и красные, вдруг потянулись к ней, и внезапно привиделось ей, что они вытягиваются в длинный поросячий пятак, который тянется к самым её губам. Когтистые лапы вцепились в её плечи и неодолимо тащили к чёрному тяжёлому телу, бесформенному и мрачному...
От ужаса и отвращения она сразу же очнулась.
Голиаф смирно стоял рядом, мелко подрагивая блестящей вороной шкурой, твёрдым шершавым языком слизывал солёные капельки с её лица. Всё ещё держа в руке повод, она неуверенно поднялась, села в рыхлом сыпучем снегу, повертела головой, руками, подвигала ногами. Слава богу, всё в порядке, только чуть-чуть побаливала спина, да и то не от удара, а оттого, что слишком вытянулась в седле.
Когда подскакал Егор, она уже была на Голиафе.
— Не ушиблись, матушка-барышня? — с тревогой закричал он.
— Батюшке ни звука, — пригрозила Маргарита.
— Да как же... — растерянно начал было Егор.
— Ничего со мной не станется, — рассмеялась Маргарита, а в глазах всё так и стоял поросячий пятак, тянущийся к её губам.
Она не раздумывала долго над приключившимся. Как ни в чём не бывало поскакала к основному отряду охотников, указала, куда помчался вепрь, испугавший её Голиафа.
Вепря затравили, связанного по ногам, с болтающейся на одной лишь коже головой и с капающей на белый снег кровью, привязали его к огромной палке, и качалась его туша между двух лошадей, прядающих ушами от запаха дикого зверя и то и дело норовящих скакнуть в сторону. Но погонщики были остроглазы, сбруя связывала движения коней, и вепрь в целости и сохранности доставлен был в огромный двор московского поместья-усадьбы Нарышкиных.
Маргарита вышла к мёртвому зверю, потрогала жёсткую щетину загривка, провела рукой по связанным копытцам. Странно, почему привиделся ей этот поросячий пятак, теперь опущенный к самой земле и вызывающий только жалость и скорбь? Она как будто стирала в памяти то странное видение, что пришло к ней в минуту беспамятства, и видом неживого, изуродованного зверя погасила эту вспышку сознания.
Через день, а может, через два, она и думать забыла о своём видении, объяснила его для себя тем, что вепрь выскочил навстречу и потому память услужливо подсунула ей его облик. Но где-то глубоко в душе засел этот кошмарный эпизод, и она старалась не вспоминать о нём, снежной поляне, на которой она очутилась, о сверкании огней в церкви, о золотой ризе священника, об этом отвратительном поросячьем пятаке...
В доме у Нарышкиных всегда толпился народ — то приезжали какие-то дальние родственники, троюродные братья и сёстры, гостили по нескольку дней, а то и недель, — всегда было шумно и весело, а за круглый стол в большой столовой зале садилось едва ли не тридцать человек. И потому Маргарита не обратила особого внимания, когда снова появилась в доме Ласунская. Чем уж взяла она Варвару Алексеевну, но та теперь ничего не делала без её совета! Помолчит-помолчит Ласунская да вдруг скажет такое слово, что и в ум не придёт Нарышкиной. И Варвара Алексеевна ценила подругу, особо привечала её, а уж о Поле Ласунском задолго до знакомства была столько наслышана, что с первого взгляда на этого щеголеватого молодого человека словно бы влюбилась в него. И хорош, и добр душой, и честен, и прям, а уж мать почитает, как святую, и все свои силы отдаёт ей. Словом, ещё не видя Поля, Варвара Алексеевна уже любила мальчика Ласунской.
— Марго! — крикнула она в сторону детской, где, как всегда, возилась с младшими сестрёнками и братьями Маргарита. — Познакомься с замечательным человеком и будь похожа на него...
Маргарита вышла из детской всё ещё в весёлой суете и хлопотах. Бант на тёмных волосах сбился, платье сбоку помялось, но она никогда не обращала особого внимания на свои наряды и потому в таком виде и предстала перед мадам Ласунской и её сыном.
Она горячо обняла Ласунскую, всё ещё помня, как встретила её на дороге с перевёрнутым возком, потом сделала небольшой реверанс и её сыну.
— Счастлив познакомиться. — Густой голос заставил её взглянуть прямо в лицо Полю.
Взглянула и отпрянула, бледность сразу покрыла её розовое лицо. Редкие рыжеватые бачки по сторонам округлого лица, низкий широкий лоб со взбитым по последней парижской моде хохолком, влажные красные губы, длинная, чисто выбритая верхняя губа и коротенький, словно бы обрезанный бритвой крохотный подбородок, утопающий в белоснежном жабо...
«Великий Боже!» — пронеслось у неё в голове. Но мокрые губы не вытянулись в поросячий пятак, а низко наклонились над её рукой, и она почувствовала влажный чмокающий поцелуй.
— Извините, маман, — повернулась она к матери, — я в таком виде, мне необходимо переодеться...
— Да и мы по-простецки, — только и успела кинуть ей в спину Ласунская, проводив взглядом взбегавшую на второй ярус девочку.
— У вас такая взрослая дочь, а вы никак не выглядите старее её, — галантно заметил Поль, проходя вслед за Варварой Алексеевной в малую гостиную, где она обычно принимала самых близких друзей.
Варвара Алексеевна вспыхнула от удовольствия и смущения: давненько ей, матери пятерых детей, никто не говорил таких тонких комплиментов — и оттого сразу почувствовала расположение к субтильному, но щегольски разодетому молодому человеку. Знал Поль, чем взять стареющих женщин: один-два комплимента, намёк на неувядающую красоту, три-четыре цветка из модного цветочного магазина, и вот уже расположение и доверие завоёвано...
Маргарита влетела на второй ярус дома, промчалась в свою весёлую светлую горницу и упала головой в мягкую подушку. «Боже милостивый, — пронеслось в её голове, — не дай, Господи, свершиться, огради меня, спаси меня...»
И в то же время неотвязно билась в ней смутная мысль о неотвратимости судьбы, о том, что свершится то, что должно свершиться, и никакие молитвы, никакие мольбы тут не помогут. Она вытерла сухие глаза, горевшие от невыплаканных слёз, взяла новый модный французский роман и принялась глядеть на чёрные буквы, бегущие по белому листу. Но сама не понимала, то ли читает, то ли видит между строк свою горькую судьбу. Кончилось, видно, время её счастья, наступает время судьбы, от которой не спрячешься в подушку, не ускачешь и на Голиафе.
Она так и не сошла вниз, страшась одного лишь взгляда на это знакомое по её видению лицо, отговариваясь головной болью. Варвара Алексеевна недоумевала, посылала за дочкой несколько раз, но получала один и тот же ответ:
— Барышня головкой маются.
Варвара Алексеевна пожимала плечами, пышными и слегка увядшими, но с удовольствием слушала скромную болтовню Поля, перемежавшего парижские новости изящными комплиментами хозяйке дома.
Этот первый визит Поля вызвал в душе Варвары Алексеевны целую бурю: вот бы достался её старшенькой такой муж — сдержанный, добрый, любящий, вежливый и изысканный. И как только мог родиться в такой опальной семье такой молодой человек! Она с удовольствием разглядывала красивую трость с набалдашником из слоновой кости и круглую шляпу по парижской моде, небрежно брошенные на овальный столик у двери малой гостиной, туго натянутые чулки, подвязанные алыми бантами, его щегольски взблескивающие башмаки на каблуках, кружевные манжеты и скромно выглядывавшие из-под синего бархатного камзола высокие снежно-белые воротнички, подпирающие упитанное лицо. Даже крохотный его подбородок, теряющийся в волнах кружевного жабо, нравился ей.
«Скоро и Маргарите быть невестой, — думала заботливая мать, — а она вон какая дикарка, убежала от гостей и нейдёт вниз. Ну погоди, задам я тебе головомойку, попомнишь своё неприличное поведение...»
И она с особенным жаром и вниманием расспрашивала Поля и его мать, сиявшую от гордости за сына. Варваре Алексеевне ещё и в голову не пришло, что Поль может стать женихом Маргариты, а уж у Ласунской были прямые виды на её старшую дочку.
— Маман, ну какая же из неё жена? — капризно выгнув пунцовые губы, говорил он матери после первого памятного визита к Нарышкиным. — Лицо что твой блин, русское, будто от крестьянки выдалась, глаза таращит, и нет в ней шарма, ничего изящного...
— А уж как много красы даёт ей и имение богатое, и роскошь такая, что все твои долги ничто перед этим! Восемь тыщ душ — где ж ты найдёшь ещё невесту с таким приданым?
— Всё-то вы, маман, о деньгах да о деньгах, — рассеянно проговорил Поль. — Берите с меня пример: я никогда о них не думаю...
Вдова молча окинула сына взглядом. Да, он никогда о деньгах не думает, кутит, мотает направо и налево и не знает, как тяжело они достаются ей, как из-за каждой копейки ссорится она со старостой, простым мужиком, умеющим тоже хорошо считать.
— А уж худышка, кости торчат, — продолжал бурчать Поль.
— Да и не возьмут они тебя, род Нарышкиных такой знатности, что нам с тобой и не снилось. Из этого рода была Наталья Кирилловна, мать Петра Великого, и такой он обширный, что везде у этого рода свои руки да свои уши.
— Что мне до их ушей, — отозвался Поль, — коли связать меня хотите и свободы лишить...
— Ах, Поль, разве я не думаю о твоём будущем, разве не о тебе забочусь? Подумай, много ли надо мне, бедной вдове, а ты человек молодой, тебе надобно и служить, и жить весело, и богатства у нас с тобой одни долги да мыши, ведь и за квартиру не плачено уже за целых пол года, и где ж я денег наберу для этого?
— А что, разве добряк царский сын Константин Павлович не раскошелился для бедной вдовы? — съязвил Поль.
— Не дали мне места для тебя при дворе, да и ничего не дали, — скромно потупив глаза, произнесла мать. Ох, как не хотелось ей говорить Полю о заветных двухстах рублях!
— А ваш кошелёк я давно видел, — усмехнулся Поль, — да и кое-что позаимствовал...
Ласунская побледнела, схватилась рукой за пазуху. Поль усмехнулся: теперь он знал, где мать хранит деньги.
— Поль, — взмолилась мать, — эти двести рублей годятся на подарки да букеты для невесты, а если выгорит дело, если окручу тебя с Нарышкиной — купаться будешь в деньгах...
— Ладно, — поднялся Поль, — мне некогда, сегодня в клубе Английском должна состояться игра, и мне надо ехать...
— Поль, прошу тебя, умоляю, не играй, последнее прокутишь, что тогда? В долговую яму попадёшь, кто тебя выручать будет?
— Вы, маман, — даже не повернувшись к матери, прошипел Поль, — да не каркайте перед игрой. Уж проиграюсь, тогда и женюсь...
Он быстро вышел. Вскоре она услышала, как гикнул под окном кучер на щегольских козлах выезда, и покатили от дома лёгкие саночки с единственным её сыном...
К обеду Маргарита вышла бледная, и, хоть её зелёные глаза были сухи и горели огнём, мать сразу обратила внимание на её необычный вид.
— Видишь, Михайла Петрович, и дочка от этого визита разволновалась, — шепнула она мужу.
— От какого ещё визита? — недоумённо поднял седые брови Нарышкин.
— Ласунская приезжала ко мне с сыном Полем, — пояснила Варвара Алексеевна. — Такой прелестный молодой человек и таких достоинств, что Маргарита наша засмущалась и убежала к себе, даже не вышла проститься с гостями.
Михаил Петрович опять непонимающе взглянул на жену.
— Да не видишь, что ли, — уже сердито пробормотала Варвара Алексеевна, — заневестилась твоя любимица.
Ложка из руки Михаила Петровича со стуком упала в тарелку. Он внимательно поглядел на Маргариту и успокоенно сказал жене:
— Будет тебе выдумывать, девчонка ещё ничем ничего, а ты уже находишь ей женихов...
Варвара Алексеевна слегка улыбнулась и отвела взгляд от мужа. На том и закончилось обсуждение первого визита Поля Ласунского, но с той поры запала в голову Варваре Алексеевне мысль, что такой добрый, преданный и красивый человек может стать достойным претендентом на руку её дочери. Ловко повела дело Ласунская, ни слова не говорила она Варваре Алексеевне о жениховстве, лишь расписывала качества Поля, его доброту и преданность дому и семье. И так подводила саму Нарышкину к мысли о свадьбе, что та и не заметила, как начала думать об этом как о деле решённом.
Только сама Маргарита каждый раз уклонялась от встречи с Полем, придумывая разные предлоги, чтобы не видеть его. Мать поняла это по-своему: хитрит девчонка, верно, влюбилась в него по уши.
— Незнатен, — уныло отговаривал жену Михаил Петрович, — да и небогат...
— Да разве счастье в том, что богат да знатен? — яростно набрасывалась на него Варвара Алексеевна. — Лишь бы человек был хороший, а остальное приложится...
Михаилу Петровичу стоило большого труда привыкнуть к мысли, что придётся расстаться со своей любимицей, отдать её чужому человеку, и он сопротивлялся этой мысли долго и упорно, но Варвара Алексеевна сумела и мужа приучить к раздумьям о предстоящей свадьбе.
Понадобилось, однако, ещё два года, прежде чем из замысла родилось дело...
В семье Нарышкиных уже давно смирились с мыслью о том, что Маргарита станет женой Поля Ласунского. Всё-таки Варвара Алексеевна решилась предварительно поговорить с дочерью и подготовить её к предстоящему торжеству.
Она нашла Маргариту в её комнате. За месяцы, пока Ласунские приезжали с визитами и посещениями праздников и балов, она очень изменилась: похудела, побледнела и при первых же появлениях Поля спешила отговориться то головной болью, то неотложными делами. Уже давно не слышала Варвара Алексеевна заливистого непринуждённого смеха дочери, её весёлой возни с младшими братьями и сёстрами, не видела её летящей походки по лестницам старого дома.
— Марго, — начала она, застав дочь за бисерным вышиванием: Маргарита решила сделать подарок местной церкви — вышитый бисером покров к иконе Божьей Матери, — ты изменилась...
— Я выросла, маман, — коротко ответила Маргарита, вглядываясь в рисунок узора.
— Потому и пришла поговорить с тобой, — мягко начала мать, усаживаясь поближе к дочери. — Ты старшая в семье, ты вступила в возраст, когда уже надо подумать о будущем.
— Я надеюсь, маман, что вы уже всё продумали обо мне, — горько возразила Маргарита. — Ты и отец вольны надо мной, и мне тут нечего сказать...
— Ты послушная и скромная дочь, Марго, — удивлённо произнесла Нарышкина, — но в твоей воле подчиниться решению отца и матери или не слушать их, отвергнуть их решение.
Маргарита взглянула на мать — глаза её блестели от сдерживаемых слёз.
— Вы ведь прочите меня за Ласунского, — тихо сказала Маргарита, — но вы хорошо знаете, что он мне не люб...
— Девочка моя, — ласково подсела к дочери Варвара Алексеевна, — мы так любим тебя, так заботимся о тебе, столько труда вложили в твоё воспитание, что не станем готовить тебе горькой доли. Ты, может быть, не понимаешь, что на первый взгляд человек вроде бы и нехорош, но когда разберёшь его душевные качества, поймёшь, что с такими качествами может быть счастлива его суженая...
— Маман, он мне противен, — прямо взглянула на мать Маргарита и снова наклонилась к вышиванию, чтобы скрыть выступившие слёзы.
— Но ты не знаешь его так, как я и твой отец. Это лучший из всех молодых людей, которых я знаю, и твоя доля в замужестве с ним будет очень хорошей. Припомни, как жили мы с твоим отцом, а ведь меня выдали замуж против моей воли. Уже потом, через рождение твоё, узнала я его доброту и справедливость, его любовь и преданность мне. Я сперва боялась его, дичилась, я так не хотела идти за него...
— Может быть, вы и правы, — вырвалось у Маргариты, — но почему, когда я вижу Ласунского, всё во мне дрожит от страха и сомнений?! Наверное, я никогда и никого не полюблю, если первый же серьёзный жених не доставил мне радости такой любви...
— Какое ты ещё дитя, — возразила мать, — разве ты знаешь, что такое любовь, разве можешь понимать в твои годы, какова она? Мы знаем всё за тебя, мы решаем всё за тебя...
— Это и обидно, — горько призналась Маргарита. — Конечно, я не видела света, не видела жизни, я доверяю вам, но...
— Никаких «но», девочка моя дорогая, — поцеловала её мать. — Пойми, мы могли бы найти для тебя жениха и познатнее, побогаче, но мы выбираем не по достатку, а по тому, каков сам человек, добр или зол, каков он будет в своей семье. А Поль Ласунский превосходный, добрый, преданный человек, и я уверена, что ты будешь счастлива с ним так же, как счастлива я в браке с твоим отцом. Позволь нам руководить твоей судьбой, позволь выбрать тебе самую лучшую долю, какая только возможна...
Маргарита ещё ниже склонилась над шитьём: что могла она возразить своей любящей матери, главная забота которой она сама, Маргарита, её радость, её счастье? Но она вспоминала то свиное рыло, что вытянулось из длинной верхней губы Поля в её видении, и её невольно передёргивало от отвращения и страха...
Сама Ласунская даже не заговаривала о свадьбе. Она хотела, чтобы Нарышкина первая сказала об этом. И Варвара Алексеевна не выдержала.
— Ваш сын, госпожа Ласунская, — произнесла она в очередной приезд матери Поля, — ему ведь уже к тридцати?
— Да, Поль давно стал взрослым, — потупила глаза Мария Андреевна, — но он так привязан ко мне, что и слышать не хочет, чтобы устроить свою судьбу и жить отдельно...
— Мне хотелось бы знать его чувства по отношению к Маргарите, — напрямик сказала Варвара Алексеевна.
— О, он обожает вашу красавицу. Но он никогда не подаёт и вида, он такой скромный и постоянно стесняется, когда я заговариваю о Маргарите...
И опять она говорила уклончиво, хотя её так и распирало от желания завести речь о совместной жизни Поля и Маргариты.
— Мы с вами так дружны, уже столько времени я знаю вас, и, наверное, сама судьба послала вас на ту дорогу...
— Ах, если бы могла я мечтать видеть вашу прелестную Маргариту супругой Поля, — не выдержала Ласунская.
— А почему вы не можете? — удивилась Нарышкина.
Ласунская скромно опустила глаза.
— Разве могу я говорить об этом, хотя мечтаю день и ночь, — тихо призналась она. — Ваша Маргарита — совершенство, такая девушка составит счастье любого мужчины. И у неё столько предложений, столько молодых людей вьются вокруг неё...
— О нет, — успокоила её Нарышкина, — мы не можем и допустить, чтобы богатство или знатность помешали девочке обрести счастье. Она ещё так молода и неопытна, она ничего не знает о супружеской жизни, мы держали её в строгости, оберегали от всех превратностей жизни. Я хорошо знаю вашу семью — и вас, и вашего сына. Много женихов у Маргариты, но почти все они, я думаю, ищут богатого приданого, Связей в нашем семействе. Вы никогда не заговаривали о судьбе моей Маргариты и Поля, но мне кажется, из них вышла бы прекрасная пара. Поль добр и честен, предан нам, он хороший человек, а как мало таких теперь! То и дело слышишь неприятные истории — муж бьёт жену, хоть и хорошего рода, и славного приданого, то бросает с малыми детьми... Я так хочу счастья Маргарите...
Ласунская встала.
— Если бы вы только позволили Полю сказать заветные слова... Он так любит всех вас, так нежно говорит о Маргарите, он день и ночь мечтает лишь о ней, но он никогда не позволил бы себе сказать хоть одно нескромное слово...
Варвара Алексеевна и Марья Андреевна бросились на грудь друг другу, обе заплакали в голос: Ласунская от радости, что мечты её сбудутся, а Варвара Нарышкина оттого, что дочь её будет замужем за хорошим добрым человеком, знатность же рода Ласунских была почти такой же, как у Нарышкиных, хоть и не числилось в нём царицы.
Успокоившись, обе матери всё обговорили. На следующий же день Поль, принаряженный более обычного, явился в дом Нарышкиных с громадным букетом цветов. Он попросил Михаила Петровича принять его, и с первым же словом отец прослезился, обнял Поля и умоляюще прошептал ему:
— Берегите моё сокровище!
Поль тонко улыбнулся и пошёл разыскивать Варвару Алексеевну. Лишь несколько слов сказал он матери Маргариты, и та тоже прослезилась, бросилась к мужу, чтобы обсудить счастливое известие.
Втроём ожидали они Маргариту в маленькой гостиной. Чувство роковой неотвратимости происходящего овладело Маргаритой, когда она встала на пороге с руками, крепко стиснутыми в кулаки, с глазами, опущенными долу, в лёгком розовом кисейном платье, отороченном зелёной лентой. Сквозь ресницы видела она своего толстого добродушного седоусого отца, державшего в дрожащих руках большую икону Божьей Матери в золотом окладе, свою мать, полненькую, с легкомысленной московской причёской и завитыми локонами по щекам, в тяжёлом бархатном платье былых времён, и его — щёголя в бархатном камзоле и снежно-белых кружевах.
Ей хотелось броситься на колени перед отцом и матерью, крикнуть им: «Не отдавайте меня этому чудовищу!» — а вместо этого она покорно ждала, пока мать не произнесла какие-то слова, а отец не сказал грустным потухшим голосом:
— Дети мои, подойдите, я благословлю вас...
Маргарита с робостью и холодной отрешённостью в душе сделала несколько шагов и опустилась на колени. Широчайшая юбка её лёгкого платья вздулась вокруг неё воздушным облаком.
Она не увидела и не услышала, как Поль тяжело плюхнулся рядом с ней, и только тогда взглянула на всех. Слёзы кипели на глазах отца, мать счастливыми мокрыми глазами оглядывала стоящую на коленях пару.
— Как они красивы, — шептали её губы. — Господи, дай им счастья, дай им любви и радости...
Холодок в сердце Маргариты поднимался всё выше и выше, добрался до горла, и несколько мучительных сдавленных рыданий вырвалось у неё. Поль с неудовольствием и удивлением посмотрел на невесту.
Когда они встали с колен, мать бросилась обнимать Маргариту, а отец с бессмысленной жалкой улыбкой хлопал по плечу Поля и говорил всё одни и те же слова:
— Береги, сынок, моё сокровище...
Свадьбу назначили на осень 1797 года. За оставшиеся полтора года следовало привести в порядок московский дом, который давали Нарышкины за Маргаритой, и подмосковное Городище, где должна была проводить лето новая молодая семья. Требовались большие деньги, чтобы как следует обустроить гнёздышко молодых, и Михаил Петрович не жалел средств. Как он хотел, чтобы его старшенькая была счастлива, чтобы всё у неё было хорошо!
Маргарита в последнее время жила словно в каком-то сне. По инерции и необходимости вставала, принимала Поля и его мать, соглашалась со всем, что они говорили, и чувство нереальности происходящего и роковой предопределённости всё не покидало её. Да, так определил Бог, такое она видела в своём коротком беспамятном сне, так, видно, положила ей судьба — пострадать за слишком счастливое безоблачное детство и слишком счастливую радостную юность.
Поль каждый раз отмечал, что его худенькая невеста худеет всё больше, и ласково пенял будущей тёще. Та озабоченно соглашалась, но заставить Маргариту есть как следует ей не удавалось.
Она стояла перед аналоем тоненькая и слабая, ключицы выпирали из пышного белого свадебного наряда, волосы, зачёсанные в высокую причёску, сверкали жемчужинами, бриллиантовые серьги свисали почти до самой шеи, а вокруг неё, подчёркивая нежную округлость, обвивалось алмазное ожерелье. Гости переглядывались, перешёптывались, изумляясь строгости и чопорности невесты, восхищаясь её тонкой фигурой и поражаясь бледности её лица. Рядом с ней разодетый в белый камзол и пышные кружева Поль Ласунский как-то стушёвывался, и хотя он важно держал себя под венцом, до отрешённой торжественности Маргариты ему было далеко...
Сразу после церемонии все поехали в старый дом Нарышкиных, где уже накрыт был свадебный стол и освобождены залы для танцев.
Но Маргарита и Поль недолго были за праздничным столом: гости ещё кричали извечное «горько», а тройка вороных жеребцов уже уносила их в своё жилище — заново отделанный и роскошно обставленный московский дом.
Рядом с кабинетом Поль приказал оборудовать комнату домоправительницы, разбитной весёлой француженки Жюстены. Она и встретила их на пороге нового дома, а родители, выехавшие ещё раньше из-за свадебного стола, осыпали их пшеницей, приговаривая обычные присловья о плодовитости, плодородности и желая семейных утех.
Служанки раздели Маргариту, оставив её в длинной, почти прозрачной ночной сорочке, отвели в спальню, которая должна была теперь на многие годы стать основой их семейного союза. Перед уходом Варвара Алексеевна сказала Маргарите лишь такие слова:
— Что бы ни делал с тобой твой муж, слушайся его, почитай, как я почитаю твоего отца. И ничего не бойся...
— Маман, — попыталась спросить её Маргарита, — вы ничего никогда не говорили мне, не рассказывали. Что следует мне делать, как мне быть?
Варвара Алексеевна покраснела:
— Ты чиста и прекрасна. Подчинись всему, что скажет или сделает твой муж, и ты всё узнаешь.
Она постаралась побыстрее уйти, чтобы не услышать новых вопросов дочери. И Маргарита осталась одна.
Откинулась портьера, в проёме появилась фигура Ласунского. Он был в бархатном халате, хохолок его был взбит, как всегда, но крохотный подбородок уже не утопал в кружевах и теперь казался ещё более маленьким.
Поль подошёл к горевшей на низком столике свече, руками взялся, как почудилось Маргарите, прямо за пламя, и в комнате стало темно и тихо. Он приблизился к Маргарите — просто чёрная тень придвинулась к ней.
— Я отнесу вас на руках в вашу постель, — прошептал Поль.
Он взял её за плечи, и словно молния осветила сознание Маргариты — острые когти будто впились в её плечи, и что-то бесформенное и страшное подступилось к ней вплотную...
Безмерный ужас охватил её, она громко закричала, ноги у неё подогнулись, и сознание покинуло её. Она сползла на пол под руками Поля.
Он выругался громко и непристойно, но она не услышала его. Пока он вздувал свечу, пока суетился вокруг обмякшего худенького тела молодой жены, она словно бы вернулась откуда-то издалека и с удивлением разглядывала бахрому покрывала кровати, возле которой лежала, ощущала шелковистость ковра, устилавшего пол, и неудобную свою позу.
— Чёрт возьми! — снова выругался Поль, увидев, что она открыла глаза.
Свечка слабо освещала её сорочку, опавшую бесформенным облаком, мерцающие зелёные глаза, словно бы смотревшие откуда-то из страшного далека.
— Ложитесь в постель, — холодно сказал Поль, — и укройтесь потеплее, сегодня холодная ночь. Да не тряситесь так, мне не доставляет никакого удовольствия лежать с вами рядом...
Она забралась под тёплое атласное одеяло, натянула его до самого горла и со страхом следила глазами за Полем. А он, кинув на неё презрительный взгляд, сурово бросил:
— Я не буду ночевать с вами, не очень-то хочется иметь дело с истеричкой...
Он взял свечку и вышел. Она вздохнула и погрузилась в глубокий спокойный сон...
ГЛАВА ПЯТАЯ
В последние годы жизни императрицу Екатерину преследовали смерти. Один за другим уходили люди, с которыми она сжилась, безразлично, воевала она с ними или дружила. Умер Фридрих Великий, величайший полководец XVIII века, которого императрица называла «Иродом». Он был доволен своей звездой, едва не стоял на грани краха, и всегда какое-нибудь счастливое событие вытаскивало его из бездны. Екатерина помнила ещё, как умерла императрица Елизавета в тот самый момент, когда была разбита вся армия Фридриха и он приготовился нанести себе самому смертельный удар. Но на русский престол взошёл Пётр Третий и сразу же заключил с Фридрихом мирный договор, по которому возвратил счастливцу всё, что тот потерял в русско-прусской войне.
Его не стало, словно бы опустела мировая арена. А Екатерина привыкла сражаться с самыми сильными героями своего времени.
Умер давний приятель Екатерины — австрийский император Иосиф Второй. Вся австро-русская политика оказалась под ударом. А уж когда умер светлейший, когда на обочине дороги почил её гений, друг и сумасшедший фантазёр в политике — Потёмкин, Екатерина и вовсе ощутила вокруг себя странную, нереальную пустоту. О нет, у неё были внуки, у неё был сын, но столпов мировой политики для неё не стало.
Старый и сильно сдавший постоянный корреспондент Екатерины Гримм получил от неё грустное письмо, которое свидетельствовало об упадке её здорового оптимизма и бесконечной грусти:
«Скажу Вам, во-первых, что третьего дня, 9 февраля, в четверг, исполнилось 50 лет с тех пор, как я с матушкой приехала в Россию. Следовательно, вот уже 50 лет, как я живу здесь, и царствую из них уже 32 года, по милости Божией. Во-вторых, вчера при дворе были зараз три свадьбы. Вы понимаете, что это уже третье или четвёртое поколение после тех, которых я застала в это время. Да, я думаю, что здесь, в Петербурге, едва ли найдётся десять человек, которые бы помнили мой приезд. Во-первых, слепой, дряхлый Бецкой — он сильно заговаривается и всё спрашивает у молодых людей, знали ли они Петра Первого. Потом 78-летняя графиня Матюшкина, вчера танцевавшая на свадьбах. Потом обер-шенк Нарышкин, который был тогда камер-юнкером, и его жена. Далее его брат, обер-шталмейстер, но он не сознается в этом, чтоб не казаться старым. Потом обер-камергер Шувалов, который по дряхлости уже не может выезжать из дому, и, наконец, старуха моя горничная, которая уже ничего не помнит. Вот каковы мои современники! Это очень странно — все остальные годились бы мне в дети и внуки. Вот какая я старуха! Есть семьи, где я знаю уже пятое и шестое поколение. Это всё доказывает, как я стара: самый рассказ мой, может быть, свидетельствует то же самое, но как же быть?
И всё-таки я до безумия, как пятилетний ребёнок, люблю смотреть, как играют в жмурки и во всякие детские игры. Молодёжь, мои внуки и внучки говорят, что я непременно должна быть тут, чтоб им было весело, и что со мною они себя чувствуют гораздо смелее и свободнее, чем без меня...»
И это действительно было так — здесь Екатерина не преувеличивала, как привыкла всегда преувеличивать свою роль, будь то мировая политика или нелады в семье.
Внуки легко и просто обходились со своей постаревшей и огрузневшей бабушкой — её голубые глаза всё ещё сверкали молодо и задорно.
Хуже было с политикой. Поначалу Екатерина не разгадала зловещий смысл революции во Франции. Она морально и материально поддерживала французскую эмиграцию, хотя убеждена была, что развратный Версаль сам виновен в своей гибели, и не думала поначалу, что идеи её друзей-просветителей подготовили и воодушевили революцию во Франции.
«Французские философы, которых считают подготовителями революции, ошиблись в одном в своих проповедях — они обращались к людям, предполагая в них доброе сердце и таковую же волю, вместо этого их учением воспользовались прокуроры, адвокаты и разные негодяи, чтоб под покровом этого учения (впрочем, они и его отбросили) совершать самые ужасные злодеяния, на какие Только способны отвратительные злодеи. Они своими преступлениями поработили парижскую чернь: никогда ещё не испытывала она столь жестокой и столь бессмысленной тирании, как теперь, и это-то она дерзает называть свободой!
Её образумят голод и чума, и тогда убийцы короля истребят друг друга, только тогда можно надеяться на перемену к лучшему!» — так писала она.
Как в воду глядела эта умная стареющая женщина. Она писала, что во Франции появится новый Цезарь, он усмирит вертеп, и все будут желать монархического правления.
«Верьте мне, — добавляла она не без сарказма, — никому так не мила придворная жизнь, как республиканцам». Через 13 лет её пророчество полностью сбылось: Наполеон короновался в 1804 году.
Но она пророчила ещё, что явится новый Тамерлан или Чингисхан, который поглотит революционную Европу, и тогда Россия всех спасёт.
Никогда не верила она в предсказания, всё постигала своим умом и тончайшей интуицией, но как оказалась права!
Однако императрица сделала всё, чтобы революционная зараза не распространилась и в России: на самого смирного, монархически настроенного издателя масонских трактатов Новикова обрушились наказания и создали ему бессмертное имя, а посредственный писатель Александр Радищев был отправлен в Сибирь за вполне невинную книжку «Путешествие из Петербурга в Москву».
Но так уж всегда было в России — судят не по делам, не по произведениям, а по тому, как пострадал тот или иной бессмертный...
А княгине Дашковой, не читавшей пьесы «Вадим» до печатного станка, она устроила головомойку.
«Признайтесь, — писала она президенту Академии наук, бывшей подруге и участнице переворота 1762 года, — что это неприятно. Мне хотят помешать делать добро: я его делала столько же для частных людей, сколько и для всей страны — уж не хотят ли затеять такие ужасы здесь, как и во Франции?»
Она намекала на известные события в революционной стране: там королеву Марию-Антуанетту разлучили с сыном и стали готовить против неё позорный процесс — мать обвиняли в постыдной связи со своим ребёнком.
И лишь тогда императрица поняла, что и в Париже всё начиналось с безобидных пьесок и прокламаций.
Она правила страной уже больше тридцати лет — она устала, и вокруг неё образовалась пустота. Мальчишка, моложе её на сорок два года, уверял её в страстной любви, и она поверила ему. Видела, что ничтожен, жалок, хоть и образован и сыплет модными мудрёными словами, а не могла отказать себе в последней, пусть лживой любви. Она привыкла любить, она не могла жить без любви.
И как же легко разгадали его современники:
«По мере утраты государыней её силы, деятельности, гения, он приобретал могущество, богатства. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери, наполняли прихожую и приёмную. Старые генералы, вельможи не стыдились ласкать ничтожных его лакеев. Видали часто, как эти самые лакеи толчками разгоняли генералов и офицеров, коих толпа теснилась у дверей, мешала их запереть. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремлёнными в потолок, этот молодой человек, с лицом холодным и надутым, едва удостаивал обращать внимание на окружающих его. Он забавлялся чудачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом. А в это время старцы, под началом которых он служил сержантом, — Долгорукие, Голицыны, Салтыковы — и все остальные ожидали, чтобы он низвёл свои взоры, чтобы опять приникнуть к его стопам...»
Прямой, склонный к сарказму и издёвкам Константин видел эти толпы, издевался над старыми льстецами, но и сам понимал, что Зубов силён, что одно его слово способно возвысить или уничтожить любого, и потому держался с ним запросто, ходил под руку. Он боялся Екатерины как огня, хотя и старался при ней вести себя самым естественным образом. Часто говорили они с Александром об этой отвратительной камарилье[8], но все их откровенные беседы кончались одним: «Что тут поделаешь, бабушка прекрасна, она — императрица!»
Нередко говорила Екатерина и со внуками о своём последнем часе, но всегда в романтическом, возвышенном тоне. Завещала похоронить её то в Донском монастыре, то в Царском подле урны с прахом её любимца Ланского, то в Троице-Сергиевой пустыни и всегда рассказывала им, какой видит себя в гробу — непременно в белых атласных одеждах, с золотым венцом на голове. «Когда пробьёт мой последний час, — писала она, — пусть будут только закалённые сердца и улыбающиеся лица...»
Неудача со сватовством внучки Алессандрины сразу же отразилась на здоровье царствующей бабушки, она слегла и несколько недель не вставала: никогда ещё не испытывала она такого унижения и оскорбления от семнадцатилетнего мальчишки, хоть и носившего королевскую корону Швеции. Но прошло и это, царица оправилась от потрясения и снова работала, как всегда, принимая своих секретарей и докладчиков. Но силы её уже были на исходе.
Собрав своих старших внуков, она переехала в Царское Село, её любимое местопребывание летом и осенью. Но осенняя гроза 1796 года так испугала её, что она поскорее вернулась в город. Гроза осенью — событие небывалое. Сверкали молнии, деревья стонали под резкими порывами ветра, ливень барабанил по крышам так, словно кто-то наверху опрокинул полные вёдра воды.
Потом она рассказывала Александру и Константину, что такая же гроза разразилась осенью 1761 года, когда умерла императрица Елизавета. Может быть, и совпадение, может быть, и примета, может быть, и небесный знак, но Екатерина хотела завершить все свои земные дела.
Она вызвала к себе Марию Фёдоровну и сказала ей, что готовит в императоры своего старшего внука, Александра, минуя Павла, нелюбимого сына. Мария Фёдоровна была потрясена, но, вернувшись в Гатчину, никому не промолвила ни слова. «Что будет, то будет, — думала она. — Скажи хоть слово Павлу, и не миновать сцен, душевных потрясений, а у мужа и без того нервы на пределе...»
Вызвала Екатерина и Александра. Она долго говорила с ним, призналась, что уже составила завещание, по которому трон перейдёт к нему. Александр отказался от этой чести, он всё рассказал отцу и написал бабушке по его совету благодарственное письмо, но всё оставлял «в руце Божией...».
Константин знал обо всём: Александр не раз поверял ему и не такие тайны. Ему было жаль отца, хотя он никогда не любил его — бабушка воспитывала своих старших внуков, а в Гатчину они наезжали лишь изредка: холодная атмосфера мрачного гатчинского замка угнетала обоих. Но отец был прекрасный семьянин, добр с сыновьями и дочерьми, и Константину казалось кощунством восстанавливать отца против сына. Но такого не скажешь бабушке, такого не произнесёшь при императрице: не только сразу под арест, как было уже однажды за невинные шутки и издёвки над льстецами и прихлебалами, может, и камера быть приготовлена в Петропавловской крепости. И царские внуки не были избавлены от такой «милости».
Впрочем, такого рода предложения поступили Александру и от другого лица. Когда Екатерина была больна, к нему подошёл громадный, но уже сгорбившийся старец с тяжёлым красным шрамом через правую щёку.
— Императрица-государыня мечтает видеть тебя на престоле, — молвил он Александру. — Армия за тебя, дай лишь знак. А в завещании прямо сказала, что желает видеть на царском троне внука, а не сына. Павел Петрович тяжёлый будет император, с характером сыночек, а твой отец...
— Что ж, есть и сторонники? — холодно спросил Александр.
— Да стоит мне взяться, — вдохновился Алексей Орлов. — Мне ль не участвовать в переворотах, бабушку твою я на престол посадил да гвардейцы мои...
— Ну вот что, — ответил Александр, глядя прямо в помутневшие от времени, но всё ещё сверкающие стальным блеском глаза Алексея, самого высокого воинского начальника, фельдмаршала, имеющего большую власть. — Если будет завещание, если меня признают, если и отец возражать не будет, тогда сяду я на трон. А всякие авантюры — без меня...
Алексей хмуро поглядел в ясные, голубые, навыкате глаза Александра. Нету в нём бабушкиной удали, нету тяги к приключениям, не тот человек...
— На всё воля Божия, — твёрдо повторил Александр, — а в авантюрах я не участвую...
Но об этом разговоре он ничего не сказал Павлу.
В среду, 5 ноября девяносто шестого года Екатерина принимала, как обычно, своих секретарей. Она всегда вставала очень рано, выпивала чашку крепчайшего кофе и сидела над бумагами, писала, рылась в справочниках и энциклопедиях.
Камердинер Захар Зотов, тоже старый, с давних лет обслуживающий императрицу, пошёл в гардеробную приготовить дневной костюм императрицы.
Екатерина вышла в узенький коридорчик, который вёл из её кабинета в гардеробную, и тут упала. Камер-лакей Зотов, прождав императрицу дольше положенного времени, забеспокоился, отворил дверь в коридорчик, открыл с трудом. Екатерина сидела на полу, привалясь к двери. Глаза её были закрыты, лицо всё в багровых пятнах. Он закричал, подскочили камердинеры, приподняли царицу. Страшный хрип вырывался из её горла, на губах пузырилась кровавая пена.
Тяжёлое тело не удалось донести до кровати в опочивальне: к концу жизни Екатерина сильно растолстела, была тяжела, ходила с палкой, волоча своё тело. Её положили на сафьяновый матрац посреди опочивальни, переглянулись. Императрица хрипела, пена собиралась в углах губ и стекала на грудь.
Примчался Роджерсон, всю жизнь пользовавший Екатерину, стоя на коленях возле сафьянового матраца, щупал пульс, отирал пену, оттягивал веки.
— Надо пустить кровь, — сказал он.
Камердинеры уже известили единственного человека, имевшего свободный доступ к императрице, — Платона Зубова. Он прибежал бледный, дрожащий, кричал Роджерсону:
— Спасите государыню, спасите матушку!..
— Пустим кровь, — решил Роджерсон.
— Нет-нет! — кричал Зубов. — А если умрёт?
Припарки, притирания, компрессы — ничто не помогало. Императрица по-прежнему хрипела, а кровавая пена уже превратилась в струю крови.
Белый, трепещущий стоял Платон Зубов посреди спальни. Он понимал, что всё его могущество уплывает из рук. Он никогда не ладил с Павлом, издевался над ним, каждое слово встречал насмешками в угоду Екатерине. А теперь, сейчас...
Будет Павел императором — всё, погиб Платон.
— Николай, — выскочил он в приёмную, где дежурили офицеры гвардии, среди которых был и его брат Николай. — Скачи в Гатчину, привези Павла Петровича, — тихо сказал Платон ему, — да гляди, не забудь, кто тебя послал...
Николай всё понял.
Зубов вернулся в спальню. Роджерсон всё ещё стоял на коленях возле тела императрицы и прикладывал к её голове лёд. Платон подошёл к нему.
— Опасно? — глухо спросил он.
— Удар последовал в голову и смертелен, — спокойно ответил Роджерсон.
Он поднялся с колен: больной уже ничем нельзя было помочь. Растерянные фрейлины жались в углу, не смея подойти. Зубов упал на колени и завыл. Николай Зубов едва не загнал лошадей, торопясь сообщить Павлу об апоплексическим ударе государыни. Павел принял его в своём кабинете, давно одетый по форме прусского генерала и уже проведший утренний вахтпарад.
— Что вас привело? — едва начал Павел, но, взглянув на бледное растерянное лицо старшего Зубова, понял — случилось нечто экстраординарное.
— У государыни удар, — едва вымолвил Зубов, упал на колени и схватил за руку Павла, чтобы поцеловать. — Платон прислал меня известить.
Павел отскочил и крикнул камердинерам снаряжаться в дорогу. С тех пор как уехал из Петербурга Густав — шведский король, так бесстыдно насмеявшийся над его дочерью, Павел не появлялся в столице. Но вчера, обедая со своими приближёнными на гатчинской мельнице, он не удержался и рассказал о странном, необычайном сне, приснившемся и ему, и его жене, Марии Фёдоровне. Словно какая-то неодолимая, необъяснимая сила вздымала его к небу, несла и несла к голубой выси. Плещеев, Кушелев, граф Виельгорский и камергер Бибиков потом писали в своих записках, что наследник накануне дня смерти Екатерины видел этот сон и подробно рассказал им. Теперь он понял, что пришёл его час...
Карета с Павлом и Марией Фёдоровной мчалась по дороге к столице и едва не столкнулась с возком Растопчина, направлявшегося в Гатчину. Растопчин выскочил из возка, подбежал к карете наследника.
— Вы уже знаете? — забыв все церемонии, напрямик спросил он. — Я спешил вас известить.
— Садитесь к нам, Фёдор Васильевич, — ответил Павел, и карета снова помчалась.
Павел коротко взглядывал на Растопчина. Он давно и хорошо знал этого человека. Граф Растопчин служил поручиком в лейб-гвардии Преображенском полку, но просился за границу, чтобы завершить своё образование. Екатерина отправила его вместе с другими молодыми людьми, и три года Растопчин учился, объехал все университеты Европы, чтобы слушать лекции самых известных профессоров. Вернувшись, он опять пошёл в армию, служил под началом Суворова в турецкой войне, самое непосредственное участие принимал в штурме Очакова. Война закончилась, и Растопчин снова оказался в столице. Его зачислили в придворный штат камер-юнкером. Екатерина как-то сказала о нём:
— У этого молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум.
Она ценила ум и преданность и отправила его в штат наследника престола Павла, имея в виду, что этот человек сможет чаще других информировать её о вкусах, привычках и действиях Павла, о всех событиях, происходящих в малом гатчинском дворе.
Однако Растопчин воспринял свою службу всерьёз. Он отлично выполнял свои обязанности и негодовал на тех, кто относился к своему делу наплевательски. Однажды он даже сообщил гофмейстеру двора о том, что его товарищи отлынивают от обязанностей, могут по две недели не являться на службу.
Екатерине не понравилось такое поведение, и она отстранила Растопчина от службы при наследнике — он не докладывал ей о происшествиях у Павла в Гатчинском дворце, — и вот теперь он спешил с вестью к Павлу, которого любил и уважал.
Да и было за что уважать наследника. Образованный и начитанный, он любил разговаривать с Растопчиным, и скоро Фёдор Васильевич понял, сколько здравых мыслей у этого, казалось, поглощённого только разводами и формой солдат человека. Они обменивались изредка осторожными словами, не давая, однако, воли критическому направлению мыслей, но Растопчин понял, как ненавидит Павел всю придворную камарилью матери, видит, какое разложение и упадок царят вокруг, и ещё больше прилепился к нему сердцем и мыслями. Наведёт порядок, часто думалось Растопчину, и давно бы пора. Двор стал центром интриг, сплетен, а Екатерина словно и не видела воровства и казнокрадства, сама дарила милостями за малейшую услугу, возвышала людей бесчестных, низкопоклонных. Придёт к власти этот благородный, просвещённейший, чистый душой человек, и всё изменится — так смотрел он теперь на Павла Петровича. И Павел тоже понял душу Растопчина: немного в России нашлось бы среди дворян столь образованных, столь умных и столь ненавидящих ложь и подхалимство.
Александр и Константин уже стояли на нижнем этаже Зимнего, когда подъехала карета с Павлом. Как всегда, при встрече с отцом они уже переоделись в тёмно-зелёные мундиры армейского образца, введённые отцом в Гатчине, натянули высокие ботфорты и сейчас резко выделялись среди всех разряженных в шелка, бархат и кружева придворных.
— Александр, поезжай в Таврический дворец, все бумаги, что найдутся там, опечатай. А ты, Константин, с князем Безбородко примешь все бумаги, что найдутся у Зубова. Опечатаешь и всё, что будет в кабинете у государыни. И будь наготове...
Павел приобнял сыновей и вместе с ними поднялся по лестнице на второй этаж, где лежала больная императрица. Даже здесь, с лестницы, слышно было громкое хрипение, всхлипы.
Павел перекрестился:
— С нами сила Божья.
Сыновья тоже закрестились мелкими, частыми крестами.
Комната больной была переполнена народом. Суетились сиделки в белом, отирая ежеминутно кровавую пену, стекавшую с её губ, всё стоял на коленях возле сафьянового матраца Роджерсон и щупал пульс, приоткрывал веки на закрытых глазах.
Он сразу же поднялся с колен, когда в комнату вошёл Павел.
Тот устремил взгляд на мать, лежащую на полу. Александр и Константин, бледные, стояли рядом с отцом.
Павел прошёл к изголовью матраца, встал на колени и осторожно коснулся лба матери. Багровые пятна расползлись по всему лицу, оно словно пылало под отблесками заходящего солнца.
— Матушка, — тихо прошептал Павел, — дай нам, Господь, силы, дай, Господи, преодолеть...
Он поднялся с колен и услышал шёпот Роджерсона:
— До утра, ваше величество, вряд ли протянет государыня...
«Ваше величество» — назвал его доктор, значит, скоро конец, значит, его властная мать, отнявшая трон у отца, лишившая трона его, своего сына, будет уже не властна над ним? Но он ничем не выдал охватившего его чувства одновременно радости и ужаса. Он всё смотрел на хрипевшую мать, горой вздымавшуюся на сафьяновом матраце, слушал это страшное хрипение, и слёзы невольно навернулись на его глаза...
Бледный и неподвижный, глядел Константин на свою всегда такую живую и весёлую бабушку. Так вот какова смерть, так вот как безобразна и отвратительна она. До этого в своей семье он видел смерть лишь однажды: тихо, без стонов и содроганий угасла его новорождённая сестрёнка. Но как же разнились они, эти две смерти!
Внезапно императрицу сотрясла невиданная судорога, всё её тело вытянулось, руки вскинулись. Одеяло откинулось, мокрые юбки облепили толстые, почти бесформенные ноги. Константин едва не отвернулся от отвращения, но всё-таки пересилил себя, стоял, не смея отвести взгляд от бьющейся в агонии бабушки...
Павел тронул рукой Константина, и тот словно бы очнулся.
— Да-да, иду, — тихо произнёс он и знаком приказал одному из секретарей бабушки идти с ним в апартаменты Зубова.
А того было не узнать. Растрёпанный, с мокрым лицом и красными глазами, упал он на колени перед Павлом, обнимал его грубые солдатские ботфорты, целовал их и всё старался поднять голову и запечатлеть поцелуй на руке наследника. Скорбь его была искренней и неутешной.
— Ваше величество, — бормотал он, — не оставьте милостями, не казните, пощадите...
— Встаньте, Платон Александрович, — поднял его с колен Павел, — друзья моей матушки — мои друзья. Исполните свой долг, выполните свои обязанности...
Зубов шатающейся походкой отошёл от Павла и медленно повалился на пол — у него случился обморок. Павел кинулся к маленькому столику, где стоял графин с водой, налил воды и передал слуге, уже склонившемуся над фаворитом.
Павел вышел в кабинет матери, следом прошёл князь Безбородко, один из самых любимых секретарей императрицы в молодости, человек, возглавлявший потом всю внешнюю политику Екатерины.
— Надо опечатать все бумаги государыни, — тихо сказал Павел, — все её записки, это бесценно...
— Будет сделано, ваше величество, — отозвался Безбородко. — А пока посмотрите, есть ли какое письмо для вас...
— А ведь и верно, — вздрогнул Павел, — я как-то не подумал, что матушка может оставить мне...
Он прошёл к шкафам и ларчикам, сел за материнский письменный стол, наугад открыл один из ящиков. Сверху лежал пакет, залитый сургучами и перевязанный чёрной ленточкой. «Вскрыть после моей смерти в Сенате», — крупным почерком Екатерины было написано на нём. «Вот оно, — подумал Павел, — тут её завещание...»
Он разорвал ленточку, разодрал обложку пакета, вынул несколько листков плотной бумаги глянцевитого оттенка.
Углубился в чтение — да, Александр не ошибся, он сказал отцу об этом завещании ещё тогда, после разговора с императрицей. Она оставляла империю не сыну, а внуку, указывала Сенату на невозможность ввести на царство его, Павла. Лицо наследника вспыхнуло от негодования и злости — столько лет она держала его в высокомерном презрении, не давала ему права вмешиваться в дела государства и под самый конец приготовила ещё один сюрприз...
В камине жарко пылал огонь. Безбородко отошёл к самому окну, далеко от камина.
— Есть и ненужные бумаги, — легко сказал он, — камин зажжён, кое-что может и сгореть без остатка. Бумага что — сгорела, и нет её...
Он отвернулся к окну и долго стоял так, не смея повернуться. Воспользуется ли Павел представившейся возможностью или честность не позволит ему сжечь завещание матери? Тонкий дипломат и умнейший человек, Безбородко полагал, что это завещание вызовет лишь раздоры между отцом и сыном, может быть, и кровь. И он стоял, не поворачиваясь, до тех пор, пока Павел не сказал ему:
— Да, кое-что ненужное можно и сжечь...
В камине коробилось и чернело то, что осталось от завещания Екатерины. Ещё можно было прочесть выступившие строчки, ещё можно было увидеть надпись на пакете, но плотная и глянцевитая бумага запылала, наконец, ярким огнём, строчки пропали, пепел рассыпался на горящих дубовых поленьях.
— Не забуду, — тихо произнёс Павел.
И тогда князь Безбородко повернулся. Теперь Павел уже стал императором, завещания Екатерины больше не существовало...
— Но есть одна бумага, которую я ждал прочесть тридцать четыре года, — глухо сказал Павел.
— Посмотрите в секретере, — так же тихо отозвался Безбородко. Он знал, о какой бумаге идёт речь.
Тридцать четыре года думал Павел, что мать лишила отца жизни, но никаких письменных подтверждений этому у него в руках не было.
— Нет, искать я не буду, — неслышно проговорил Павел. — Со временем найдётся.
Письмо это действительно нашлось. Граф Фёдор Васильевич Растопчин писал об этой записке:
«Кабинет ея был запечатан графом Самойловым и генерал-адъютантом Растопчиным. Через три дня по смерти императрицы поручено было великому князю Александру и графу Безбородко рассмотреть все бумаги. В первый самый день найдено это письмо графа Алексея Орлова и принесено к императору Павлу. По прочтении было им возвращено графу Безбородко. И я имел его с четверть часа в руках (Растопчин успел снять копию с этой записки). Почерк известный мне — графа Орлова. Бумага — лист серой и нечистой, а слог означает продолжение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева государыни, и сим изобличает клевету, падшую на жизнь и память сей великой царицы. На другой день граф Безбородко сказал мне, что император Павел потребовал от него вторично письмо графа Орлова. Прочитав в присутствии его, бросил в камин и сам истребил памятник невинности Великой Екатерины, о чём и сам после безмерно соболезновал...»
Павел читал эту записку.
Пьяной, неумелой рукой Орлова на «серой нечистой» бумаге стояло:
«Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному рабу твоему. Но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь! Матушка — его нет на свете! Но никто того не думал, да и как нам думать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда! Он заспорил за столом с князем Фёдором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил — тебя прогневили и души свои погубили навек...»
Но это было потом, через три дня после кончины Екатерины, а пока Павел всё ещё думал, что она виновата в смерти отца, что по её приказу его убили, и с раздражением прислушивался к громкому хрипению за дверью, мучаясь жалостью и ненавистью к той, что родила его.
Весь день боролась со смертью старая женщина, хрипение и судороги не прекращались ни на минуту. И только вечером 6 ноября 1796 года всё это прекратилось.
Караульный гвардейский капитан Талызин первым подскочил к Павлу:
— Поздравляю, ваше величество, император России.
— Спасибо, капитан, жалую тебя орденом Святой Анны, — отнимая руку у лобызавшего её капитана, скороговоркой ответил Павел.
Тотчас в дворцовой церкви сенаторам и сановникам был зачитан манифест о кончине Екатерины Второй и начале нового царствования. Глубокой ночью продолжалась в церкви присяга. Первыми к кресту подошли сыновья нового императора — Александр и Константин. А в девять утра он уже ездил по городу, чтобы показаться народу. Сыновья сопровождали его.
В одиннадцать того же дня император явился на разводе гвардии, а закончив его, поехал вместе с Александром и Константином навстречу кирасирскому полку, которым командовал ещё будучи наследником. Полк был срочно вызван по тревоге, завидев императора, бурными криками, хвалебными «ура» выразил своё восхищение новым царём.
Павел выехал на середину каре, образованного полком, спокойно принял приветствия солдат и зачитал приказ о производстве полка в гвардию. Присяга прошла быстро и восторженно: в полку Павла любили за его справедливость и строгость к офицерам.
Мгновенно переменилось всё в столице: вместо бархата, шелков и кружев Зимний дворец заполнили тёмно-зелёные мундиры прусского образца, сзади, между фалдами, торчали огромные палаши[9], а узкие галстуки заменили кружевные жабо, а на головах появились огромные пудреные букли с косицей позади.
Изменился и сам вид столицы: на заставах возникли чёрно-белые полосатые будки, чёрно-белые же шлагбаумы закрывали теперь прежде открытую дорогу. Даже великий пиит прежнего царствования Державин отметил это в своих «Записках»: «Тотчас всё приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки, и будто по завоеванию города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».
Новый порядок изумил старых екатерининских вельмож: ровно в шесть утра все сановники обязаны были уже быть на съезжем дворе, точно в шесть подъезжали великие князья, и «с того времени до самых полдней все должны были быть в строю и на стуже».
И себе не делал новый император никаких поблажек: вставал в пять утра, обтирался куском льда, стоял на молитве в течение часа, а затем начинал свой рабочий день заслушиванием донесений о благосостоянии города, империи, домашних дворцовых дел. А в десять — развод, любимое дело императора.
Едва бьёт на часах двенадцать, Павел со всем своим семейством садился обедать. Ещё несколько минут на короткий отдых, и снова объезд города, встречи с полками, гвардией. К пяти его уже ждали министры с рапортами.
С первого же дня своего восхождения на престо Павел ввёл такой распорядок дня, и, случись хоть кому-либо нарушить его, император выражал своё негодование строгим выговором, арестом либо просто хмурил брови — и это было уже хуже всякого наказания.
Александр и Константин смертельно боялись отца. Они всё время вынуждены были находиться в напряжении, с великой тщательностью исполняли свои многочисленные обязанности. А их у великих князей стало так много, что едва выкраивалось время на пустую болтовню.
В парадной зале в это время лежало на высоком постаменте тело покойной государыни, покрытое белым бархатом и усыпанное цветами, окружённое молящимися за упокой чёрными фигурами священников и монахов, залитое бесчисленными огоньками свечей. Жались к стенам фрейлины, оплакивая и императрицу, и свою дальнейшую горькую участь, простаивала на коленях возле гроба долгие часы Мария Фёдоровна вместе со старшими девочками. Весь этот чёрный зал словно был напоминанием об ушедшем старом веке, в конце которого упокоилась великая государыня, тридцать четыре года управлявшая огромной Россией. Текли и текли мимо гроба толпы заплаканных горожан, всё новые и новые цветы, хоть и была зима, добавлялись к венкам и живым букетам, и нескончаемый этот поток прерывался лишь короткими периодами — в это время подправляли гроб, доктор Роджерс проверял состояние тела, набальзамированное и пустое внутри, да сменялся караул траурных гвардейцев.
А Павел приказал выдать гроб с телом отца, зарытый в безвестной могиле, и задумал похоронить их вместе...
Сразу по вступлении на престо Павел приблизил к себе своих сыновей, они стали ему верными помощниками и преданными друзьями. Он назначил их командирами гвардейских полков и делал различия между ними, как Екатерина. Покойная императрица больше приближала Александра, имея в виду оставить ему империю, а Павлу был больше по душе бесхитростный Константин, не умевший, как Александр, скрывать даже выражение своего лица, не то что плести интриги. Они были для Павла что два пальца на одной руке: какой ни тронь, всё больно, — но и служить должны были оба верно и преданно.
Однако сыновья не пользовались своим влиянием на отца — они так боялись его, что и не пытались замолвить какое-нибудь словечко за себя или за друзей. Учитывая старый опыт екатерининского времени, они искали покровительства у людей, приближённых к отцу, и потому не пользовались любовью даже в войске, им преданном. Великие князья не имели власти и силы, которую приобрели даже такие, казалось бы, ничтожные люди, как Адам и Константин Чарторижские, которых Павел назначил в адъютанты сыновьям. Оба этих молодых человека с большим достоинством отстаивали свою честь, и скоро оба же попросили освободить их от должностей: слишком уж строги, несправедливы и жестоки были великие князья.
Александра Павел вскоре назначил инспектором всей пехоты страны, а Константину прочил должность инспектора кавалерии. Уже из этого назначения видно, что Павел отдавал предпочтение младшему сыну перед старшим — он ещё не забыл завещания матери и потому старался показать балованному старшему, что младший его перегоняет.
Константин должен был заняться хорошей подготовкой, чтобы принять под своё командование и инспекцию конногвардейские войска. Ему было отдано пять эскадронов Конногвардейского полка, расквартированного в Царском Селе. Здесь-то и начал Константин свою деятельность. Он был обязан обучать полк всем предметам конного боя, строгого строя. Но для этого ему надо было всё знать самому, и он постоянно учился.
Адъютантом к Константину Павел назначил офицера лейб-гвардии Измайловского полка Евграфа Федотовича Комаровского, а другим адъютантом сделал пожилого офицера того же полка Сафонова. Негласно поручил ему государь наблюдать за Константином и доносить о всех его действиях.
Сафонов был вроде дядьки при Константине, молодой ещё великий князь мог наделать много ошибок, и отец берёг его.
— Вот человек, — сказал Павел сыну, — которому я тебя поручаю. Он хотя и адъютант твой, но ты видишь в нём моего доверенного человека.
Марии Фёдоровне он отрекомендовал Сафонова так же и добавил, что этот человек именно тот, которого он давно искал для неуёмного и вспыльчивого Константина.
Но между дядькой Сафоновым и Константином вскоре завязалась самая настоящая дружба. Ни разу Сафонов не донёс императору на великого князя. А тот каждому представлял Сафонова так:
— Прошу иметь почтение и уважение к Павлу Андреевичу. Он хотя и имеет звание моего адъютанта, но для меня значит гораздо более.
Лучшей дружбы между ними не могло и быть. Сафонов многому научил молодого инспектора кавалерии, и Константин до конца дней питал к этому пожилому вояке искреннее уважение.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Сидя в своей комнате, Маргарита с ужасом прислушивалась к звукам, доносящимся из большой гостиной. Она плотно прикрывала дверь и на всякий случай засовывала в дверную ручку ножку тяжёлого стула, чтобы никто не мог к ней ворваться. Но шум в гостиной всё равно доносился, и по этим звукам Маргарита определяла, что там творится. Визгливый хохот непотребных актёрок, громкое пение застольных песен, звон разбитых бокалов и переборы гитары — всё это позволяло ей видеть картину разгульного пиршества и вздрагивать от мысли, что кто-нибудь вдруг, как и в прошлый раз, станет требовать показать хозяйку дома.
Впрочем, гости довольствовались мадам Жюстен.
Она разносила напитки, строго следила за тем, чтобы всё было выпито, улыбалась каждому пьяному гостю и даже позволяла щипать себя за пышный зад и белые полные руки. Маргарите так и виделось её кукольное личико с фарфоровыми голубенькими глазками, маленький, всегда улыбающийся рот, высокий бюст, который она гордо носила перед собой. Видела её Маргарита и совсем обнажённой, когда вошла однажды ночью в комнату домоправительницы, чтобы попросить приготовить ей тёплое питьё: в доме было холодно, а слуги подчинялись только приказаниям Поля или мадам Жюстены. Они скоро поняли, кто в доме хозяин, и на приказания Маргариты не обращали никакого внимания.
Они спали вместе, её муж Поль и мадам Жюстена. Белокурая головка мадам Жюстены с рассыпавшимися и развившимися волосами лежала на плече у Поля, а он уткнулся всем своим лицом в её волосы. Одеяло скрывало их лишь до половины, и Маргарита со свечой в руке полюбовалась на их спокойный, умиротворённый сон.
Утром, за завтраком, на котором присутствовали и свекровь, и мадам Жюстена, Маргарита просто и ясно сказала:
— Вы так крепко и хорошо спали, на ваших лицах было столько покоя и ясности! Я так вами любовалась...
Ложка выпала из руки мадам Ласунской, Жюстена вспыхнула и быстро выскочила из-за стола, а Поль побледнел, но властно произнёс:
— С каких это пор вы входите в комнату домоправительницы, не постучавшись? Вы дурно воспитаны, моя дорогая, у вас нет привычки уважать чужие сны и покой...
Маргарита постаралась оправдаться:
— Мне нужно было горячее питьё, мадам Жюстена забыла поставить его возле моей кровати. И потом, я стучалась, но вы так крепко спали, что я открыла дверь и вошла...
— Забудем об этом, — холодно сказал Поль, — но я надеюсь, что ваши дурные привычки не станут известны в доме вашей матушки и вашего батюшки. Вы ведь не станете упрекать их за то, что они плохо воспитали вас.
— Выносить сор из избы — последнее дело, — быстро проговорила мадам Ласунская, уже оправившаяся от первого впечатления.
— Да я и не собираюсь никому ничего рассказывать, — оправдывалась Маргарита, — да и кому это интересно? Может быть, вы правы, и я дурно воспитана, матушка и батюшка учили меня многим вещам, но, видимо, и в моём воспитании есть пробелы. Уверяю вас, я буду исправляться...
— То-то же, — пробормотал Поль и принялся хладнокровно есть, будто и не было этого разговора.
Все замолчали.
— Надеюсь, вы извинитесь перед мадам Жюстеной, что вошли в её комнату, не постучавшись, — холодно заметил Поль в конце завтрака.
Маргарита покраснела.
— Разве она не обязана служить мне? — только и вырвалось у неё.
— Но воспитанные люди не делают своих домоправительниц рабами, — парировал Поль.
Глаза его, словно буравчики, впивались в глаза Маргариты, и она опустила их.
— Вы правы, — произнесла она, — я извиняюсь...
И она действительно извинилась. Мадам Жюстена приняла её извинения со смущённой усмешкой и после этого уже перестала стесняться. А Ласунская выбрала момент, когда Поль курил дорогую сигару, развалившись в просторном мягком кресле, и тихонько вошла к нему.
— Я тоже не стучусь, — сказала она. — Ты всегда так занят, что у тебя нет времени поговорить со своей матерью.
— Что вам угодно, маман? — холодно спросил Поль, выпуская дым клубами прямо в лицо матери, присевшей на краешек стула.
— Поль, — осторожно начала она, отгоняя рукой вонючий дым, — ты должен быть осторожнее, твоя жена, в сущности, застала тебя за прелюбодеянием.
— Она извинилась за своё вторжение, — презрительно ответил он.
— Но пойми, если это дойдёт до Нарышкиных, они могут потребовать развода. А тогда дела твои будут в совершенном расстройстве.
— Вы ничего не понимаете, маман, — ещё холоднее ответил Поль, — я уже давно прибрал к рукам всё приданое моей жены, этой глупой зеленоглазой курицы. Закладную на имение она подписала не глядя, все её деньги давно перешли в мой карман, у неё нет и гроша...
Ласунская долго глядела на сына.
— Ты практичен, Поль, — тихо выговорила она, — но тебе необходимо удалить мадам Жюстену: пусть не будет никаких упрёков.
— Я думаю, маман, — Поль небрежно стряхнул пепел с новомодной заморской сигары, — мне необходимо удалить вас, чтобы вы не вмешивались в мои дела и не делали мне замечаний...
— Пот, как ты можешь? — Слёзы закипели на глазах матери. — Я всю жизнь старалась только для тебя, я женила тебя на этой дурнушке, чтобы ты не имел забот, жил настоящим барином, а ты говоришь мне такое!
Впервые за много лет вырвались у неё слова упрёка.
— Я прикажу заложить лошадей, и вы сегодня же уедете в свою тверскую, — твёрдо сказал Поль.
— Но, Поль, разве ты не знаешь, что там я буду прозябать в нищете?
— Вы всегда говорили мне, что у каждого своя судьба, — ясно и любезно улыбнулся Поль, — я предоставляю вас вашей судьбе...
Она поперхнулась и во все глаза смотрела на своего любимого сына.
— И не надейтесь на мои подачки, — закончил Поль.
Сколько ни умоляла его мать сжалиться над ней, он остался непреклонен.
Вечером мадам Ласунская распрощалась с невесткой, едва сдерживая слёзы:
— Дела призывают меня в мою тверскую деревню. Надеюсь, у вас всё будет хорошо. — И, обняв невестку, добавила: — Заведите ребёнка, Поль будет к вам относиться лучше...
Маргарита слегка пожала плечами. Как это — завести ребёнка? Она ничего не знала об интимной стороне жизни мужа и жены, она всё ещё была девственницей.
Едва сев в возок, тот самый, старый, который помогли отделать заново Нарышкины, Ласунская разразилась слезами и плакала всю дорогу. Могла ли она подумать о том, что Поль, её дорогой сын, так поступит с ней! Но скоро Ласунская утешилась: только бы ему было хорошо, а она уж как-нибудь обойдётся теми грошами, что удаётся выколачивать из бедных разорённых крестьян...
Теперь они завтракали втроём, и каждый такой завтрак был для Маргариты новым унижением и обидой. Поль холодно подмечал каждый её жест и ледяным тоном сообщал:
— Посмотрите, как разрезает ножом мясо мадам Жюстена! Что значит французское воспитание! А вы так нелепо отставляете палец в сторону, словно от такого жеманства зависит изящное поведение!
Маргарита краснела, исподлобья взглядывала на мадам Жюстену и старалась повторять каждый её жест. Но, что бы она ни делала, всё ставилось ей в укор. Мадам Жюстена была совершенство, а Маргарита всего лишь жалко копировала её.
— Я прикажу подавать вам завтрак в вашу комнату, чтобы никто не видел ваших дурных манер, — презрительно сказал однажды Поль.
И Маргарита была счастлива, что не нужно выходить к завтраку, напряжённо ждать упрёков в плохом воспитании, копировать мадам Жюстену. Она стала жить настоящей затворницей, редко выходила из своей комнаты, не старалась красиво причёсываться и одеваться. Впрочем, все её наряды, сшитые в материнском доме, уже давно перекочевали в сундучок мадам Жюстены.
Отослав мать, Поль перестал стесняться. Он водил в дом гостей, манеры которых плохо уживались с приличиями, постоянные шумные сборища были отныне обществом мужа Маргариты. Первое время он ещё приглашал молоденькую жену выходить к гостям, но потом едко и презрительно выговаривал ей, как скверно она владеет собой, вспыхивает от каждого неосторожного слова, не умеет вести светскую беседу, а может только бренчать на клавесине да распевать пошлые французские песенки, которые не хочет позволить себе мадам Жюстена.
Впрочем, скоро век мадам Жюстены кончился, она как-то незаметно исчезла из дома, и вместо неё появилась новая домоправительница, которой Поль отдал все ключи. Это была высокая рыжеволосая немка Амалия, и теперь Поль расхваливал всё немецкое, отдавая предпочтение распорядительности и практичности.
Маргарита больше никогда не входила в комнату домоправительницы, сама ходила на кухню, если ей требовалось что-то, сама просила приготовить ей чай или нужную еду. Слуги обходились с ней как с приживалкой.
Она старалась не замечать ничего, жила словно во сне и лишь молила Бога, чтобы Поль не замечал её, не выговаривал по поводу каждого жеста и слова.
Тайком бегала он в церковь Всех Святых на Кулишках, простаивала долгие часы на коленях в самом тёмном приделе и даже не произносила слова привычных молитв, а просила только одного:
— Боже, великий и милостивый, забери меня к себе! Если бы я не знала, что это великий грех, я покусилась бы на свою жизнь. Но за что послал ты мне такое испытание, такой тяжкий крест?
Нет, она не роптала, смирилась со своим положением, думала, что судьба наказывает её за слишком счастливое детство в доме отца, и никому никогда не жаловалась.
Она худела, бледнела, и лишь огромные зелёные глаза светились какой-то нездешней тоской. Но молодость брала своё, и к семнадцати годам она ещё выросла, немного раздалась в плечах, грудь её налилась, кожа привлекала белизной и свежестью, а волосы росли так густо, что гребни ломались, когда она причёсывалась. Она не любила новомодных буклей и локонов, зачёсывала гладко свои русые волосы, но они лежали пышно даже без щипцов.
Но теперь она закрывалась на ключ: не хотела повторения той отвратительной сцены, что произошла в прошлый раз...
Шумная ватага ввалилась в дом, когда было уже далеко за полночь. После игры в Английском клубе Поль затащил приятелей к себе в дом. По дороге они забрали нескольких актёрок.
Маргарита уже спала, когда в доме поднялся страшный шум. Бренчал клавесин, выкрики чередовались со звоном разбитой посуды. Она прислушивалась к грохоту, вглядывалась в не закрытое шторами окно. Полная луна торжественно плыла по небу, звёзды меркли в её свете, и всё за окном казалось погруженным в какой-то нереальный мир. Тихо стучала в окно ветка дерева, голая и беззащитная в отблеске луны, и всё было напоено тишиной и покоем. Крики за дверью казались кощунственными по сравнению с величественностью лунного царства. Маргарита старалась не слышать шума, силилась снова заснуть, но лунный свет падал ей прямо на лицо, косыми полосами прорезал тьму комнаты.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге, освещаемый сзади дымным светом свечей, показался муж. Кружевное жабо его рубашки было разорвано, на снежно-белом пикейном жилете темнело винное пятно, а голос был груб:
— Может быть, хозяйка дома хоть раз встанет и покажется гостям?
Она промолчала: может быть, он подумает, что она спит, и уйдёт обратно в этот дымно-шумный мир? Но Поль подбежал к постели и резко дёрнул её за руку.
— Вставай, неженка! — крикнул он. — Будь, чёрт возьми, женщиной, а не нудной злючкой!
Он стащил её с постели, бросил платье, лежавшее на кресле, и стоял до тех пор, пока она, сонная, торопливо натягивала его и наскоро причёсывалась костяным гребнем.
— Я плохо выгляжу, — угрюмо сказала она, — да и кто будит среди ночи?
— Я так хочу, и ты будешь мне покоряться, я твой муж, и не думай мне перечить. Я хочу показать тебя моим гостям, и ты выйдешь к ним, даже если бы была голой...
Омерзительная картина ночного разгула предстала глазам Маргариты, когда Поль за руку выволок её в большую гостиную. На пёстром персидском ковре краснели лужи пролитого вина, тут же валялись осколки дорогих стеклянных, едва входивших в моду бокалов, кто-то уже лежал за креслами, полуодетая актёрка сидела на коленях субтильного хлыща и тянула его за волосы, отгибая голову и подставляя накрашенные губы для поцелуя, какая-то пара возилась в углу дивана. Мрачно смотрели со стен на всё это дорогие шпаги в разукрашенных ножнах, да тлели в камине угли. Канделябры по углам гостиной и большая люстра, подвешенная к потолку, ярко освещали ночной разгул.
— Прошу любить и жаловать! — закричал Поль громким срывающимся голосом. — Моя супруга, урождённая Нарышкина...
Никто не обратил внимания на его слова: слишком шумным и разномастным было это общество, и все уже дошли до такой степени опьянения, что не могли слушать кого бы то ни было.
— Господа! — продолжал кричать Поль. — Вы пьяны, но я делаю вам предложение...
Клавесин под руками одной из актёрок продолжал греметь, и Поль повернулся к нему.
— Тихо, прошу всех замолчать! — громовым голосом крикнул он.
Клавесин смолк, невольно установилось минутное молчание.
— Итак, господа, — продолжал Поль, — вот моя жена, но я замечательный муж, я нисколько не стесняю её свободы. Я предлагаю ей выбрать среди вас себе любовника, я нисколько не буду задет таким оскорблением моей чести...
Он пьяно засмеялся и вытолкнул Маргариту на середину комнаты.
— Итак, кто желает быть её любовником? — кричал он. — И ты сама, Марго, погляди вокруг и реши, кто из них эту ночь проведёт с тобой...
Она вырвалась из его рук, подскочила к стене, где висели на ковре драгоценные шпаги, стремительно сорвала со стены одну из них и резко выдернула клинок из разукрашенных ножен.
— Что такое, что такое? — раздались возбуждённые голоса.
— Итак, кто хочет быть любовником моей жены? — продолжал кричать Поль.
Взгляды пьяных гуляк устремились на Маргариту.
— Она, конечно, худышка, и нет в ней никакого шарма, но...
— Заколю на месте, если кто-нибудь приблизится ко мне! — внезапно громко сказала Маргарита.
— Ай да женщина! — раздался голос одного из гуляк.
— Вот это супруга! — присвистнул другой.
Маргарита почувствовала, как мгновенно стала центром внимания, похотливые и пьяные глаза уставились на неё, и чьи-то руки уже начали тянуться к её лицу.
Восхищенные возгласы вдруг словно отрезвили Поля. Он взглянул на Маргариту и не узнал её — перед ним стояла зеленоглазая стройная красавица с высокой грудью, с отчаянно сжатым пунцовым ртом и копной русых волос. В руке она сжимала эфес шпаги, а глаза её сверкали так, что померк свет многочисленных свечей.
— Нет-нет, я пошутил, — мрачно сказал он, и взгляды пьяных повес опустились.
Маргарита облегчённо вздохнула, быстро повернулась и, не выпуская шпаги из рук, убежала в свою комнату. Бросив шпагу на пол, она обернулась, чтобы закрыть дверь на ключ, но на пороге уже стоял Поль.
— Я и не знал, что ты такая красавица, — шепнул он. — Иди ко мне, я твой муж, и никто не проведёт эту ночь с тобой, только я...
Она отчаянно вырывалась, но он разорвал на ней платье, бросил на кровать, взял её грубо, примитивно, даже не дав себе труда раздеться. Она извивалась под ним, отталкивала его руками, и ей всё казалось, что отвратительное свиное рыло тянется к её лицу, а цепкие хищные лапы пачкают и оскверняют её тело.
Он бил её, переворачивал, делал с ней всё, что хотел, и лишь тогда содрогнулась Маргарита: так вот что такое интимная жизнь жены и мужа, эта боль и отвращение и есть та тёмная сторона жизни, о которой она не имела ни малейшего понятия...
Влюблённость Поля в собственную жену продолжалась недолго. Он входил к ней, когда хотел, брал силой, бил, щипал, колол отполированными ногтями и уходил, не целуя её и не проявляя к ней никакой нежности. Возобновились его ночные встречи с Амалией, потом нашлись и другие, и Маргарите опять казалась сносной эта супружеская жизнь, когда муж не приходил к ней по целым месяцам, и она успокаивалась. Однажды она вдруг с ужасом подумала, что может появиться ребёнок, и уже представляла себе его, похожего на Поля, и заранее ненавидела этого ещё не родившегося и даже не зачатого ребёнка.
Весть о кончине императрицы мгновенно дошла до Москвы и страшно взволновала Поля Ласунского. Теперь на своих оргиях он ораторствовал, рассказывал, как пострадал от заговора его отец, ждал, что с минуты на минуту к нему ворвётся гонец с секретным пакетом от самого Павла Первого, запечатанным сургучными царскими печатями, и его призовут к государственной службе, наградят за заслуги отца, сделают, может быть, генералом, а то и фельдмаршалом. Он так убедил себя и своих друзей-гуляк в этом, что все осведомлялись, получил ли назначение младший Ласунский. И дома он постоянно спрашивал у слуг и Маргариты, не было ли каких вестей из Петербурга.
Но вестей всё не было, и Поль начинал сердиться: как же так забыть его, такого заслуженного человека, пострадавшего, как и отец, от опалы старой императрицы? Он не помнил, что служил лишь по формальному списку самым нижним чином, и никогда не бывал в полку, и что у него не было не только никакого опыта, но и никаких заслуг. Всё его время проходило в праздной гульбе, пирах и проматывании жениного состояния.
Маргарита, живя в той же Москве, редко виделась со своими родными: Поль запрещал ей эти встречи. Но тут он сам послал её к Нарышкиным: не смогут ли они похлопотать о его назначении? Маргарита поехала в старый родительский дом, сердечно расцеловалась с младшими сёстрами и братьями, отметила про себя новые сединки с бакенбардах отца и новые морщинки под глазами матери.
Варвара Алексеевна увела дочку к себе и долго безуспешно пыталась выспросить её о супружеской жизни.
— Всё хорошо, мама, — спокойно отвечала Маргарита, — вы не волнуйтесь за меня. Поль просил похлопотать за него, чтобы ему было назначение...
— Ну об этом с отцом поговори, — сказала Варвара Алексеевна, — меня больше тревожит, что ты какая-то печальная стала, а росла резвушкой. И детей у вас до сих пор нет.
— Что вы, маман, какие дети, — грустно произнесла Маргарита, — я так боюсь, что они будут похожи на отца...
Варвара Алексеевна почувствовала в словах дочери затаённую печаль.
— Да ты счастлива ли с ним, с Ласунским? — напрямик спросила она.
— А разве вы были счастливы с моим отцом? — ответила вопросом на вопрос Маргарита. — Супружеская жизнь — это такой кошмар...
Варвара Алексеевна удивилась. Она хорошо прожила всю жизнь с отцом Маргариты.
— Когда он гладит меня по лицу, прикасается к моим рукам, мне всегда становится радостно. Недаром у нас такая большая семья. — Она закраснелась, стыдясь говорить с дочерью откровенно.
— Когда Поль входит ко мне, мне становится противно, — вдруг сказала дочь. — Кажется, что свиное рыло тянется ко мне, а когтистые лапы впиваются в моё тело. У меня от этих лап синяки...
Варвара Алексеевна широко открыла глаза.
— Покажи, — потребовала она.
Маргарита показала.
Слово за слово вызнала Варвара Алексеевна у дочери всю подноготную: и как бьёт, иногда выгоняет на мороз, как отвратителен в своих попойках и как однажды даже предложил ей сыскать себе любовника. Варвара Алексеевна задыхалась.
— Но ведь он такой добрый был, — пыталась она остановить поток жалоб Маргариты.
— А вы навели хотя бы справки?
— Да ведь его мать столько о нём говорила...
— А вы и поверили, добрые души, — печально сказала Маргарита. — Ах, маман, я так хочу умереть! Там покой, тишина, да Бог не даёт мне смерти.
Тут уж Варвара Алексеевна испугалась. Её дочка, любимица, старшенькая, такая весёлая, рассудительная и живая, заговорила о смерти...
Когда она узнала про всё, что происходит в дому Ласунских, каким унижениям и оскорблениям подвергается её дочь, она твёрдо произнесла:
— Я виновата в том, что послала тебя на такую каторгу, я и позабочусь, чтобы освободить тебя от неё...
Маргарита печально и насмешливо посмотрела на мать:
— Как вы можете освободить меня, если брак скреплён Богом?
— А Бог и рассудит. А тебе вот мой сказ — домой не возвращайся, живи здесь. И на развод подадим. Где это слыхано, чтобы от живого мужа в любовницы кому ни на есть предлагать?
Варвара Алексеевна тут же побежала к мужу и всё рассказала ему. Михаил Петрович лишь качал поседевшей головой.
— Развод — последнее дело, — сказал он, — но и оставаться весь век в таком утеснении тоже не дело. Я поговорю с Полем, может, он исправится.
Но такой разговор ничего не дал. Ласунский отрицал всё, и Михаил Петрович понял, что надо обстоятельно запастись свидетельскими справками, чтобы доказать вину Поля. Пока же он велел дочери отправляться домой, молчать о разводе, чтобы вина потом не пала на неё. О хлопотах по делу Ласунского он знать ничего не хотел.
Вернувшись домой, Маргарита сказала Полю, что отец и мать не берутся помочь ему, так как в Петербурге не знают никого, а здесь, в старой столице, все знают Ласунского, и потому ему надлежит самому хлопотать о своём назначении.
— Придётся мать просить, — небрежно бросил Поль, — поедем к ней в тверскую, пошлём в столицу, она пробивная, всё для меня сделает...
— Но ты мужчина, а она женщина, что она может, если ты не можешь сам?
— Ей известны все ходы и выходы, да и жила когда-то в столице. Попала же она к Константину, пусть и теперь едет к нему, царский сын постарается для меня...
Маргарита промолчала. Странно, на словах он такой бойкий и смелый, а хлопотать за себя предоставляет другим...
— Мне бы денег немного, Поль, — робко сказала она, — неловко к свекрови с пустыми руками ехать...
— Какие деньги? — взъярился муж. — Ты хоть знаешь, сколько стоит содержать дом и тебя, жену боярскую? А если ты намекаешь на приданое, то оно давно улетело — расходы непомерные...
Ей хотелось возразить: она почти ничего не стоила ему, все её платья и безделушки ещё из отцовского дома, а сама она тратит лишь на свечки да на милостыню нищим. Но опять смолчала: нельзя этого говорить, тут же даст пощёчину или скажет горькие обидные слова.
Вынула из заветной укладки, что мать ей дала, штуку белого атласа да кусок красного бархата — всё хотела сшить платья, но желания не было, да и зачем? Она никуда не выезжает, нигде не бывает. А старушка обрадуется подаркам.
Словно бы предчувствуя что-то, Маргарита основательно подготовилась к маленькому путешествию: всё-таки хоть какое-то разнообразие в её тусклой никчёмной жизни. За тройкой вороных коней, которые были впряжены в карету, удобно разместившуюся на лёгких санях, шла ещё обычная телега с рогожным возком. Там поместились лакей Поля, горничная Маргариты, целый ворох провизии да сено для лошадей.
Ранним утром солнечного морозного дня весь обоз выехал на тверскую дорогу. Колокольцы под дугой коренника весело гремели, сани бесшумно скользили по накатанной дороге, а Маргарита, не отрываясь, вглядывалась в мелькавшие за крохотным застеклённым оконцем белые поля, серые массивы леса, снежную ленту речушки, мимо которой проезжали. Маленькая жаровня в углу кареты обогревала внутренность, и стёкла то и дело запотевали. Маргарита всё протирала их перчаткой и всё всматривалась в пейзажи за окном. Вспоминались ей просторы подмосковного отцовского имения, последняя охота, когда она неудачно упала с лошади, её внезапное, словно вспышка, видение, и ей казалось, будто это было давно, век назад, и будто бы во сне. Да и было ли оно, её беззаботное детство в весёлой беготне и хлопотах по пустякам? Словно мелькнуло и ушло в безоглядную даль, и только теперь понимала она, что это и было её настоящим счастьем.
Будущее не сулило ей никаких радостей, даже радостей материнства. Она не ждала ничего от жизни и с горькой тоской вглядывалась в снежные просторы, будто вглядывалась в ушедшую жизнь.
Солнце, бледное, неяркое, бросало блики на снег, и он искрился, сверкал под лучами, словно бриллиантами, были усыпаны поля и деревья, на ветках которых лежала пушистая снежная пелена. «Бог дал такую красоту людям, а они не умеют ей радоваться, — думала Маргарита, — не понимают, сколь многого лишаются, не давая глазам созерцать и наблюдать, а душе распускаться в умилении от вечной неистребимой красы природы...»
Поль что-то бурчал недовольно, но она не обращала на него никакого внимания.
Багровый диск солнца словно уходил в снег, когда тройка подкатила к господскому дому, стоявшему на взгорке.
Странно, ни малейшего движения не было слышно в доме, когда Маргарита, не дожидаясь помощи кучера, спрыгнула с подножки прямо в снег. Тут, наверное, была тропинка или дорожка к дому, но теперь её ноги ушли в сугроб по колени. Она так и стояла в рыхлой рассыпчатой массе и во все глаза глядела на господский дом. Ворот не было, их резные створки, видно, давно исчезли в печах, даже калитка была сорвана с петель, и ржавые половинки этих петель жалобно скрипели под каждым порывом ветра.
Дом словно нахохлился под стужей, крыша, крытая гонтом[10], провалилась в одном углу, а на резном крылечке пушистой горой лежал снег. Никто давно не ступал по этому крылечку, его деревянные колонки почернели, потрескались и еле держали навес.
Маргарита, с трудом выдирая ноги из сугроба, прочертила тонкую цепочку следов к самому крыльцу. На первой же ступеньке, едва нащупав её под слоем снега, она чуть не упала: под снегом образовалась корка наледи. Схватившись за тоненькие перильца, Маргарита всё-таки взошла на крыльцо. Прямо перед ней резная, когда-то белая деревянная дверь стояла угрюмо, словно ненавидя приехавших гостей, и с великой неохотой поддалась усилиям Маргариты. Но она справилась с дверью, которая оказалась незапертой на замок и впустив незваную гостью в тёмные сени, а затем и в комнаты, покрытые пылью и наледью.
Поль не выходил из кареты до тех пор, пока кучер и лакей, вооружившись захваченными предусмотрительно из дому лопатами, не расчистили дорожку перед домом и не сгребли снег с крыльца.
Половицы жалобно потрескивали под ногами Маргариты, когда она пошла осматривать весь дом. В комнате, где просела крыша, она ощутила ледяное дыхание зимы. Окна здесь были заколочены кое-как досками, но через щели в них ещё просачивалось скупое солнце, освещая красноватым светом запустение и пустоту. Сквозь крышу, видно, всё текло и текло, и в углу образовался высокий ледяной столб, словно бы подпиравший её. Лишь благодаря ему крыша не провалилась совсем, и красноватые отблески позволили Маргарите разглядеть в ледяном столбе своё искажённое до неузнаваемости лицо.
Маргарита прикрыла дверь в эту мрачную комнату и отправилась в путешествие по дому. Жерла печей густо заросли паутиной, но пауков не было и в помине: мороз давно сожрал насекомых. Кое-где сохранились ещё старые кресла и стулья, прикрытые рогожными кулями, а в одном углу сиротливо белел соломенный матрац, брошенный прямо на пол. Пушистая пыль покрывала все полы, и Маргарита оставляла следы на этой пыли.
Запустение, нищета так и глядели из каждого угла. Маргарита искала хозяйку этого дома, но тишина и пыль встречали её в каждой комнате, а деревянная лестница, ведущая на второй этаж, обвалилась со всеми своими ступеньками, и взойти туда было невозможно.
Осмотрев дом и не найдя в нём и следа жизни, Маргарита вышла на крыльцо. Поль только что ступил на расчищенную дорожку и с изумлением оглядывался кругом.
От деревушки, лежавшей глубоко в низине, едва выдирая ноги из снежной целины, поднимался к господскому дому мужик в деревенском холстинном армяке и меховом треухе, глубоко надвинутом на глаза. Виднелись лишь его чёрная борода, которой обросло всё лицо, да суковатая палка, которой он промерял глубину снежного наста. Поднявшись на взгорок, он несмело подошёл к карете и низко, в пояс, склонился перед Полем.
— Ты кто? — спросил Поль, презрительно оглядывая мужика.
— Федот, господин, староста здешний.
— А где же хозяйка, где мать моя, госпожа Ласунская?
— А у меня, господин, — всё также робко ещё раз склонился мужик.
— Как это у тебя? — зло переспросил Поль.
— А как стали морозы, да барыня слегла, а топить нечем, а она вовсе не встаёт, пришлось в избу крестьянскую перевести, — пробормотал мужик.
— А что ж мне не написал, орясина ты эдакая?
— А мы грамоте не обучены, — опять поклонился мужик, — а барыня писала, носил все письма её в другую деревню, где почтовый двор...
Маргарита знала, что Поль получал письма от матери все эти пять лет, но ни разу не ответил на них, а потом и совсем перестал читать. Он просто бросал их в огонь. В них было одно и то же: помоги, милый сыночек, дров нет, дом разваливается, мочи нет. Но что ему было до нужд матери, если предстояла новая весёлая ночка с гульбой и игрой?
— Проводи нас к ней, — сказала Маргарита.
— Куда? — закричал Поль. — Надо устроиться на ночлег, всё осмотреть вовсе запустил мужик хозяйство. Его бы палками...
Но Маргарита уже пошла впереди мужика по цепочке его следов.
— Ну как хочешь, — пробормотал Поль, — а я пока осмотрю всё да прикажу натопить...
— Навестить надо матушку, — обернулась Маргарита.
— Я после приеду, — холодно бросил Поль вслед ей.
— А в деревню дороги нету. — Федот стоял в нерешительности: то ли следовать за барыней, уже ушедшей далеко, то ли ждать распоряжений барина.
— Ступай и ты за госпожой, заблудится ещё! — крикнул Поль и пошёл в дом.
Федот обогнал Маргариту, старавшуюся ступать по его широким следам, и то и дело подавал ей руку, когда она в нерешительности останавливалась. Рука была большая и жёсткая, и Маргарита с удовольствием вкладывала свою ручку в меховой перчатке в эту сильную мужскую ладонь.
С десяток кривобоких, почерневших от времени деревянных избушек, крытых соломой, проросшей бурьяном и голыми тонкими стволиками, толпилось по-над речкой, белой лентой извивавшейся среди голых ив и тяжёлых полусгнивших дубов. Несколько отдельно стояла низенькая изба Федота, тоже крытая соломой, но из железной трубы её вился дымок. Все другие избушки топились по-чёрному, на них не было труб, и кое-где из щелей крохотных дверей вырывались струйки дыма.
Они скоро дошли, и Федот распахнул низенькую дверь в полутёмное, освещённое только отблесками огня в широкой русской печи пространство избы. Несколько пар любопытных глаз уставились на Маргариту с печи, полузакрытой холстяной занавеской, тоже с полатей свисали белые волосы детишек мал мала меньше.
В крошечной кухне было всё население этой избы, и Маргарите низко, до полу, поклонилась дородная крестьянка в аккуратных лаптях и домотканой юбке.
— Проходите, барыня, — пригласил Федот, и Маргарита ступила в низенькую горницу, которую почти всю занимала широкая деревянная кровать. На ней, прикрытая лоскутным одеялом, лежала её свекровь, госпожа Ласунская...
Маргарита поначалу даже не узнала её. Лицо, бледное, высохшее, едва виднелось из-под одеяла. Щёки ввалились, нос заострился, было похоже, что мертвец лежит под этим одеялом. Тело, плоское и прямое, почти не вздымало его.
— Здравствуйте, матушка, — подошла к ней Маргарита и коснулась губами впалой щеки.
— Кто это? — испугалась больная.
— Разве вы не узнали меня? — удивилась Маргарита. — Я жена вашего сына Поля, Маргарита...
— Я ждала Поля, а вовсе не тебя, — капризно протянула Ласунская.
— Он скоро будет, мы приехали вместе, — ответила Маргарита.
— Мой Поль будет, он всё-таки не забыл свою старую мать, не забыл меня.
— По щекам больной покатились мелкие слёзы.
— Да, мы приехали, — терпеливо сказала Маргарита. — Переедете в господский дом, там за вами будет надлежащий уход...
— Нет-нет, — опять испугалась больная, — я никуда не поеду, мне здесь хорошо. Лютовала я над Федотом, пока силы были, а теперь он мне родней родного...
Федот, сняв треух и обнажив чёрную кудлатую голову, молча стоял у двери. Маргарита обернулась к Федоту, вынула из кармана серебряный рубль и протянула ему.
— За труды, — коротко сказала она.
Федот словно испугался. Он отступил на шаг, спрятал руки за спину и нерешительно пробормотал:
— Да разве мы за то... Госпожа наша трудна, что ж, разве мы не люди...
— Пригодится, — снова коротко сказала Маргарита, подошла к Федоту и сунула рубль в его объёмистый карман.
Федот упал в ноги Маргарите.
— Помилосердствуйте, госпожа, — бормотал он, — скажут по деревне, Федот дерёт, даже с господ дерёт...
— Ничего не скажут, — отозвалась Маргарита, — подарила, мол, барыня, и всё...
— Дай вам Бог здоровья, — поднялся с колен Федот. — Анисья моя баба добрая, мне говорит: госпожа трудна, дворни нет, топить нечем, мороз в доме, застынет, мол. Вот я и взял.
В приоткрытую дверь было видно, как низко кланялась Анисья, не смея вымолвить ни слова.
— Доктора нужно пригласить. — Маргарита присела у постели больной. — Тут разве нет докторов?
— А в город ехать, — словоохотливо ответил Федот. — Барыня просила, чтоб священника, соборовать, то да се, а поп у нас один на пять деревень. Не поехал, в такую стужу кто ж поедет?
Маргарита думала, как сделать, чтобы перевезти больную в дом, но, нетоплёный, опустевший, он может и вовсе подорвать её здоровье.
— Да мне уж недолго осталось, — словно бы ответила на её мысли Ласунская, — только и ждала Поля моего милого. Увижу, и дай Бог скорой кончины...
Она и правда умерла после того, как Поль переступил порог бедной крестьянской избы. Вспыхнуло жарким румянцем лицо, засверкали глаза.
— Поль, — едва прошептала она, — мой дорогой, любимый Поль...
— Ну-ну, маман, — проговорил Поль, подойдя к её постели. — Вы ещё молодцом, выздоровеете, дайте срок...
— Я так ждала тебя, Поль, — устало произнесла больная, — я держалась ради этого мгновения. Увидела, и всё, моя доля на земле кончилась...
Он ещё пытался протестовать, что-то говорить, путано и не к месту, но Ласунская, глядя горящими глазами на Поля, тяжело вздохнула и высвободила иссохшую костистую руку из-под одеяла, словно бы хотела вцепиться в сына. Последний вздох был неслышным. Её глаза так и остались устремлёнными на Поля, а рука упала на лоскутное одеяло.
— Отошедши госпожа, — перекрестился Федот.
Похоронили её на бедном крестьянском погосте. Пригодились госпоже Ласунской и атлас, и красный бархат. Им обили простой сосновый гроб, а саван сделали из белого атласа.
Цветов не было. За гробом шли лишь Поль с женой да Федот с Анисьей. У других крестьян деревни не было верхней одежды, чтобы проводить госпожу до её последнего места упокоения...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Весь неблизкий путь до Александро-Невской лавры Константин и его старший брат Александр проделали верхом. Отец ехал в открытой коляске, подставляя студёному ветру намерзшее лицо, разгоревшееся на морозе жарким румянцем. Лёгкая треуголка только прикрывала голову с париком о четырёх буклях и жиденькой косицей позади, а военная шинель почти не грела усталое тело. По сторонам коляски скакали самые ближайшие придворные, потом целый отряд конных рейтар и лишь в самом конце процессии двигался чёрный катафалк, запряжённый шестёркой вороных коней с развевающимися чёрными сутанами на головах. Витые чёрные колонки обрамляли внутренность открытого катафалка, а большие медные скобы поддерживали в одном положении тяжёлый серебряный гроб, обитый коваными полосами чёрного железа.
Странно, гроб был ещё пустой, его только везли в лавру, чтобы перенести в него то, что осталось от Петра Третьего, а Константин всё оглядывался на чёрный катафалк, и чувство ужаса и беспредельной холодности закрадывалось в его душу. Мороз не помешал выйти на улицы многочисленной толпе, и, конечно же, в первых рядах стояли и ползали, валились на колени и били лбом о скованную снегом землю нищие, калеки, юродивые и всякого рода попрошайки.
В этой толпе Константин заметил высокую статную, немного уже сгорбленную женщину, о пророчествах которой слышал множество рассказов.
Екатерина Вторая, его царственная бабушка, не раз показывала ему простую медную монетку с царём на коне, которую будто бы подарила ей юродивая Ксения. Вот и теперь стояла она среди толпы, не валясь на землю, не выпрашивая подачек, стояла и смотрела, словно не чувствуя холода в этот сумрачный печальный декабрьский день, одетая лишь в рваную зелёную кофту, сквозь дыры которой просвечивало кое-где голое тело, да подметающую снег красную юбку. Скромный тёмный платок едва ли согревал её, хоть и был плотно обвязан вокруг шеи.
Ксения вышла на улицы столицы вскоре после смерти мужа, певчего придворной капеллы царицы Елизаветы. Что уж взбрело в голову бедной женщине, но души она не чаяла в своём муже, решила отмолить его грехи, потому как умер он внезапно и без покаяния, и объявила всем, что Ксения, то бишь она, преставилась, а в тело её вселилась душа Андрея Петрова, её мужа. Нарядилась в его мундир, так и шла за гробом, хоть и уговаривали её родственники не смущать петербуржцев таким необычным поворотом дела. А после похорон раздала всё своё имущество бедным и нищим, дом подарила давней подруге, а сама отправилась на улицу, чтобы питаться что Бог пошлёт и ночевать где придётся.
С тех пор прошло много лет, и Ксения стала привычным дополнением к петербургскому пейзажу. Но в отличие от других нищих и юродивых — а их было несметное число в столице, — она никогда ничего ни у кого не просила. Бывало, ещё и сама дарила «царя на коне» в особых случаях. А случаи эти, как выяснилось значительно позже, были действительно необычные и чаще всего пророчили.
Все её знали, все подавали ей, но она не брала. Зимой и летом ходила в одной и той же кофте и юбчонке, разбитых котах да прикрывала голову тёмным платочком. Но даже извозчики, уж на что лихой народ, стремились подвезти Ксению хоть пару шагов — удача на весь день обеспечена, если она сядет в коляску. Пекари старались поднести ей лучший кусок пирога, сердобольные купчихи пытались одевать её потеплее. Но она была так равнодушна к этой милостыне, что все уже знали: берёт только от тех, кому хочет помочь. Беднота ютилась возле Ксении, и не раз юродивая помогала обездоленным — не сама, а словно бы судьба поворачивалась к ним вдруг светлым ликом.
Константин подумал было кинуть ей под ноги серебряный рубль, но она подняла к нему ясный глубокий взгляд светлых глаз и качнула головой: мол, не надо...
Он смутился, всадил шпоры в коня и поехал дальше, не оглядываясь и холодея сердцем. Не надо, значит, не такая уж лёгкая будет у него судьба. Он только услышал, как громкий густой голос произнёс за его спиной:
— Примите душу невинно убиенного...
И не оборачиваясь, словно бы увидел, как эта высокая статная старуха с молодыми глазами перекрестила пустой гроб и промолвила эти слова.
Невинно убиенный... Тридцать четыре года тому назад убит был в свалке, драке между офицерами его дед, Пётр Третий...
В сумрачном помещении внутренней церкви лавры было полутемно и тесно. Громадные длинные сундуки — иначе и не назовёшь — рядами стояли вдоль стен, сохраняя в себе останки не слишком родовитых своих обитателей. Почти все они были высокими и коваными, на иных деревянная обшивка уже облупилась и топорщилась серыми щепками. Громадное паникадило горело всеми своими бесчисленными свечами, но простенки между печальными ликами святых завешены были чёрным сукном и словно гасили весёлые огоньки. Синие точки лампад едва теплились, и весь воздух был пропитан многовековым удушьем тления.
Между гробами оставались лишь узенькие проходы; пол, застеленный чёрным сукном, скрадывал звуки шагов, и вся эта мрачная обстановка так подействовала на Константина, что он стоял рядом с братом едва живой, руки его дрожали, а глаза всё бегали по тесному помещению, отыскивая хоть какую-то живую деталь, на которой можно было бы остановить взгляд.
Павел прошёл к приделу, где стояли в ряд высокие серебряные саркофаги, изредка взблескивающие в огоньках свечей.
В самом углу, рядом с гробом Анны Леопольдовны, правительницы России, находился высокий, мрачный, почти без украшений саркофаг. Витые старославянские буквы на его торце позволили прочесть немногие слова: «Упокоился Пётр Третий, русский царь». И даты рождения и смерти.
Шестнадцать гайдуков, все в тёмных траурных мундирах, внесли в церковь пустой гроб, предназначенный для останков Петра. Вереница чёрных монахов со свечами в руках окружила гроб с его телом и запела заупокойные молитвы, нагоняя на Константина и без того зловещую грусть, отрешённость и тоску. Он хотел выйти на воздух, ему отвратительна была вся эта процедура, при которой отец заставил присутствовать и своих сыновей.
— Я хочу восстановить историческую справедливость, — сказал он им накануне. — Мой отец умер некоронованным, был убит подло и предательски и даже похоронен не в царском склепе, а среди прочих людишек. Его место рядом с женой в старинной усыпальнице царственных особ...
И вот теперь они обязаны смотреть на эту мрачную церемонию, содрогаться от ужаса и нелепости зрелища. А отец находил в этом какую-то неизъяснимую прелесть и способ потягаться с вечностью.
Гайдуки осторожно забили ломиками и молотками, освобождая гроб от тяжёлой крышки...
Павел стоял рядом, впившись глазами в то место, где должны были показаться останки его отца. Александр и Константин стояли по обе стороны своего отца.
Крепкие руки гайдуков плавно, с натугой приподняли крышку, пронесли её на другую сторону и поставили стоймя.
И сразу душный отвратительный запах тления ударил в ноздри Константина. Его затошнило, он едва не упал, хотя всегда казался себе не нервным и сильным. Зрелище было и в самом деле невыносимым. На дне гроба, выделяясь на куче истлевшего хлама, резко белели кости скелета...
Константин перевёл взгляд на отца. Павел сдёрнул парик с буклями и тощей косицей и стоял перед гробом ужасающе некрасивый. Его лысая круглая голова блестела в неярких лучах огоньков, ноздри курносого коротенького носа вздрагивали, толстые губы большого рта сложились в плаксивую гримасу, и длинные неровные зубы выдавались из него. Выступающие челюсти приоткрылись, короткое неуклюжее туловище наклонилось вперёд, над самым гробом. Он силился поцеловать череп отца, но скелет лежал слишком низко, и Павел только провёл рукой по вмятине на виске и трудно, со всхлипом вздохнул. Его жёлтое лицо подёргивалось, а кисти больших рук сильно дрожали.
Константин с отвращением отвернулся. И этот человек, такой некрасивый, лишённый всех признаков мужского достоинства — у него не росли усы и борода, — его отец. Его плаксивое поведение над гробом деда ещё больше усилило антипатию Константина к отцу, заставило вздрогнуть от отвращения и ненависти.
С пением псалмов чёрные монахи осторожно нагибались над сундуком с останками, вынимали по частям скелет и перекладывали кости в новый, приготовленный Павлом большой, роскошный гроб.
Константин едва дождался конца этой длинной, показавшейся ему нескончаемой церемонии. Он посмотрел на старшего брата — Александр тоже стоял без кровинки в лице, и казалось, вот-вот упадёт.
Богато убранный пустой гроб принимал в себя останки бывшего императора. Пение всё звучало и звучало в церкви, казалось, оно отдаётся где-то в мозгу. Когда один из чёрных монахов приподнял голый, сверкающий белизной череп, Павел потянулся к нему, прикоснулся губами к вмятине на виске. Константин снова вздрогнул от отвращения.
Прикрыли белым атласным саваном белеющие кости, надвинули серебряную крышку, и шестнадцать гайдуков в траурных одеждах снова встали по сторонам гроба. Константин облегчённо вздохнул: закончилась наконец эта страшная и вычурная церемония, и можно было идти вслед за гайдуками, выносящими из церкви свою тяжёлую ношу.
Теперь катафалк двигался впереди всей процессии, за ним ехали верхом сам император, оба его сына, блестящая свита придворных, а сопровождали траурную процессию гвардейцы Измайловского полка.
У Зимнего дворца уже выстроились гвардейские полки; императрица, невестки и дочери Павла вышли к парадному подъезду, чтобы встретить гроб с останками Петра.
До этой минуты тело Екатерины в русском платье из серебряной парчи лежало в опочивальне на кровати, богато драпированной малиновым бархатом с серебряными прошивками. Её окружали выстроившиеся в траурном карауле кавалергарды с карабинами на плечах. У всех дверей дворца бессменно дежурили гвардейцы с оружием, в ногах кровати стояли по четыре пажа, а фрейлины, статс-дамы и кавалергарды сменяли друг друга каждый раз во время службы христианского обряда. Нескончаемым потоком шли придворные и знатные горожане, чтобы в последний раз поцеловать руку усопшей государыни.
Едва прибыл гроб с останками Петра, как тело императрицы было перенесено в тронную залу. Рядом с её ложем был поставлен и гроб с останками Петра. На серебряной крышке гроба красовалась драгоценная корона самодержца России. Короны у изголовья Екатерины не было...
Теперь прощаться с царём и царицей допускались все горожане. Немало дивились они закрытому серебряному саркофагу, стоявшему рядом с телом императрицы, и замечали все: и что лежит на гробе алмазная корона, и что роскошью и громадностью гроб этот превосходит всё возможное. Поползли по Петербургу слухи, сплетни, шепотки. Горожане поражались: никогда такого не было ещё в России. И словно обухом по головам всех петербуржцев ударил манифест нового императора «О возложении годичного траура по скончавшейся императрице и её мужу императору Петру Фёдоровичу». Панихиды, церковные службы длились по обоим до самого дня похорон.
День этот, 2 декабря 1796 года, выдался таким холодным, что жители столицы не могли упомнить другого подобного мороза. Свирепый ветер дул с Невы, поднимал тучи снежной пыли, заносил блестящую процессию мелкой снежной крупой, отгибал бархатные занавеси на катафалке. Однако вдоль всего Невского проспекта стояли, не шевелясь, гвардейские полки в одних мундирах с ружьями в руках, коченели, но стояли, сохраняя печальное выражение на лицах.
Оба гроба поставили на орудийный лафет, и восьмёрка вороных лошадей, с чёрными султанами над головами, повезла катафалк к Петропавловской крепости. Медленно шла процессия, за гробами пешком двигалось всё, что было знатного и могущественного в России, — сам Павел, оба его сына, сановники, вельможи, сенаторы. Процессия растянулась на целую версту.
А впереди траурных лошадей шёл, едва переставляя ноги, убийца Петра — Алексей Орлов. Непослушными руками нёс он на бархатной подушке корону российского императора Петра. Рядом с ним, спотыкаясь, брёл другой убийца — князь Барятинский. Так решил Павел наказать убийц своего отца.
Знали петербуржцы, кого и за что выставил на посмешище император, и потому неслись им вслед бранные слова, издевательские усмешки и проклятия.
Едва донёс старый, уже согбенный годами гигант Алексей Орлов свою ношу до собора. Первым вошёл он под полутёмные своды, передал корону своему спутнику, упал на колени и неистово разрыдался. Горячая его молитва потом на разные лады перетолковывалась горожанами.
Но его заслонили вельможи и сенаторы, гробы были поставлены посреди Петропавловского собора, и заупокойное пение огласило высокие своды.
Долгая служба, наконец, закончилась, саркофаги установили на их места в соборе, и Константин вышел из церкви едва ли не качаясь. Он устал от долгого стояния, от заунывных псалмов и молитв, от торжественной и такой нескончаемой церемонии.
Анна Фёдоровна, его молоденькая жена, встретила было мужа выражением печали, но он свирепо поглядел на неё. Жизнь надо было продолжать, а обязанностей теперь у Константина и его брата было по самое горло.
— Трудиться на благо государства, — говорил Павел, — самое полезное для дворянина, государя, для самого простого смертного.
И он не давал отдыха ни себе, ни своей семье, ни своим подданным. Любой день царствования начинался указом, манифестом или особым распоряжением, которые Павел подготовлял уже давно, ещё в бытность свою наследником трона и великим князем. Обширнейшая программа преобразований была создана им, и с самых первых дней этот неистовый император начал проводить её в жизнь.
Самым важным стал закон о престолонаследии. Перед своей кончиной император Пётр Первый, разочарованный в своих наследниках и томимый угрозой последующего царствования, которое низведёт все его начинания, в 1721 году издал указ о престолонаследии. По нему объявлялось, что император может назначить наследником того, кого он пожелает, несмотря на стародавний обычай оставлять наследство старшему сыну. Почти восемьдесят лет испытывала на себе Россия последствия этого странного закона: власть переходила то к одному, то к другому лицу, иногда даже не имеющему никакого отношения к царствующей династии.
Павел отменил этот закон и восстановил стародавнее правило: наследником почитается старший сын в династии, а вслед за ним, если он бездетен, — младший по возрасту. Этот порядок на долгие годы закрепил права престолонаследников. Спокойно всходили на престол цари, не было смуты и волнений при таком порядке наследования, если, конечно, исключить прискорбный случай с отречением Константина, державшийся в тайне и вызвавший бунт декабристов.
А в первый день Светлой Пасхи Павел обнародовал и другой закон — об ограничении барщины. Теперь помещики имели право заставлять крепостных работать только три дня в неделю, а использовать их труд в воскресные и праздничные дни и вовсе категорически запрещалось.
Указ вызвал бурю волнений среди дворян: уж не желает ли император и вовсе освободить крестьян? Запретил Павел и продавать крестьян без земли. Конечно же, этот указ был лишь на бумаге — никто из помещиков и не думал его выполнять. Зрело глухое недовольство новым императором, исподволь готовившим освобождение большинства населения от извечного рабства. Всколыхнулись дворяне, привыкшие к подневольному труду рабов-крепостных, и покатилась по России молва о сумасшествии нового императора.
Многого не понимал ещё Константин в преобразовательной активности своего отца и только в одном был солидарен с ним: порядка в армии не было, офицеры обворовывали солдат, обращали их в своих крепостных, заставляя работать в своих имениях, на службу не являлись, а если и бывали, то несли её из рук вон плохо. Павел определил в своей программе, что Россия не станет вести войн, мира просят поля и люди, и огромное пространство страны должно быть упорядочено, порядок и благо людей должны стать главным и во всей деятельности императора и окружающего его двора.
«Гвардия — позор армии» — такое присловье уже давно стало привычным. Сам Павел, ещё будучи великим князем, писал своему другу Энгельгардту: «Пожалуй, не спеши отправлять сына на службу в гвардию, если не хочешь, чтобы он развратился...»
И теперь он железной рукой наводил порядок в армии. Заставил и гвардейцев нести самую строгую и тяжкую службу, приучал к трудолюбию, доброму поведению, строгому выполнению команды и почитанию себя старейшим. Константин понимал отца в этом и старался хотя бы облегчать его труды. С утра до вечера проверял он боеспособность солдат, бранился и кричал на офицеров, не знающих самых основ военной науки и военного строя, выходил из себя, если видел, как неряшлив солдат без должной выправки и линейной осанки. Учился этому у отца, не пропускавшего ни одного развода и требовавшего строгого, по линейке, строя, ловкости во владении оружием, смётки и лихости.
Увы, далеко было не только армии, но и гвардии до тех идеалов, что виделись Павлу в вымуштрованной армии прусского короля Фридриха Второго. И не потому мечталось ему отлить армию по образцу Фридриховой, что слишком он благоволил к Пруссии, а просто та армия была образцовой.
У Александра тоже хватало нагрузки — он стал военным губернатором Петербурга, — но, встречаясь, братья почти не говорили о делах. Старший скептически смотрел на все нововведения — ему больше был по душе хоть и безалаберный, но вольготный дух бабушкиного времени. Ему уже не часто удавалось пленять на балах молодых красавиц своим ростом и статью, красивым, немного женственным лицом. Балы и праздники теперь выдавались редко — все должны были работать, трудиться в меру своих сил. Даже обеды становились в семье отца слишком напряжёнными — император предпочитал говорить один или с кем-либо, остальные молчали.
Офицерство глухо роптало, не смея выразить громко свой протест, солдаты ликовали: император объявил, что выходящие из службы солдаты, закончившие свой срок, наделяются землёй, двором и хозяйством и становятся однодворцами. 15 десятин лучшей, плодородной земли в Саратовской губернии выделялось отслужившим свой срок солдатам, а на обзаведение давалось по 100 рублей — громадные по тем временам деньги.
Солдаты обожали императора. Если в 1795 году растаскано было до 50 тысяч солдат тем или иным способом, то это значило, что восьмая часть армии стала крепостными работниками офицеров, а не несла службу. Павел строго взыскивал с каждого украденного или пропавшего солдата. Каждый унтер-офицер, капрал или солдат, прослуживший 20 лет беспорочно, получал на свой мундир отличительный знак, который не только приносил ему особую честь и любому издали доказывал, что он старый и добропорядочный воин, но и доставлял ему бесценную выгоду: он освобождался от всякого телесного наказания, уже не страшился батогов и мог пользоваться почти дворянским преимуществом.
Павел строго следил, чтобы нижние чины имели право жаловаться на офицеров, их человеческое достоинство император ставил высоко. «Всем солдатам было сие приятно, — писал один из современников, — а офицеры перестали нежиться, а стали лучше помнить свой сан и уважать своё достоинство...»
Гонение сквозь строй при Павле было впервые со времён Петра урегулировано уставом и было гораздо человечнее, чем в предыдущие царствования, а может быть, даже и в последующие времена.
Поздно ночью Константин сидел в своей спальне-кабинете. Он уже давно не приходил к Анне Фёдоровне. В кабинете ему поставили железную узкую койку, где он спал на тощем кожаном тюфяке, по примеру отца укрываясь лишь своей военной шинелью. Свеча нагорела в простом жестяном шандале, и он пальцами снимал нагар.
Строчки книги Фридриха бежали перед глазами Константина, они уже слипались, день был беспокойный и суетливый, и усталость брала своё. И вдруг словно луч блеснул: он прочитал об одном из знаменитых артикулов — диспозиций — Фридриха о том, как салютовали ему войска, вымуштрованные и приученные к единым движениям. Чётко и точно рассказывал этот великий полководец Европы, как выхватывали солдаты эспадроны[11], взмахивали перед лицом, высоко поднимали и в такт движению разом кричали: «Виват, Фридрих!»
Ах, если бы так можно было научить хоть один батальон, хоть одну роту, чтобы, проходя перед императором, слаженно выдёргивали из ножен эспадроны, взмахивали, словно ветер пронёсся бы над ротой, потом поднимали вверх и, держа в высоко поднятой руке, разом кричали: «Слава его императорскому величеству!»
Нет, слишком много слов, слишком сложно. А может, просто: «Виват Павел Первый!»?
Константин не мог больше усидеть на месте. Схватил свечу, распахнул дверь, побежал в спальню Анны.
Гвардейцы, стоявшие на часах возле дверей великой княгини, отступили в сторону, пропуская супруга, великого князя Константина. Он влетел в комнату Анны. Разметавшись на широкой постели, укрытая мягким пуховиком, Анна крепко спала, по-детски положив под смуглую, румяную со сна щёку тонкую руку. Одна её нога высунулась из-под одеяла и манила к себе нежной округлостью колена.
Но Константину было не до этого зрелища. Поставив свечу на прикроватный столик, он резко щипнул Анну за округлое плечо. Она схватилась рукой за ущипнутое место, но не открыла глаз. Тогда он резко встряхнул её за плечо. Анна медленно открыла свои прекрасные тёмные глаза, ещё подернутые пеленой сна. Увидев Константина у своей кровати, одетого, с эспадроном в руке, она в ужасе привскочила на постели, натянула одеяло до самой шеи и прошептала:
— Что такое, что случилось?
— Послушай, Аннет, — быстро, проглатывая окончания слов, задыхаясь от волнения, заговорил Константин, — посмотри, какой артикул я нашёл у Фридриха!
Она поняла, но изумилась: ничего не случилось страшного, Константин пришёл к ней поделиться своими новостями не из жизни, а из книг. Глаза её полузакрылись, но Константин не дал ослабеть её интересу.
— Погляди!
Он взмахнул эспадроном, резко выдернул его из ножен, приставил почти ко лбу, затем резко вскинул руку вверх. Остриё клинка блеснуло в свете свечи.
— И «Виват!» И как один, и так, чтобы это было красиво и стройно, все как один, и этот мощный крик!
Она ещё больше натянула одеяло на себя.
— И для этого ты разбудил меня среди ночи? — Холодный голос Анны отрезвил Константина.
— Но ведь это... — не нашёлся что возразить он. — Понимаешь?
— Нет, я не понимаю, — раздражённо проговорила Анна, — ты врываешься среди ночи, будишь меня, и отчего? Только чтобы рассказать мне про свою военную ерунду? Подумал ли ты, что можно сделать это и утром, после завтрака?
Вся радость Константина от найденного артикула сразу же погасла. Он с сожалением взглянул на Анну, на её заспанное пухлое личико, на одеяло, которое она крепко прижимала к себе.
— Ты права, — скучно сказал он, — я не подумал.
Он осторожно забрал свечу, тихими шагами прошёл к двери и оттуда, из дальнего конца спальни, прошептал:
— Спи, спокойной ночи...
Она посмотрела на него с неудовольствием и зарылась лицом в мягкий пуховик. Когда он выходил, она уже крепко спала...
Вернувшись к себе, Константин с раздражением подумал, что теперь ему не заснуть. Весь процесс стоял перед его глазами, он словно бы видел, как стройно шагает шеренга солдат в тёмно-зелёных мундирах с красными отворотами, в треуголках и грубых ботфортах, поворачивается и застывает: ноги снова чётко печатают шаги, и эспадроны взблескивают в лучах раннего солнца, будто стальная щетина, стоят они над шеренгами солдат, а потом так же легко и быстро исчезают.
Измайловский полк спал, когда Константин ночью ворвался в кордегардию[12].
— Труби тревогу! — приказал он сонному трубачу.
Через несколько минут на плацу уже стоял весь полк.
Охрипшим голосом прокричал Константин команды, показал офицерам и всему каре на плацу движения эспадроном. Команды звучали в ночном воздухе, факелы дымными полосами освещали шеренги солдат. Сначала взмах эспадроном Константин отработал с полком без движения шеренгами, затем началось хождение по плацу...
Константин нервничал, командиры рот и батальонов не понимали смысла затеянного. И всё-таки он не ушёл с плаца, пока не добился, чтобы то, что ему представлялось в мыслях, не осуществилось на деле. Он увидел, наконец, это в раннем рассветном сумраке, когда факелы уже побледнели, померкли в свете наступающего дня.
— Вахтпарад с эспадронами! — отдал он в последний раз приказ командирам и уехал готовиться к утреннему разводу.
Словно бы предчувствовал Константин, что всё свершится по его желанию, будто бы свыше озарило его.
Небольшой парад одного лишь Измайловского полка назначен был на этот раз на Марсовом поле. Павел пригласил посмотреть на вахтпарад всю свою семью. Мария Фёдоровна, обе невестки — Елизавета Алексеевна и Анна Фёдоровна, дочери императора, знать, приближённые и сановники собрались на Марсовом поле, чтобы поглядеть на армию. Все знали, что Павел боготворит армию, выбивается из сил, чтобы наладить дисциплину в войсках, и не осмеливались даже заикаться, чтобы не присутствовать на морозе при этих парадах. От Павла не укрывалось ни одно отсутствующее лицо.
Ясный морозный день занимался над столицей. Бледное зимнее солнце едва вынырнуло из-за туч, белая пелена Марсова поля засверкала под его лучами.
И словно по белой простыне пошли шагать солдаты, строго держа равнение, чётко соблюдая строй. Это в самом деле было живописное зрелище. Тёмно-зелёные мундиры с красными отворотами и воротниками устилали поле, грубые тяжёлые ботфорты легко вздымались в шаге, а руки в такт шагам взмахивали в чётком и ровном узоре.
Когда пошёл Измайловский полк, Константин затаил дыхание. От бессонной ночи глаза у него словно были засыпаны песком, а сердце стучало от волнения. Всё ли пройдёт так, как он задумал, как представлялось ему в безмолвии ночи, такая ли картина развернётся перед его глазами, какая рисовалась ему в тиши его кабинета?
Павел со скучающим видом стоял впереди всей знати, отбивая палкой, своей знаменитой тростью, такт.
И вдруг рука его ослабла, глаза расширились. Он увидел, как взблеснули выхваченные эспадроны, как щетиной вздёрнулись они над строем и как мгновенно исчезли в ножнах.
— Что такое? — закричал он. — Повторить!
И снова шёл полк, и снова взблескивали эспадроны, и снова щетинились они над строем. И опять приказал Павел повторить весь артикул. А на третий раз он не выдержал, выбежал на поле и также искусно, в такт всем солдатам, прошёл впереди всех.
Мария Фёдоровна беззвучно зааплодировала. Это действительно было красиво. Павел как будто и ростом стал выше, и фигура его стала стройнее, а упражнение с эспадроном было таким слаженным и чётким, словно упражнялся он с полком много раз.
Когда закончился вахтпарад, призвал к себе командиров всех рот полка, перецеловал их, поблагодарил. А командир полка смущённо указал на Константина, стоявшего в отдалении:
— Благодарите сына своего, ваше императорское величество.
Император изумлённо повернулся к Константину.
— Ночью, ваше императорское величество, он поднял по тревоге полк и научил сему артикулу, — доложил счастливый командир полка.
— Ну, сын, порадовал старого отца, — подбежал Павел к Константину, — да где ж ты взял сей артикул?
— У Фридриха, батюшка, — скромно потупился Константин, — читал и вычитал.
— Ай да сынок у меня! — с гордостью повернулся Павел к окружавшей его свите. — Каков? Учись у младшего, Александр, — обратился он к старшему сыну.
Александр молча поклонился отцу.
Павел крепко обнял и поцеловал Константина, рассыпался в похвалах. Александр презрительно поглядел на брата.
Константин не уловил этого взгляда. Смущённый и растерянный, радостно-возбуждённый стоял он среди царедворцев, рассеянно отвечая на поздравления и пожимая вялые руки придворных. Сказалась вдруг усталость бессонной ночи. Он незаметно затерялся в толпе и поехал к себе, в кабинет, досыпать и видеть сладкие сны о славе, о войне, где он мог бы блеснуть храбростью...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Низенькое сводчатое помещение правого придела церкви Всех Святых на Кулишках было скупо освещено неяркими синими огоньками лампад перед тёмными ликами святых да кое-где поставленным в высокие жестяные шандалы витыми большими свечами. Маргарита стояла на коленях в самом тёмном углу, немо взглядывала на лики святых, на беспомощное распятое тело Христа, не думала ни о чём, только душа её тосковала и рвалась к Всевышнему. Многие часы простаивала она так, уставала молиться, и слова уже не рвались из её сердца, как в первые годы замужней жизни. Бог всё знает, зачем она будет надоедать ему своими слёзными жалобами, мольбами и упрёками.
Она впервые задумалась о том, что ни к чему не приучили её в семье отца. Что знала она, что умела, чем могла заняться? Лишь к одному готовили — выйти замуж и быть женой, матерью.
Танцы, иностранные языки, кое-какая романическая литература — всё это могло пригодиться, чтобы уловить хорошего жениха, удачно выйти замуж. Дальше этого не простирались мысли даже у её прекрасного отца и любимой матушки.
И вот теперь — что же она такое, к чему приведёт её жизнь? Её бело-розовые ручки могли вышивать и штопать, вязать и плести макраме, сварить варенье. Но сколько же было крепостных, которые всё это делали, и нужды ей не было обшивать и обвязывать семью. Ничего не может, ничего не знает в этой жизни Маргарита, и она чувствовала себя ничтожеством и горячо молилась Богу, чтобы указал ей путь.
Но иконы бесстрастно молчали, устремляя на неё свои полные печали и сострадания глаза. Колебались от лёгкого дуновения ветра огоньки свечей, синели лампады перед тёмными ликами, сверкало в отблесках свечей сусальное золото окладов и начищенное серебро паникадил. А Маргарита всё стояла на коленях и без слов вопрошала: зачем я живу?..
— Не желаете ли чашечку кофе? — любезно спросила её новая домоправительница, всё ещё свежая тридцатипятилетняя француженка, неслышно войдя в комнату Маргариты.
— Нет, благодарю вас, мадам Трикоте, — вежливо ответила ей Маргарита.
— Мадемуазель, мадам, — поправила её Трикоте.
— Простите, — снова всё так же вежливо сказала Маргарита.
Шурша широкими, выглаженными до мелких складочек юбками, мадемуазель выплыла из комнаты. Маргарита горько улыбнулась: она подозревала, что новая мадам заменила собою в постели Поля всех прежних. Но ей было всё равно, лишь бы Поль не трогал её...
— Ты не пришла к завтраку, — даже не поздоровавшись, объявил Поль, войдя к ней, — а у меня к тебе разговор.
— Я была в церкви, — сухо ответила Маргарита.
— Что-то слишком часто ты бегаешь по церквям, — саркастически заметил Поль, — уж не амура ли там ищешь?
Она спокойно подняла на него огромные зелёные глаза и ничего не ответила.
— Я пошутил, — лениво развалился в кресле Поль, — я знаю, ты верная и преданная жена. Но тебе ещё придётся это доказать. Собирайся и поезжай в Петербург — достань мне место, и без места не возвращайся...
Она смотрела на его красный бархатный шлафрок, наглаженные кружева рубашки, слегка оголённую грудь, шикарные комнатные туфли и не говорила ни слова. Он, мужчина, посылает её, женщину, хлопотать о месте ему. Разве он слабее, чем она, разве знает она, что и как надо делать, с кем разговаривать, кому кланяться? Да и вообще, где это видано, чтобы женщина хлопотала за мужчину...
— Моя мать умерла, кто теперь станет думать о моём будущем, если не жена?
— Я ношу траур, — тихо ответила Маргарита, — а ты не подумал, что твой красный шлафрок может оскорбить её память?
— Ты полна предрассудков, — вспыхнул Поль, — какая разница, как я одет? Все вы, старомосковские барышни, полны предрассудков и страхов, уж так вас воспитали ваши почтенные родители.
— Я давно хотела поговорить с тобой, Поль, — по-прежнему тихо и медленно сказала Маргарита. — Бог не благословил нас детьми, ты не любишь меня, я не люблю тебя. Почему бы нам не развестись?
— Какие новомодные идеи завелись в глупых головках московских барышень! — удивлённо воскликнул Поль. — Да ты хоть понимаешь, о чём говоришь? И где ты нахваталась таких идей? Или твой амур подсказал тебе?
— Зачем такая семья, если нет любви, нет детей, если муж не любит жену и ищет утешения с другими?
Маргарита говорила с такой болью и страданием, что Поль изумлённо взглянул на неё.
— Ты и правда думаешь о разводе? — потрясённо спросил он.
— Правда.
— Да знаешь ли ты, какая судьба ждёт тебя в этом случае? Мне-то легко, я снова найду себе жену, да ещё знатную и богатую, я буду свободен. А ты? Кроме монастырской кельи, у тебя не останется другого пути.
— Что ж, — потупилась она, — всё же лучше посвятить жизнь Богу, чем так мучаться, как мучаюсь я...
— Ты мучаешься? — ещё больше изумился Поль. — Ты как сыр в масле катаешься, ешь вволю, нежишься в мягких пуховиках, спишь до обеда — и это ты называешь мучением?
— Это всё для тела, — спокойно и терпеливо ответила Маргарита, — а что же для души?
— Московской барышне захотелось ещё и души, — издевательски засмеялся Поль и, желая как можно быстрее закончить этот разговор, коротко приказал: — Чтоб завтра ты выехала рано поутру...
Она подняла на него глаза. Куда, зачем, что она сможет?
— Бумаги я уже приготовил, — отрезал Поль, — а у родителей возьмёшь рекомендательные письма. У вас родственников в столице пруд пруди, приютят, подскажут, всё разузнаешь. Да иди к великому князю Константину, он ещё помнит, верно, матушку мою, недаром же дал ей двести рублей. Хранила их от меня, да не схоронила, понадобились мне, так и отдала, царство ей небесное. Такая вот преданная мать была, не то что ты...
Она ничего не ответила, и Поль быстро вышел из комнаты.
К своим она попала прямо к обеду и очень удивилась: всегда садились за стол в четыре пополудни, а тут всего час, и вся семья уже сидит за столом. Варвара Алексеевна, сильно погрузневшая — ждала ребёнка — и подурневшая, с выступившими на щеках коричневыми пятнами, выскочила из-за стола и кинулась к дочери. Они обнялись и обе прослезились.
— Редко нас почитаешь честью такой, — недовольно сказал отец, когда Маргарита усаживалась среди своих братьев и сестёр.
— Да и век бы жила у вас, кабы можно было, — отозвалась с грустью Маргарита, — только почему так рано теперь обедать садитесь?
Отец вздохнул, взглянул на жену, склонившую глаза к тарелке.
— Указ такой вышел, — пояснил Михаил Петрович, — всем обедать, по всему государству, ровнёшенько в час пополудни...
Маргарита удивлённо поглядела на отца.
— Теперь весь мир живёт примером государя, — угрюмо произнёс он. — Даже здесь, на Москве, в пять часов утра везде свечи горят, в присутственных местах к восьми все вельможи съезжаются. А уж что делается в войсках и не передать...
— Но может быть, это хорошо, что стали присутствовать да ещё и указы выполнять? — наивно и весело спросила Маргарита.
— Много ты понимаешь, матушка, — сердито ответствовал отец, — пятнадцать лет вон Кирюшке, а уж в гвардию затребовали: служил, чай, не один год, чины вышли, а дома, мол, под батюшкиной рукой.
Пятнадцатилетний Кирилл гордо поднял голову.
— Каждый день указы, распоряжения — отошла нам, шляхетству, спокойная жизнь, — снова угрюмо заметил отец.
— Значит, тебя, Кирюша, в Петербург снаряжают? — радостно спросила Маргарита.
Кирилл степенно кивнул головой.
— Без шубы, говорят, теперь все парады да разводы делают, — вмешалась Варвара Алексеевна, — а он, дитятко, не сильно здоровый телом...
Кирюша недовольно взглянул на мать. Очень хотелось ему выглядеть взрослым, и военный, ещё без всяких знаков различия тёмно-зелёный мундир, простой и удобный, облегал его худенькие плечи, тоненькая косичка спускалась до середины спины, и лишь завитые по сторонам лица букли делали его взрослее. Едва темнел над верхней губой пушок.
— Славно, — обрадовалась Маргарита, — так мы вместе и поедем, я тоже в столицу собралась...
— Не забудь, матушка, — сурово сказал отец, — ежели повстречаешь коляску императора, выходи вон из кареты, и грязь ли, слякоть, а то и колдобины, низкий реверанс пожалуй...
Маргарита улыбнулась на воркотню отца.
— Стой, — дошло наконец и до Михаила Петровича, — как это — едешь в столицу?
— Муж посылает место достать...
— Совсем уж дальше некуда, — нахмурился Михаил Петрович, — пристало ли молодой женщине одной ездить по столицам?
— А ты бы, Михайла Петрович, — вмешалась мать, — не сердил дочку выговорами, а сам бы поехал да и помог чем...
— Да как же я поеду, — слабо сопротивлялся Михаил Петрович, — вишь ты какая тяжёлая, а если что случится?
Варвара Алексеевна скривилась:
— Что уж думаешь, ежели шестерых родила, так седьмого без тебя не соображу?
Маргарита с печальной и ласковой улыбкой наблюдала за слегка ссорящимися родителями. Даже в этих незначительных перепалках чувствовалось, как привязаны они друг к другу, как сплотили их многие семейные заботы.
— Да: и Кирюше первое время глаз да глаз нужен, — снова начала Варвара Алексеевна, — и дочка тоже помощь от тебя получит. Езжай, муженёк, нечего на мягкой постели валяться да лениться. Увидишь, как жизнь кипит в столице, разбудит тебя...
Михаил Петрович был явно недоволен словами жены, но, взглянув на младших детей и увидев на их лицах лукавые усмешки, прикрикнул:
— А эти дела не про вас! Сидите тихо, как мышки, не то плёткой угощу...
Тут уж дети и вовсе заулыбались — знали, всегда грозит отец, да только до дела ни разу не доходило.
Михаил Петрович и вовсе набычился.
После обеда Варвара Алексеевна увела Маргариту в малую гостиную и мужу кивнула: важные дела в этой семье без неё не решались.
— Словцо я тебе тогда кинул о разводе, — сказал Михаил Петрович дочери, — да как теперь новый император посмотрит? Да и как ты будешь, ведь одна-одинёшенька на свете останешься, глядеть все станут на тебя, на жену неудобную... Да и возьмёт ли кто потом замуж?
Маргарита пожала плечами.
— Что ж, батюшка, — грустно ответила она, — пусть бы и в старых девах осталась, лишь бы не на такую муку...
Варвара Алексеевна только печально качала головой: она всё ещё чувствовала себя виноватой в горькой судьбе дочери. Она сама сунула её в эту семью, доверилась разговорам Ласунской, не узнала ничего о Поле, не справилась. И потому она молчала, не желая доставлять ещё больше неприятностей дочери словами о покорности воле Божьей.
— Ты, Михайла Петрович, — строго заметила она мужу, — не отнекивайся, небось не старик ещё на печи лежать. Напиши все прошения, ты хорошо умеешь на бумаге всё обсказать, да поезжай с сыном и дочерью в Петербург. Отцовский пригляд не то что материнский, где и пожуришь, а на своё место всегда поставишь...
Михаил Петрович немного подобрел от такого тонкого комплимента жены.
— Да ведь как тебя, тяжёлую, оставить? — ещё робко пытался он протестовать: уж очень не хотелось ему подниматься в дорогу.
— Простите меня, матушка, — привалилась Маргарита к мягкому плечу матери, — доставляю я вам одни неудовольствия, хлопоты да раздоры...
— А ты помолчи, голубушка, — погладила её по голове Варвара Алексеевна, — знаю, нелегко на такое дело решиться, но, уж раз решилась, держись твёрдо.
— Ладно, — согласился и отец, — поедем на следующей неделе, ещё бумаги все надо написать да справиться, к кому на постой приехать: родни будто и много, да не все с нами ладят...
Маргарита расплакалась от избытка чувств — всегда чувствовала она поддержку отца и матери, хотя, казалось бы, уже давно была отрезанным от семьи ломтём.
— Да не трави слезами, — махнул рукой отец, — и так жизнь у тебя несладкая будет. Ежели думаешь, что придётся кокетничать да по балам ездить, то сильно ошибаешься. Затворницей станешь жить, и наблюдать твою жизнь будем пуще прежнего.
— Ах, батюшка, — горько ответила Маргарита, — наблюдали вы так ласково да с такой любовью, что ещё сто лет прожила бы я в отцовском доме...
Варваре Алексеевне послышался упрёк в голосе дочери, и она прикрикнула на мужа.
Так и порешили на этом маленьком семейном совете — ехать с дочерью и сыном Михайлу Петровичу в Петербург, но не ранее как через три дня.
Дома Маргарита передала весть Полю.
— Эти баре, как всегда, тянут, — недовольно скривился он, — а дело отлагательства не терпит. Надобно мне место при дворе, да чин чтобы большой вышел. Улыбнись там, кому надо, красивой женщине никогда отказу не будет!
— Хлопотать отец станет, не я, — отозвалась Маргарита, — он поедет с Кириллом, определён он в Измайловский полк...
— Великий князь Константин там полковником, — сказал Поль, — небось вспомнит об отце, что в опалу попал не по своей вине, пусть и определит меня...
Маргарита печально посмотрела на Поля. Неужели он трусит, неужели готов свалить все заботы на неё, слабую женщину, никогда не бывавшую при дворе?
— И всё-таки, если бы ты сам поехал, скорей бы дело решилось, — промолвила она, — не уверена я, что справлюсь...
— А дом брошу, пригляд за ним нужен или как? — зло закричал Поль. — Ты сроду хозяйкой не была, даже не знаешь, как приготовить соленье в бочках. Ничтожная хозяйка, глупая жена, ничего не умеешь, так хоть тут послужи мужу...
— Хорошо, хорошо, — устало согласилась Маргарита.
Ранним зимним утром отвалили от дома Нарышкиных две кареты да обоз за ними. Везли с собой всё, что может понадобиться в дальней дороге, провизию и целый штат крепостных.
И опять смотрела Маргарита в крохотное оконце кареты на белые пустынные просторы, заснеженные леса, потемневшие, полузанесённые деревушки под соломенными крышами с пушистыми шапками снега и дымками над трубами господских домов, и молча думала свою неотвязную думу.
Кирилл вертелся на мягком сиденье, заглядывал в окошечко и приставал к Маргарите с вопросами. Но она большей частью не знала, что ему отвечать, и брат сердился — батюшка ехал в другой карете, уж он-то знал бы что ответить.
На ночь останавливались на съезжих дворах, на ямских станциях, устроенных ещё императрицей Елизаветой Петровной. Тёмные мрачные горницы были почти безлюдны, только ютились в передних курьеры да бешено скакали тройки с торопившимися в столицу вытянутыми из своих московских покоев офицерами. Числились все они в полках, чины им шли, а они отсыпались в московских домах, жуировали. И разговоры у случайных попутчиков были беспокойными: в несколько часов после воцарения нового императора выгнали из Москвы всех офицеров, а многих даже с конвоем препровождали в столицу, никому не давали покоя до тех пор, пока не прибывали в полки.
И слухи передавали один другого нелепе: будто офицерам запрещается ходить в шубах и в камзолах либо в сюртуках, лишь мундир на все случаи жизни, а на морозе при разводах и вахтпарадах сам император стоит всегда в одном мундире. Заметил однажды офицера в длинной меховой шубе, остановился и велел с него шубу снять и отдать её караульному будочнику. И слова будто произнёс такие: «Возьми себе, тебе она приличнее, чем солдату. Ты не воин, что должен приучаться к стуже, а того более, слушаться своего государя...»
Великие перемены происходили в столице, развращённая гвардия роптала на новые порядки, но император сурово смотрел за дисциплиной и заставлял дворян исполнять свою должность, как положено. А должность у дворян была одна — служить государству, защищать его, служить государю, оберегать его.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Уже на самом въезде в столицу Михаил Петрович был изумлён выше меры. Везде стояли полосатые, чёрно-белые будки с лихими караулами, строго спрашивали причину въезда в Санкт-Петербург и место, где будет находиться этот важный сановник. Михаил Петрович сдерживался до поры до времени — строгостей таких не водилось на Руси почти весь век, — но когда увидел, как вышагивали по почти пустынным улицам наряды тёмно-зелёных мундиров, как юрко мелькали запуганные обыватели, стараясь не попадаться под взгляды патрулей, он и вовсе почуял, что пошли иные времена.
Наступала весна, тихая оттепель протаивала чёрные дорожки на бульварах, а темневшая каша мостовой то и дело залетала комками грязи и подтаявшего снега в окна кареты, и передок её был весь залеплен этой стылой землёй пополам со снегом.
Но всё также ярко вонзался в небо шпиль Петропавловской крепости, а кораблик на стреле Адмиралтейства, как и в былые времена, когда Михаил Петрович был ещё юнкером и служил в столице, по-прежнему отблёскивал в бледных лучах северного солнца.
Маргарита никогда ещё не бывала в столице и лишь изредка поглядывала в крохотное оконце, надеясь со временем побегать по улицам, измерить шагами все её неоглядные проспекты, побывать в соборах и церквах. Кирилл, насупившись, сидел в углу кареты, не удостаивая столицу даже беглым взглядом: слишком тяжело ему было расстаться с милой его сердцу семьёй и начать взрослую жизнь в казармах.
Михаил Петрович ещё больше удивился, когда стал беседовать со своим двоюродным братом, всю жизнь прожившим в столице и предложившим ему своё гостеприимство. Он сообщил боярину Нарышкину, что у ворот Зимнего дворца повешен большой ящик, куда можно опустить прошение, и государь сам ответит на него уже в течение двух-трёх дней, публикуя объявление в «Ведомостях».
Но между словами двоюродного брата уловил Михаил Петрович нотку страха и удивления перед так скоро изменившей свой облик столицей и распоряжениями нового государя.
— Поначалу все безмерно дивились, — рассказывал второй Нарышкин, — что новый государь никаких жестокостей не проявил. Думали, что Платона Зубова зашлёт в ссылку, всех секретарей покойной государыни отрешит от должности, разгонит Сенат. Новая метла, известно, чище метёт... Нет, порядок и справедливость возгласил государь. А теперь только каждый день за голову хватаемся, чтобы уберёг Господь от гнева государева.
Однако поспособствовать двоюродному брату в просьбе всё же решился и на неделе уже сообщил Михаилу Петровичу, что аудиенция у великого князя Константина состоится и пусть идёт он туда вместе с Кириллом и дочерью Маргаритой.
Накануне этого дня Маргарита и Михаил Петрович долго обмысливали, что и как сказать великому князю, под началом которого был теперь Преображенский полк, куда определили Кирилла и мог быть определён Поль Ласунский.
Михаил Петрович намеревался опустить прошение о разводе дочери в тот самый ящик, о котором ходило столько слухов, и уже приготовил большой конверт с сургучными печатями, но, к своему удивлению, не увидел на воротах никакого ящика. Его уже приказали снять, поскольку слишком уж много было глупых и смешных прошений, а потом начали попадаться пасквили и карикатуры на самого императора.
Так с пакетом в руке и приготовленными бумагами Михаил Петрович и вошёл впереди своего семейства в приёмную залу Константина.
Обширная зала была битком набита военными — тёмно-зелёные мундиры из дешёвого сукна разнообразились лишь шарфами и отворотами, да палашами, оттопыривающими фалды позади, а высокие грубые ботфорты выше колен оттенялись белыми лосинами, туго обтягивающими бёдра.
Они едва дождались приёма. Проходили в высокие резные тяжёлые двери важные генералы, вылетая оттуда с красными лицами и взглядами, опущенными долу. Михаил Петрович уже приготовился к худшему, и лицо его вытягивалось всё более и более.
Кирилл с любопытством присматривался к новой воинской форме и тянулся перед каждым ожидающим. А Маргарита едва помнила себя от смущения и неловкости: в зале не было ни одного женского лица, и все взгляды обратились на неё.
Но пришла, наконец, и их очередь, смуглый бородатый грек Курута провёл их в кабинет великого князя. Отец низко склонился у самых дверей. Кирилл бодро вытянулся и отдал армейскую честь, а Маргарита присела в реверансе.
— Нарышкин Михаил Петрович, московский надворный судья, — шепелявя, вполголоса произнёс Курута, — с семейством...
Он поклонился и исчез за высокими дверями.
У окна стоял невысокий крепкий человек в таком же тёмно-зелёном мундире, но с андреевской лентой через плечо. Он резко повернулся к вошедшим молодым белокожим лицом с яркими голубыми глазами и пухлыми пунцовыми губами. Маленький его носик словно бы терялся среди толстых круглых щёк, а реденькие бачки по сторонам лица нисколько не добавляли ему возраста.
— Пройдите, приветствую вас, — низким густым голосом сказал он, и Маргарита, наконец, подняла глаза.
Взгляд его больших глаз с откровенным любопытством скрестился с её сверкающими зелёными глазами, она поняла, что произвела на великого князя хорошее впечатление, оттого почувствовала себя свободнее и легче.
Константин махнул рукой, приглашая их сесть. Михаил Петрович не сел, выжидая, когда и великий князь поместится в большом бархатном кресле, и только тогда осторожно присел на самый кончик стула. Кирилл и Маргарита остались стоять.
— В службу привёз младшего своего отпрыска, — сказал Михаил Петрович глухим голосом. От волнения у него вспотели руки, и он не знал, куда их деть.
— К нам, в Преображенский? — любезно спросил Константин.
— Так точно, ваше императорское высочество! — неожиданно звонким голосом прокричал Кирилл и приставил ладонь к виску.
— Хорошо, хорошо, — улыбнулся Константин, отметив и правильную осанку пятнадцатилетнего парня, и его звонкий голос, и завидный рост.
— Вот, — подал бумаги Михаил Петрович.
Константин зашелестел листами.
— Завтра явиться на развод полка в мундире и с эспадроном, — коротко сказал он. — Курута всё объяснит, — махнул он рукой на закрытую дверь.
— Не оставьте милостями, — подал голос Михаил Петрович.
— А это уже от службы будет зависеть, — слегка улыбнулся Константин, — станет служить честно и истово — император отметит, а командиры будут взыскивать за каждый проступок...
Он ещё раз посмотрел на Кирилла и снова махнул рукой на дверь.
— Иди, скажешь Куруте, что я приказал в казармы...
Лихо щёлкнув каблуками, Кирилл повернулся и юркнул за дверь. Константин обратил взгляд на отца и дочь.
— Ещё одна просьба, ваше императорское высочество, — приподнялся Михаил Петрович. — Дочь моя, в замужестве Ласунская, приехала просить дать место мужу своему, Павлу Михайловичу Ласунскому.
— Помню, — задумчиво проговорил Константин, — мать его приезжала ещё при покойной государыне. Она не позволила сыну изменника служить, приказала жить в своих деревнях.
Маргарита молча смотрела на великого князя.
— Но наш император милостив, — скороговоркой продолжал Константин, — оставьте ваше прошение, я передам...
Михаил Петрович почтительно встал, склонился перед великим князем. Трясущейся рукой он передал пакет Константину и спохватился.
— Простите великодушно, — запинаясь, произнёс он, — тут в прошении просьба другая — мы было хотели в ящик опустить, а его уж нет...
Он подал остальные бумаги.
— А что в тех? — поинтересовался Константин.
Маргарита густо покраснела и опустила глаза.
— Там, ваше императорское высочество, — оправился уже от смущения отец, — прошение в Синод о разводе моей дочери с господином Ласунским.
— Как так? — безмерно удивился Константин. — Одной рукой прошение о службе, другой — о разводе...
— Так уж выходит, — покраснел и Михаил Петрович, — жить невмоготу, а служба мужу надобна...
Константин с любопытством взглянул на Маргариту.
— Такая красавица, — ласково сказал он, — и жить невмоготу...
Маргарита низко присела в поклоне.
— Великодушно простите, великий князь. — Михаил Петрович теперь и сам не знал, как выбраться из положения, в которое он поставил и себя и дочь своей неловкостью. — Только я виноват, перепутал прошения...
— Да это ничего, — любезно усмехнулся Константин. — И что же после развода намереваетесь делать?
Маргарита молчала от смущения, а Михаил Петрович быстро проговорил:
— Прошу позволить моей дочери, в замужестве Ласунской, жить в моём отцовском доме. А в прошении я всё обсказал, как есть...
— Ну, это несложно, — как можно ласковее произнёс Константин, — государь-батюшка позволит, верно, как я ему доложу...
— Великой милостью одарите, ваше императорское высочество, — привскочил Михаил Петрович, — а то ведь и правда невмоготу...
— А траур по кому? — спросил Константин. — Неужели по прошедшей молодости?
Маргарита снова присела в реверансе и смущённо ответила:
— Матушка мужа скончалась...
— Помню её, помню, — рассеянно произнёс Константин. — Ничем не мог помочь ей в то время...
Они уже начали было откланиваться, когда Константин неожиданно для себя и своих посетителей негромко сказал:
— Траур по матушке Екатерине, моей царственной бабушке, и деду моему Петру скоро кончится. В Москве станет короноваться отец мой, Павел Петрович. — Он немного конфузился. — Да вы и сами уж это, верно, знаете...
Михаил Петрович обрадованно закивал головой.
— Так вот, бал будет в Дворянском собрании, — оживился Константин, — мне поручено государем приглашать всех туда. Приглашаю и вас. И за мной первый котильон, — смущённо добавил он, обращаясь к Маргарите.
Она молча поклонилась, не придав значения этому приглашению, а Михаил Петрович расцвёл, увидев в нём акт благоволения и милости.
— Честь великая для меня, — любезно отозвался он, премного благодарны. И я, и дочь.
Они раскланялись и вышли за дверь в большом смущении от неожиданной милости и удивлении от столь заблаговременного приглашения.
Михаил Петрович каждый день наведывался ко двору, чтобы узнать о решении императора, бывал и у Константина, благожелательно отнёсшемуся к Кириллу. Лишь через три месяца Павел дал высочайшее соизволение жить госпоже Ласунской, урождённой Нарышкиной, в доме своего отца, отдельно от мужа...
Кирилл проводил их верхом до заставы столицы, слёзы скапливались в его глазах от разлуки с родными, но он не подавал вида, стараясь лихо сидеть в седле. На последней заставе отец и старшая сестра вышли из кареты, долго целовались с ним, и он ещё много раз взмахивал рукой, вглядываясь в поднятую пыль и встряхивая головой, чтобы смахнуть набегавшие то ли от разлуки, то ли от ветра слёзы.
Всю дорогу отец и дочь почти не разговаривали, оба ушли в свои мысли. Михаил Петрович тужил об оставленном сыне, а Маргарита видела перед собой одинокую жизнь, хоть и в весёлом, шумном родительском доме.
Перед Москвой они, не сговариваясь, повернули к дому Ласунского, бывшему некогда владением Нарышкиных. У крыльца никого не было, не встретили их даже дворовые, спавшие по углам: видно, опять всю ночь кутил Поль, и теперь их сморило.
Маргарита прошла тёмную прихожую, вздула свечу в большой гостиной — всюду следы ночного кутежа, разбитые бокалы, лужи разлитого вина, перевёрнутые стулья и сбитые в комок покрывала на диванах.
Она прошла в свою комнату — на её постели спала очередная домоправительница. Сонная и неодетая, она вскочила, встряхнутая за плечо, кинулась к себе, разбудила и хозяина, спавшего мертвецким сном в кабинете.
Маргарита присела к зеркалу и задумалась: что может она забрать с собой из своих вещей? Наскоро перерыв старый дедовский сундук, выкинула прямо на пол два-три старых платья, отперла резную шкатулку с ещё бабушкиными драгоценностями. Всё было на месте, разве что не хватало двух-трёх колец да пары незначительных серёг.
Она бросила всё это на простыню, которую расстелила на кровати, и опять села к зеркалу. Утомлённое её лицо показало ей, что слишком мрачно и трудно было на душе. Пусть и опостылел ей Поль, а всё же тяжело бросать гнездо, где была хозяйкой, и переселяться в дом отца приживалкой, соломенной вдовой. Слёзы навернулись на её глаза, она упала головой на призеркальный столик и заплакала тихо, едва всхлипывая.
Михаил Петрович как сел в шубе в кресло, стоявшее посреди гостиной, так и не поднимался из него, словно бы подчёркивая этим кратковременность своего визита к зятю. Однако ему долго пришлось ждать, его нос уже подёргивался от запахов пропитанной винными парами комнаты, и его так и подмывало вскочить, заорать на весь дом истошным криком, разбудить сонную дворню. Но он сдерживался: этот дом не был его домом, и он чувствовал в нём себя гостем, а не хозяином.
Забегали слуги, внесли канделябры с зажжёнными свечами, низко кланялись Михаилу Петровичу, ещё помня своего прежнего барина. Показался наконец и сам Поль Ласунский, прилично одетый в бархатный шлафрок и рубашку с помятым кружевным жабо.
— Кто к нам пожаловал! — деланно изумился он. — Прошу простить за некоторый непорядок в доме, но вы так неожиданно...
— Мир тебе, Павел Михайлович, — спокойно отозвался гость.
— Да вы скиньте шубу, — заботливо подбежал к нему Поль, — у меня довольно жарко, а вы сидите, преете...
— На минутку только, дорогой зять, на минутку, — сдерживая злость и гнев, проговорил Михаил Петрович, — сообщить лишь радостные вести, да и домой. Супруга ждёт не дождётся, да и детишки малые...
Поль присел к столу и молча ожидал вестей. Лицо его сразу озарилось торжествующей улыбкой, а маленький подбородок исчез в волнах кружев.
— «Милые вести скорей известите», — почти пропел он, глядя на тестя ожидающе. — приятно получить хорошие известия, а от вас, милый тестюшка, вдвойне приятно...
— Весточка первая, — начал Михаил Петрович таким же любезным тоном, — государь император пожаловал вас капитаном Московского особого полка.
Лицо Поля вытянулось.
— Служить в полку? — капризно произнёс он. — Да я сроду армейской службы не знавал, да в мороз, да в слякоть...
— А государь император во имя заслуг вашего родителя обмилостивил моего зятя. Знал, что рад будет, да сразу капитаном, как и батюшка ваш служил, да ещё в Московский особый полк. Знал государь, что благодарить будете, ноги обливать слезами от такой милости...
— Да я рад, — промямлил Поль, — только сами знаете, какое у меня здоровье, да и матушка недавно преставилась...
— Да мне что, — раздражённо перебил его Михаил Петрович, — я лишь передаю государеву волю и вот пакет этот привёз от монаршей руки...
Поль небрежно бросил пакет на стол. Радость в глазах его угасла.
— И вторую милость сотворил с нами государь-батюшка Павел Петрович. — Голос Михаила Петровича зазвучал вдруг так торжественно и сурово, что Поль заметно дёрнулся на стуле. — Приказал жене вашей, дочери моей Маргарите Михайловне, жить в доме отца, то бишь в моём доме, пока решится дело о разводе в Святейшем Синоде. Может, и долгое будет разбирательство, прежде случалось, по двадцать лет ждали решения, да теперь, слава Господу, государь повелел дела скорее делать, может, и Синод вынесет решение быстро...
Поль обомлел.
— Да как... — Слова не шли из его горла. — Да как вы смели так со мной поступить?
Он вскочил со стула, быстро пробежал по ковру, отмеченному винными пятнами, — его забила лихорадочная дрожь.
— Поступил, как ты с моей дочерью поступал, — смело ответил Михаил Петрович. — А буде решит Синод положительно, то и приданое да двести тысяч придётся вернуть...
— Вот вы как запели, небось приготовили дочке другую партию?
— Поль, — тихо и властно заметил Михаил Петрович, — я не оскорблять тебя пришёл, а сообщить государеву волю...
— Напели, наговорили императору с три короба, а теперь я же ещё и виноват. Ваша дочь дурно воспитана, не умеет даже гостей принять, груба и дерзка, а вы смеете на меня клепать...
Михаил Петрович поднялся.
— Я не браниться сюда пришёл, а забрать дочку, — глядя прямо в глаза Полю, холодно и гневно сказал он,— и через две минуты отсюда отъезжаю, выслушивать обидные слова не хочу…
— Батюшка! — неожиданно закричал Поль тонким бабьим голосом. — Да к чему ж вы так, я не обидеть вас хочу, справедливо рассудите сами...
Михаил Петрович мигнул одному из слуг, показав глазами на второй этаж.
— Поди узнай, собралась ли Маргарита Михайловна к отъезду?
— Господи, да что же это такое, небось растащит все мои вещи, — заюлил Поль, — да мы же Богом обвенчанные, да разве ж можно от живого мужа жену увозить? Да разве я когда обижал Маргариту Михайловну, да вы у неё самой спросите, разве ж она скажет неправду?
Но Маргарита уже спускалась по лестнице. Старая её служанка несла за ней узел с вещами.
— Положи узел на стол, Аксютка, — приказал Михаил Петрович, — раскрой, чтобы видел хозяин дома, что ничего лишнего не забирает с собой моя дочь.
Поль впился глазами в узел. Быстрые руки служанки распутали узел, и всё нехитрое богатство Маргариты предстало его глазам. Раскрылась и шкатулка с фамильными драгоценностями Маргариты.
— Всё ли из драгоценностей на месте? — сурово спросил тесть.
— Кое-чего не хватает, да Бог с ними, — тихо ответила Маргарита.
— Так, — подытожил Михаил Петрович, — замуж выходила, добра навезла на восьми возах, а теперь одну простыню да шкатулку бабушкину увозишь...
Маргарита укоризненно взглянула на отца, и он сразу отстал.
— Всё проглядел, зятёк? — язвительно спросил он.
Поль демонстративно отвернулся от стола.
Служанка быстро замотала узел, взяла в руки, и отец с дочерью вышли на крыльцо. Поль выбежал вслед за ними, молча смотрел, как они садились в карету, но напоследок не выдержал:
— Я буду жаловаться самому государю! — тоненько крикнул он, но так, чтобы они уже не услышали. — Я теперь капитан Московского особого полка, вы у меня ещё узнаете, почём фунт лиха...
Но кричал он больше для дворни, чтобы знала, с кем имеет дело.
Всю дорогу из глаз Маргариты катились тихие слёзы. Она не вытирала их, чтобы не обратить внимание отца на своё состояние, а он избегал взглядывать на дочь, потому что и сам мучился болью.
Кончилась её весёлая, беззаботная молодость, кончилось её несчастное супружество. Что-то ждёт её впереди? Какие ещё испытания пошлёт ей Господь за её своевольство?
Никуда нельзя показаться, надобно ограничиться пределами отцовского дома, даже за порог выйти не придётся, иначе пойдут по Москве злые и скверные слухи, а уж Москва на эту молву ох как таровата. И со страхом ждала она того бала, о котором говорил великий князь Константин, и надеялась, что до коронации императора забудет он о своём приглашении, забудет и о танце, на который ангажировал Маргариту.
Нет, не забыл Константин зеленоглазую красавицу, такую скорбную и обольстительную в чёрном траурном наряде. Вспомнил, едва приехал царский поезд на коронационные торжества...
Уже тридцать пять лет не видела Москва такого блестящего собрания первых лиц государства. Ради коронационных дней прерван был годичный траур, раззолоченные камзолы сменили скромные тёмно-зелёные мундиры, алые ленты орденов украсили расшитые костюмы сановников. Щегольские кареты, длинные дормезы[13], запряжённые восьмёрками и шестёрками вороных и белоснежных коней, всё подъезжали и подъезжали в древнюю столицу, а древний Кремль разукрасился таким обилием разноцветных нарядов, какого за последние годы не упомнила Москва.
Весеннее московское солнце, не в пример северному, петербургскому, словно нарочно не сходило с небосклона все дни, щедро рассыпало тепло, и под ним загустилась листва сирени, распустились в подмосковных лесах крохотные фиалки, ядовито зазеленела трава под буйными лучами. Даже московские мостовые, прибитые копытами, сапогами и котами простолюдинов, топорщились пробивавшейся молодой зеленью, а колдобины осыпались, разостлались в мягкую пушистую пыль.
В Светлое Христово воскресенье, 5 апреля 1797 года, началась эта великая для Павла и красочная для всего московского народа торжественная церемония.
Однако путь от Петровского дворца до Успенского собора был так короток, что Павел приказал продлить его, обогнув колокольню Ивана Великого. Впереди длинной и раззолоченной свиты выступал сам император в высоких сапогах с раструбами выше колен, в расшитом золотом мундире с андреевской лентой через плечо. Мария Фёдоровна в роскошном наряде из серебристой парчи, расшитом серебряными же цветами и птицами.
На крыльце Успенского собора встретила Павла процессия священников в золотых ризах, в белых клобуках с вышитыми серафимами, с золочёными тяжёлыми крестами в руках и витыми свечами с бледными огоньками, почти незаметными в ярком свете солнца.
Александр и Константин шли за отцом и матерью бледные и взволнованные — впервые видели они обряд коронования, после которого император был уже вправе надеть тяжёлую шапку Мономаха на троне.
Небольшое пространство Успенского собора забито было золототкаными мундирами и камзолами; огни свечей здесь, в полутьме собора, засверкали на орденах и позументах, засияли на золоте крестов и кадильниц.
Маргарита стояла в тесной толпе вместе с отцом и матерью и только краешком глаза, из-за плеч и голов впереди стоящих, могла видеть торжественную церемонию.
Напротив алтаря, прямо посредине собора, устроено было возвышение, там высился роскошно отделанный престол — трон императора. Маргарита увидела, как Павел, маленький, тщедушный, но покрытый парчовой мантией, подбитой горностаевым мехом, возложил на себя сверкающую алмазную корону, затем дотронулся ею до головы императрицы, возложил на себя далматик — одну из царских одежд византийских императоров, и лишь потом накинули ему на плечи порфиру — царскую одежду Руси.
В порфире, короне, со скипетром и державой в руках прошёл он в алтарь, чтобы прикоснуться Святых Тайн из рук священников. Рядом стоял князь Репнин. Павел подмигнул ему и довольно громко, сквозь пение дьяконов, спросил:
— Ну что, князь, каково я играю свою роль?
Мария Фёдоровна одёрнула мужа:
— Тише, мой друг, тише...
Маргарита, конечно, не слышала этих слов, видела только, как шевелятся губы царственных особ. Ангельское пение церковного хора заглушало все звуки.
Она выдержала всю длинную процедуру — долгую обедню, причастие императора, его коронование, а потом возглашение наследником престола, цесаревичем большего сына императора — Александра...
В отцовском доме рядом с младшими братьями и сёстрами Маргарита немного отошла душой и теперь могла и светло улыбнуться, и пожать плечами, и радостно рассмеяться, но чёрная стена неизвестного и горького будущего всё не отпускала её. В её зелёных огромных глазах залегла глубинная грусть, и даже торжественное зрелище, а потом весёлая толкотня народа, набросившегося на фонтаны с красным и белым вином, на жареных быков, выставленных во дворе Кремля, и тяжёлая возня на булыжниках, куда из царских окон бросали горстями медные и серебряные монеты, не изгнали печаль из её глаз. Она словно бы отрешённо наблюдала за всей этой суетой и скептически усмехалась в душе: зачем всё это, кому это нужно?
Однако когда ей принесли бальное платье, приготовленное для Дворянского собрания, сердце её всколыхнулось: никогда ещё со дня своей свадьбы не надевала она такое роскошное, расшитое блестками, серебряными и золотыми нитями одеяние.
Туго обтягивающий лиф подчёркивал её тоненькую стройную фигуру, а пышные юбки образовывали каскад вокруг её ног. Бриллиантовое ожерелье на белой шее, длинные подвески в ушах и тяжёлые браслеты на руках дополняли её наряд. Ей вдруг захотелось проплыть по залитому светом залу, по скользкому паркету бального помещения рядом с таким же красивым, высоким, стройным человеком.
Она вспомнила лицо Константина, его коротенькую фигуру и невольно поморщилась: нет, это был не тот человек, о котором вдруг возмечталось ей. Рядом с ним она не чувствовала бы себя красавицей, была б принижена его высоким саном, вела бы себя скованно и неестественно. Она так надеялась, что великий князь забудет о своём приглашении.
Но едва открылся бал в Дворянском собрании, куда съехались все самые знатные семьи Москвы, и сам император в паре со старшей невесткой, женой Александра Елизаветой Алексеевной, открыл сверкающее шествие танцоров, за ним в паре с сыном плавно проплыла императрица, потом младшая невестка с кем-то из блестящих придворных, Константин взглядом отыскал Маргариту, стоящую вместе с отцом и матерью у дальней стены среди белых высоких колонн, и через весь зал направился к ней.
Сперва он обратился к Михаилу Петровичу, прося позволения пригласить на танец его дочь, потом подал руку самой Маргарите.
И вот она вышла на круг, под яркий свет тысяч свечей, на пустое пространство, предназначенное для танцев. Взгляды всех обратились к этой паре — невысокий Константин в расшитом камзоле и редкостной красоты зеленоглазая и стройная его дама. Почти на полголовы Маргарита была выше Константина, во всё время танца не поднимала, а опускала глаза на своего кавалера, и взгляд её глаз словно бы притушёвывался, затеняясь длинными ресницами.
Зашушукались старухи в роскошных нарядах, набелённые и нарумяненные, стоящие и сидящие вдоль стен; глаза молодых офицеров и напудренных вельмож обратились к Маргарите.
Вежливый Константин отвёл даму к её отцу и сразу же подвёл к ней высокого рослого офицера в тёмно-зелёном мундире.
— Я прошу моего офицера, Александра Тучкова, заменить меня в паре с вашей дочерью, — отрекомендовал он нового кавалера Михаилу Петровичу. — Разрешите потанцевать ему с нею...
Отец разрешил, и Маргарита забыла обо всём, легко скользя по наборному паркету и отдаваясь ритму музыки. Она даже не разглядела лицо своего кавалера, ей достаточно было того, что она летела по зале, лицо её овевал ветерок от движения, а ноги сами несли её так, как ещё никогда не приходилось.
Маргарита забыла обо всём, глаза её разгорелись, розовые губы приоткрылись, щёки зажглись румянцем — она вполне сознавала, как она теперь хороша, и упивалась сознанием своей красоты.
— Как легко вы танцуете, — услышала она шёпот, когда её кавалер, изящно держа её за кончики пальцев, обводил вокруг себя.
Она недоумённо взглянула на него. Молодое, белое, сияющее лицо, голубые, слегка навыкате глаза, яркие губы, слегка подвитые волосы пшеничного оттенка над высоким чистым лбом. Но взгляд поразил её — словно стояла в нём какая-то извечная тоска, словно и не было этого блестящего бала, словно куда-то вглубь души уходил этот взгляд. Серьёзные, печальные голубые глаза смотрели на неё из запредельного мира, с глубокой грустью. Вся весёлость Маргариты слетела с неё. Кто это — она даже не расслышала его имени, когда он представлялся отцу.
— Вы кто? — тихонько спросила она.
— Разве такой красавице, как вы, полагается запоминать имена своих кавалеров? — грустно усмехнулся её партнёр по танцу.
Она снова взглянула прямо ему в глаза, и ей уже не хотелось ни танцевать, ни кружиться под этим ярким светом тысяч свечей, лишь бы глядеть и глядеть в эти грустные, но сияющие голубые глаза, погружаться в их неведомую глубину и печаль.
— Ну, положим, я Александр Тучков, — успел шепнуть он ей между фигурами танца.
— Меня зовут Маргарита, — едва шевеля губами, сказала она ему в следующем перерыве между фигурами.
— Я знаю, — прочла она незаметное движение его губ.
И сразу пришло к ней осознание того, что делается здесь, на бале. Отрезвевшими глазами наблюдала она за вереницей пар, за изящными и красивыми фигурами танца, за сверканием золотых пуговиц и движениями башмаков и сапог. Ей больше не хотелось танцевать, она едва не вышла из круга, с усилием довела танец до конца, долетела до отца, слегка поддерживаемая под локоть Александром.
Больше она не танцевала. Кавалеры ещё подходили к ней, но она утомлённо отмахивалась большим веером и прошептала отцу:
— Я так устала, батюшка, поедемте домой...
Михаил Петрович удивлённо взглянул на дочь. Этот бал был её триумфом, её заметили даже члены царской фамилии, она была настоящей королевой в череде придворных красавиц, и вдруг эта усталость, нежелание выставляться напоказ. Он пожал плечами. Не дождавшись конца бала, семья Нарышкиных отъехала домой.
Маргарита бросилась в постель, и глаза Александра Тучкова встали перед ней — глубокие, печальные и понимающие. Она не запомнила его лица, не видела, как он одет, высок ли ростом, помнила только, что поднимала свои глаза к его лицу — значит, он выше неё. Больше ничего не запомнила она — лишь глаза его стояли перед ней.
На другой день после бала в Дворянском собрании двери парадного подъезда дома Нарышкиных почти не закрывались. Выразить своё почтение приезжали молодые офицеры, придворные старые почтенные ловеласы.
Михаил Петрович принимал всех, выказывал уважение, но Маргарита, ради которой и приезжали все молодые и не слишком молодые люди, не показывалась. Она отговорилась головной болью, сидела в своей комнате и не хотела никого видеть.
Александр Тучков не появился...
После семейного обеда Михаил Петрович решил поговорить с дочерью.
— Я очень рад, что ты такая скромница, — осторожно начал он, — но не забывай, что после развода ты должна будешь выйти замуж. Куда же ещё деться женщине в наше время?
— Я не хочу замуж, — тихо ответила Маргарита. — Что хорошего в замужестве?
— Но я не желаю, чтобы ты пошла в монахини, — вспыхнул Михаил Петрович, — есть много знатных и богатых женихов, я желаю тебе только счастья...
— Я благодарна вам за заботу, — устало отвечала дочь, — но я не пойду больше замуж, я теперь знаю, что это такое — замужество. Вам так повезло с маман, у вас прекрасная семья, а моя доля, видно, другая, мне нет счастья в семейной жизни...
— Первый опыт, — наставительно сказал Михаил Петрович, — ещё не опыт.
На том и закончился этот нелёгкий разговор.
Варвара Алексеевна больше не вмешивалась в сердечные дела Маргариты. Она сознавала свою вину, и в её отношении к дочери появилась нотка этой виноватости. Она уже не могла советовать своей старшенькой.
А Маргарита с тех пор замкнулась в себе ещё больше. Она не могла никому рассказать о своих сердечных страданиях, не могла и слова произнести о том, как запали ей в душу глаза Александра Тучкова. Да и с кем могла бы она поговорить... Мать старалась избегать разговоров, отец был прямодушен, груб и отчётливо заявил, что ей всё равно придётся выйти замуж второй раз. Она не хотела, не смела даже мечтать о том, чтобы вторично встретиться с тем человеком, взгляд которого так поразил её. Впрочем, что она знала о нём, кроме имени и голубых глаз? Кто знает, каков он на самом деле?
Однако она встретилась с Александром Тучковым ещё раз. На именины жены одного из своих троюродных братьев Михаил Петрович повёз всю свою семью: младшие девочки уже подросли, пора было знакомить их с молодыми людьми, а потом пристраивать. Только и разговоров было в семье что о браках, о замужестве. Нет хуже доли матери и отца, которым надо выдавать замуж многочисленных дочерей: мало того, что приходится выделять богатое приданое, нужно ещё найти человека, в котором не пришлось бы разочароваться, как Маргарите.
За огромным столом, накрытым на полсотни человек, где уместились семьи многих родственников, Маргарита сидела на самом конце. Она не поднимала глаз, не искала взглядов, ей неинтересны были досужие разговоры — она была в преддверии развода, и тайные мысли о своей судьбе не оставляли её даже во время самого праздничного застолья.
И вдруг она почувствовала на себе тяжёлый взгляд. Она подняла глаза, обвела огромный овальный стол и наткнулась на этот взгляд — серьёзный, немного печальный, словно бы отрешённый.
Александр Тучков тоже был родственником хозяйки дома с какой-то дальней стороны. «Словно сама судьба сталкивает нас», — невольно подумала Маргарита.
Она опустила глаза в тарелку и теперь уже мечтала убежать от этого пристального взгляда. Кто она такая, чтобы отвечать таким же взглядом? Она не имеет права отвечать ему, она не может быть с ним наравне...
Маргарита ещё посидела за столом, затем тихонько извинилась перед хозяйкой дома и выскочила на крыльцо. Скоро лошади везли её в отцовский дом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
На учениях он принимал строгий, даже свирепый вид. Подскакивал к рекруту, если видел, что тот неумело и не браво переставляет ноги, приказывал выйти из строя, заставлял поворачиваться во все стороны и с высоко поднятой головой. Особенное удовольствие доставляло ему громко и разборчиво выкрикивать слова команд. Если солдат чуть склонял голову, наблюдая команды и стараясь выполнить их чётко, Константин подлетал к нему и резко ударял снизу вверх по подбородку — высоко вскинутая голова должна была свидетельствовать, что рекрут вовсе не думает, а лишь автоматически, машинально выполняет команду.
Придирчиво осматривал он, как затянута амуниция. Не дай бог, чтобы портупея и ремни у ранца ослабевали — Константин сам старательно подтягивал их, не забывая дать солдату по плечу или по роже. А уж если треуголка сидела не лихо и молодецки, сбивал её одним движением кисти и до тех пор измывался над бедным солдатом, пока тот не нахлобучивал её по всем правилам, даже не утирая взмокший лоб и не чувствуя струи пота, лившей за воротник.
«Офицер есть не что иное, как машина, — мыслилось молодому командующему силами Петергофа, куда опрометчиво назначил его отец. — Всё, что командир приказывает своему подчинённому, должно быть исполнено, хотя бы это была жестокость...» И прибавлял на разводах, что «фантазия начальника может сделать подчинённого своим слугою, который и может быть употребляем на всё...»
Главная обязанность Константина в бытность генерал-губернатором Петергофа состояла лишь в том, чтобы находиться при Павле во время вечернего рапорта дежурного караульного офицера, который неукоснительно производился каждый день вечером. Константин только присутствовал при этом, вставляя свои замечания о рапортах. Но однажды он решил, что присутствие его не обязательно — отец простился с ним до рапорта, и обрадованный Константин, вскочив в коляску, посвятил себя и свой невольно выдавшийся свободный вечер прогулке по Петергофу и, конечно же, встрече с интересовавшей его на этот раз красавицей. Последствия этого, казалось бы, малозначащего поступка были крайне тяжёлыми...
Увидев, что Константин не явился на выслушивание рапорта, Павел пришёл в великий гнев. Ему важны были самые ничтожные мелочи в воинской службе, а такой проступок, как отсутствие генерал-губернатора при рапорте, вызвало страшную бурю. Он покраснел, голова его вскинулась вверх, он задыхался, и лишь по жесту руки адъютант Комаровский понял, что надо срочно найти великого князя.
Но найти его не смогли: секретное уютное гнёздышко Константин обставил такой таинственностью, что не только его жена, молоденькая Анна Фёдоровна, но и никто в мире не смог бы разыскать эту чудную квартирку, где он иногда проводил целые ночи.
Явившись во дворец, он узнал о буре, о гневе отца, и так встревожился, что не смог сомкнуть глаз всю оставшуюся ночь. Лихорадочно отыскивал он способы примирения с отцом, но не решился показаться ему на глаза — знал, как страшен отец в гневе, что запальчивость его уже стоила свободы многим офицерам, и дрожал от страха.
Наконец под утро он решился написать отцу письмо, в котором до тонкости объяснял свой проступок. Но письмо было ему возвращено не только без ответа, но даже не распечатанным.
А когда пришёл к нему полковник Обрезков и сообщил, что император приказал ему отдать рапорт вместо Константина, великий князь взвился с кресла, понял, что не только его жизнь, но и честь могут быть в великой опасности, принялся грызть ногти и изобретать способы справиться со страшным ударом, спасти себя от опалы.
Адъютант его, Комаровский, с удивлением и тревогой наблюдал за отчаянием великого князя, когда он передал ему приглашение императора прогуляться в колясочке. Даже в этих словах усмотрел Константин намёк на своё пренебрежительное отношение к службе и с ужасом приготовился к опале. Но, покружив по комнате, меряя её большими шагами и на ходу грызя ногти, он вдруг подошёл к Комаровскому и кинулся ему на шею в восторге от придуманной затеи спасти себя.
— Пойди сейчас к Кутайсову, скажи, в каком я отчаянии! — воскликнул он. — Пусть он попросит государя об одной лишь милости выслушать меня...
Комаровский пожал плечами. Как, родной сын императора должен умолять брадобрея, крещёного турка, о том, чтобы отец выслушал сына...
Но, будучи дисциплинированным и исправным служакой, Комаровский направился к Кутайсову. Турок сразу же выслушал Комаровского, приказал прийти за ответом несколько позже, и Комаровский отправился к принцу, великому князю. И надо же было случиться, что по дороге ему повстречался собственной персоной сам император.
— Куда, зачем, почему, по какой причине, — встретил он Комаровского градом вопросов: император всегда был подозрителен и допытывался до всяких мелочей.
Комаровский объяснил Павлу всё то же, что рассказал Кутайсову. Павел помолчал, осознавая всю отчаянность положения второго своего сына, и негромко промолвил:
— Я рассчитывал на привязанность одного только Константина, но сделанный им вчера поступок заставил меня думать, что и он предался противной партии...
Комаровский покраснел и промолчал, но быстро сообразил, о какой противной партии говорил Павел. Он хорошо знал, что даже Мария Фёдоровна, жена императора, поддерживала Александра, когда Екатерина мыслила обойти Павла и оставить престол Александру, любимому внуку. Не доверял Павел своему сыну, а теперь заподозрил и Константина...
Однако, поразмыслив, Павел смягчился. Он велел сказать сыну, что прощает его легкомысленный поступок и позволяет ему подавать рапорт при разводе.
Радости Константина не было границ. Он обнимал Комаровского, целовал его и без конца повторял, что отец слишком к нему милостив, что он искренне раскаивается в том, что свою прогулку поставил выше интересов службы. Как его отчаяние, так и его радость были чрезмерны, и адъютант в душе бранил его за ребячливость.
Но теперь всё позади — разводы, вахтпарады, мелочные попрёки командирам за нечёткость команд, за расхлябанность в амуниции. Теперь он поедет к настоящей армии, к настоящей войне, да ещё куда! Под начало самого Суворова!
Впрочем, в душе, думая о старом фельдмаршале, Константин всегда усмехался. Он хорошо знал его сына, Аркадия, назначенного к его двору камер-юнкером, высокого, белокурого красавца, столь изощрённого в весёлых забавах и любовных похождениях, что и сам Константин не мог бы за ним угнаться. Знал, как трепетно относился к сыну Суворов после того, как отдалилась от него старшая его дочь, Наташа, совсем юной выскочившая замуж за постаревшего Николая Зубова, льнувшего к новому императору и даже оказавшего ему столь блистательную услугу при вступлении на престол. Как жаждал великий полководец видеть и сына своего таким же ревностным служакой, каким был сам! Но сын Суворова больше расшаркивался на паркетах гостиных, кланялся вельможам, устраивал любовные делишки самого Константина, а к военной карьере его не тянуло. Но Константин ехал к армии Суворова, и Павел отправлял вместе с ним и Аркадия.
Не забывал Константин и того, что отец слишком уж сурово наказывал екатерининского вельможу, Суворова, подозревая его в сговорах против него, императора. Солдаты любили Суворова, при одном его имени кричали ему славу, а это могло быть чревато для императора всем, чем угодно...
Расфранчённые вельможи, важные раззолоченные генералы наполняли приёмную залу Павла. В числе других были и Константин с Александром, сопровождавшие императора на каждый развод, и братьям оставалось лишь удивляться поведению Суворова. Старик бегал по приёмной зале, останавливался то возле одного, то возле другого вельможи и каждому говорил такие слова, за которые едва ли можно было не возненавидеть фельдмаршала.
— За что ж такой чин получил? — спрашивал он одного, взявшись за сверкавший орден. — Сражался на паркетах? А трудно? Много ли крови пролил?
Смущённый и возмущённый царедворец отворачивался, а Суворов уже легко подлетал к другому и бросал насмешливо:
— За длинный нос получил чин?
Но вот появился царский брадобрей Кутайсов, который приобрёл такое положение, что его ласки и милости добивались самые родовитые и знатные люди государства. Суворов подлетел и к нему. Первая же фраза повергла Кутайсова в изумление: старый фельдмаршал спросил у него по-турецки, много ли получил он за царскую бороду.
Константин не выдержал. Он никогда не придерживал свой язык и, подскочив к Суворову, тихонько заметил ему:
— В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Суворов окинул его проницательным и насмешливым взглядом, и Константин почувствовал себя таким маленьким и жалким, что даже не нашёлся, что сказать.
В это время растворились двери покоя и появился император в прусском мундире и высоких грубых сапогах. Он немедленно подошёл к Суворову, оставив без внимания весь свой расфранчённый двор.
Константин отвернулся, довольный, что не услышал ответа Суворова, и с изумлением стал прислушиваться к разговору императора со строптивым фельдмаршалом. На каждое вежливое и терпеливое слово Павла Суворов отговаривался шуткой, солдатской меткой приговоркой и словно бы не замечал настойчивого намёка императора. А тому хотелось, чтобы несговорчивый старик сам изъявил желание служить, но не во главе всех войск, а где-нибудь в дальнем гарнизоне.
А уж на разводе, на который впервые опоздал отец, Константин и вовсе изумлялся поведению старого служаки. То он путался в фалдах прусского мундира, и его палаш ударялся о край ступенек кареты, то плоская треуголка падала с его головы, то отваливалась сзади присыпанная косица и старик смиренно извинялся перед императором. Впервые Павел изменил и порядок развода: вместо обычной шагистики солдат заставили ходить в штыки, стараясь польстить старому фельдмаршалу, но Суворов почти не глядел на эти упражнения, а под конец схватился за живот.
— Брюхо болит! — сказал он своему племяннику графу Горчакову и уехал с развода, не дождавшись конца его. Никто бы не позволил себе сделать это, пока сам император присутствовал.
Андрей Горчаков всё старался сгладить резкости Суворова, но Павел видел все выходки старика и молчал.
Он всё ещё надеялся, что Суворов подчинится ему, но в конце концов понял, что строптивому старику не нравятся все прусские порядки, и был рад, когда Суворов попросился обратно в деревню. С тяжёлым сердцем отпускал Павел старика, зато приказал снять с него надзор и денежные начёты, надеясь, что в случае опасности Суворов придёт на помощь.
Так и случилось...
Франция, некогда поднявшая знамя свободы, равенства и братства, к последнему году восемнадцатого столетия явила миру своё новое лицо. Её армия начала наступление на другие страны, везде требуя территориальных приобретений, грабя крохотные города и государства, поднимая мятежи под знаком конституции, которой давно уже сама не верила. Взошла на небосклон Франции звезда генерала Бонапарта, преобразовавшего французскую армию, введшего новые правила ведения современной войны. Быстрота и натиск, стремление добиться решительного боя, драться с превосходящими силами и в самой лучшей позиции — таковы были его новые идеи и принципы. Пока ему приходилось иметь дело лишь с бездарными австрийскими генералами, которые неизменно оказывали ему много раз одну и ту же услугу — раздробляли свои войска, чтобы Бонапарту легче было разбивать их по частям. Военный дух, солдатчина победили во Франции и взяли верх над демократическими идеями. Теперь французы жаждали своего национального владычества над всей Европой, захвата всё новых и новых земель и, главное, ограбления тех наций и стран, что сдались по слову Наполеона, исполненные доверия к провозглашаемым им лозунгам свободы и равенства. Но слова и лозунги оказались только приманкой: вся Италия была покорена и бессовестно ограблена, свободная Венецианская республика выдана Австрии как провинция, а папа римский вынужден был заключить с Бонапартом позорный мир, по которому обязался выплатить победителю 300 миллионов франков, не считая разграбленных французами произведений искусства на многие миллионы. Бонапарт произвёл переворот. Директория пала, и теперь он единственный вершил дела в Европе.
Флот французов осадил остров Мальту, находившуюся под протекторатом России, — Павел Первый считался гроссмейстером ордена мальтийских рыцарей. Узнав об этом, Павел взбеленился и стал искать пути решительного противодействия Франции. Он даже отказался от традиционной политики противостояния с Оттоманской Портой и заключил с ней союз против Франции. Россия, как и Австрия, увидела настоятельную необходимость сопротивляться Наполеону, английский же посол теперь приобрёл при дворе Павла колоссальное влияние. Словом, заключалась некая коалиция против бесстыдных действий Бонапарта, ограбившего пол-Европы. Россия, Англия и даже Пруссия, сохранившая вооружённый нейтралитет, готовились к войне против Франции. Павел послал флот через Дарданеллы блокировать Корфу, а армию повелел вести через австрийскую границу.
Конечно, Наполеон не смог бы противостоять армиям коалиции, армиям четырёх стран. В его распоряжении было более 180 тысяч солдат, да ещё 60 ему поставили союзники. Но силы эти были рассредоточены на огромном пространстве между Немецким морем и южной Италией. Бонапарт потребовал от правительства призвать на службу всех способных носить оружие в возрасте от 20 до 25 лет. Рекрутский набор должен был поставить армии ещё 100 тысяч солдат, однако явилось к нему лишь 50 тысяч.
Но и при этих условиях Наполеон доблестно сражался, поодиночке разбивая австрийских генералов, всё ещё державшихся за старые методы и способы ведения войны.
Противоборствовать ему мог только один полководец в Европе, давным-давно введший в своих войсках ту же тактику, что и Бонапарт: решительный натиск, атака, захват, лучшие позиции и численный перевес сил. И давно уже говорил Суворов, внимательно наблюдая за Наполеоном:
— Далеко шагает мальчик! Пора унять...
Наиболее проницательные умы в Европе указали на Суворова как на единственного полководца, способного противопоставить Наполеону новую по тем временам тактику ведения войны. Английский кабинет-министр Питт предложил австрийцам призвать командовать объединёнными силами союзников Суворова, и император Франц поставил это имя условием заключения договора о борьбе с Францией.
Павел был польщён — он стремился показать Европе совершенство русской армии, пусть даже и под началом Суворова. Однако, посылая своего сына к армии Суворова, действующей в Италии, тем не менее отправил вместе с ним генерала Дерфельдена, имея в виду заменить им в случае надобности Суворова.
Константин в великой радости стал собираться на фронт. Радость его, правда, умерялась тем обстоятельством, что отец не назначил ему никакой должности в армии, а приказал быть лишь волонтёром[14].
— Приглядись, вникай, пригодится, — коротко заметил он ему, — придёт время, покажешь себя, будешь и ты командовать... — И, с нежностью посмотрев на сына, добавил строго: — Берегись безрассудства, оставь глупые выходки, не лезь на пули и не показывай им спину...
Константин едва сдержал навернувшиеся слёзы — ему было всего двадцать, и детство ещё не ушло из его глаз и повадок.
— Положитесь на меня, государь, — ответил он дрожащим голосом, — не подведу ни вас, ни... — он споткнулся, хотел было сказать «отечество», но вовремя вспомнил, что отец запретил употреблять это слово, — ни государство моё, Россию...
— Будь солдатом исправным, — наконец обнял сына Павел.
— Отец сказал тебе всё, что нужно, — вглядываясь близорукими глазами в лицо Константина, произнесла императрица Мария Фёдоровна, — а я прошу, будь осторожен, внимателен, избегая опасности, тебя будет ждать столько любящих сердец...
Она явно старалась выглядеть несколько театрально, не совсем входя в роль страдающей матери, но Константин почтительно поцеловал её пухлую белую руку:
— Матушка, вы всегда в моём сердце...
Пустые, почти ничего не значащие слова, просто соблюдение приличий. Ничего такого он не чувствовал в своём сердце, оно рвалось к военным баталиям, к новым местам вместо опостылевшего Петербурга с его рутиной и Петергофа с его бесконечными, ничего не значащими рапортами, из-за которых всегда возникали самые неожиданные неприятности.
Зато с женой, молоденькой и скромной, застенчивой и бледной Анной Фёдоровной, он дал себе волю:
— Всё, уезжаю, под пули, под ядра, к боевым делам, на волю...
И словно ушат холодной воды вылила она ему на голову:
— Вы помните своё обещание?
Он резко повернулся к ней.
— Да-да, помните, перед самой свадьбой вы обещали моей маменьке, что я увижу её в Кобурге. Вы теперь оставляете меня одну, но вы сами хорошо знаете, какие напряжённые отношения у меня сложились с моей свекровью. Мне будет так одиноко и скучно, и никто теперь не защитит меня от её нападок. Поэтому я прошу вас исполнить своё обещание.
Вот оно что! Она не желает без него сидеть тут, в Петербурге, и выслушивать нотации от свекрови, следить за каждым своим словом и движением.
— Ладно, — устало сказал он, — я испрошу позволения у батюшки выехать вам в Кобург.
— Благодарю вас, — церемонно наклонила она голову.
И ему не захотелось поцеловать её в белый, как стрела, пробор на тёмных волосах, не захотелось прижаться губами к её узким, как лезвие ножа, губам. В глазах её не было ни радости, ни любви.
— Простите меня, если что, — невольно вырвалось у него. Он и не заметил, как тоже перешёл на вы, хотя всегда обращался к ней по-русски — на ты.
— И вы простите меня, — холодно ответила она, глядя куда-то в сторону.
Пришлось снова идти к отцу, просить приёма и излагать просьбу жены. Но Павел, почти всегда встречавший каждую просьбу готовым «нет», неожиданно легко согласился.
— Пусть едет, — коротко сказал он. — Всё равно детей у вас нет, так что и делать ей тут нечего.
Опять кольнул. Он так ждал внуков, этот нежный и любящий отец!
Константин надеялся, что поедет в армию вместе с главнокомандующим, но Суворов, едва приехав в Петербург, уже ускакал в своей старенькой, продуваемой кибитке. И опять изумился Константин: будто десяток лет сбросил Александр Васильевич, будто и не было опалы, будто и не сидел он много лет взаперти в своём Кончанском.
Помолодел, чисто выбрит, задорно торчит хохолок над высоким чистым лбом, только глубокие складки бороздят лицо, да крепко сжаты узкие тонкие губы. Но никаких странностей не позволил себе в этот раз Суворов — он ехал к армии, к своим чудо-богатырям, и это распрямило его старческие плечи, подтянуло все мышцы. Он словно ловил каждое слово императора: к чему было ныне растравлять старые раны. Правда, теперь у него был залог милостивого отношения Павла — дружеское письмо государя:
«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Моё дело на сие согласиться, а Ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы Вашей времени, а у меня удовольствия видеть Вас...»
Однако в разговоре с Павлом Суворов твёрдо держался своей точки зрения. Он предложил ещё год назад план кампании в войне с Францией: осадить двумя обсервационными корпусами Страсбург и Люксембург, идти, наступая на французов, прямо к Парижу, не теряя времени и не разбрасываясь на длительные осады. Тогда Павел просто не понял суворовской тактики, посчитал такой план авантюрой и никакого значения не придал чётким и кратким суворовским принципам. А они и были сущностью всей суворовской тактики и стратегии:
1. Ничего, кроме наступления.
2. Быстрота в походах.
3. Не нужно методизма — хороший глазомер.
4. Полная власть командующему.
5. Неприятеля атаковать и бить в поле.
6. Не терять времени в осадах.
7. Никогда не терять времени и не разделять сил для охранения разных пунктов.
Константин читал тогда эти листки с набросанным планом кампании и тоже лишь качал головой: мнение всех окружающих его генералов было единодушным — старик выжил из ума. А вот теперь все его принципы пришлось принять и отцу — он долго обсуждал с Суворовым план кампании и в конце концов уступил несговорчивому старику:
— Веди войну по-своему, как умеешь...
Только это и нужно было полководцу.
От таких слов он словно ещё помолодел, не забывал низко кланяться императору, благодарный за это отступление, говорить ласковые и льстивые слова, и Павел был доволен, что сумел усмирить старого полководца. А что значили для Суворова эти поклоны и давние обиды, если он получал главное — возможность сразиться с Наполеоном, о чём давно и много мечтал. Но Константин не знал, о чём размышляет Суворов, не видел его невидимую усмешку над придворными ужимками и с горечью думал, что теперь-то этот выживший из ума старик будет лишь кланяться и благодарить императора. И некоторое презрение возникало в его душе. Да, теперь и этот прославленный в восемнадцатом веке полководец ничем не будет отличаться от прославленных шаркунов.
Как же он ошибался, и довольно скоро пришлось ему убедиться в этом.
Павел гордился тем, что сын его ехал в армию. Ещё несколько месяцев назад, отвечая на просьбу Константина отправить его в действующую армию, он писал ему:
«Мне очень приятно иметь сына с такими чувствами, каковы Ваши, мой любезный Константин. При этом скажу Вам, мой дорогой друг, что Голицын ведёт только вспомогательный корпус, состоящий на жаловании у Англии, а корпус Розенберга состоит на жаловании у Австрии. Я вовсе не желал бы, чтобы великий русский князь участвовал в таком походе. Впрочем, быть может, обстоятельства будут таковы, что для нас представится случай отправиться в поход на наш собственный счёт...»
Император провожал сына, на высокое крыльцо дворца вышла и Мария Фёдоровна. Измайловский полк, выстроенный по линейке, взял на караул, взвизгнули колокольца под дугами, и шестёрка чалых лошадей тронулась с места. Заскрипел гравий дворцовой аллеи, мелькнули лица солдат, чётко державших линию флангов, сверкнула голубая гладь Невы, и Константин задвинулся в самый угол кареты, закрыв даже крохотное оконце кружевной шторкой.
Начиналась новая пора его жизни, боевая, горячая, и он смиренно успокаивал своё сердце, грезя о пулях, снарядах, штыках...
Через ночь уехала из Петербурга и его жена, Анна Фёдоровна. Её сопровождала блестящая свита, и свёкор, и свекровь проводили невестку.
Впрочем, очень скоро путешествие великого князя, ехавшего инкогнито, под именем графа Романова, превратилось почти в увеселительную поездку. Новые впечатления, непривычные места, ухоженные курляндские деревеньки занимали Константина, и он больше не думал о войне, о том, что ждёт его в армии. Обоз двигался медленно, и удалые кучера едва сдерживали шестёрку коней.
Самой длительной и приятной стала для Константина остановка в Митаве. Здесь на иждивении русского царя жил брат Людовика Шестнадцатого, казнённого Конвентом. Все европейские государи признавали его за преемника короля, прочили престол, но денежное вспомоществование оказывал один лишь Павел. Может быть, поэтому король-кандидат так ласково встретил Константина.
Выстроенные вдоль дворцовых дорожек солдаты, громко приветствующие графа Романова, разряженный и добродушный брат казнённого короля, вся его свита ухаживали за Константином так, как ещё никогда и никто не привечал его. И от этого Константин высоко вздымал голову, ему было лестно это внимание и почёт, хотя он и понимал, что эти знаки принадлежат России и её императору.
Король — кандидат на французский престол — запросто взял Константина за руку, ввёл в мрачную, громадную, едва освещённую факелами залу и сразу же подвёл к портрету, висящему на стене в золотой раме и в полный рост изображавшему императора Павла Первого.
— Ваш батюшка — мой спаситель, — негромко сказал будущий Людовик Восемнадцатый сыну императора.
А уж в Вене Константина ждали настоящие торжества — как раз в это время Павел подписал брачный контракт великой княжны Александры с эрцгерцогом Иосифом, и император Австрии только что утвердил этот договор.
Весенняя распутица не позволяла Константину двигаться быстрее, а торжественные встречи на границе, где его приветствовал от имени императора молодой князь Эстергази, воинские почести, бесконечные ряды бравых вояк, провозглашавших славу молодому русскому великому князю, — всё это кружило ему голову. Инкогнито было забыто, он сам называл себя сыном русского императора, а дядя его, Фердинанд Вюртембургский, ласково встретивший племянника на последней станции перед Веной, и вовсе не желал звать его иначе, как дорогим сыном сестры — Марии Фёдоровны.
Фердинанд состоял на службе у австрийского императора и был в это время губернатором Вены.
Где бы ни появлялся великий князь, всюду ему устраивались шумные и пышные приёмы, в императорском дворце было приготовлено для него роскошное помещение, каждый день он обедал с императором Францем, а вся его свита постоянно обреталась за гофмаршальским столом.
Война, баталии, пули, штыки — всё было забыто. Увеселения и празднества, торжественные встречи, бурные и продолжительные овации, которыми его окружали везде, совсем вскружили голову молодому великому князю. Он бывал на спектаклях в императорской ложе, и весь зал вставал и шумно приветствовал сына русского императора; русский посланник в Вене Андрей Кириллович Разумовский устраивал в его честь роскошные обеды и завтраки, а балы давал с таким количеством прекрасных женщин, что у великого князя разбегались глаза.
Какая война, когда здесь так весело, какие бои, когда здесь столько красивых женщин, какие пули, когда организуются блестящие фейерверки, какие штыки, когда так сверкают эполеты и ордена!
А смотры войск, а парады, которыми угощал своего гостя император, по случаю войны не дававший балов и не устраивавший празднеств!
Император Франц наградил Константина орденом, дал ему чин австрийского генерал-фельдцейхмейстера и даже назначил его шефом гусарского полка.
Но самое главное предложение сделал император Константину под самый конец его пребывания в Вене. Что, если великий князь отменит свою поездку в армию Суворова, а вместо этого поедет на Рейн, куда назначен его теперешний родственник, эрцгерцог Иосиф?
Предложение было заманчивым, но голова у Константина уже устала от всяческих забав и блеска венского двора, и потому он сказал твёрдо, что только испросив позволения императора, своего отца, может ответить на это лестное для себя предложение, а без позволения родителя он не должен его принять...
Вечером у Константина состоялся разговор с генералом Дерфельденом:
— Можем и не застать кампанию. Суворов так бьёт французов, что каждый день промедления приводит нас к концу этой войны...
— Завтра же едем, — решил Константин.
И вновь вернулись к нему его мысли об атаках, пулях, сражениях. Что по сравнению с этими мужественными забавами стоят все фейерверки, смотры, балы, женщины!..
ГЛАВА ВТОРАЯ
С грустным недоумением смотрела Варвара Алексеевна на свою вернувшуюся под отеческий кров старшую дочь. Казалось, впереди у неё всё покрыто мраком неизвестности, ненадёжный статус разведённой жены закрывал ей двери во все знатные дома Москвы, любой её шаг мог быть истолкован как непростительное легкомыслие, а уж кумушек, охочих до досужих разговоров и сплетен, в Москве всегда было пруд пруди. Одно её слово могло быть истолковано в худую сторону, одно движение, один взгляд, пойманный случайным свидетелем, злорадно раздувался и вызывал безоговорочное осуждение здешних ханжей и привередниц.
Да, она красива, её глубокие сверкающие изумрудные глаза могли приковать к себе многие сердца, её высокая стройная фигура неизменно привлекала к себе мужские жадные взгляды. Но одна лишь мысль о том, что теперь она бедна, почти бесприданница, отвращала от неё многочисленных обожателей, как всегда, ищущих случая поправить свои дела за счёт женитьбы на богатой невесте.
Всё это должно было наложить отпечаток на Маргариту, пригнуть её к земле, оставить ей только возможность молить Бога о другом муже и защитнике. И где найдёшь теперь хорошего жениха, да ещё знатного и богатого, как пристроить женщину, уже однажды испытавшую тяготы супружеской неудачной жизни...
А Маргарите всё было нипочём. Взгляд у неё был прямой и лучился радостью, снова она была огоньком для своих многочисленных братьев и сестёр, снова бегала с ними, играла в горелки и жмурки, каждое дерево в саду и парке обнимала за ствол, а к реке спускалась так, что камни сыпались вслед за ней.
Варвара Алексеевна извелась, похудела, страдая за дочь. А той как будто и не было дела до всей этой суеты.
Ненароком, издалека заводила Варвара Алексеевна разговоры с наиболее преданными товарками, чтобы узнать, где есть свободные мужчины лет под сорок, пусть и под пятьдесят, знатные и богатые, чтобы как можно скорее сбыть с рук Маргариту. Хоть и прикипела душой Варвара Алексеевна к своей старшей дочери, хоть и жалела её, а все осуждающе поднимала губы, глядя, как ярко и цветисто одевается Маргарита, даже идучи в церковь или просто на прогулку по саду.
Не раз и не два заводила она разговоры с самой Маргаритой.
— Носила бы ты тёмные платья, — сказала ей однажды.
— Не к лиду они мне, — ответила Маргарита и оборвала разговор, вскочив с места и убежав в детскую.
Неужели не понимает она, кипела Варвара Алексеевна, что выдать её замуж теперь много труднее, даже несмотря на многочисленные связи и родственные привязанности, близость к царской семье? Никто, конечно, из царствующих особ не станет заниматься разведённой женой, устраивая её новый брак, а сама Варвара Алексеевна уже не чувствовала в себе прежних сил.
Вечерами, укладывая свои всё ещё роскошные волосы под плотный чепчик, она пыталась привлечь и Михаила Петровича к обсуждению положения, но благодушный супруг лишь коротко отрезал:
— Сама развелась, сама и найдёт нового мужа.
И Варвара Алексеевна заливалась слезами. Даже муж не понимал её страхов и страданий, даже он, которому поверяла она свои заветные мысли, не мог ей помочь.
Выезжая в свет, на балы и рауты со своими младшими дочерьми, Варвара Алексеевна каждый раз придумывала любые предлоги, чтобы не брать с собой Маргариту. Скоро и сама старшенькая поняла это и уже никогда не просилась с матерью.
Но Варвара Алексеевна ещё больше изумилась бы, если бы заглянула в мысли Маргариты. Не было у неё страха перед будущим, не было печали и грусти. Один человек занимало её теперь, и все свои мечты устремила она к нему.
Александр Тучков... Она могла по целым часам произносить это имя, пробуя его на язык, перекатывая во рту, примеряясь к каждой букве этого имени. Даст же Бог такое красивое имя такому красивому существу, словно бы не от мира сего...
Она смотрела на себя в зеркало и приходила в отчаяние. Нет, не сможет она понравиться ему, такая невзрачная, с такими странными зелёными глазами, с ресницами неопределённого цвета, с русыми, на свету золотыми, а в тени рыжеватыми волосами, с бледной кожей, на которой никогда не было румянца, даже от жгучего летнего солнца. Разве может он полюбить такую дурнушку, да ещё к тому же разведённую, оставленную мужем, брезгливо отстранившим её? Она возвращалась мыслями к Полю, безотчётно чувствовала лёгкость сброшенной ноши и снова вскипала отчаянием: зачем не встретила она Александра в пору своей ранней юности, зачем не увидела его лица, его голубых глаз раньше, чем выдали её за Поля?
Тогда бы она уж постояла за себя — никому не отдала бы своего сердца и своей судьбы, только ему бросила бы под ноги всё, что имела, только ему глядела бы в глаза и любовалась его светлыми завитками на затылке и темнеющими усиками на верхней губе. Ах, как же она любила бы его, как старалась бы украсить его жизнь, какой разной могла бы быть во всех семейных ситуациях, как любила бы целовать его розовые щёки...
Она одёргивала себя: да что это с ней такое, да как может она даже думать так! Поспешно бросалась на колени перед образом Спасителя и молилась без слов, умоляя простить ей её грешные мысли.
И в церковь ходила она для того лишь, чтобы умолять Господа простить ей её греховность. А сама в тайной надежде оглядывалась кругом: вдруг придёт в голову Александру появиться здесь, увидеть её, бросить ей несколько мимолётных слов. Но ожиданиям её не суждено было сбыться, и все её взгляды были напрасны.
По скупым отрывочным словам, по слогам собирала Маргарита всю жизнь Александра. Ловила каждое слово, ненароком произнесённое, вовсе не рассчитанное на такое пристальное внимание. Никому не показывала, что знает, хочет знать о нём всё, что только можно. Знала, что старше её на четыре года, не женат, происходит из обедневшей, но достойной семьи и уже в десять лет записан штык-юнкером в бомбардирский полк. Через пять лет, ровно в пятнадцать, уже отправился служить государыне и Отечеству во второй артиллерийский батальон и тогда же по радению к службе произведён в капитаны. Теперь он был майор, она отличала его эполеты.
Почти четыре долгих года провела Маргарита в уединении, где под запретом матери были все утехи и невинные развлечения. Но когда пришла заветная царская грамота о разводе, Маргарита и вовсе обрадовалась, хоть и таила свою радость от матери. Поняла, что ещё может быть счастлива, и мечтала лишь об одном — увидеться с Александром, сказать ему одно-единственное слово и заметить в глазах его ответное чувство.
Легко вздохнула и Варвара Алексеевна: теперь она могла вплотную заняться судьбой старшей дочери, хоть и подрастали младшие, а Варваре скоро исполнялось пятнадцать.
На её день рождения, на совершеннолетие, как тогда считалось, решила Варвара Алексеевна устроить большой праздник, показать во всём блеске молодости и красоты свою вторую дочку, позвать к себе всю Москву, чтобы вывести на паркет Варвару, а заодно присмотреть и для старшей, Маргариты, заветную партию.
Ну не вся Москва, а половина знатных родов старой столицы удостоила бал у Нарышкиных своим посещением.
Маргарита особенно не готовилась к этому балу. Она вытащила своё старое бархатное тёмно-зелёное платье, приспособила к нему тонкие нежные белые кружева, пустив их по подолу и вдоль всей линии от лифа до самого низа, да перебрала старинные, завещанные ещё бабушкой, драгоценности с большими прозрачными изумрудами. «Почти вдовий наряд», — грустно усмехалась она. В сущности, она и была соломенной вдовой, и не полагалось ей на этом большом празднике выделяться среди свежих девичьих лиц.
Варвара Алексеевна и Михаил Петрович встречали гостей, стоя на самом верху широкой длинной лестницы, ведущей на второй ярус большого отеческого дворца. Варвара Алексеевна, ещё не старая, но уже порядком располневшая от многочисленных родов, блистала открытыми плечами и белой шеей, увешанной многими низками жемчуга. Михаил Петрович сверкал в бликах свечей орденами и эполетами, а стоявшая рядом виновница праздника Варенька смущённо закрывалась большим страусовым веером, рдела от волнения и поджимала полные губы.
Ей в этот раз полагались все подарки и внимание гостей. Каждый из приехавших спешил засвидетельствовать родителям красавицы своё почтение и одарить Вареньку «хлебом-солью», как назывались тогда подарки на день рождения.
Среди первых гостей поднялся по лестнице ещё не очень старый, высокий, статный князь Хованский под руку с молодым красавцем в майорском мундире. Он церемонно раскланялся с родителями Вареньки, вручил ей коробочку с бриллиантовым кольцом и галантно представил Варваре Алексеевне и Михаилу Петровичу своего спутника.
— Надеюсь, не выгоните, — скрипуче проговорил он, — взял на себя смелость привезти к вам свойственника своего, Александра Тучкова-младшего.
Михаил Петрович поспешил заверить старого князя, что очень рад ему и его молодому спутнику.
Александр взволнованно благодарил за честь быть допущенным на такой блестящий праздник, наговорил много комплиментов ещё более зардевшейся Вареньке и поспешил в бальную залу. Он искал глазами Маргариту среди белопенного общества светских красавиц, но её нигде не было, и взгляд его помрачнел. Могло и так случиться, что она больна, что её не будет здесь, что он не сможет увидеть её...
Маргарита давно привыкла к этой самой большой в доме зале, но теперь не узнала её. Гирлянды свежих веток обвивали все стены, огромное паникадило в тысячу свечей сверкало хрустальными подвесками, а канделябры бросали лучи, которые дробились в бесчисленных драгоценных камнях, увешивающих светских модниц.
Ослеплённая, изумлённая Маргарита остановилась на самом пороге, не решаясь переступить его и влиться в эту нарядную, сверкающую толпу.
Александр тотчас заметил её. Она была словно стройная ёлочка среди разноцветья гостиной, одна в тёмно-зелёном платье, украшенном белыми тонкими кружевами. Как отделялась она от всей толпы! Изумруды на шее, оплетённые тонкой серебряной сеткой, подчёркивали её стройность, браслеты на руках отблёскивали зелёными лучами, и вся она, изящная, с волосами, заколотыми изумрудными же гребнями, притягивала к себе все взгляды. Рядом с ней померкли белопенные наряды молоденьких девушек, сверкание бриллиантов затмилось зелёным светом её камней. Сердце Александра будто провалилось куда-то, застучало снова гулко и часто, и он даже придержал его рукой, словно боялся, что не совладает с собой и волнение его станет видно всем.
Первые же звуки танца будто окатили его холодной волной. Он уже собрался было подлететь к Маргарите через всю залу, но князь Хованский уже повёл её на танец, и эта высокая, выделяющаяся среди голубых, жёлтых, белых, розовых нарядов пара приковала к себе общее внимание.
Маргарита словно бы не видела, что взгляды всех обратились к ней одной — она не придавала значения этому балу, не стремилась выделиться из толпы и всё-таки настолько отличалась от всех, что не заметить её в этой разноцветной толпе было невозможно. Она кружилась в танце с князем Хованским, всё плыло перед её глазами, и вдруг она словно бы споткнулась: изумлённые светлые глаза Тучкова мелькнули перед ней. Князь Хованский вдруг сказал извиняющимся тоном:
— Я хорош, старик, а всё бегу на круг, ровно мне шестнадцать...
Он подчёркнуто приостановился среди кружащихся пар, взял за руку Маргариту и повёл её через весь круг танцующих прямо к Александру Тучкову.
— Замени меня, друг мой, — сказал он ему. — Мне уже не восемнадцать, а красавица Маргарита — танцорка ловкая, мне за ней не угнаться.
Александр вспыхнул от неожиданного предложения, а Маргарита нарочно придала лицу холодное выражение — слишком много людей видели, как вроде бы случайно споткнулся князь Хованский.
— С удовольствием, князь, — опомнился первым Александр, — я почту за большую честь.
Он слегка поклонился Маргарите, и князь переложил руку Маргариты на его ладонь.
Варвара Алексеевна сердито наблюдала за этим происшествием, и князь Хованский через залу направился к строгой матушке.
— Не обессудьте, — сказал он ей на ухо, — стар я стал, споткнулся старый конь.
Варвара Алексеевна ласково улыбнулась ему.
— А хороша дочка ваша, — неопределённо произнёс князь, следя глазами за Маргаритой и Александром.
— Что ж, пятнадцать только, все мы в пятнадцать хороши, — отозвалась Варвара Алексеевна. Она думала лишь о Вареньке, чей день сегодня был первым днём побед и желанных взглядов.
— Да, да, — рассеянно сказал князь и отправился в буфетную подкрепиться перед ужином.
Варвара Алексеевна уже успокоилась, среди вихря кружев, пышных султанов на причёсках, разгоревшихся в танце лиц она потеряла из виду Маргариту и искала теперь вторую свою дочку, которая уже кружилась с намеченным самой Варварой Алексеевной кавалером...
Они молчали от полноты чувств. Маргарита, изумлённая, испуганная своей неожиданно сбывшейся мечтой, не смела поднять глаз на своего кавалера, а он, взволнованный, потрясённый, не мог раскрыть рта. Искрящееся море музыки и света словно качало их на своих волнах, и оба грезили только об одном — чтобы никогда не кончалось это блаженное состояние невесомости, предельной лёгкости, удивительной обострённости чувств.
— Я так много думал о вас, — наконец тихо сказал он, — я так мечтал об этом мгновении...
Она подняла на него глаза, их свет затмил блеск изумрудных подвесок в её ушах, и он погрузился взглядом в эту сияющую высоту.
Они не заметили, как кончился тур, и всё ещё стояли, когда Маргарита оглянулась кругом и поспешно произнесла:
— Проводите меня к матушке...
Её ладонь лежала на его руке, он бережно провёл её между расступившимися парами. В самое последнее мгновение, когда он осознал, что она опять станет недосягаемой для него, он шепнул:
— Смею ли я надеяться...
Он не договорил, но она поняла его, и, взглянув на него сверкавшими глазами, твёрдо и спокойно ответила:
— Да...
Он поклонился Варваре Алексеевне, поблагодарил Маргариту за честь, доставленную при танце, и отправился искать князя Хованского, чтобы поручить ему откланяться хозяевам за него. Он не мог больше оставаться в этой зале, он хотел донести это прекрасное «да» до своего одиночества и уединения, чтобы опять и опять наслаждаться этим словом, снова и снова представлять себе лицо Маргариты, её сияющие глаза, всю её стройную фигуру в тёмно-зелёном бархатном платье. Он хотел один думать о своём будущем счастье...
Варвара Алексеевна недовольно взглянула на дочь.
— У здешних кумушек будет пища для размышлений, — сердито проговорила она, — какой-то молоденький майор...
Она так явно показала своё недовольство старшей дочерью, что Маргарите не оставалось ничего другого, как пожаловаться на головную боль и поспешить в свою комнату. Мать удовлетворённо отпустила её.
С этого дня Маргарита жила ожиданием. Стучала ли коляска на подъездной аллее, она выбегала на террасу и смотрела сквозь сизый туман или мелкий дождь, кто приехал. Звенели ли о камушки копыта лошади, она украдкой выглядывала в окно. Александр не ехал, не подавал о себе никаких вестей. Она измучилась этим ожиданием, и сердце её уже начало сомневаться, уже спрашивала она себя, да полно, было ли всё это, не приснилось ли ей...
Её дворовая девушка Агаша жалостливо смотрела на свою молодую госпожу и отчаянно вздыхала, желая ей добра и любви. Она знала всё о жизни Маргариты, вместе с ней жила в доме у Ласунского, жалела и понимала. Но что могла сделать она, если и ей не удавалось угадать предмет тайных мыслей Маргариты, если видела, как с каждым днём всё более и более мрачным и вытянутым становилось лицо хозяйки, тускнели и западали зелёные глаза, а в уголках их копилась непрошеная влага...
Как уж узнала она, каким образом встретилась с молодым Тучковым, только однажды вечером ворвалась в опочивальню к Маргарите и, лукаво глядя на потухшее личико, ласково спросила:
— Уж не ждёте ли вы, барышня, вестей?
Маргарита вскочила, кинулась к Агаше. Стояла молча перед ней, бледная, дрожащая, не имеющая сил на вопрос.
— Молодой барин приказал отдать вам прямо в руки, — серьёзно заговорила Агаша. — Долго бродил вокруг да около, а потом прознал, что ваша девушка...
Маргарита схватила конверт — толстый пакет, запечатанный сургучной печатью. Вот оно, долгожданное известие, и пришло почему-то не через отца, не через мать — через Агашу, значит, тайно. Впрочем, ей теперь всё равно, пусть хоть как, лишь бы увидеть, узнать, что с ним, — долгое ожидание истомило ей душу.
Первые же буквы заставили её схватиться за сердце — так колотилось оно.
«Прекрасная Маргарита! Увы, счастью моему не суждено сбыться. Ваши матушка и батюшка, я не виню их, не позволили мне даже увидеть Вас, на мою просьбу Вашей руки ответили насмешками...»
Что такое, почему она ничего не знает об этом, как посмели её родители даже не сообщить ей о том, что самый её любимый человек хотел жениться? Они отказали...
Она села на коротенький диван, ухватилась за его спинку, слёзы сами часто-часто покатились из глаз.
«Я пишу Вам это прощальное письмо, не зная даже, смогу ли когда-нибудь передать его Вам, не вижу для этого путей. Я уезжаю за границу, просил отставки для поправления моего образования. Но я уезжаю от разбитой судьбы, от разбитого сердца. Знайте же, что я люблю Вас больше моей жизни, никогда Вы не покинете моего сердца. Я уезжаю, чтобы больше не томиться поблизости, не видеть Ваш дом, Вашего крыльца. Прощайте, прекрасная Маргарита! Дай Бог Вам счастья, но знайте всегда, что без Вас у меня не будет счастья...»
Многое ещё было в этом письме, и Маргарита читала его заплывшими от слёз глазами. Почему не постарался он увидеть её, она была бы на всё готова, чтобы только видеть его, знать, что сердце его откликается на зов её любви. Она добилась бы согласия родителей, она пошла бы на всё, даже на то, чтобы бежать с ним из родного дома. Но они не уведомили её о его раннем визите на другой же день после того известного бала.
Он приехал с огромным букетом белых, как снег, роз, а они даже не сказали ей, что это от него. Розы долго стояли в гостиной, они давно увяли, и та же Агаша выкинула их. Почему она не знала, что эти цветы были от него, почему никто не разбудил её, когда тем утром она долго оставалась в постели, потому что не могла заснуть всю ночь?
Они отказали ему не только в её руке — отказали от дома, запретили видеться с Маргаритой, запретили всякие сношения. Она так и не узнала, в каких словах и выражениях объясняли они свой отказ, но много позже дозналась, как дотошно выспрашивала Варвара Алексеевна князя Хованского о его молодом свойственнике.
— Незначащая личность, — отозвался князь, — молод, ревнив к службе, да не ищет чинов, из рода Тучковых, весьма бедного, хоть и славного царской службой. Полно сестёр и братьев, все ищут выгодной женитьбы. Таков мой свойственник, а привёз я его по его сильной просьбе...
Варвара Алексеевна вспыхнула и промолчала. Значит, ищет богатую невесту, а значит, вход ему в дом будет закрыт. Правда, она думала, что взгляд его остановится на Вареньке, и тем более изумилась, когда услышала от него, что сердце его томится по Маргарите. Да на что же они будут жить — на его несчастное офицерское жалованье? Ведь и Маргарита почти бесприданница, всё её приданое осталось в руках Ласунского, хоть и хлопотал Михаил Петрович, чтобы вернуть хоть заложенное-перезаложенное имение или господский дом в Москве. Не удалось: закона не было отдавать приданое разведённой жене.
И отказали ему, этому славному молодому красавцу. Очень уж хотелось родителям устроить Жизнь Маргариты, любимицы, богато да счастливо. У них были свои понятия о браке, любви и супружеской жизни.
Гневалась на родителей Маргарита не столько за то, что отказали от дома Тучкову, сколько сердилась за то, что ни полсловечком ей не обмолвились. И выходило, что её многонедельное ожидание не было следствием холодности Тучкова, что было для неё самым страшным, причина всего лишь хитрость Варвары Алексеевны.
Маргарита вытерла слёзы, готовая на серьёзный разговор с матерью и отцом.
В её комнату вошла сама Варвара Алексеевна.
— Возвеселись, душа моя, — бросилась она к дочери, — жених выдался славный, сделал предложение по всей форме и ждёт ответа. Мы с отцом решили, что тебе надо принять его предложение, теперь от тебя зависит сказать «да» или «нет»...
— И кто же это, матушка? — сурово спросила Маргарита.
— Князь Хованский, — радостно сообщила Варвара Алексеевна. — Жених хоть куда, знатный, родовитый, богат, самый большой богач на Москве. Немножко староват, ну да ведь и ты уже в годах...
Маргарите шёл двадцать первый год.
— Никогда, — выпрямилась Маргарита, — никогда не выйду я замуж ни за кого, кроме Александра Тучкова...
Она смотрела на изумлённую мать, гневная, готовая высказать много упрёков. Но Варвара Алексеевна уже всё поняла и мягко ответила:
— Что ж, не люб, мы не неволим... А зря...
И суровые слова замерли в горле у Маргариты. Она обхватила руками полные плечи матери, прижалась к ней лицом и сквозь слёзы и накипевшую горечь прошептала:
— Зачем вы ему отказали, когда мне никто больше не нужен?
— Когда и успела полюбить, — ворчливо, но и нежно ответила Варвара Алексеевна, — вроде и виделись единственный раз...
— Да разве нужны годы, чтобы узнать любимого? — разрыдалась Маргарита. — Разве не видно в глазах, любит ли, жалеет ли, желает ли видеть рядом с собой всю жизнь?
Она долго плакала на плече у матери, и Варвара Алексеевна, растерянная и взволнованная, тоже плакала вместе с ней, утешала, говорила какие-то жалкие слова. Но горе Маргариты было так неистово, что она вскоре прикрикнула на дочь. И не хотела, чтобы вышло, что попрекает куском хлеба, да так получилось.
Маргарита успокоилась только тогда, когда мать сказала, что если ещё раз посватается Тучков, они с отцом возражать не станут, даже если умрёт дочь вместе с ним голодной смертью где-нибудь под забором.
И снова Маргарита стала ждать. Обещание матери застряло в её голове, и она ждала вестей и писем от Тучкова, чтобы выразить ему свою любовь и согласие.
Но писем не было три года...
Маргарита слегла. Белоснежное лицо её поблекло, глаза потускнели и запали, и сама она, слабая и худая, едва вставала с постели, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом да ещё раз перечитать строки такого дорогого для неё письма.
«Прекрасная Маргарита!»
Она смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Какая же она прекрасная, если уже появились первые морщинки возле губ, руки, нежные и тонкие, стали почти прозрачными? Если Александр когда-нибудь приедет и увидит её, разве способен он будет полюбить её, постаревшую и некрасивую?
Если б могла она тогда заглянуть в дневники Александра, прочесть то, что записывал он в больших коленкоровых тетрадях!
«Прусский консерватизм, — писал он на одной стороне листа, — железные обручи на обществе, принудительное обязательство рождающихся жить в мире с существующим порядком», а на другой стороне рисовал пером профиль Маргариты.
Он слушал лекции по философии в Гейдельбергском университете, но посреди лекции возникало перед ним лицо Маргариты, и он вдохновенно писал стихи по-французски, забыв о немецком языке, на котором читались лекции.
Все долгие три года, пока он переезжал из одной страны в другую, гонимый тоской и любовью, пока учил азы философии и экономики, пока рассматривал картины старых мастеров в бесчисленных музеях, все его думы были рядом с Маргаритой.
Теперь весна, и она в подмосковном имении — вспоминалось ему. Она бежит по тропке среди зелёных густых кустарников, слушает первые песни соловья, бродит но заросшему цветами лугу в лёгком белом платье, сама как цветок среди русского приволья.
В Париже Александр записывал в дневнике:
«Бонапарт — страшилище. Справедливость для него — потребная девка. Убийца! — в одной руке ружьё, в другой — верёвка, и пушки на случай уже заряжены, и свора угодливых исполнителей с цепи рвётся. Всевластен, да только сам всё больше и больше боится растущих обстоятельств. Самообожание его беспредельно и толкает на преступление за преступлением. Соседям Франции диктуется быть на страже...»
И рядом с набросками Елисейских Полей снова появляется на страницах дневника Маргарита, её распахнутые зелёные глаза.
Он видел возвышение Наполеона, его стремление к власти и постепенный её захват. Он понимал природу этого шествия к власти, и в дневнике его очередная запись:
«Чума лести захватила Париж. Всё человечески хорошее приписывают Наполеону, а эта личность буквально поглощена постоянным обращением на самого себя. Политические, административные, военные, судебные установления — все под него, всё ради его величия. При этаких порядках народ Франции освобождения не получит. С поклонений начинается рабство. Новые экономические построения Бонапарт производит на старом, уже известном миру — войне, широкой войне. Держись, Европа! Потрясения грядут. Прав ли я, покажет неотдалённая будущность...»
И опять рядом с вещими словами рисунок пером — она, бесконечно далёкая любимая Маргарита.
Этот русский доставил много неприятных минут сыскной полиции Парижа. Его арестовали, перерыли все вещи, принимая за шпиона, забрали дневники и выслали из Франции. Наполеон видел его дневники, но лишь посмеялся над их содержанием.
Тучкова препроводили до границы. Теперь он ехал к ней. Московский дом Нарышкиных был закрыт, и слуги объяснили ему, что господа уехали на лето в имение. Он не решился спросить, свободна ли Маргарита, не вышла ли она замуж, пока он блуждал по Европе в своих духовных исканиях. Что ж, если она вышла замуж, он только пожелает ей счастливой судьбы, но сердце его навсегда останется прикованным к ней.
В этот день Маргарита впервые после долгой и изнурительной болезни велела оседлать белоснежного жеребца и поскакала по полям, чтобы ощутить ветер и солнце, набраться ароматов трав и луговых цветов.
Сопровождающие остались далеко позади, когда она вылетела на пригорок и остановилась, присматриваясь к клубам пыли на дороге. «Кто-то едет, — подумала она, но сердце вдруг вздрогнуло, глаза распахнулись. — Это он». Сердитый голос внутри запретил ей надеяться. Сколько раз вот так выбегала она на пригорок, и сердце её трепетало от мысли, что там, за клубами пыли, мчит к ней её любимый. Но клубы пыли приближались, открывались новые, незнакомые лица, и сердце замирало. Нет, это не он...
И теперь она опять воспротивилась сердцу: это не может быть он, он приехал бы в Москву, в их дом, ждал бы её до осени в городе. И почему он не писал, почему она должна была терзать его единственное письмо, перечитывать дорогие строчки и не получать больше никаких вестей?
Она стояла на пригорке, в тёмно-зелёной амазонке, в крошечной шапочке с фазаньим пером, держала в руках поводья и издали, с нижнего обреза дороги, казалась фантастическим видением. Белая лошадь, тёмно-зелёный бархат амазонки, золотые волосы под крошечной шапочкой...
Бричка остановилась. Александр спрыгнул с подножки и взбежал на взгорок. Он летел и видел красавицу на белой лошади, и ничего больше не могло войти в поле его зрения.
Она смотрела и не верила своим глазам. Высокий рослый иностранец, одетый по последней парижской моде, бежал через луг навстречу ей.
«Это он, — сказало ей сердце, — он вернулся, и мы больше не расстанемся ни на одну минуту...»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Шестёрка сытых вороных коней с белыми султанами над головами и звонкими колокольцами под дугой резво мчала тяжёлую золочёную карету, плавно колыхавшуюся на упругих рессорах. Эскадрон австрийских кирасир поднимал над дорогой густые клубы пыли, а за ними, поотстав, чтобы не глотать эту уже по-летнему густую и смрадную мглу, ехал отряд русских конных всадников.
По сторонам дороги гарцевали на свежих гнедых конях русские охранители великого князя. Даже адъютант его, Комаровский, не выдержал сидения в унылой полутьме коляски и тоже выбрался на свежий воздух, горяча норовистого, серого в яблоках коня.
Константину и самому хотелось на воздух; он распахнул дверцу кареты и любовался пробегающими мимо аллеями тяжёлых платанов и зарослями оливок, разноцветными полосками полей и взгорками, улавливал тихое течение воздуха вдоль кареты и вглядывался в незнакомые, такие непохожие на русские, деревеньки, мелькавшие по сторонам дороги. Ему так хотелось сесть на коня, скакать и дышать полной грудью, но в карете сидел старый, измождённый князь Эстергази, которому император Франц приказал сопровождать великого князя до главной квартиры русских войск, и Константин был вынужден поддерживать вялотекущий разговор о кампании, о победах Суворова, едва прибывшего к армии, внимательно слушать важного австрийского вельможу, который ещё в бытность Екатерины был австрийским посланником при русском дворе, знал такое множество новостей, сплетен и разной молвы обо всех европейских дворах, что Дерфельден ещё накануне вечером, перед отъездом, предупредил Константина:
— Прислушайтесь к Эстергази, он знаток и величайший лукавей, интригует и торгует секретами, так что придержите язык.
Константин едва не оскорбился, но Дерфельден говорил с таким серьёзным и доброжелательным видом, что великому князю ничего не оставалось, как поблагодарить за предупреждение.
Однако старый князь ничего такого не высказывал, вяло сыпал словами, в которых Константин не находил ничего интересного или сколько-нибудь скандального, и скоро ему наскучила эта полутёмная внутренность кареты, его трое спутников, один лишь Дерфельден поддерживал теперь разговор со старым князем. А глаза Константина всё время перебегали с ближних закраек хорошо укатанной дороги на дальние синие вершины гор, казавшиеся отсюда, из долины, просто синеющими на горизонте облаками, на тёмные кроны лесов, взбирающихся под самые эти облака, и всё сравнивал эти места с теми, которые хорошо знал, — с болотистыми низинами Петербурга и Петергофа, с разбитыми по ним огородами и ухабистыми тропами, с серой водой Невы да ещё, может быть, с просторными полями Твери, где был он после коронации с отцом.
Незаметно мысли его унеслись туда, в Петербург, где отец давал ему последние наставления перед отбытием в армию. Он тогда вдруг почувствовал, что отец доверяет ему больше, чем Александру, что знает его суматошный характер лучше, чем кто-то другой, понимает его, потому что сын пошёл в него, Павла, не только внешностью, но и взрывным своим характером. И потому глаза Константина бездумно скользили по роскошной южной местности, не останавливаясь ни на чём, а мысли плотно бежали по одному руслу — надо, чтобы отец понял, как он дорожит его благоволением, что он тоже солдат, воин по призванию, как и сам император, хоть и не нюхал ещё пороха в бою.
Как-то мимо его сознания промелькнула и остановка в Вероне, где встретили его сугубым почётом, а генерал Край, командовавший австрийскими войсками, пригласил его полюбоваться на другой день отрытыми траншеями вокруг крепости Пескиеры, осаждённой несколько дней назад. Константин и хотел было проехаться по всему фронту этих траншей, но уже с утра Край сказал ему, что прибыли парламентёры от жителей и гарнизона Пескиеры и траншеи скорее всего не понадобятся. Пескиера сдавалась на милость победителя, потому что одно лишь имя Суворова производило страх и трепет.
Константин верхом и при полном параде въехал в крепость вслед за австрийцами, но не стал тут долго задерживаться. Всего только и увидел, что улицы полны людей, махавших шляпами и бантами, запружены женщинами, кидавшими под ноги лошадям цветы, а балконы и открытые веранды застелены коврами и разноцветными материями. Разнообразие цветовых оттенков утомило его глаза, и он был рад, что наконец карета его, куда он пересел с лошади, помчалась по пустынным переулкам и к самой заре выбралась из города.
Бресшия, Кремона, Лоди мелькнули перед его глазами так же, как и Пескиера, заполненные людьми, кричавшими «Салют!» победителям и бросавшими цветы. Карета промчалась через эти городки, нигде не задерживаясь. Даже обедать остановились они в чистом поле, далеко от окрестных местечек, и Константин вволю наслушался бойких песен птиц, натыкавших свои гнёзда, где только позволяли ветки и сучки.
Наконец карета подкатила к большому дворцу в местечке Вочера, где обосновался главнокомандующий всеми войсками союзников Александр Васильевич Суворов. Константину сообщили, что всего час назад сюда прискакал Суворов.
Эстергази прямо-таки с облегчением сдал великого князя с рук на руки Суворову и укатил обратно в Вену. Суворов по-русски крепко расцеловался со своим высоким волонтёром и указал ему квартиру, которую уже окружила рота солдат в походной форме.
Константин впервые удивился: солдаты были одеты в лёгкую походную форму, а на головах он не увидел знакомых косиц и припудренных буклей — едва Суворов явился в армию, как приказал всем сбросить парики и не вить букли. Остриженные под кружок, а то и вовсе наголо солдаты блаженствовали. По такой нестерпимой жаре — а тут уже в апреле жарило так, как в России в июле, — в косицах и буклях лишь разводились вши, а пот лился ручьями.
Константин заметил это, но никому ничего не сказал: отец далеко, не видит, а видел бы, спуску не дал...
Про себя Константин усмехался. Ещё в Вене наслышался он от австрийцев о странном поведении старого фельдмаршала. Во дворец, где Суворову отвели квартиру, он приказал втащить охапку сена и улёгся спать в углу громадной залы на этой охапке. Покачивали головами старые вельможи, с усмешкой рассказывали об этом Константину, но он понимал, что нельзя ему, великому князю великой страны, распространяться о чудачествах Суворова. Да и то сказать: если свыкся он с бивачной жизнью, привык вставать до света, обливаться ведром холодной воды, значит, не зря, значит, это и здоровье его крепило, и бодрило с самого утречка. И Константин горячо защищал старого вояку.
И теперь, отправляясь после краткого представления главнокомандующему, он положил приобрести те же привычки, что и Суворов. Ну, не сено тащить во дворец, а свой кожаный матрац, тонкий, как блин, свою походную железную койку да такую же, как тюфяк, плоскую кожаную подушку велел приготовить приставленному к нему казаку Пантелееву. И разбудить себя велел до света.
И не зря. Уже в пять утра явился к нему Суворов с докладом. Он ожидал встретить Константина ещё мягкой постели, но был приятно разочарован. Молодой великий князь встретил его у порога чисто выбритый, подтянутый, с бравым видом.
— Молодец, ваше императорское высочество, — низко склонился перед сыном Павла старый, сухонький, просто одетый, без всяких знаков отличия Суворов. — По-нашенски, по-русски, кто рано встаёт, тому Бог даёт...
Едва они сели, как Суворов по своей, привычке чётко и резко заговорил о положении дел:
— Французов тут и в Италии почти девяносто тысяч. Римская и неаполитанская армия дерётся хорошо, командует Макдональд, свирепый вояка. А на севере Шерер, и у него двадцать восемь тысяч. Но генерал дряхлый, неспешный, бить можно с лёту. Лишь бы не отставать. А в армии у нас одни обозы, да жёны, да дети, да мягкие перины. Приказал всё оставить, борзых велел отправить домой — наладились для охоты, а уж дворни — целые возы... Наших едва семнадцать тысяч да австрийцев шестьдесят шесть тысяч. Пехоты едва больше четырнадцати тысяч да казаков две тысячи восемьсот.
Константин уже знал, что едва приехал в армию Суворов, как тут же дал ордер генералу Розенбергу:
«Дошло до меня сведение, что обер-офицеры нуждаются содержать свои повозки, а особливо солдаты, у коих жёны при полках находятся. Рекомендую для уменьшения партикулярных обозов содержать в каждой роте обер-офицерам по одной повозке с тремя лошадьми, солдатских жён оставя по одной для мытья белья, излишних остановить...»
И пошли бесконечные переходы, марши. За две недели войска сделали 520 вёрст, иногда проходя в сутки по шестьдесят вёрст. И появились болезни — обувка развалилась, многие офицеры, не говоря уж о солдатах, шли босиком, а тех, кто не выдерживал марша, везли на повозках.
— Австрийцы не могут так быстро ходить, — усмехнулся Суворов, — отстают, но задаю новый переход, исходя не из фактического присутствия, а от плана. Недовольны, да подтягиваются...
Всё это Константин уже знал, но внимательно слушал старого фельдмаршала. Слышал, как выпрягли веронцы лошадей из повозки Суворова и сами вкатили его в город на руках, украсили весь город цветами, а вечером в его честь устроили обширную иллюминацию. Но Суворов недолго задержался в Вероне. Он только принял здесь командование всей армией союзников, познакомился с командирами всех частей, особенно радостно расцеловался с известным ему ещё по старым делам Багратионом, обнял храброго Милорадовича, а вместо торжественной речи, шагая из угла в угол, стал бросать отрывистые слова:
— Субординация! Экзерциция! Военный шаг — аршин! В захождении — полтора! Голова хвоста не ждёт! Внезапно, как снег на голову! Пуля бьёт в полчеловека! Стреляй редко, да метко! Штыком коли крепко! Мы пришли бить безбожных французишек! Они воюют колоннами, и мы их будем бить колоннами! Жителей не обижать! Просящего пощады помилуй!
Австрийские генералы ещё не привыкли к такой резкой и отрывистой речи, в которой содержались все боевые навыки армии, служащей под началом Суворова, и втихомолку смеялись. А меж тем всё, что говорил Суворов, было его стратегией и тактикой, и лишь потом, после долгих размышлений, и битые французами австрийские генералы поняли смысл его тактики.
Показав таким оригинальным образом суть дальнейших действий, он потребовал у генерала Розенберга, представлявшего ему русских и австрийских генералов и командиров частей, «два полка пехоты да два полчка казачков». Розенберг недоумевающе смотрел на сухонького маленького главнокомандующего, не поняв его просьбу — ведь все войска были в его распоряжении.
И только князь Багратион, хорошо знавший стиль Суворова, сказал, что его отряд готов к выступлению.
Суворов обрадовался и приказал выступать. Багратион уже через полчаса вышел из Вероны.
Все эти отголоски торжественной церемонии принятия Суворовым командования союзной армией Константин уже слышал. Также слышал, как Мелас, австрийский подчинённый Суворова, смеялся над стилем и слогом Суворова.
— Что это за стратегия — неприятеля везде атаковать!
Но быстрые переходы, марши и стремительность наступления позволили Суворову за десять дней пройти небывалое для австрийцев расстояние, одержать несколько побед и выиграть одно крупное сражение.
И вот теперь этот седой, щупленький, со впалыми щеками и яркими глазами фельдмаршал сидел и представлял Константину, молодому, необстрелянному волонтёру, подробный доклад о всех своих действиях.
Великий князь ёжился и смущался, но он уже привык получать рапорты от своих генералов в Петергофе и Петербурге и потому ждал, пока старый служака не кончит свой доклад. Затем тихо и просительно проговорил:
— А где место мне определите, Александр Васильевич?
Суворов внимательно взглянул на Константина, понял, как волнуется под его взглядом молодой великий князь.
— Пока побудь у Розенберга, — коротко сказал он.
Суворов низко, касаясь рукой пола, поклонился Константину, и тот снова почувствовал себя слишком стеснённым этой рабской угодливостью, но тут же одёрнул себя: не ему, молодому человеку двадцати лет, кланяется Суворов, титулу его, императорскому сыну кланяется.
— А не побрезгуйте, ваше императорское высочество, — резко выпрямился Суворов, — откушайте, что Бог послал...
— Благодарю, Александр Васильевич, с удовольствием, — даже покраснел от такого неожиданного приглашения Константин.
И как же отличался обед у Суворова от тех торжественных обедов, завтраков и ужинов, которыми угощали его в Вене, особенно посол Разумовский. Там вино лилось рекой, хоть и не особо привычен был к нему Константин, столы ломились от устриц и ананасов, запечённых в тесте индеек и ломтиков сочной свинины, кушаний под такими соусами, что пальчики оближешь.
У Суворова обед отличался необыкновенной простотой и быстрой сменой блюд. Щи русские, каша гречневая, кусок говядины отварной да стакан холодной воды для утоления жажды. И кончился обед в каких-нибудь полчаса. Никакого послеобеденного отдыха — Суворов сразу же поехал к войскам, а великий князь приказал подавать коня и собрал свою свиту, чтобы тут же отъехать к Розенбергу.
В пути он много размышлял. Суворов не тратит времени на удовольствия и пирушки, у него всё подчинено одной лишь цели — бить противника, стремительность и напористость в его характере и всей его деятельности. Может быть, это и создало ему славу самого знаменитого в Европе полководца, даже самые несговорчивые политики предложили в командующие союзными войсками для борьбы с Наполеоном именно его, уже старого, но горящего каким-то нездешним внутренним огнём. Ах, кабы хоть немного походить на него, этого великого водителя войска!
Константин усвоил наступательную политику Суворова, ему вместе с войском хотелось идти и идти вперёд. Добравшись до главной квартиры генерала Розенберга, Константин решил последовать во всём примеру Суворова. Вместо того чтобы разместиться в большом доме деревушки, занятой русскими войсками, он велел поставить себе у самого края полей палатку, свою раскладную железную койку, положить на неё тонкий кожаный тюфяк и такую же плоскую подушку. И хоть возле его палатки день и ночь стоял караул почти из целого батальона и толпилась вокруг молодого великого князя свита, состоящая из адъютантов и казаков, офицеров и даже Аркадия, сына самого Суворова, он чувствовал себя так, словно бы находился в самом центре боев с неприятелем.
Между тем у Суворова происходили странные нелады с неприятелем. Перед его фронтом была армия торопливо отступавшего Моро, знаменитого генерала Наполеона. Но из Средней Италии шёл к нему навстречу сильный боевой генерал Макдональд со свежим сорокатысячным войском. А в самом тылу ещё оставались не взятые крепости с незначительными, правда, гарнизонами, но и они могли беспокоить старого воителя. Австрийцы требовали, чтобы Суворов взял крепости во что бы то ни стало: им нужна была завоёванная территория, чтобы снова ввести туда свои порядки. Главнокомандующий скрепя сердце отделил часть своих войск для осадных действий, но выступил из Милана навстречу полевым армиям французов. Он хотел поодиночке разбить обе армии, сначала Моро, всё ещё стремительно отступавшего, а затем Макдональда.
Однако выяснилось, что сведения в ставку Суворова поступали самые разноречивые: то главнокомандующий считал, что Моро уже соединился с Макдональдом, то оказывалось, что тот и не думал выступать из Средней Италии. Моро между тем расположился на линии Валенца — Алессандрия и грозил тыловым соединениям Суворова.
Не ставя союзников в известность — знал Суворов, что одно лишь его слово сразу станет известным в Париже, если он заикнётся австрийским командующим, — главнокомандующий решил повернуть все свои армии против Моро. Валенца, по сведениям австрийцев, была очищена от французов, и Суворов приказал Розенбергу со своей армией занять её. Оказалось, однако, что французы и не думали оставлять Валенцу, и Суворову ничего не оставалось делать, как приказать Розенбергу отойти, отступить на время.
Константин был в квартире Розенберга, когда пришло это извести об отступлении. Розенберг показал ему приказ Суворова.
— Как? — вскричал великий князь. — Ретирада[15]? Когда же это было, чтобы русские отступали? Что ж, что Валенца занята, надо взять Бассиньяно, и тогда Валенца в наших руках...
Розенберг с недоумением смотрел на императорского сына.
— Приказ есть приказ, — устало произнёс он. — Вопрос об отступлении решён. Суворов пишет: «Жребий Валенцы предоставим будущему времени, а пока надобно отходить и наивозможнейше спешить, денно и нощно...»
Константин прочитал эти слова, и ярость ударила ему в голову.
— Что же скажет император, — закричал он, — если узнает, что отступаем от Валенцы, когда у Моро уже силы на исходе?
Бассиньяно была крохотная деревушка при самом въезде в Валенцу, и Розенберг в сомнении глядел на великого князя.
— Две роты мне дайте, и всё. Бассиньяно наша! — запальчиво крикнул Константин.
— Подчиняюсь только вам, — уныло ответил Розенберг, — но подкреплю вас артиллерией и войсками...
Бодрый и восторженный выскочил Константин из квартиры Розенберга. Здесь уже строились в боевой порядок две выделенные ему роты казаков, а пушка, приданная отряду, громоздилась на крупах коней.
Константин бесстрашно встал в голове отряда и повёл его к неприятельским линиям. Пули зажужжали вокруг него, но он лишь оборачивался, чтобы поглядеть, как идут за ним, как скачут казаки.
— Пушку поставьте здесь, — указал он верховым.
— Ваше сиятельство, — неотступно следовал за ним казак Пантелеев, — поберегитесь, пули визжат…
— Живо, заряжай и пли! — скомандовал Константин, как будто был на смотре.
Едва забила пушка, как замолчала артиллерия, расположившаяся у селения, только ружейные залпы ещё раздавались в воздухе.
— Вперёд, ребята, одолеем их, — крикнул Константин.
Казаки понеслись вперёд, обгоняя Константина. Он смотрел на них и чувствовал такой прилив гордости, какой ещё никогда не испытывал. Это была его первая боевая атака, возбуждение охватило его, он вытянул палаш и бросился вслед за казаками к неприятельской линии.
Но что-то случилось, как будто споткнулся первый строй казаков, плотный огонь косил коней и людей, падали и падали тела людей и лошадей, сражённые пулями, бились в предсмертном хрипе, силясь встать. И вот уже казаки повернули назад. Константин видел их объятые паникой лица, безотчётно тоже повернул обратно и бросился вслед за толпой, в которую превратилось ещё минуту назад боевое войско...
Высокая круча речки словно бы выросла перед глазами Константина, внизу серела вода, в неё кидались люди вместе с лошадьми, и вот уже плывут первые трупы по дымчатой воде.
Константин и не заметил, как его лошадь перемахнула через кручу высокого берега и с размаху окунулась в холодную быструю воду. Он едва не опрокинулся, но удержался в седле и лишь туго натягивал поводья, силясь успокоить коня.
Не находя опоры под ногами, лошадь забилась, ещё не в силах приноровиться к быстрому течению, и Константин почувствовал, что сейчас, теперь он свалится с коня, утонет и бесславно погибнет в этой мутной серой воде. Дикий ужас овладел им, он бил руками и ногами по коню, торопился выдернуть ноги из стремян...
По реке плыли трупы людей и лошадей и шли ко дну, а их нагоняли всё новые и новые трупы. Константин соскользнул на правый бок лошади, уже начавшей скрываться под водой. Кто-то схватил повод, конь успокоился, стал перебирать ногами в воду, выбрался на мелкое место и сильно встряхнулся. Константин едва удержался в седле, но руки его занемели, вцепившись в гриву и поводья, а ноги были в воде, с самого пояса текли с него мутные струи.
— А ничего, ваше сиятельство, ничего, — торопливо бормотал казак Пантелеев.
Он свёл лошадь на берег и помог Константину выбраться из седла, подставив ему плечи и руки.
Скрюченный, с занемевшими руками и ватными ногами, Константин едва не повалился в траву у самого берега.
— А поскачем, великий князь, — снова забормотал Пантелеев.
Он помог Константину взобраться в седло своего коня, а сам влез на всё ещё дрожащего второго коня, успокоив его ласковым словом и мягким поглаживанием по вздрагивавшей шее.
Бледный и трепещущий сидел перед Розенбергом Константин.
— Наделали дел, ваше высочество, — только и вымолвил ему Розенберг. — Теперь суд военный, столько людей погубить, приказ не выполнить, субординацию нарушить... Конец мне...
Он был в таком отчаянии, что Константин невольно все его слова примерил к себе. Да, это он виноват, кругом виноват, и нечего искать другого виноватого. Что скажет он отцу, что скажет он в своё оправдание Александру Васильевичу?
Суворов рвал и метал. Искрошенные, изрубленные две отборные роты казаков, поспешное бегство, отступление от прежних позиций, паника, охватившая всё войско, но самое главное — неподчинение приказу главнокомандующего, открытый вызов, непослушание. И готова была уже реляция в Петербург, императору, об отстранении Розенберга от начальства.
Срочно вызвал в главную квартиру самого Розенберга, его окружение. Но с ним, Розенбергом, поехал и молодой великий князь. Перед тем как снять свою палатку, он сказал казаку Пантелееву:
— Ты что это вздумал величать меня вашим сиятельством? Или забыл, что я императорское высочество?
— Виноват, ваше императорское высочество, язык отнялся в то время.
Казак браво вытянулся, заслуженно ожидая наказания.
— Ладно, — хмуро согласился Константин, — впредь будь языкастей, не путай одно с другим. — Он помолчал, потом добавил: — За избавление — спасибо, век не забуду...
— Ничего не стоило, ваше императорское высочество! — бойко парировал Пантелеев.
— Возьми вот, — Константин неловко протянул ему сто рублей, — выпей за моё здоровье...
— Здравия желаю, ваше императорское высочество! — опять бойко прокричал Пантелеев.
Константин молча поглядел на его бравый, мокрый и грязный вид, погрозил пальцем:
— А об этом ни гугу...
— Слушаюсь, ваше императорское высочество, — сбавил тон Пантелеев.
— На расправу едем, — мрачно предупредил Константина Розенберг.
— Я виноват, на меня и валите, — также хмуро ответил великий князь.
Константину пришлось долго ждать, пока за закрытой дверью Суворов распекал Розенберга. Ничего не было слышно за ней, но Константин представлял себе, как жалко и нелепо выглядел старый боевой генерал, так явно пошедший на поводу у него, Константина.
А Суворов вовсе не кричал, он только вежливо поднял глаза на виноватого.
— Приказ мой получил? Вовремя?
Розенберг лишь кивнул головой.
— Почто не послушал?
— Великий князь... — заикнулся было Розенберг.
— Что, приказал не слушать главнокомандующего?
— Нет, но настаивал атаковать Бассиньяно, чтобы и Валенцу взять...
Суворов высоко поднял седые кустики бровей.
— Субординация? Молодой офицер командует старым генералом?
Розенберг мялся, но Суворов уже всё понял. Шутка ли, не послушать сына императора всё равно что не подчиниться самому Павлу.
— Ступай, пусть войдёт великий князь...
Константин с трепетом открыл двери.
— Чем взял старого генерала? — насмешливо спросил Суворов, едва Константин переступил порог.
— Александр Васильевич, — тихо ответил Константин, — упрекнул я его, что в Крыму сидел, боевой школы не прошёл, потому трусит...
— А он мне этого не сказал, — удовлетворённо произнёс Суворов. — Я уж было собрался его под военный суд отдать, что не подчинился приказу. А теперь, значит, великого князя на суд и расправу к императору?
Константин повесил голову:
— Виноват, отвечу и перед судом...
Слёзы закапали из его низко опущенных глаз.
— Эх, молодо-зелено, — сокрушённо проговорил Суворов, — что не трус, вижу, а что не имеешь ещё боевого дела да об субординации низкого свойства, тут, прямо сказать, беспорядок. Как служить люди будут тебе, коли сам не умеешь подчиняться?..
Константин стоял ни жив ни мёртв.
— Виноват, Александр Васильевич, — горестно произнёс он. — Отвечу за оплошность мою...
— Ты вот только одного не знал, что не переживу я тебя, коли с тобой несчастье случится, — грустно сказал старый полководец.
— Знаю, Александр Васильевич, — вздохнул Константин, — голову снимет отец, если что.
— Всё сам понимаешь, а лезешь под пули, под палаши, — сурово проговорил Суворов. — Пусть наукой будет тебе, на всю жизнь запомни.
Константин поднял голову.
— А суд? — робко заикнулся он.
— Придётся старику взять грех на душу, — отвернулся от него Суворов, — я уж было реляцию к императору написал: так и так, Розенберг не слушал приказа, велел отходить, а он ринулся к Валенце, когда там французишек больше нашего в три раза...
Константин широко раскрыл глаза.
— Покрою грех, — взялся за бумаги Суворов, — напишу, что сам пошёл на Валенцу, разведка слабо доложила, мол, нет там никого, а нарвался, да и наутёк пустился... Не было со мной такого, никогда я не отходил, не ретировался, а тут пришлось...
— Александр Васильевич, — захлебнулся от радости Константин, — виноват сильно, на весь век запомню... И как спасли вы меня...
— Ступай, ступай, — сердито ответил Суворов, — молодо-зелено, не обстреляно...
С красным лицом и заплаканными глазами вышел от Суворова Константин, но в душе его всё время трепетала радость: спас Пантелеев, спас Суворов, и теперь он будет осторожным, но и храбрым воякой.
А Суворов, едва выйдя из своей отдалённой комнаты, прошёл мимо блестящей свиты Константина, приостановился на мгновение и, сжав зубы, едва процедил:
— Мальчишки, едва не уберегли великого князя...
Но этим замечанием не исчерпались упрёки Суворова. Он детально опросил всех бывших в этом бою командиров, узнал, что лишь казак Пантелеев остановил лошадь Константина и вывел её на берег, после чего великий князь в полном одиночестве провёл ночь в маленьком местечке Мадонна-дель-Грация, переправившись через реку в маленькой лодке-скорлупке, которую неизвестно где разыскал Пантелеев, и только на другой день утром присоединился к своим. Суворов распорядился усилить конвойных великого князя, вменив им в обязанность быть его телохранителями, а свите князя пригрозил заковать и отослать на расправу к императору.
Не раз и не два слышал Константин слова Суворова: «Молодо-зелено, и не в свои дела прошу не вмешиваться». Правда, Суворов не относил это к самому Константину, но припугнул свиту, что вся неудача под Бассиньяно в приказе по армии может быть отнесена к «запальчивости и неопытности юности».
С некоторым страхом и огромным уважением стал теперь относиться к старому фельдмаршалу Константин. Он с почтительностью и трепетом обратился к нему с просьбой присутствовать в его кабинете во время доклада бумаг. Сурово согласился на это старый вояка, но предупредил, чтобы не мешал Константин своим присутствием и держал себя так, как будто его нет в кабинете.
Константин в точности исполнил условие Суворова. Он молча входил в кабинет, даже не здороваясь с фельдмаршалом, смиренно пробирался в самый тёмный уголок и молча там сидел, вслушиваясь в доклады и резолюции Суворова. А Суворов и вовсе не замечал своего молчаливого слушателя, ему было некогда...
Скоро, почти через две недели, Суворов очистил от французов столицу Сардинского королевства. Войска вступили в Турин при всеобщем стечении жителей, бросавших под ноги русским и австрийским солдатам цветы и ленты.
Авангардом русских войск и всей армии командовал Багратион, и Константин следовал вместе с солдатами. Начались проливные весенние дожди, солдаты утопали по колено в грязи на дорогах, проведённых на самом жирном чернозёме. Вместе со всеми месил грязь и Константин. На привалах только мокрая трава была местом отдыха, и, придя к нему, Константин сваливался без сил прямо на мокрую траву, закрывал глаза и тотчас засыпал. С тех пор получил он хорошую привычку засыпать где угодно и когда угодно, лишь бы закрылись глаза.
Алессандрия была также освобождена от французов, но главная армия Наполеона, выступившая из Средней Италии, армия Макдональда, собралась с силами и начала наступление на Суворова, и главнокомандующий решил сам помериться силами с Макдональдом — уж слишком возносили неприятели этого полководца.
Суворов оставил при себе Багратиона, авангард остался без командира. Суворов решился на шаг, который мог и испортить всё дело, и поднять в глазах всего войска личность молодого великого князя: он назначил командиром авангарда вместо Багратиона двадцатилетнего Константина.
Противник скопился на реке Тидоне, надо было срочно, спешно вести туда авангард, а за ним и всю армию, чтобы успеть помочь войскам, теснимым противником.
Как же был счастлив Константин, что Суворов назначил именно его, совсем ещё молодого офицера, начальствовать над всем авангардом, да ещё вместо прославленного уже Багратиона! Он кипел и горел, успевал везде, где нужны были его команды и разносы. Задачей его было как можно быстрее привести авангард к Тидоне на позиции, поспешность эта была организована им с необычайной точностью.
Эту необыкновенную быстроту в действиях Суворов не замедлил отметить. В своём донесении императору Павлу он написал:
«Благоверный государь, великий князь Константин Павлович из усердия к пользе общего дела и блага быстро привёл с неутомимостью передовые Вашего императорского величества войска, внушая им храбрость и расторопность, командировал оные и тем способствовал подкреплению слабой части и способствовал победе...»
И это были не пустые слова — французов действительно отбросили за реку Тидону, и они отступили к Брешии. Это были сильные и свежие войска Макдональда, и в этих боях Константин был выдержанным, храбрым и стойким командиром.
Только накануне потеснили русские французов к Треббии, а уже на другое утро, верные суворовской тактике не замедлять наступление, пошли дальше, двинулись к Треббии. Не давать противнику отдыха, не давать покоя, стремительно наступать — этот девиз Суворова теперь и Константин впитал в себя и потому не удивился, когда после кровопролитного сражения у Тидоны войска уже были готовы к новым боям и атакам. Утро встретило их приятной неожиданностью: французы не решились продолжать сражение, ночью они отступили.
Треббия была занята союзными войсками. Но преследовать французов Суворов не смог: слишком уж медленно передвигались австрийцы, не подвозили вовремя провиант, солдаты и союзных, и русских войск были голодны, разуты, а амуниция их так истрепалась, что необходимо было ждать подвоза всего.
Суворов негодовал, но, ничего не поделаешь, пришлось возвращаться в Алессандрию и ждать. Четыре недели, пока Суворов здесь жил, он не уставал возмущаться и негодовать по поводу союзников. И Константин видел, как прав старый фельдмаршал: не было ни обещанного снаряжения, всё откладывалось со дня на день, и главнокомандующий решил провести хотя бы манёвры, чтобы занять солдат и научить их осадным действиям.
Учебная осада Алессандрии была поручена Константину. Вот уж когда молодая ретивость и кипучая энергия великого князя нашли себе выход! Он командовал частями, которые должны были приступом взять стены крепости Алессандрия, осматривал осадные подкопы, неустанно носился по всему лагерю, по всем войскам, отданным в его подчинение.
Лучше и нельзя было провести эти учебные манёвры — и Константин розовел лицом. Суворов хвалил его подготовку, и она действительно была наилучшей.
Но Константин не только требовал поддерживать дисциплину он строго наблюдал за каждым действием солдата при осаде, вникал и в быт солдат, хлебал щи из одного котла с ними, а ночевал всё в той же вылинявшей палатке, раскинутой в поле среди палаток других офицеров. Теперь при ротах не было обозов, офицеры дневали и ночевали рядом с солдатами, и Константин строго следил за тем, чтобы дозволительное в России рукоприкладство здесь не было в почёте. Таких офицеров, что позволяли себе бить солдат, он строго наказывал, и это было для них самым лучшим примером...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Он подбежал, задыхаясь, к одинокой всаднице, стоявшей на взгорке. Запрокинул лицо, и голубой свет его глаз ударил ей в лицо. Низко надвинутая круглая чёрная шляпа закрывала его лоб, жёсткие белые воротнички подпирали свежие, румяные щёки.
Маргарита окинула взглядом всю его статную фигуру, его твёрдую руку, схватившую повод её лошади.
— Господи, — сказала она, — какая у вас смешная круглая шляпа. Таких в России давно не носят.
Вспыхнуло всё его розово-белое лицо, краска залила даже лоб и подбородок. Он схватил шляпу за край, сдёрнул её с головы и, словно диск, метнул в ближайшие кусты. Она чёрной тучкой осела в зелени, провалилась в разнотравье. Маргарита проследила глазами за шляпой и вдруг судорожно расхохоталась. Он смущённо стоял возле лошади, всё ещё держа её за повод.
Внезапно слёзы полились из глаз Маргариты.
— И ни одного письма за все три года! — судорожно выкрикнула она.
Он потемнел лицом, длинные чёрные ресницы скрыли сияющие голубые глаза.
— Я должен объяснить... — начал Александр.
— Нет-нет, ничего не надо объяснять, — захлебнулась плачем Маргарита. — Не писали, и не надо...
Слёзы так же быстро высохли на её глазах, как и пролились.
— Нет, я хочу и смогу объяснить, — торопливо продолжал Александр, — я писал вам каждый вечер, каждую ночь, писал и рвал... Я так хотел забыть вас, я изо всех сил старался это сделать.
— Вам это удалось? — тихо спросила она.
— Как видите, нет, — твёрдо ответил Александр. — И вот я здесь. Никогда во всё время моего пребывания за границей не мог я вытравить вас из моего сердца, заставить себя вычеркнуть из своей памяти ваши глаза. Они стояли передо мной, когда я рассматривал удивительных красавиц на картинах старых мастеров, и всё время сравнивал. Ни одна из них ни в какое сравнение с вами не шла.
— Но теперь вы не узнаете меня, — печально сказала Маргарита, — я так много плакала, много страдала, я подурнела...
— Не знаю, — раздумчиво сказал он, — сможете ли вы теперь полюбить меня, одно я знаю, что люблю вас всем сердцем и душой. И никто не заставит меня разлюбить вас...
Коляска, из которой так лихо выпрыгнул Александр, подкатила ближе, кучер натянул вожжи, удерживая тройку.
— Разрешите мне, — почтительно проговорил Александр,— пойти рядом с вами...
— Но ваш довольно странный наряд испачкается, изомнётся, — насмешливо ответила она.
— Если бы я не боялся показаться нескромным, мой сюртук полетел бы вслед за шляпой.
— Но вы не спросили лишь одного, — серьёзно сказала она, — может быть, я уже выдана за другого и вновь замужняя дама?
Он остановился, высоко вскинул голову и впился взглядом в её глаза.
— Нет, — засмеялся он, — этого не может быть, потому что Бог не допустил бы...
Но тучка сомнения набежала на его лицо.
— А правда, — тревожно спросил он, — вы же не могли так поступить?
Она сидела в седле на своём высоком белом коне, перебирала в руках, затянутых в лайку, поводья, бархатная амазонка туго стягивала её тонкую и стройную талию, а вуаль, подколотая к маленькой шапочке, развевалась за её плечами.
— Как вы прекрасны, Маргарита, — тихо прошептал он, — и как же вы напоминаете мне тот самый бал...
— Увы, — отвечала она, — мне пришлось отказать многим. Не знаю почему, но мне не верилось, что сама судьба не соединила нас...
Она смутилась, опустила глаза к луке седла, и пальцы её стали неловко перебирать поводья.
— Я слишком смела, и вы позволяете мне говорить такие вещи, которые ни одна женщина не должна говорить мужчине, — запинаясь, прошептала она.
— Вы особенная женщина, таких больше нет на свете, и вам позволительно всё, — так же тихо ответил он.
Маргарита взглянула вокруг и не узнала знакомого луга. Ярко цвели среди зелёной травы барвинки, резко колыхалась под лёгким ветерком высокая трава, как будто только что прошёл дождь, сбрызнул весь луг невидимой водой, и свежесть утра, воздух, скользящий вдоль разгорячённых щёк, запах разнотравья — всё это создало такой туманящий настрой, такую красоту, что ей захотелось упасть в траву, молиться Богу и благодарить его за эту благодать. Но главное — рядом с её лошадью шёл человек, о котором она плакала три года, дороже которого не было для неё никого на свете...
Версты две до усадьбы Нарышкиных они так и шли — конь потихоньку топтал копытами свежую травку, пробившуюся на закраинах дороги, Маргарита не сводила глаз с Александра, а он даже не видел, куда ступали его ноги.
Возле высокого резного крыльца с навесом и точёными деревянными балясинами Маргарита натянула поводья, Александр подал ей руку, и она легко, словно пушинка, соскочила на землю. Никто не встречал их, всем было невдомёк, что Маргарита вернулась с полей, с прогулки не одна, лишь слуги подбежали убрать лошадь, разнуздать, напоить. Деревянные ступени, широкие плахи коыльца едва скрипнули под их ногами. В гостиной сидела Варвара Алексеевна и пила чай из самовара, пышущего жаром.
— Маман, доброе утро, — приветствовала её Маргарита.
Чашка в руке Варвары Алексеевы замерла на полпути ко рту. Мать во все глаза глядела на человека, выросшего за спиной дочери.
— Я нашла в лесу хорошенький гриб, — лукаво засмеялась Маргарита, — вы даже не поверите, насколько он хорош, ни одной червоточины...
— Позвольте засвидетельствовать вам своё глубочайшее уважение, — выступил вперёд Александр, — может быть, вы меня не помните, но я помчался сюда, едва лишь вернулся из-за границы...
— Ещё бы не помнить, — пришла в себя Варвара Алексеевна, — садитесь к столу, раз уж пожаловали...
Тон её не предвещал ничего хорошего.
— Пойду переоденусь, — легко и весело сказала Маргарита, — а вы побеседуйте здесь о дальних странах, о других государствах...
Она упорхнула, ровно и не было этих тяжёлых трёх лет, и Варвара Алексеевна с грустным осуждением посмотрела ей вслед.
— Позову Михайлу Петровича, — приподнялась было она, но Александр остановил её жестом руки.
— Прошу вас, Варвара Алексеевна, — тихо сказал Александр, — мне бы хотелось сначала переговорить с вами.
— Неожиданный гость, — любезно ответила Варвара Алексеевна, — всегда к празднику.
Александр усмехнулся.
— Вы хотели сказать, нежданный гость хуже татарина, — в тон ей сказал он.
— Что вы, что вы, — смутилась хозяйка, — мы всегда гостям рады, а уж в нашем захолустье таким, как вы, гостям из-за границы вдвойне.
Она смотрела на него и предчувствовала, что он принесёт ей тяжёлые переживания и те же хлопоты, что и три года назад, когда такими тяжёлыми последствиями обернулось для неё его предложение и её отказ. Маргарита долго болела, не желала никого видеть и на все лестные предложения отвечала отказом.
Вот и теперь предвидела Варвара Алексеевна, что снова последует предложение от этого красавчика, не имеющего за душой ничего, кроме красивых глаз. Впрочем, одёрнула она себя в душе, родословие Тучкова не хуже родословия Ласунского, род которого пошёл в гору только возле царя Петра Первого, прадеда нынешнего императора Павла. Но благодаря хлопотам Маргариты и ещё потому, что Ласунский-отец был замешан в заговоре против Екатерины, Павел, минуя нижние чины, сразу дал Ласунскому чин генерал-майора. И жаль, конечно, что Маргарита развелась с ним, была бы теперь генеральшей... Что ж, Тучков по своей родословной превосходит Ласунского, его предки были роднёй самой царице Анастасии Романовне, матери первого царя из Романовых — Михаила.
Варвара Алексеевна внимательно и без улыбки смотрела на красивое свежее лицо Александра и с раздражением думала, как в их уже налаженный мирок он ворвался словно шмель, и теперь зажужжит, заходит ходуном весь их дом.
Александр как будто понимал, о чём думает Варвара Алексеевна, и смотрел на неё с интересом и сожалением. Да, взвешивает, сколько тянет на одной чаше весов счастье дочери, а на другой — чины да богатство. Он не мог похвастаться богатством, но сердцем его теперь распоряжалась лишь одна Маргарита — одна она была ему нужна, никто больше.
— Варвара Алексеевна, — прервал Александр затянувшееся молчание, — могу ли я переговорить с вами?
Варвара Алексеевна так и вскинулась вся: вот, вот оно...
— Да нет уж, любезный Александр Алексеевич, я серьёзных разговоров ни с кем не веду, у меня голова есть, муж мой, Михайла Петрович. А его теперь дома нету...
Александр с сомнением поглядел на мать своей любимой. Нет, не желает она дочери счастья, не хочет, чтобы та выходила за него, бедного армейского офицера.
— Простите, если чем обидел или не угодил, — сказал он хозяйке, — да и то простите, что без приглашения приехал.
— Что вы, — повторила Варвара Алексеевна и поднялась, давая понять, что гостю в их доме больше делать нечего. — Я и Михайла Петрович всегда гостям рады, а уж девочки мои и тем более.
Александр понял, что больше здесь задерживаться он не имеет права, что хозяйка вежливо указывает ему на дверь.
— Что ж, прощайте, любезнейшая Варвара Алексеевна, надеюсь, ещё увижу вас в добром здравии и спокойствии...
— Прощайте, добрый человек, и спасибо за пожелание...
Александр раскланялся и направился к двери на выход. Варвара Алексеевна замерла — только бы не влетела Маргарита, только бы не встряла она, пусть уходит поскорей этот неожиданный и такой нежеланный гость.
Александр и в самом деле ушёл, уселся в свою коляску, всё ещё стоявшую у крыльца. Он нарочно медлил, ему всё ещё мнилось, что Маргарита может выглянуть в окно, выбежать на крыльцо. Теперь он уже знал, что во второй раз получит отказ от её родителей.
Он тронул кучера за плечо, и коляска медленно покатила по подъездной аллее барской усадьбы. Но за самыми воротами Александр соскочил с сиденья, приказал ждать его и вернулся задами к высокой стене, окружавшей барский дом и все хозяйственные постройки. Он притаился в тени огромной липы и собрался ждать.
Маргарита впорхнула в гостиную как раз тогда, когда коляска Тучкова уже выехала за ворота. Радость на её лице сразу погасла, глаза, сверкавшие искрами, сузились, когда она увидела Варвару Алексеевну, в одиночестве пившую чай из крохотной фарфоровой чашечки, держа которую она смешно отставляла мизинец.
— Маман, я оставляла вас здесь вдвоём, — тревожно сказала Маргарита.
— Ты о госте, что ли? — нарочито равнодушно пробормотала Варвара Алексеевна. — Уехал он.
— Как уехал? — ещё тревожнее вымолвила Маргарита.
— А что ему тут делать? Ворвался непрошеный, понял, что ему тут не рады, вот и уехал...
— Маман, — упала перед ней на колени Маргарита, — что вы ему сказали?
Варвара Алексеевна недоумённо пожала полными плечами.
— Чаем угощала, да он не захотел, — ответила она, — а что ещё я могла ему говорить...
— Вы его выгнали, — вскочила Маргарита с колен, — он ушёл, потому что вы нелюбезно с ним обошлись...
— Да что ты прибавляешь! — вскипела и Варвара Алексеевна. — И как ты с родной Матерью разговариваешь?
— Маман, — холодно сказала Маргарита, — вы хотите, чтобы я навек покрыла позором нашу семью?
Варвара Алексеевна так и осталась с раскрытым ртом, чашка упала из её рук, и на глянцевом полу появились осколки да лужица чая. Она вскочила, крикнула дворовых девушек, велела убрать осколки и поскорее ушла к себе, чтобы не выслушивать колкостей дочери.
Слёзы заволокли глаза Маргариты, но она усилием воли прогнала их. Нет, не допустит она, чтобы и во второй раз родители порушили её судьбу. Она вся подобралась, как перед решающим прыжком, и теперь лишь обдумывала, что сделать, куда скакать, где искать Александра.
А он шёл вдоль высокой стены, изредка поглядывая на её верх и решая, стоит ли ему возвращаться в роли непрошеного гостя, которого выгнали в дверь, а он ищет окно, чтобы попасть в дом и снова увидеть Маргариту. И тут почти ему на голову свалился мальчишка в хорошеньком бархатном кафтанчике и таких же штанишках, в кружевном воротничке и с палкой в руке. Александр принял его со стены прямо в руки.
— И куда же направляется сей молодой человек? — строго спросил он, в душе просияв, словно с неба ему послали весточку.
— Маман не велит бегать на пруд, а я...
Мальчишка с любопытством наблюдал за Александром, не испытывая ни малейшего страха.
— Как тебя зовут? — переменил тон Александр.
— Михаил Михайлович Нарышкин, — торжественно ответил мальчишка, гордо подбоченясь и не имея никакого желания убежать.
— Значит, ты брат Маргариты?
— А ты Александр, — сказал двенадцатилетний смышлёный парнишка, — о тебе тут всегда толкуют...
— И что же толкуют? — ближе придвинулся к мальчишке Александр.
— Буду я ещё каждому незнакомому человеку рассказывать, — гордо вскинул кудрявую голову Михаил Михайлович.
— Значит, ты знаешь, кто я, знаешь всю нашу историю? — снова полюбопытствовал Александр.
— Кто её у нас в доме не знает! Тут, как вы уехали, — я ещё очень маленький был, но всё помню, — сестра в обмороке лежала, отхаживали её, потом долго болела, лежала, не выходила из дому, теперь вот только встала, и плакала всё время...
— Значит, она страдала?
Михаил Михайлович поднял голову, всмотрелся в голубые глаза Александра.
— И чего страдать, — рассудительно сказал он, — вот он вы, живой да здоровый.
— Подрастёшь, — поймёшь, — наставительно заметил Александр. — А не возьмёшься ли ты стать моим почтальоном?
— Как это? — не понял Михаил Михайлович.
— А я напишу несколько слов сестре твоей, чтобы не страдала, а ты передашь письмо.
— Да у вас и пера нету, — рассмеялся мальчишка. — Это у меня в учебной столько их, и бумага, и чернила...
Александр задумчиво смотрел на мальчика. Действительно, как написать, если у него нет пера и чернил, нет и клочка бумаги.
— А ты на словах будь курьером, — нашёлся он.
— Как это? — снова не понял Михаил Михайлович.
— Я попрошу тебя передать сестре мои слова, а ты вытверди их и скажи Маргарите, но только так, чтобы никто в мире больше их не слышал...
— Любовное послание, что ли? — небрежно спросил Михаил Михайлович.
— Да нет, просто надо обсудить одно дело, — смутился Александр, не ожидавший от двенаддатилетнего мальчишки такой прыти. — А я не могу её увидеть...
— А чего видеть, вон там калитка, тут и постойте, а я скажу, что её ожидают, — нашёлся Михаил Михайлович.
— Ну, брат, ты дока, — засмеялся Александр. — Ну, я пошёл к калитке, а ты, гляди, передай, да никому больше ни гугу...
Мальчишка, гордый поручением, снова взлетел по одному ему известным уступам на стену и исчез за ней. С бьющимся сердцем направился Александр к маленькой калитке в высокой стене, тщательно запертой изнутри.
Брат Маргариты, Миша, нёсся через весь сад, легко перепрыгивая через клумбы и сбивая по пути головки цветов своей толстой палкой. На крыльце, когда он, запыхавшись подбежал, никого не было, но возле маленького шарабана уже стояла смирная лошадка, дворовые бегали, прилаживая упряжь, а Маргарита ходила возле коляски и нетерпеливо подгоняла их.
— Не велено вас одну пускать, — неторопливо подошёл к ней лохматый кучер в справном армяке, — барыня не велела...
— А отец разрешил, — нашлась Маргарита, — да и поеду недалеко, и одна поеду...
Но кучер всё медлил, и в это время к Маргарите подлетел Миша. Он поманил её пальцем, стараясь выглядеть солидно, как и подобает курьеру, но сестра лишь отмахнулась от назойливого мальчишки. Он обнял её за талию, прижался кудрявой головой и спросил:
— А что дашь, если скажу новость?
— Отстань, Мишенька, — опять отодвинулась от него Маргарита, — мне некогда.
— А вот будет когда, если узнаешь, — настойчиво твердил Миша.
— Да что такое, всё ты со своими потешками, — отбивалась Маргарита от брата.
— У калитки он стоит, — признался Миша, — и ехать не надо. Ждёт...
У Маргариты глаза сразу же вспыхнули интересом.
— Что ты сказал? — переспросила она. — Но ком ты говоришь?
— О ком, о ком, — почувствовав интерес сестры, тут же отошёл от неё мальчик, — о ком же ещё, как не о нём...
Маргарита подбежала к брату, прижала его к себе.
— Говори, — потребовала она, — всё, что хочешь, потом проси...
— Да чего мне, — гордо ответил Миша, — а только он ходит под стенкой и меня на руки принял, как я соскочил...
— Ты про Александра? — не веря самой себе, переспросила Маргарита.
— А то о ком! — нахмурился Миша.
Но Маргарита уже не слышала. Она мчалась по саду к той маленькой калитке, через которую всегда выходила в луга и на пруд. С трудом отодвинула она засов, выскочила из железной двери и огляделась. Никого не было.
Тропка вилась к пруду, внизу поблескивала серая вода, расходилась надвое, огибая пруд, заросший ряской и камышами, и уходила вниз, к лугам и синему лесу, видневшемуся вдали. Кусты по сторонам тропки давно загустели, зрело пахли солнцем и пылью.
Сердце у Маргариты упало, кровь отхлынула от щёк. Обманул Мишенька, любимый младший братишка, послал сюда. Она повернулась в одну сторону, в другую, стараясь проникнуть взглядом в заросли. Но тут ветки заколыхались, и голубые глаза Александра сверкнули среди тёмной зелени.
Она стояла ни жива ни мертва. Первое её свидание вот так, украдкой, наедине.
Он неловко подошёл к ней, низко склонился.
— Вы так прелестны, Маргарита, — шепнул он, — как я благодарю Бога, что узнал вас, что есть на свете такая красота.
— Почему вы уехали так поспешно, Александр? — спросила она. — Я даже не успела переодеться. Вошла, а вас уже нет...
— Я не мог больше оставаться, — сумрачно проговорил он, — иначе я получил бы отказ от дома...
— Да разве маман была так нелюбезна с вами?
— Нет, — поник он головой, — но иногда в тоне, во взгляде можно прочитать свою судьбу. А я никак не могу поверить, что жизнь моя будет протекать без вас. Да и на что нужна будет такая жизнь, холодная и пустая...
Красивая разноцветная бабочка закружилась над головой Маргариты и опустилась на её волосы. Она молчала, а он осторожно взял бабочку пальцами и дал ей улететь. Оба они от избытка чувств стояли, глядя в глаза друг другу и не имея сил оторваться.
— Я буду просить, умолять ваших родителей, чтобы они дали согласие на наш брак. Я не знаю, думаете ли вы так же, как я.
Она молча кивнула головой.
— Я бедный армейский офицер, но я буду любить вас так, как никто и никогда не любил, буду беречь ваши нежные ручки, носить вас на руках, чтобы вы не пачкали свои ножки в грязи обыденной жизни. Всё, что у меня есть, моё сердце, мои плечи положу я к вашим ногам. Без вас, — снова повторил он, — моя жизнь пуста и несносна. Я понял это, пробродив три года по странам.
— Как часто я думала о том, где вы, Александр, — наконец сказала она, — и как жестоко было е вашей стороны уехать, не писать, не давать о себе знать. Слишком острой косой прошлись вы по моему сердцу.
— Простите меня, простите великодушно! — взмолился он.
— Вы войдёте в наш дом? — спросила она после долгого молчания.
— Нет, теперь я приду в ваш дом только тогда, когда устрою все свои дела. Пройдёт неделя, может быть, две. Я должен явиться в полк, нанять квартиру, сделать всё необходимое. И вот тогда я приду и не уйду без вас...
— Я уговорю родителей, — низко опустив глаза, сказала она, — мне не нужен больше никто...
— Как я благодарен вам за эти слова! — вскинул он голову. — Я так надеюсь, что каждую минуту нашей жизни мы проведём вместе.
Он схватил её тонкую, почти прозрачную руку и горячо поцеловал.
— Так приходите же, — смело сказала она и кинулась в калитку.
Железная дверь глухо звякнула за ней, а он остался стоять, глупо улыбаясь, замерев, словно столб. Даже эта калитка, ржавая, железная, давно не крашенная, казалась ему обворожительной, и он кинулся бы целовать её, если бы тут не показалась целая ватага деревенских мальчишек и девчонок, пересекавших тропку.
Он пошёл прочь, всё ещё перебирая в памяти слова Маргариты и видя перед собой её головку, украшенную чудесной разноцветной бабочкой.
Забылись со временем слова, интонации её голоса, но в памяти его всегда били сверкающие зелёные глаза, оттенённые густыми ресницами, розовый полуоткрытый рот с жемчужно-белыми зубами, золотая корона её волос и яркая бабочка, присевшая отдохнуть на этом прекрасном цветке...
Через две недели, которые Маргарита провела, словно во сне, он явился. Теперь на нём был военный мундир, золотые эполеты блистали, а тонкий стан туго облегал пояс, к которому был прикреплён палаш.
За эти две недели Маргарита уже успела переговорить с родителями. Она говорила сначала с отцом, убеждала его, плакала на его плече. Потом вместе с Михаилом Петровичем они долго уговаривали Варвару Алексеевну, наконец, Михаил Петрович прикрикнул на жену, она присмирела, но до конца жизни так и не впустила в своё сердце нового зятя. Особенно сожалела она, что первый муж Маргариты стал уже генерал-майором, и всякий раз, придираясь к каждому её слову, ехидно добавляла это известие к другим своим колючим словам.
Но обручение всё-таки состоялось.
Михаил Петрович при всех своих орденах и лентах, тучный и рослый, со слезами на глазах, взял икону Богородицы, самую ценную и большую в доме, встал рядом с располневшей дородной женой и дрожащим от волнения голосом провозгласил:
— Благословляю вас, дети мои!
Голос ему изменил, он закашлялся и покосился на Варвару Алексеевну. Она стояла строгая и неприступная, всё ещё обиженная тем, что к слову её в этом доме не прислушались.
— Матушка, батюшка, — низко склонились перед ними Маргарита и Александр, стоявшие на коленях, — Бог вам воздаст за то, что вы совершили этот обряд.
Целуясь с будущими тестем и тёщей, Александр взволнованным голосом прошептал им обоим:
— Что бы ни случилось, сердце моё всегда будет принадлежать одной Маргарите. И я буду до гробовой доски любить вас, своих названых родителей.
Свадьбу решили сыграть осенью, скромно и достойно. Это был уже не первый брак старшей дочери, и Нарышкины постеснялись приглашать много гостей. Но родственников, и дальних, и ближних, набралось столько, что в просторном доме Нарышкиных было всё битком набито.
Маргарита сильно волновалась, стоя под венцом. Помертвелыми губами ответила она своё «да» священнику. Теперь для неё обряд свадьбы был свят до мелочей, и каждая деталь, каждое слово исполнены были особого смысла.
После венчания молодые в особой коляске должны были отправиться к новому месту жительства.
Они вышли на паперть, оба рослые, молодые, красивые, и нищие, гурьбой протянувшие руки за подаянием, откинули головы — словно бы солнце просияло в этот пасмурный осенний день. Молодых обсыпали зерном по русскому обычаю, под ноги им выплеснули вёдра воды — все эти народные старые обычаи ещё хранились в московской жизни. Окружённые весёлой гомонящей толпой, Маргарита и Александр чувствовали себя будто бы в отдалении от всех, они были поглощены друг другом, и им казалось, что они одни во всём мире.
Он подал ей руку, и она уже собралась, подхватив край длинного шлейфа, влететь в коляску, когда дорогу ей преградил высокий худой старец в рваной одежде и с длинной суковатой, гладко отполированной палкой в руке. Как он прорвался сквозь весёлую свадебную толпу, оставалось лишь удивляться.
Старик глянул на Маргариту выцветшими голубыми глазами, глубоко спрятанными под нависшими седыми косматыми бровями, стянул рваную шапку с нечёсаной сивой головы, поклонился ей в ноги и гнусаво сказал:
— Игуменья Мария, прими от меня сей посох! — И протянул Маргарите отполированную до блеска палку.
Александр уже хотел было отодвинуть старика плечом, закрыть от его взгляда сияющее, расцветшее лицо своей молодой жены, но Маргарита удивлённо вгляделась в старика.
— Подожди, Александр, такое бывает нечасто...
Александр подвинулся к старику поближе, лицо его не предвещало тому ничего хорошего.
— Дедушка, почему ты назвал меня Марией? — удивлённо обратилась к старику Маргарита. — Меня зовут Маргарита.
Этого старика, блаженного, юродивого, шатающегося по улицам Москвы, знали все. Суровый и непреклонный старик язвил богачей и грозил своим посохом мерзавцам и негодяям, которых было много на Москве, и все побаивались его резкого, правдивого и страшного языка.
— Будешь Марией, — строго ответил старик. — Возьми мой посох, пригодится...
Маргарита взглянула на Александра, словно бы спрашивая его согласия и совета. Он недоумённо пожал плечами. Он и сам не знал, как поступить в таком случае.
— Возьми, — снова провозгласил старик, — пригодится...
Она протянула руку, затянутую в атласную перчатку, и ухватилась за скользкую ручку. Старик низко поклонился Маргарите и исчез в толпе, словно его и не было...
Маргарита влезла в экипаж с этой гладкой палкой в руке и огляделась, ища, куда бы её поставить. Но во всех углах палка просто упала бы, и всю дорогу до самого дома, где проходило свадебное пиршество, она держала её в руке. Выходя из коляски, невольно подпёрлась ею.
Увидев палку в руке дочери, недоумённо уставились на неё отец и мать, встречавшие новобрачных у порога дома. И опять поискала Маргарита взглядом, куда бы её поставить, и не нашла места. Так, с палкой юродивого в руке, она и вошла в дом.
Долго продолжался свадебный пир в доме Нарышкиных, много провозглашалось тостов, кричали извечное «горько», и смущённые новобрачные поднимались с места и прикладывались губами друг к другу, гремела музыка с хоров, и скользили по наборному паркету пары, целовали Маргариту младшие сёстры и братья, и сверкали паникадила тысячами свечей.
Но вот приблизилась полночь, и Александр с Маргаритой тихо встали со своих мест, выскользнули в полутёмную прихожую и вышли на крыльцо под ясное вызвездившееся небо.
Они сели в коляску, и тройка лошадей помчала их в новый дом Тучкова, который он снял для себя и своей молодой жены. Купить дом ему было не по средствам, а родители Маргариты не смогли выделить ей новое приданое: всё уже было расписано по всем детям — каждый получал свою долю. Первое приданое Маргариты почти всё досталось первому мужу, но ни Александр, ни Маргарита ни словом не заикнулись об этом. Что им было до денег, до вещей, если они были вместе!
Их встретили лишь одна дворовая девушка, которую отпустила с Маргаритой Варвара Алексеевна, да старая повариха, жившая ещё в доме Тучковых. Обе поздравили молодых, а те были рады, что шумное сборище осталось позади и теперь они будут вдвоём, только вдвоём.
Он нежно и трогательно поцеловал её в губы, прижал к себе, и у неё от избытка чувств и долгого ожидания этой минуты наедине хлынули слёзы.
— Мне казалось, — твердила она, — что никогда этого не будет, что мы расстанемся навсегда. До самой последней минуты мне не верилось, что ты станешь моим супругом...
— Успокойся, Маргарита, — шептал он, — никогда больше мы не разлучимся, мы всегда и везде будем вместе...
— Но если ты пойдёшь на войну, я не переживу этого, — ещё горше заплакала Маргарита, — обещай, что, если это случится, ты непременно возьмёшь меня с собой...
— Конечно, любимая, разве я смогу хотя бы одну минуту пробыть без тебя?
— Я буду твоим адъютантом, твоим слугой, твоим денщиком, буду чистить твои сапоги, только не оставляй меня одну, всегда бери меня с собой.
— Клянусь, — весело ответил он.
Наутро Варвара Алексеевна приехала в дом старшей дочери.
Позади её коляски тащился целый воз всякой утвари. Маргарита выскочила на невысокое крылечко без перил и без навеса.
— Маман! — закричала она, — Зачем, у нас есть всё, что нужно для нашей походной жизни...
— Вот именно — для походной жизни, — ворчливо отвечала мать, вылезая из старой коляски, — а вот о всяких мелочах ты и не подумала.
И она приказала дворовой девушке, которую привезла с собой, поварихе Маргариты и кучеру перетаскивать в дом перины, покрывала, подушки, сундуки, набитые материями, кухонную и столовую посуду.
Все такие вещи Маргарита доставила в свой новый дом раньше, всё, что осталось ей от первого приданого. И всё у неё было. Но, увидев, с каким осуждением и недовольством ходила мать по тесному крохотному дому, Маргарита вскипела и почти закричала на Варвару Алексеевну:
— Если вы думаете, маман, что я нищая, то вы глубоко заблуждаетесь, я самая богатая женщина на свете, у меня есть такое сокровище, о котором мечтают все девушки! И только мне посчастливилось его заполучить...
И вдруг мать подошла к ней, прижалась всем своим большим тяжёлым телом, положила голову ей на плечо и заплакала горькими бабьими слезами.
— Да ведь ничего мне не жалко для тебя, кровиночки моей, а как подумаю, что ты на мою старенькую подушку будешь голову класть, так мне хоть охапку соломы под голову, лишь бы тебе было сладко на моей подушке спать...
И Маргарита обняла мать, почувствовала всё тепло её души и тоже заплакала вместе с ней.
Такими, плачущими в объятиях друг друга, и застал их Александр, вышедший из своего кабинета. Маргарита повернула к нему залитое слезами лицо и проговорила:
— Навезла мне мама всякой всячины, чтобы мне лучше жилось в новом доме.
Александр нахмурился: не понравились ему эти слёзы и подушки.
— У нас в доме, — строго сказал он, — есть всё, что нам необходимо.
Варвара Алексеевна оторвалась от Маргариты и произнесла, утирая слёзы:
— Что ты её слушаешь, ничего я не навезла, а привезла только палку, которую ей юродивый подарил. На счастье, знать, подарил...
Она сходила за этой гладкой, отполированной руками палкой, торжественно поставила её в красный угол и сказала:
— Негоже оставлять подарки в чужом дому...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Тихонько перебирали копытами вороные, шестёркой запряжённые в погребальную колесницу, кони, низко над глазами их нависали чёрные султаны, неслышно, почти не гремя колёсами, катился катафалк.
Константин стоял на углу Невского и Морской, слегка поодаль от императора, своего отца, и устремлял глаза на обитый чёрным гроб, торжественно возвышающийся в середине колонок катафалка, на бархатные подушки — их несли на вытянутых руках маршалы и генералы, на сверкавшие золотом кругляши наград, которые никогда не надевал при жизни Александр Васильевич.
Гвардия не почтила своим уважением умершего полководца, генералиссимуса армии — император запретил ей сопровождать гроб до Александро-Невской лавры. Вдоль улицы лишь шпалерами стояли солдаты, рядовые армии, оставляя свободным только узкий проход для шестёрки погребальных лошадей.
Но позади солдат колыхалась и текла людская река — весь Петербург вышел проводить первого героя, старого Суворова, одно имя которого наводило ужас на противника.
Император не поехал вслед за погребальной колесницей. Он долго ждал выноса тела из дома Хвостова, где в предсмертные минуты лежал старый полководец. Приготовленный для него раньше дворец пустовал: в самые последние дни Суворов снова подвергся такой опале Павла, что по сравнению с ней ссылки его в деревню казались пустяками.
Константин изредка взглядывал на Павла. Ну почему отец был так жесток к человеку, покрывшему неувядаемой славой самое имя России? Почему прислушался к наветам и шепоткам старых паркетных интриганов, почему одно лишь не отменённое Суворовым правило о дежурстве генералов стало поводом для отрешения его от всех должностей?
Константин многое домысливал, но в основном судил верно: отец боялся Суворова, боялся, что повернут полки вверенной ему всей армии против престола, воздвигнут нового императора. Какая глупость! Никогда Суворов ничего не замысливал против трона, никогда и в голову ему не приходило помыслить что-либо подобное. Уж он-то, Константин, хорошо знал Суворова, чтил его, потому что воочию видел его гений. Поначалу в кампании и он легкомысленно отнёсся к своему положению волонтёра высочайшего двора, и ему хотелось руководить действиями самого Суворова. Но случай под Бассиньяно, а потом и другие боевые действия убедили его в том, что умишко его ещё слаб и неопытен и что возместить это можно только отвагой, молодым задором, стремлением оказываться во всех самых горячих сражениях. И он рвался в бой, поняв, что полководца лучше Суворова ему никогда не увидеть, он учился у него, но понимал, что он, Константин, неловкий и неповоротливый, способен лишь повиноваться, рваться под пули и картечь да оказывать армии посильную помощь тем, что имел он в своих руках.
И он старался оказывать эту помощь. Когда изнурённая, голодная армия спустилась в долину после невиданного перехода под огнём французов через горы и знаменитый перевал Сен-Готард, оказалось, что союзники не подготовили для этой измученной армии никакого продовольствия и снаряжения, ничего из того, что обещали. Сжав зубы, процедив по поводу лукавых австрийцев немало гневных и грязных слов, Константин приказал закупить провиант на свои собственные деньги, благо император отряжал ему в год до 500 тысяч рублей. Он остался без единой копейки, зато солдаты получили мясо, одежду, обувь, свежих лошадей. А Сен-Готард? Разве можно забыть этот немыслимый переход через Альпы! И опять союзники не привели вовремя мулов, на которых можно было бы перевозить орудия и боеприпасы. Константин предложил пока использовать казачьих лошадей, чтобы выйти из положения, в которое австрийцы поставили армию.
Старый полководец писал государю:
«Его высочество всю нынешнюю многотрудную кампанию и ныне на вершинах страшных швейцарских гор, где проходил мужественно все опасности, поощряя войско своим примером к преодолению трудностей и неустрашимой храбрости, изволил преподавать полезные и спасительные советы. Всегдашнее присутствие его высочества перед войсками и на гибельных стремнинах гор оживляет их дух и бодрость. История увековечит его похвальные подвиги, которых я имел счастье быть очевидцем...»
Нисколько не преувеличивал заслуг юного великого князя Суворов, всегда сдержанно относившийся к похвалам.
Павел не только гордился своим сыном, но теперь всё чаще и чаще сопоставлял его с Александром — нет, император не забыл, что его матушка, Екатерина, прочила Александра в цари, минуя Павла. Может быть, потому и подписал он такой манифест, который давал Константину возможность стать наследником престола:
«Видя с сердечным наслаждением, яко государь и отец, отличные подвиги храбрости и примерное мужество, которое во все продолжение нынешней кампании против врагов царств и веры оказывал любезнейший сын наш его императорское высочество великий князь Константин Павлович, во мзду и вящее отличие жалуем ему титул цесаревича...»
Этот манифест во многом послужил охлаждению братьев, этим Павел словно бы грозил Александру — будет и ещё один наследник престола, и кто знает, кому предпочтёт отец завещать трон. Титул цесаревича был навсегда соединён с той особой, которая «действительно в то время наследником престола назначена».
Бриллиантовая шпага была вручена Константину с прибытием его в Петербург, а сардинский король почтил Константина орденом Анунциаты с цепью — высшим орденом королевства. Даже император Франц наградил великого князя военным орденом Марии-Терезии с лентой.
На другой же день после выпуска манифеста о титуле цесаревича Павел потребовал, чтобы Константин вернулся. Кампания закончилась, австрийцы показали свою лукавую суть, и Павел отказался продолжать воевать за интересы австрийского двора. «Герой, приезжай назад. Вкуси с нами плоды дел твоих», — написал император сыну.
В Аугсбурге Константина встретил старый знакомец князь Эстергази. Обменявшись любезными приветствиями и поздравив Константина с наградами и высочайшим титулом, князь неожиданно сделал ему странное предложение: взять на себя миссию посредничества между двумя государями — Павлом и Францем, уладить отношения между разошедшимися державами, поскольку все недоразумения вытекали лишь из несогласованных действий обоих кабинетов.
Константин внимательно глянул на высокопоставленного сановника. Его кольнуло это предложение — фраза, что, мол, только несогласованность кабинетов и министров вызвала эти недоразумения. Разве сам он не был свидетелем истинного лица Австрии, которая лишь использовала русскую силу для своих интересов, ничем не помогая русской армии?
Но он ушёл от прямого ответа.
— Я в армии, — сказал он, — не более как волонтёр, и все дипломатические сношения между венским и петербургским дворами мне вовсе неизвестны. Да и могу ли я без воли и желания моего отца, без позволения императора входить в какие-либо дипломатические сношения с иностранными дворами?
Князь, тряся седой головой, хотел было возразить на эти доводы, но Константин холодно сказал:
— Теперь, когда я вижу в вас, князь, дипломатическое лицо, я вынужден, к моему глубочайшему сожалению, изменить прежнее моё обращение с вами. Теперь мы не друзья, как были раньше, а просто волонтёр и высокого ранга дипломатический представитель чужой страны. Прощайте, князь...
Эстергази ничего не оставалось, как сразу же покинуть великого князя.
Мельком глянув на отца, вытянувшегося в седле, окружённого блестящей свитой, Константин заметил, как по щеке императора поползла крупная слеза. Мгновенно слёзы полились и у Константина: он не думал, что отец, тиранивший Суворова в последние месяцы его жизни, способен был всё забыть и плакать о великом человеке.
А людская волна, запрудившая весь Невский, всё катилась и катилась за погребальным катафалком, и не было ей конца...
Из Аугсбурга Константин заехал в Кобург — там во всё время его отсутствия жила его молодая жена Анна Фёдоровна. Но герцог и герцогиня Кобургские встретили его не очень приветливо — они уже знали от дочери, что Константин плохой семьянин, что он мучает жену, фаворитками его становятся женщины всё более и более низкого происхождения, а жена забыта и заброшена. Словом, родители Анны Фёдоровны дали понять Константину, что недовольны его поведением, косвенно высказывали свои взгляды на семейную жизнь, и пребывание это оставило у великого князя более чем удручающее впечатление.
Анна Фёдоровна должна была покинуть свой родовой замок, уехать в постылый Петербург, и Константин ничего не сделал для того, чтобы хоть как-то скрасить её расставание с родителями. Он хмуро ждал, когда она пересядет в его карету, и молчал почти всю неблизкую дорогу.
Зато в Петербурге лицо его расцвело. Отец восторженно встретил сына — в его честь была воздвигнута триумфальная арка, а торжества по случаю его приезда длились больше недели. Балы, обеды, спектакли — всё было в честь героя.
И всё более подозрительно и холодно смотрел на брата Александр.
Константин смутно догадывался о причинах такого охлаждения старшего брата и по-солдатски решил объясниться с ним начистоту.
— Александр, — торжественно сказал он, едва они остались одни на просторной аллее Царского Села, — в последнее время ты отдалился от меня, всё более ищешь общества Адама Чарторыйского, да и других твоих новых друзей. Я хочу только одного: чтобы ты знал, если когда-нибудь ты станешь государем, более верного и преданного помощника и подданного, чем я, у тебя не будет.
Александр с удивлением смотрел на круглое, курносое, не слишком красивое лицо младшего брата, покрасневшее от усилий выразить свои мысли достаточно чётко и просто.
— Я всегда был уверен в этом, — негромко ответил он. — Но к чему ты...
— Батюшка теперь отличает меня больше других, но, поверь, я служил и служу верно царю, отечеству...
Бело-розовое, несколько женственное лицо Александра тоже слегка покраснело, но как-то пятнами, на щеках, на маленьком и слишком округлом подбородке, даже на высоком белом лбу.
— Завидую я тебе, Константин, — негромко сказал он, — ты был в настоящей кампании, а меня государь не отпустил. И вот ты герой, а у меня будни — смотры, парады, разводы. — Ив порыве былой молодой откровенности, вовсе понизив голос, продолжил: — А каково, если перед всеми генералами, офицерами, солдатами тебе в лицо кричат: «Вам свиньями командовать, а не людьми!..»
Константин поднял голову, глаза его с жалостью и любовью смотрели на брата.
— Батюшка, — тихо промолвил он, — бывает сердит и суров, но поверь мне, он добрый и щедрый человек.
— Никогда не знаешь, — ответил Александр, — что ему понравится, а что нет.
— Я всегда буду тебе верным слугой, — так же тихо повторил Константин.
Константин обнял своего коротышку брата — голова его возвышалась над ним почти на половину, — и Константин обхватил плечи Александра. Они постояли, обнявшись, потом, опомнившись и оглянувшись по сторонам — не видел ли кто их братских объятий, — словно стыдясь, разошлись в разные концы тёмного, заросшего зеленью, сада.
Очень скоро Константину пришлось убедиться в справедливости слов Александра.
Как и прежде, Константин был в чине инспектора кавалерии и должен был приходить на смотры и разводы, пропустить которые не смел никто из офицеров и высших командных лиц. Однажды после развода Павел, очень довольный муштровкой полка, пригласил к обеду и своих сыновей, а за столом стал расспрашивать Константина об Италии, о поведении там солдат и офицеров, завёл разговор и о знаках отличия и особых воротниках на мундирах младших чинов.
— Что знаки, — весело ответил Константин, — вот с алебардами в Италии солдаты справлялись хорошо: они топили ими костры. Четыре аршина высотой, колоть ими неудобно, а для топки годятся, другого-то дерева нет...
Павел внимательно слушал сына.
— Вот как, — неопределённо сказал он, — ну а как насчёт штиблет?
— А башмаки скидывали да топали босыми, потому как очень неудобно по горам да рытвинам. И в походе неловко, и полы у мундиров сильно загибаются...
— И ты можешь что-то предложить взамен? — спросил Павел.
Константин пожал плечами.
— Сумеешь показать свою обмундировку? — снова спросил Павел Константина.
И опять Константин неопределённо пожал плечами.
— Вроде не швейка, — смешливо ответил он.
— Швейка не швейка, а чтобы через пять дней показать новую обмундировку нижних чинов, удобную и нарядную...
— Постараюсь, государь, — скромно потупился Константин.
А у самого запрыгали внутри смешинки — не раз говорил ему Суворов, как неудобна нынешняя форма для нижних чинов и рядовых, и даже показывал на бумаге, какую форму надо было ввести в армии для удобства в походах и сражениях.
Ровно через пять дней Павел явился в специально отведённую для смотра залу. Перед ним стояли навытяжку несколько нижних чинов и рядовых в уже сшитой по меркам и фасону самого Константина форме, Константин, гордый срочно сделанной работой, внимательно следил глазами за выражением лица государя. Вместо похвалы услышал он вдруг гневные выкрики отца:
— Я вижу, что ты хочешь ввести потёмкинскую форму в мою армию!
Константин побледнел: знал, как ненавидел отец давно умершего Потёмкина, всякое напоминание о его победах было для него острый нож.
И верно, форма немного напоминала потёмкинскую, не слишком, конечно, но была просторна и удобна.
— Прочь с моих глаз! — проревел император и выбежал из залы.
Растерянный и побледневший Константин приказал солдатам отправляться в казармы и снять новую форму, не показываясь нигде.
С этих пор не было случая, чтобы Павел не уколол младшего сына выговором, бранью, распеканием за недосмотр.
В полной мере познал Константин несправедливость и жестокость отца на декабрьском параде войск. Императору почудилось, что Конногвардейский полк, шефом которого был Константин, недостаточно чётко выполнил все экзерциции, и он велел полку убраться с глаз долой и стоять в Царском Селе, не смея показываться в столице. Тем же строем под тот же барабанный бой весь полк промаршировал в Царское Село в отчаянный мороз в одних мундирах. Вместе со всеми скакал впереди солдат и Константин.
Казарма для солдат была относительно тёплая, и Константин позаботился о том, чтобы и конюшни тоже были натоплены. Подумал он и обо всех мелочах быта конногвардейцев. А вот для себя у него не было времени подготовить жильё. У него в Царском был дворец, купленный ещё бабушкой, Екатериной Второй, для внука Константина, у фаворита Ланского. Но никто не предполагал, что этот летний дворец может стать и в зимнюю стужу пристанищем для Константина и его свиты. Мало этого, даже Анне Фёдоровне пришлось переселиться в этот дворец и много дней зябнуть от жестокого холода: дворец не топили всю зиму, да и не приспособлен он был для зимнего житья. Константин и его свита вынесли холод без особых натуг, а Анне Фёдоровне пришлось туго. Она жестоко простудилась и долго лежала в горячке.
Гнев отца можно было умерить только одним — сильной муштровкой, безукоризненным знанием всех приёмов парада и боя. Константин с утра до глубокой ночи проводил время на плацу, тщательно отрабатывая с гвардейцами все элементы.
Кончилась зима, настала тёплая весна, и конногвардейцы были допущены к параду. Теперь их строй отличался чёткостью, а лошади как будто слушали полковую музыку и легко, красиво поворачивались со всадниками во всех перестроениях полка.
Павел весело смотрел на сына и приказал ему вернуться с полком в Петербург.
Теперь Константин получил новое назначение: инспектор кавалерии был послан Павлом на австрийскую границу ревизовать дела в полках лёгкой кавалерии, расположенных там.
Зная пристрастие своего родителя, Константин и здесь работал не покладая рук. Во все дни его инспекции снова и снова строились и перестраивались конники, ходили в атаки, спешивались и вновь вскакивали на коней, и Константин распекал начальников, слишком вольно живущих вдали от государева глаза.
Впрочем, инспекцию скоро пришлось отменить. Государь вызвал младшего сына на освящение нового жилища императора и всей его семьи — Михайловского замка.
Павел решил собрать под одной крышей всю свою семью — он отвёл помещения для Александра с Елизаветой Алексеевной и для Константина с Анной Фёдоровной, переселив их из отдельных дворцов, где они жили своими семьями. Константин недовольно поморщился, узнав о том, что придётся жить бок о бок с отцом, всеми своими братьями и сёстрами. Конечно, большая и дружная семья — это очень романтично и по старым русским обычаям, но теперь ему не будет хватать свободы, времени на свои тайные удовольствия и приключения. Всегда на глазах императора, стражи, матери, родственников...
Однако когда он впервые пошёл по широченной парадной лестнице с гранитными ступенями и тяжеленными перилами из серого мрамора, увидел гвардейцев, вытянувшихся перед входами в парадные апартаменты, сердце его дрогнуло от красоты и суровости дворца. А когда он прошёл Белый, или Воскресенский, зал и открылись высокие тяжёлые двери в Большой тронный зал, то так и застыл на месте. Стены, затянутые тёмно-зелёным бархатом, расшитым золотом, венчались искусной золотой резьбой, а у одной стены на этом фоне резко выделялся золотой трон под роскошным балдахином из пунцового бархата, затканного золотым шитьём.
В день архистратига Михаила началось освящение дворца. Гром пушек сопровождал шествие царя и всей его семьи, сановников и вельмож от Зимнего дворца до нового жилища императора. Войска, построенные в почётном карауле, застыли, как каменные статуи. Нарядные, в парадной форме, они радовали глаз Константина новой обмундировкой, чётким, строгим строем, ровными линейками шеренг и колонн.
Павел разрешил всем самым знатным людям государства присутствовать на освящении нового дворца и осмотреть Михайловский замок. Убранство дворца вызвало восторженные толки и разговоры в Петербурге, но стены и перекрытия ещё не успели просохнуть, в залах стоял туман, тысячи огоньков свечей едва проглядывались сквозь мутное марево, и большинство великолепных залов, статуй, картин пропало для глаз восхищенных зрителей. Гости едва различали нежный бархат и роскошную обивку стен, плафоны, расписанные выдающимися мастерами живописи.
Ещё месяцы прошли до тех пор, пока царская семья смогла поселиться в своём новом доме. Константин многие вёрсты прошагал по замку, разглядывая творения старых мастеров живописи и скульптуры, необычайные по вкусу и изяществу помещения покоев матери, отца, свои и Александра. Первые дни жизни во дворце он всё время ходил и рассматривал, удивляясь тому, как сумел отец в такой короткий срок сделать весь замок удивительным произведением искусства.
Впрочем, во дворце надо было жить, и жилые помещения обставлены были довольно просто. А кабинет самого Павла перегораживался ширмами, за которыми стояла обыкновенная железная кровать с кожаным матрацем и плоской кожаной подушкой. Сын всегда пытался подражать отцу, и в его покоях тоже всё было скромно — железная походная кровать, большой просторный письменный стол, несколько кресел и стульев да широкий камин с мраморной доской над ним. Здесь собрал Константин все подарки и сувениры бабушки, мелочи и безделушки, которые радовали его глаз и отвлекали от мыслей о службе.
Только сорок дней прошло с тех пор, как поселился Константин в Михайловском замке. Никогда ещё не видел он, чтобы так строг, требователен и несправедлив был к нему и Александру отец. Он всё время с подозрением смотрел на них, оглядывал с головы до ног, окидывал таким же подозрительным взглядом жену, Марию Фёдоровну, и Константин терялся в догадках: чем же не угодил он государю, чем опять недоволен отец — и старался как можно исправнее нести свою службу. Но доклады и рапорты императору превращались в пытку, из каждого пустяка умел делать отец целую драму, и ничего, кроме брани, сердитых окриков, злобной воркотни, не слышал Константин за всё последнее время. Хуже того, указом 11 марта Павел вдруг приказал посадить под домашний арест двух своих старших сыновей. Они похолодели: неужели отец решил засадить их в Петропавловскую крепость, а мать — в монастырь, а потом жениться на княгине Гагариной, с которой давно уже сообщался по потайной лестнице? Такие слухи и недомолвки носились при дворе, и лишь по оброненным фразам да отрывочным словам догадывались братья о судьбе, предназначенной им императором.
Утром, как всегда, прибыл во дворец полковник Саблуков, обычно отдающий по утрам рапорт Константину о состоянии Конногвардейского полка, шефом которого был назначен Константин. Но он не нашёл великого князя. Ему сказали, что император со своими старшими сыновьями удалился в Михайловскую церковь.
Саблуков удивился странному приказу, полученному им рано утром, — дежурить по полку. Его эскадрон должен был заступить в караул во дворце, а его неожиданно оставляли на месте, да ещё и самому Саблукову приказали находиться при полке неотлучно. Что это значило, Саблуков не понимал, но так и не смог добиться встречи со своим непосредственным начальником — Константином. Когда он уже под вечер прибыл снова во дворец, конвойный гвардеец заступил ему дорогу.
— Не велено пускать никого, — чётко отрапортовал он в ответ на объяснение Саблукова, что явился с докладом к великому князю Константину.
Саблуков возмутился: что всё это значит? Ему удалось уговорить гвардейца пропустить его в кабинет Константина.
— Великий князь под арестом, — тихо сказал гвардеец.
Саблуков удивился ещё больше, но, войдя в кабинет великого князя, увидел его.
Константин был сильно взволнован, как всегда, в волнении он хлопал себя по карманам руками и принял Саблукова, оглядываясь, как будто страшась чего-то.
Саблуков начал свой доклад о состоянии полка и о странном приказе не являться на дежурство во дворец, а оставаться в полку. Константин проявлял мало внимания к словам полковника.
Много позже сам Саблуков так писал об этом:
«В кабинете Константина появился и Александр, имевший вид испуганного, крадущегося зайца.
Оба брата молча слушали про доклад.
Вдруг дверь отворилась, и появился государь в сапогах со шпорами, и шляпой в одной руке и с палкой в другой и направился, как на параде, прямо к нам. Александр, ни минуты не медля, побежал в свои покои. А Константин словно окаменел на месте, только руки его продолжали мелко и часто бить по карманам. Я обернулся и передал государю мой доклад о состоянии полка. Государь сказал:
— Ты дежурный?
Затем он дружелюбно кивнул и вышел. Тотчас в комнату опять заглянул Александр.
— Ну, брат, что ты на это скажешь? — спросил его Константин. — Разве я не говорил тебе, что он, — жестом показал он на меня, — не будет бояться?
Александр спросил меня, неужели же я не боюсь государя.
— Нет, — спокойно ответил я, — я исполняю мой долг и боюсь только моего шефа, великого князя Константина Павловича.
— Так вы ничего не знаете? — спросил Александр.
— Ничего, ваше высочество, кроме того, что я дежурный не в очереди.
— Я так приказал, — сказал Константин.
— К тому же, — заметил Александр, — мы оба под арестом...
Я засмеялся. Великий князь удивился.
— Отчего вы смеётесь?
— Оттого, — ответил я, — что вы давно желали этой чести.
— Да, — сказал Константин, — но не такого ареста, какому мы подверглись теперь. Нас обоих водил в церковь Обольянинов (генерал-прокурор) присягать в верности!
— Меня нет надобности приводить к присяге, — сказал я. — Я верен.
— Хорошо, — заметил Константин, — теперь отправляйтесь домой и смотрите, будьте осторожны...
Саблуков вернулся домой смущённый и полный дурных предчувствий.
А через два часа к нему прибыл фельдъегерь из дворца с приказанием немедленно прибыть во дворец. Саблуков сразу же отправился. Павел уже был в чулках и башмаках вместо сапог и спросил Саблукова:
— Вы якобинец?
— Так точно, ваше величество...
— Не вы сами, а ваш полк?
— Я, пожалуй, но относительно полка вы заблуждаетесь.
Император внимательно взглянул на Саблукова:
— Я знаю, что лучше. Караул должен удалиться...
Саблуков скомандовал караульным солдатам «направо марш», и они, чётко печатая шаг, ушли.
— Ваш эскадрон, — довольно дружелюбно сообщил император, — будет послан в Царское Село. Два бригад-майора будут провожать полк до седьмой версты. Распорядитесь, чтобы в четыре утра все были готовы вместе со своими пожитками.
А двух камер-гусаров он распорядился поставить на часах у своей опочивальни».
Этот караул Саблукова был последним караулом, верным императору. Он отослал его вопреки распоряжению Константина и тем ускорил свой смертный час...
Константин, посаженный под арест, ничего не знал о последних распоряжениях государя. Правда, он видел, как мрачен и суров за ужином отец, как нервничает и грустит Александр, как испуганно смотрит вокруг Мария Фёдоровна, а Елизавета Алексеевна не поднимает глаз от тарелки. Не знал Константин, что генерал-прокурор Обольянинов уже предупредил царя об измене, о заговоре против него, но ошибся, назвав замешанными в него и императрицу, и обоих великих князей. Потому и обстановка за последним ужином была как нельзя более напряжённой и нервной. Павел то и дело злобно и дико посматривал на свою семью, а перед самым удалением в опочивальню насмешливо остановился перед Марией Фёдоровной, скрестив руки и злобно пыхтя: Этот жест всегда означал у него крайнюю степень нерасположения, затем он повторил этот жест перед обоими сыновьями и лишь потом ушёл, не попрощавшись перед сном со своими близкими. Мария Фёдоровна заплакала, тоже ушла, сморкаясь в кружевной платочек, а Константин и Александр переглянулись, пожали плечами и отправились по своим апартаментам.
Константин сразу же завалился на свою походную кровать и крепко заснул. Александр же тайком подошёл к камер-фрау Гесслер с просьбой остаться в эту ночь в прихожей до появления графа Палена. «Когда он явится, войдёшь к нам и разбудишь меня, если я буду спать», — добавил он изумлённой такой просьбой камеристке.
В соседнем с его опочивальней покое сидели его адъютанты — Уваров, Волконский, Бороздин. А он лежал одетый на кровати и прислушивался к каждому шороху.
Гесслер не входила в покой Александра, граф Палён не пришёл ещё. Но уже раздавались во дворце истошные крики, уже слышались хохот, топот сапог, уже звенели разбиваемые зеркала. Первым в спальню Александра ворвался Николай Зубов, несколько минул назад ударивший царя в висок золотой табакеркой, зажатой в кулаке. Удавленный заговорщиками император уже лежал на своей железной койке, кое-как приведённый в порядок...
— Ваше величество, — голос Зубова снизился до шёпота, — ваш отец скончался...
Александр рывком повернулся от стены, поднялся, и страшная гримаса исказила его лицо. Полковник Бороздин подскочил к наследнику, подхватил его под мышки — Александр побледнел и повалился на пол, но, поддержанный Бороздиным, быстро оправился и отошёл к окну.
О чём думал он в эти первые минуты после убийства отца? Наверное, о том, что всю жизнь не будет давать ему ни сна, ни покоя эта смерть, которую поощрил он сам, одобрив весь заговор. Разве мог он даже предположить, что отец его отречётся от престола, но он тешил себя этой мыслью, заглушая здравый смысл.
Поручик Полторацкий вбежал в спальню Александра. Тот сидел, свесив голову, в кресле, без мундира, но в штанах, с синей лентой поверх жилета. Полторацкий отдал честь, громко выкрикнул:
— Поздравляю, ваше величество!
— Что ты, что, Полторацкий, — запротестовал Александр.
Палён и Бенингсен приблизились к новому императору.
— Как вы посмели! Я никогда этого не желал и не приказывал!
Он вскочил и опять повалился на пол. Палён кинулся на колени:
— Ваше величество, теперь не время... Сорок два миллиона человек зависят от вашей твёрдости...
Он обернулся и резко сказал Полторацкому:
— Господин офицер! Извольте идти в караул! Император сейчас выйдет!
Он действительно вышел. Бледный, дрожащий, но твёрдый, он сделал несколько шагов и, заикаясь, произнёс:
— Батюшка скончался от апоплексического удара. Всё будет при мне, как при бабушке...
Громкое «ура» раздалось со всех сторон. А Константин всё ещё спал на своей походной железной койке. Пьяный Платон Зубов ворвался в его опочивальню, адъютанты задерживали его, но он сообщил им о смерти Павла, и мгновенная тишина настала в прихожей. Платон грубо сдёрнул с Константина одеяло, на него пахнуло запахом перегара.
— Ну, вставайте! — закричал Платон. — Идите к императору Александру, он ждёт вас.
Константин ещё не совсем проснулся, дерзкая речь Зубова привела его в странное состояние: ему казалось, что он ещё спит и видит кошмар. Но Платон был живым видением, а не фантомом. Он стащил Константина за руку с постели, бросил ему сюртук, панталоны, сапоги. Константин машинально надевал, всё ещё не очнувшись от сна, последовал за Зубовым. Не забыл Константин, однако, захватить свою польскую саблю.
Вбежав в комнату брата, Константин увидел Александра в слезах и пьяного Уварова, сидящего на мраморном столе.
— Отца больше нет, — сказал брату Александр.
Рука Константина сама собой потянулась к сабле — он понял слова Александра так, что заговор был обращён против всей императорской фамилии, и приготовился обороняться, во всяком случае, дорого отдать свою жизнь, защищая честь и достоинство престола.
Он склонился к Александру и услышал его шёпот:
— Они твёрдо обещали мне, что сохранят батюшке жизнь...
Константин отшатнулся от брата.
— Ты будешь мне верен? — негромко произнёс Александр.
— Присягаю первым, — так же тихо ответил Константин.
— Едем отсюда в Зимний, — поднялся Александр, — ты мне нужен, я полагаюсь на тебя. Здесь мне всё постыло...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Как преобразует этот мир луна, какие удивительные краски, отблески, полосы создают чистое небо и ночное светило на нём, какими странными и нереальными кажутся в этом свете все вещи, и вся дневная жизнь с её суетой отступает, становится ненужной и даже отвратительной в этой голубоватой, перламутровой дымке лунной ночи. Яснее, отчётливее проступают скрытые в глубине души чувства, оттенки любви и добра, как будто обнажаются скрытые пружины потаённого мира, хранящегося в душе человека! Так думалось Маргарите, когда она от окна смотрела вглубь комнаты, освещённой этим призрачным нереальным светом. Да и вообще существует ли дневной мир с его суетой и видимой реальностью, существуют ли еда и заботы или под покровом суеты мы лишь забываем о том, каков на самом деле мир Вселенной, каковы мотивы и причины, лежащие в основе всех дневных поступков человека? Такие мысли приходили ей, и она была вея охвачена какой-то неземной жалостью ко всему живому, не освещённому этим призрачным светом, не выступающему в своей естественной сути на ярком солнце.
— Я только теперь понял удивительные слова из «Песни песней», — тихо сказал Александр, — только в таком нереальном свете можно понять до глубины души эти строгие и спокойные слова.
И он, тоже охваченный лунным пламенем, начал читать эти строки:
— Нельзя сказать лучше, — снова прошептал он, — но в этом свете вся ты прозрачна, словно облако под луной...
— Ты преувеличиваешь, — засмеялась Маргарита, — просто лунный свет заставляет по-другому смотреть на мир! Да и вообще, что знаем мы о нашем мире, если взираем на него лишь своими несовершенными глазами...
— Иди ко мне, — протянул он руки, — под этим лунным светом и наша любовь кажется мне нереальной, тонкой, пронизанной лунными отблесками, словно сеть, в которую мы попали оба и никогда от неё не освободимся...
— И стоит ли освобождаться? — в тон ему ответила она. — Разве это не самый прекрасный плен из всего, что существует на свете, разве это не самый пленительный сон, в котором мы спим и не хотим пробуждаться к грубой реальности жития?
— Древние знали мир лучше, если могли о нём сказать такими словами, что до сих пор волнуют и тревожат сердце:
Он опять протянул руки, она тихонько склонилась в эти крепкие объятия, и губы их слились в долгом и страстном поцелуе.
— Я боюсь только одного, — прошептала она, — что ты просто видение, мой неощутимый сон, боюсь проснуться и не увидеть тебя рядом...
— Клянусь, — ответил он, — ты будешь со мной везде. Я и не думал никогда, что любовь может быть такой жадной и требовательной. Но если любят, каким прекрасным должен быть мир, как все должны смотреть друг на друга!.. А между тем в мире столько зла, столько беззакония и гадости...
— Что нам до этого, есть мы с тобой, а больше нам не нужно никого...
Но оказалось, что в мире, кроме них, так много дел и суеты, что и они не остались в стороне от реальности с её страстями и войнами, кровью и грязью.
Едва прошло несколько дней их нежной и страстной любви, как загремели пушки на западе, и Александр вместе со своим Муромским полком должен был отправиться к австрийским границам, где снова в угоду желаниям правящих миром начинались кровавые схватки.
«Государь милостивейший! Повелением любящего сердца осмеливаюсь припасть с мольбой к стопам Вашего императорского величества о благодеянии: умоляю дозволить мне сопровождать мужа моего, Тучкова Александра Алексеевича, в походе к австрийским границам.
Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой дела вместе служить Престолу и Отечеству. Прошу Вашего разрешения выехать с мужем в действующую армию — не лелею никаких выгод для обеспечения собственной жизни, но имею надежду подарить себе счастье разделить с мужем марсовы испытания судьбы. Моя натура крепка, а идея и прожигающее душу чувство справедливости освящены внушениями христианской веры.
Рассчитываю на великодушие Вашего характера, прибегаю единственно к нему.
Вашего императорского величества верноподданнейшая Маргарита Тучкова».
Не посчитал возможным юный император разделить участь мужа с прелестной и верной женой, не разрешил сопровождать его, посчитал, что сей пример может захлестнуть и других жён офицеров.
Что ж, решила Маргарита, раз нет официального разрешения, она поедет за мужем его верным слугой, его денщиком. Отрезала роскошные волосы, спрятала оставшиеся под грубую шапку, оделась в грубый армяк и не менее грубые штаны, долго подбирала обувь денщика: её маленькая нога утопала в самых малых сапогах. Но оделась и в ночь выезда Тучкова вскочила на коня.
В слезах и изумлении провожала дочь старая Варвара Алексеевна — никто ещё из жён дворян не осмеливался так себя преобразовать.
А Александр Алексеевич лишь любовно посматривал на жену да нарочито резким голосом приказывал стаскивать с него сапоги, подводить лошадь и делать ещё сотни незаметных вещей. Качала головой Варвара Алексеевна — что творит любовь с её старшей дочерью, какой завистливый и злобный шёпот провожает её.
— Не ты первая, — сказал Маргарите Александр, — жена моего отца, матушка моя, повсюду сопровождала его, хоть и не в таком звании и чине, что ныне ты присвоила себе...
Нет, матушка Александра не была так искусна в верховой гоньбе, не сидела на спине коня по-мужски, а уж если следовала за мужем, то в покойной карете, долгуше[16], с жаровней и периной, на которой можно было не только вздремнуть, но и вытянуться, укрыться пуховиками и так провести ночь в езде по колдобинам и ухабам. А уж сколько их встретилось на пути матушки Александра, можно было лишь догадываться.
Носило отца Александра по всей России, от самых южных пределов до Финляндии, строил он крепости, взрывал стены несдающихся цитаделей, наводил мосты, делал глубокие подкопы, а потом возводил стены и выводил круглые башни, окружал Россию со всех сторон каменными крепостями, закладывал крепкие фундаменты на пути набегающих на границы врагов.
Глава всех инженеров России, Алексей Васильевич Тучков в своей жизни сделал столько, что его дел хватило бы на два-три поколения.
Закончив инженерную школу, созданную ещё Петром Первым, уже при Елизавете он был послан на Семилетнюю войну. И тут его первые опыты по устройству подрывных, маскировочных и подкопных работ, временных переправ, ложных позиций, надёжных лагерей для войск были замечены самой императрицей и её командирами. Да только всё его искусство было похоронено Петром Третьим, сменившим Елизавету и сразу же заключившим мир с Пруссией, которым зачеркнул все победы и завоевания русских войск в этой нелепой войне.
Оценила дарования Тучкова-старшего лишь Екатерина Вторая: уже через год после восхождения на престол назначила она его капитаном инженеров «за трудоспособность и придумы, влекущие победы». А в кампании 1771 года отец Александра был пожалован чином подполковника, а потом и полковника всех инженеров России.
И всюду, словно тень, следовала за ним его молодая жена, Ульяна Петровна. Куда шлют мужа, туда едет и она. То в степи задунайские, отсиживается в деревенской избушке, когда муж строит фортификационные заслоны и укрепления, взрывает мосты и переправы на виду у противника. А потом отмывает, обихаживает, кормит мужа, не знающего отдыха от трудов, а между делом снова и снова рожает сыновей. Где в походе, где в крестьянской избе, где в главной квартире — немало детей родила и воспитала Ульяна Петровна. Первых схоронила — тоже были сыновья, да не вынесли тягот вечных фронтовых передвижений. Но пятеро поднялись достойными своего отца, крепкими да сильными, и все пятеро пошли на службу царю и Отечеству, как служил отец.
Знали все о легендарном прошлом отца — мать передавала им то, что знала сама, перечисляла имена, известные по баталиям и сражениям: то Румянцев, покрывший себя славой в Задунайском походе, то Суворов, знаменитый и простой для неё человек, с которым столкнулась она в Финляндии, куда отправился вместе с ним и Тучков для строительства крепостей на севере России. Слушали её сыновья и не понимали, как может мать так легко произносить эти имена, почему говорит о них запросто, разбирает характеры по косточкам, подсмеивается над неуживчивостью Суворова или над властной запальчивостью Румянцева. Для них, сыновей, имена эти давно вошли в историю, сделались предметом почитания и поклонения, а мать словно бы и не догадывалась, с какими людьми сталкивала её жизнь, рассказывала какие-нибудь смешные эпизоды, и сыновьям оставалось только удивляться на свою много знающую, но такую незаметную и скромную мать.
Александр родился, когда старшему из братьев Тучковых, Николаю, было уже семнадцать лет. Записанный кондуктором, как тогда именовали нижние чины инженерного корпуса, он уже в семнадцать состоял адъютантом главного начальника артиллерии, а затем его служебный список начал быстро пополняться. Уже к девяностому году прошлого, восемнадцатого столетия Николай был майором Муромского пехотного полка, в котором и находился сейчас Александр и в котором под видом его слуги скрывалась Маргарита. Но Николай давно покинул этот полк, продвигаясь по служебной лестнице через бои, сражения, фортификационные занятия на границе с Финляндией под руководством отца, а его подвиг в польской кампании заслуженно был отличен императрицей Екатериной.
В то время Николай был в резерве Великолукского полка. Кровавый бой между русскими солдатами и поляками уже затихал, всё поле было устлано трупами, и вдруг свежий отряд улан-пруссаков кинулся на отступающих повстанцев Костюшко, задумав предательски вырезать их. Весь день пруссаки выжидали, кто кого одолеет, и, лишь увидев, что русские отбили все атаки и заставили поляков бежать, кинулись на богатую добычу и беспомощных отступавших.
Тучков вылетел наперерез пруссакам и вынудил их отойти. Екатерина за этот подвиг наградила Николая Тучкова орденом Святого Георгия и сказала слова, которые до сих пор повторяли в семье Тучковых: «И впредь честь держи в ратном деле превыше всего...»
Николай теперь уже был генералом, а его участие в итальянской кампании Суворова было отмечено не одним орденом.
В эту русско-прусскую кампанию он был не в строю — инспектировал русские войска в Лифляндии. Новый император ознакомился с его дельной программой строительства новых крепостей и восстановления обветшавших, и Николай продолжал дело отца.
Служил и Алексей, другой брат Александра, да не вынес самодурства графа Аракчеева и вышел в отставку генерал-майором. Он купил у наследников князя Потёмкина обширнейший дом в Москве и устроил там картинную галерею — Алексей слыл великолепным знатоком старой и новой живописи. Московское дворянство уважало Алексея Алексеевича, и скоро он из попечителей Московского университета сделался предводителем московского уездного дворянства.
А Сергей Алексеевич воевал теперь где-то на юге — постоянные схватки с персидскими воинами надолго оторвали его от главного театра войны в Европе.
Многими орденами за свои боевые дела был награждён и последний перед Александром брат Павел. Так что вся семья Тучковых была исключительно военной, и для них не было чем-то поразительным то, что Маргарита собралась на войну вместе с мужем Александром. Разбросанные по разным уголкам России, стоявшие на страже её границ по всей протяжённости, они тем не менее знали всё друг о друге, постоянно переписывались, делились военными новостями, знали, где кто находится и как идут дела у того или иного брата. Это была очень дружная семья.
Маргарита даже позавидовала Александру — он был младшим в семье, и братья советовали ему, как поступать, хотя и отличался младший большой самостоятельностью. А Маргарита была самой старшей, за ней шли и к ней прислушивались младшие братья и сёстры, она была для них знающей и опытной, потому и решала всё за себя только одна она.
В то же время она понимала, что труднее быть в семье младшим. Братья отнеслись к женитьбе Александра с некоторой настороженностью, ни один из них не приехал почтить новобрачных, а Ульяна Петровна ограничилась наскоро произнесённым благословением и тоже не появилась на свадебном пиру. Кто знает, чем руководствовалась семья мужа, но Маргарита чувствовала глухую враждебность и недоверие. То ли это были типичные предрассудки: мол, взял младший братец за себя разведенку, женщину, уже раз побывавшую в браке, — то ли понимали они, что брак этот не принесёт Александру ни богатого наследства, ни исконных связей в военной среде. Может быть, ещё и поэтому Александр знакомил Маргариту с историей своей семьи очень осторожно, опасаясь задеть её чувствительное сердце и оправдывая холодность братьев и матери то удалённостью от старой столицы, то усталостью, то участием в больших делах. Словом, он хорошо понимал, что должна испытывать Маргарита, окружённая со стороны его семьи неприязненным восприятием, и потому с усиленным вниманием подмечал все её повседневные мелкие хлопоты и старался своей заботой хоть как-то сгладить несложившиеся отношения между её и своими родственниками.
Впрочем, Маргарита как-то отбрасывала от себя эти несложившиеся отношения — ей было достаточно того, что Александр любит её, что она обожает своего мужа, что любовь их прошла испытание временем и устояла.
Ей вообще не было дела до той жизни, которая текла вне её семьи, она как-то равнодушно отметила и смерть императора Павла, и вступление на престол нового государя, Александра. Что ей было за дело до внешних событий, если любовь расцветала в её душе, если она, лишь взглянув на своего мужа, уже радовалась и улавливала в его больших голубых глазах отблески своего счастья?
Но жизнь властно вмешивалась в её сугубо интимные устремления. Всевластный Наполеон арестовал герцога Энгиенского, а потом расстрелял его. Это далеко, где-то во Франции, там Наполеон может позволять себе всё, что угодно, думалось ей. Но вся монархическая Европа возмутилась, особенно поражён был предательством Наполеона новый молодой император, до того искавший путей к миру на всём пространстве Старого Света. И какое дело было Маргарите до того, что император Александр искал теперь союзников для борьбы с узурпатором, уже присвоившим себе императорскую корону?
Между тем события века вторглись и в судьбу Маргариты. Договорились короли, монархи, двинули войска навстречу новоиспечённому императору французов, и Маргарита неожиданно оказалась в центре этих событий: её муж отправился на войну вместе со своим Муромским полком, и она не захотела оставаться одна, расставаться с ним ни на час. Погибнуть — так вместе, выжить — тоже вместе. А если он будет ранен, она зацелует его раны, её любовь залечит их.
И теперь она тряслась по ухабистым дорогам вслед за пылью, поднятой сапогами солдат, ехала на статном коне, которого вывела из собственной конюшни, и любовалась своим мужем, носившимся от головы колонны к её хвосту, усматривавшим малейшую оплошность и бранившим младших командиров.
Постепенно входила она во все детали его службы и частенько подавала советы, от которых Александр приходил в восторг.
Но она видела, как тяжело и медленно подвигается к границам Пруссии полк, как уныло тянутся за ним крестьянские телеги с уставшими и больными солдатами, а за ними целый хвост офицерских кибиток и колясок со скарбом и провизией, со слугами и посудой, мягкими пуховиками и жаркими перинами, видела офицерских жён, которым разрешено было ползти вместе с мужьями по нелёгким трактам. С трудом двигался полк, едва делая в сутки по десять-двенадцать вёрст.
А когда пошли проливные дожди, и вовсе стало невмоготу: грязь разбитых ухабов засасывала колёса кибиток и повозок, солдаты подставляли свои плечи, вытаскивая из болотистой колеи рыдваны и тарантасы, понукали и без того выбивавшихся из сил лошадей и оставляли на обочинах то павшую лошадь, то сломавшееся колесо, то целую кибитку, изломанную внезапным падением.
Следы движения полка отмечались этими остатками по сторонам дорог, но полк всё-таки подвигался к границам незнакомой страны, чтобы вступить в бой с неприятелем, ждавшим его.
И вдруг в самый разгар похода пришло Александру неожиданное назначение — его переводили в Таврический гренадерский полк. Маргарита не успела даже обрадоваться этому перемещению — Муромский полк продолжал своё следование к границам Пруссии и Австрии, а Александру повелевалось прибыть к гренадерскому полку и вместе с ним начинать поход под Галымин.
Сборы были недолгими. Часть снаряжения, обоз с припасами, верные кони, шпоры и сабли тотчас были приставлены к делу. И снова поскакал Александр вместе с женой, всё ещё прятавшей свои отрастающие волосы под грубую денщицкую шапку, к новому назначению.
Теперь Маргарите не приходилось поспешать медленно — они скакали с Александром в сопровождении небольшого отряда казаков, от скорости передвижения захватывало дух.
Командующим армией был тогда старый вельможа екатерининских ещё времён, Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Но командующим он был только по названию: приехавший к армии император всем распоряжался сам, не слушал советов старого полководца, а потом и вовсе отправил его в ссылку, правда, довольно почётную, военным губернатором в Киев.
Командующим остался Бенингсен, тот самый, что сыграл такую ужасную роль в убийстве императора Павла.
Александр Тучков присоединился к Таврическому полку почти накануне сражения при Галымине. Он не успел освоиться с солдатами, которыми поручалось ему командовать, лишь мельком оглядел ряды полка, часть которого состояла из кавалеристов, бравых улан, а часть оставалась пешей, но была хорошо обучена метанию ручных гранат.
Обозы, а с ними и Маргарита, остановились вёрстах в пяти от местечка, где уже находились французские войска. Лесок и поле перед ним накануне достаточно хорошо были укреплены: вырыты валы и рвы, все повозки составлены в ряды, через которые прорваться неприятелю было бы трудно. А в самой середине расположились все, кто не был занят в боевых действиях. Горели костры, ближе к правому краю обоза развернут был полевой лазарет, и медбратья в белых балахонах и белых башлыках готовили свой инструмент для срочных операций и перевязок.
В небольшой палатке, раскинутой прямо посреди леса, Александр и Маргарита готовились к своему первому боевому делу.
Накануне Александр провёл весь вечер в главной ставке генерала Бенингсена, познакомился с этим сухопарым, долговязым и мрачным на вид командующим войсками и теперь всё ещё повторял в уме диспозицию, свою роль в сражении, место и действия своей части полка.
А Маргарита старалась создать хоть какую-то видимость уюта в полотняной палатке, в которой вместо постелей приготовлены были охапки мягкого сена да небольшой коврик для сервировки ужина.
— Знаешь, — сказал ей Александр, — я даже не испытываю волнения, настолько задача моя проста и возможна.
— Александр, — заговорила Маргарита, подсев на его охапку соломы, — запомни: моя любовь будет хранить тебя от всякой нелепой случайности. Я стану молиться за тебя, я стану волноваться. Но ведь это естественно, это так и должно быть...
— Успокойся, — закрыл её рот поцелуем Александр, — я буду под надёжной охраной моих гренадеров, а мой конь вынесет меня из-под всякой пули и убережёт от всякого штыка...
— И всё-таки помни: все мои молитвы будут за тебя. И ты будешь жив и здоров...
— Да я и не сомневаюсь, мой милый денщик, — засмеялся Александр.
С самого раннего утра Маргарита уже была на ногах. Она проводила выступивший полк до самых рвов, долго стояла на валу, пока не исчезли вдали чёрные точки всадников и не поднялась пыль за ногами пеших солдат.
Она вдруг поняла, что бездеятельное ожидание станет для неё нестерпимым, и пошла к походному лазарету, где уже всё было готово к приёму первых раненых.
Застонала вдали артиллерийская канонада, частая перестрелка доносилась лишь глухими хлопками, и весь лагерь взволнованно ждал вестей.
Показались на дороге, в облаках пыли первые повозки с ранеными.
И тут впервые осознала Маргарита, что такое война. До этого видела она только пропылённые лица солдат, устало шагающих в походе, видела, как выдирают они ноги из жидкой грязи ненаезженных дорог, как мелькают их согнутые под амуницией фигуры между частыми тонкими берёзками. А теперь увидела окровавленные лица, отстреленные руки и ноги, кровь и услышала стоны. Безобразная сторона войны обернулась к её лицу своей кровавой сущностью, но она закусила губы и лишь старалась предложить свою помощь тем раненым, что не требовали срочных хирургических действий.
Она бегала по лазарету, большому полотняному шатру, раскинутому под малорослыми деревьями и среди кустарников, то и дело мчалась к ручейку, текущему между узловатыми корнями, наполняла манерки[17] и котелки водой, обтирала лица раненых, вместе с санитарами укладывала их поудобнее прямо на голой земле.
Скоро, уже к вечеру, весь лазарет представлял собою страшное зрелище: стонали и кричали раненые, просили пить, а то и затвердевшей каши, рвали на себе повязки и бредили.
Доктора смотрели на Маргариту странно: что делает здесь этот молодой слуга, этот человек, одетый в мужицкую одежду и так хорошо изъясняющийся по-французски. Но потом поняли тайну и старались обратить на пользу лазарету её присутствие здесь.
— Спаси и сохрани, Пресвятая Матерь Богородица, спаси, сохрани и помилуй...
Весь день и вечер, что бы она ни делала, эта спасительная молитва была на её устах. Она твердила её как заклинание, как заговор, уже машинально и независимо от действий рук и ног.
Но вот вдали послышался топот копыт, в вечерней мгле он сгустился в сильный шум, и даже лазаретные служители выбежали на этот шум. Возвращался гренадерский полк, весь в пыли и крови, но знамя его развевалось впереди, и первым скакал Александр.
Когда он соскочил перед ней, омертвело стоявшей у ближнего костра, она словно ожила, бросилась ему на грудь и стала лихорадочно ощупывать его тело.
— Ты жив, — шептали её губы, — ты вернулся, ты весь в пыли, грязи, крови, куда ты ранен, какая шальная пуля укусила тебя...
Он отстранился от неё, пристально поглядел в её яркие, пылающие при свете костра зелёные глаза, чётко произнёс:
— Успокойся, даже ни одной царапины... Просто обычная военная работа...
Он не рассказал ей, как переходил из рук в руки маленький окопчик, как горели дома в предместьях Галымина, как падали и падали солдаты, успевая бросать раскалённые ручные гранаты в наседающих французов. Всё это слилось для него в одно — будничную военную работу, которую надо было сделать, и они её сделали.
Маргарита сразу захлопотала — ужин давно готов, все котелки и миски завёрнуты в тёплое одеяло, и она с умилением смотрела, как набросился он на еду, каким здоровым мужским аппетитом обладал он после этого боя. А потом собрала пропотевшее бельё, вытерла мокрой тряпкой всё его сильное белое тело и уложила спать, как большое дитя, на охапку мягкого сена, покрытого конской попоной.
Она долго сидела над ним, при свете свечи вглядываясь в его закрытые глаза и кладя руки на его и во сне дергающиеся руки, сжимавшие эфес невидимой сабли, на его рот, подергивающийся от безмолвного крика, и она поняла, что бой был жарким и трудным, и только его любовь мешала ему рассказать ей всё. Потом, когда-нибудь, он всё ей расскажет, но теперь, когда ещё свежи воспоминания об этом страшном дне, он ничего не станет говорить. И она сторожила его беспокойный сон, словно насылала на него защиту своего сильного чувства...
Бенингсен выдавал поражение чуть ли не за победу, успокаивал молодого царя, слал донесение за донесением о кровавых боях и больших успехах, которые были выдуманы им. Император верил — ему так хотелось верить в силу русского оружия.
Сообщал Бенингсен и о наиболее отличившихся в бою при Галымине. Об Александре Тучкове написал царю особо: «Под градом пуль и картечи действовал, как ученик...»
Два ордена и новый чин — шеф Ревельского полка пехоты — такими были для Александра последствия сражения под Галымином, и всё-таки даже позже ничего не говорил он Маргарите о своём первом бое, о первой стычке с прекрасно обученными французскими солдатами. Лишь старшему брату Николаю мог он написать об этом:
«Невзирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров. Я участвовал в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестока была последняя, где в продолжение двадцати часов был я подвергнут всему, что только сражения представляют ужасного. Спасение моё приписываю чуду. Я оставил поле сражения в 11 часов вечера, когда неприятельский огонь умолк. Я отступил после всех...»
Бенингсен положил горы трупов на всех полях сражений, где ему пришлось командовать русскими войсками, и всё-таки не добился победы.
Сражения следовали за сражениями. Наполеон захватил кусок Пруссии, захватывал одну за другой русские крепости, и русский царь поспешил на подмогу Фридриху-Вильгельму. Эта помощь стоила ему очень дорого, но ради королевы Луизы русский самодержец мог пожертвовать всей своей армией. Лишь крупные поражения, чуть ли не гибель самого императора спасли Россию от помощи такой ценой крохотному немецкому королевству. Наполеон захватил Пруссию, и королева Луиза, красавица, гордая прусская дива, стала его пленницей. Только тогда стал Александр искать пути к миру с Наполеоном.
И снова скакал Тучков со своей неизменной Маргаритой к месту нового назначения. Он взглядывал на её разгорячённое скачкой лицо, улыбался и самонадеянно говорил:
— Не бойся за меня, я, как видишь, счастлив в сражениях. Пули меня облетают стороной, картечь меня не трогает, а саблю я и сам отобью...
Она смотрела на его ясное лицо и думала: «Как же он не понимает, сколько молитв вознесла я за него Богу, Богородице, всем святым?» Лишь эти молитвы и помогали ему выходить из кровопролитных сражений живым, здоровым, без единой царапины, хотя никогда он пулям не кланялся, солдаты всегда видели его впереди в самых жарких схватках. Нет, не понимает он, насколько благосклонен Господь именно к ней, отстоявшей свою любовь в горячих спорах с матерью и отцом, потому что каждое его сражение — это её молитвы о том, чтобы её любимый вышел из боя живым и невредимым...
Ревельский полк недавно вышел из жарких боев, и новому шефу полка забот было невпроворот. Солдаты обносились, вместо сапог были у них на ногах странные опорки, а иные и вовсе щеголяли босиком при уже начавшихся морозах, одежонка, солдатские мундиры поизорвались и поистёрлись. Сверх того, нерадивые интенданты часто не подвозили продовольствие, и солдаты перебивались кто чем мог. Тучкову пришлось вступать в жестокие схватки с интендантами, угрозами и лаской склонять их к выполнению своего долга, уговаривать и умолять, вместо того чтобы посадить под арест и держать на хлебе и воде. Отговаривались интенданты всем, чем только могли: и плохими дорогами, и осенней распутицей, и отсутствием в магазинах и на базах провизии, не подвезённой вовремя, и падежом лошадей...
Всё было верно: осенняя распутица надолго вывела из строя нормальное снабжение, лошади, заморённые и заезженные, падали прямо на дороге, денег в полковой кассе не было, жалованье офицерам уже не платили много месяцев. Александр выбивался из сил, сражаясь с интендантами. На его плечах были теперь заботы обо всём: и чтобы в полку было достаточно мушкетов и штыков, и чтобы солдаты не мёрзли и не голодали...
Александр предпочитал не волновать жену своими будничными заботами. Но и она видела, как мёрзнут и голодают солдаты, каким лишениям и испытаниям подвергается их стойкость. Знала, что в бою они стоят как вкопанные перед врагом, предпочитают умереть, а не бежать от штыка. Она не стала ждать интендантских посулов — получила деньги за оброк в одной из своих тульских деревень, поехала по сёлам и хуторам, накупила муки и крупы, мяса и овощей, и на пяти подводах привезла всё это в полковую кухню.
Такую же операцию проделала она и с сукном для мундиров и с кожей для солдатских сапог.
Усадила умельцев — портных и сапожников — за шитьё, и в один прекрасный день на развод весь полк вышел в новых мундирах со всеми знаками отличия.
«Молодцы интенданты!» — чуть было не вскрикнул Александр, проверявший состояние полка, но вовремя спохватился, успел заметить, что мундиры пошиты не той строчкой, да и знаки различия кое-где сидят не на своём месте. Он молча взглянул на командиров — те прятали глаза...
— Маргарита, — сказал ей за обедом Александр, — мне бы не хотелось, чтобы ты вмешивалась в командование моим полком. Я шеф, от меня, от моего слова зависит весь полк. Какой же я командир, если жена за моей спиной делает потихоньку мои дела?
— А разве муж и жена не одна сатана? — засмеялась Маргарита, вспыхнув от неожиданного внушения. — И разве я нарушила устав? И разве, наконец, не болею я за твоё же дело, не могу тебе помочь чем-то? Мы с тобой связаны одной верёвочкой, куда ты, туда и я. Разве не так?
— Это так, конечно, — рассмеялся и Александр, — но не слышишь ли ты шепотков за моей спиной: дескать, жена мужем командует, а то и всем полком?
— А тебя трогают эти шепотки? — изумилась Маргарита. — Да я была бы счастлива услышать такой шепоток: муж вместо жены всё делает, варит щи, кашу замешивает... А тут дело человеческое, почему люди должны страдать, если кто-то где-то недоварил в своей голове кашу? Солдаты тут при чём? Я о людях подумала, а не о тех, кто пускает злобные шепотки. Да и наплевать мне на них. Людскую породу не исправишь иначе, как любовью да заботой...
И он снова смотрел в её сияющие зелёные глаза и думал, как она умна и непосредственна и какое подспорье иметь её всегда под рукой, что она видит многое, ей доступно и сострадание, и жалость к людям.
— Ты не знаешь, как я тебя люблю, — тихо сказал он.
— Знаю, — так же тихо ответила она, — мы уже прошли с тобой длинную дорогу, где и кровь, и грязь, и трупы, и могилы. На войне всё переживается во много раз быстрее, чем в мирные дни...
— У меня самая лучшая в мире жена! — воскликнул Александр. — Как же мне не благодарить Бога за то, что наградил меня такой любовью?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Новая пора настала в жизни Константина Павловича, когда трон перешёл к его старшему брату Александру. События, предшествующие тому, так потрясли великого князя, что он долго думал над ними и ограничился тем, что узнал о злодейской выходке старших офицеров всё, что только мог распознать по отдельным репликам, рассказам, мелочам. Александр ничего не говорил ему, и когда их мать, Мария Фёдоровна, потребовала принести клятву в церкви, перед образом Христа, Константин с чистой совестью и верным сердцем произнёс, что он ничего не знал о готовящемся покушении на отца. Сложнее было с Александром. Он всё знал, он сам согласился на переворот, с его ведома произошло это страшное убийство, но до последней минуты он отдалял от себя мысль, что Павла могут убить. Знал и ничего не хотел делать, решил, что всё обойдётся одним лишь заточением отца в Петропавловскую крепость и отречением его от трона.
И потому, стоя на коленях перед мрачным и суровым иконостасом, Константин невольно искоса кидал взгляды на старшего брата. Бледный и взволнованный Александр кое-как пробормотал клятву, что неповинен в смерти отца.
Константин потом долго раздумывал над этой клятвой, понимал, что творится в душе Александра, потрясённого, испуганного, ужаснувшегося тому, куда завлекли его заговорщики, но не стал обсуждать с ним эту тему. Зачем? Что мог сказать он брату, достигшему престола таким путём, обагрившим отцовской кровью его подножие...
Немногие знали о настроении Константина в то время. Единственным человеком, с кем поделился великий князь своими раздумьями, был его товарищ и подчинённый по Конногвардейскому полку, тот самый Саблуков, которого Павел отстранил от дежурства во дворце в роковой час, но который оставался дежурным в самом полку.
Полковник Саблуков, как всегда, явился с докладом о состоянии полка после приведения его к присяге новому императору. Константин молча и угрюмо выслушал рапорт полковника и после некоторого раздумья всё-таки осмелился спросить:
— Ну, хорошая была каша?
Саблуков внимательно посмотрел на великого князя и решился отвечать прямо и простодушно, как всегда.
— Хорошая действительно каша, — сказал он, понизив голос, — и я весьма счастлив, что к ней непричастен.
Константин помолчал, глаза его горели от невыплаканных слёз.
— Это хорошо, друг мой, — наконец произнёс он. — После того, что случилось... — Он помолчал, вздохнул полной грудью и продолжил: — Брат мой может царствовать, если хочет. Но если бы престол достался мне когда-нибудь, никогда бы его не принял...
Он опять вздохнул полной грудью. Вот и высказал он самое сокровенное, самую выношенную мысль: подножие престола, залитое кровью отца, не может принести счастья.
Саблуков снова внимательно посмотрел на своего шефа. Таков уж он — немного взбалмошный, иногда слишком суетливый, чаще грубоватый, но душа и сердце его чисты.
С особенным вниманием и чуть ли не восхищением распрощался Саблуков со своим начальником и слова его сохранил в своём сердце, не делясь ни с кем этими откровенно высказанными мыслями Константина. За то и любил великий князь честного служаку-полковника, что не участвовал он во всех разговорах и сплетнях, которые на другой же день после смерти Павла разнеслись по столице.
Впрочем, не только сплетни и сказки рассеялись по Петербургу. На другой же день после смерти Павла появилось на улицах столицы великое множество запрещённых прежде круглых шляп, исчезли введённые императором букли, вместо которых возникли причёски другого фасона, и вывезенные из Франции эмигрантами панталоны удлинились или, наоборот, обрезались, высокие сапоги с отворотами сменили штиблеты, тоже заведённые Павлом, а дамы, по европейским модам того времени, облеклись в новые нарядные платья и завели русские упряжки с кучерами в национальных одеждах — теперь они гордились тем, что могут не выходить из экипажей, чтобы приветствовать императора.
Скорость колясок, экипажей словно бы знаменовала собою проснувшееся общество, избавленное от мелочной опеки императора, будто с рук и ног свалились цепи. Как часто мелочи быта и стиля жизни подменяют глубинные явления истории и как часто именно по этим мелочам судит обыватель об исторических событиях!
Других событий не видела толпа — в комнаты Марии Фёдоровны, теперь вдовствующей императрицы, убитой горем, простые люди несли и несли самое ценное, что у них было, — иконы, почитая таким способом горе жены и государыни.
Палён, хитро и продуманно устроивший всю интригу переворота, пожаловался новому императору, Александру, что императрица возбуждает народ против него, что на одной из икон написаны крамольные слова. Александр потребовал принести ему неугодный Палену образ. Под ликом Христа действительно стояли слова: «Когда Иисус вошёл в ворота, она сказала: мир ли Замврию, убийце государя своего?» Но слова эти были взяты из Священного Писания.
Палён потребовал от нового императора укротить вдовствующую императрицу, намекая на свою власть возводить и низвергать монархов. Однако Александр выбрал иной способ расплатиться с человеком, возведшим его на престол смертью отца. Палён приехал на другой день на парад войск на своей обычной шестёрке цугом и только было собрался выйти из экипажа, как флигель-адъютант государя, запретив ему выходить, предложил, по высочайшему повелению, на той же шестёрке проследовать в своё курляндское имение.
Князю Зубову в тот же день было предложено удалиться в своё поместье. Робок и юн был ещё новый император, но одного его слова было достаточно, чтобы эти два человека, затеявшие заговор, молча сошли с исторической сцены.
Много позже, разбирая в уме все обстоятельства дела, честный и преданный Саблуков пришёл к заключению, что Константин действительно ничего не знал о заговоре. Он, конечно, подозревал, что готовится что-то необычное, и старался оградить отца. Недаром же он в ту ночь написал Саблукову записку — быть готовым и по его приказу выступить. Но заговорщики опередили Константина — Палён убедил Павла удалить единственно верный ему эскадрон от Михайловского замка и даже повелел этому эскадрону уехать на рассвете, в четыре часа утра, в Царское Село. Единственному эскадрону, верному Павлу...
Мария Фёдоровна удалилась после похорон мужа в Павловск, охранять её там Александр назначил Саблукова с его эскадроном.
Странно, сколько ни жалел Константин о смерти отца, сколько ни раздумывал над постигшим его горем, тем не менее он как бы выпрямился. Теперь над ним не стоял всевластный отец, исчез страх перед Павлом как отцом и императором. Словно бы тоже развязались у него руки, и будто бес вселился в него. Он пустился в разгул, окружил себя льстецами и прилипалами, не умея отличить истинное служение от подобострастия. Генерал Бауер, прежние адъютанты и некто Бухальский, неизвестным образом проникший в свиту Константина, стали его постоянными сопровождающими. Великий князь и цесаревич совсем оставил Анну Фёдоровну, и она запёрлась в Зимнем, почти не выходя из своих покоев. Каждый день услужливые переносчики сплетен тихонько рассказывали ей о причудах и пассиях Константина, и бедная соломенная вдова глубоко переживала каждую скандальную связь своего мужа.
После коронации Александр избрал местом своего пребывания Зимний, а Константин с женой и свитой переселился в Мраморный дворец. Генерал Бауер занял покои рядом с комнатами наследника престола, и каждый вечер в них, в его комнатах, расположенных на первом этаже дворца, собирались все приближённые Константина. Здесь решали они, куда сегодня направить свои стопы, в каком месте города на этот раз удастся повеселиться. Чаще всего решал генерал — он знал, у кого намечен бал, у кого званый, роскошный ужин, где будут самые знатные петербургские красавицы. Как правило, Константин получал приглашения на такие вечера, но бывало, что появлялся незваным и наслаждался изумлённым и испуганным видом хозяев, удостоившихся такого неожиданного посещения.
Ему стоило только мигнуть, и та, на которую он бросал благосклонный взгляд, уже оказывалась в комнатах генерала Бауера, где её встречал как бы ненароком Константин, и ласки его были мимолётны и кратковременны. Ни одна из красавиц, которых Константин выделял среди толпы, не смела противиться, и ему уже давно претило это слепое и унизительное послушание. Родителям девушек, к которым Константин начинал питать хоть какие-то чувства, льстило это кратковременное внимание, потому что сулило громадные деньги, поместья, должности, мужьям затыкали рты страхом, но все его связи были предельно быстры. Ни одна из красавиц не могла надолго полонить его сердце, он искал всё новых и новых приключений.
У Александра не было лучшего предлога, чтобы разогнать сгруппировавшихся вокруг наследника престола опасных людей. Он давно уже знал о беспокойстве некоторых знатных вельмож — перлюстрация, введённая ещё его бабкой, познакомила и его с некоторыми выдержками из писем, вполне конфиденциально направлявшихся адресатам. Из Англии, отвечая на письмо своего брата Александра Романовича Воронцова, ещё в первом году нового века писал граф Семён Романович Воронцов:
«Императору следует наблюдать за своим семейством, потому что если Константин не будет следовать примеру брата и не удалит тех негодяев, которые окружают цесаревича, то в государстве будут две партии — одна из людей хороших, а другая из людей безнравственных, а так как эти последние, по обыкновению, будут более деятельны, то они ниспровергнут и государя и государство...»
Впрочем, Александр лишь усмехнулся: слишком хорошо знал он цену таким словам, словно бы специально предназначавшимся для глаз императора. Знал он даже и о том письме, которое направил тот же самый Семён Романович другу и советнику Александра — Новосильцеву:
«Лица, окружившие императора, предоставили Константину инспекцию, то есть начальство над Южной армией, составляющей две трети всего российского войска. И для того, чтобы в случае нужды противопоставить его брату. Они хотят господствовать над старшим братом, пугая его возмущением младшего. Одним словом, я полагаю, что государство в опасности...»
Может быть, отчасти такие высказывания и повлияли на Александра, но его скрытая натура и достаточно развитое двоедушие уже давно поставили Константина вне государственных дел. Александр всё больше и больше уединялся с молодыми своими друзьями, Чарторыйским, Кочубеем, Новосильцевым, мечтая о преобразованиях, и имея довольно туманное представление об этих преобразованиях, и ни словом не обмолвился об этом Константину.
Впрочем, он по-прежнему был любезен и ласков с братом, предоставил ему по-своему вести обучение порученных ему войск, но не приглашал на государственные советы, не требовал вникать в дела. Он и сам ещё не мог постигнуть огромность той работы, что его ждала, и упивался пока только сознанием своей власти и полагающегося к ней почёта.
Впрочем, оказалось, что надо решать и семейные дела, и решать жёстко.
Узнав о похождениях Константина, к Александру явилась Анна Фёдоровна, жена его младшего брата. Она подала ему исписанный листок бумаги и молча смотрела на императора, пока он читал его.
Император поднял на невестку изумлённые глаза.
— Я не могу решиться на такое дело, не посоветовавшись с матушкой, — участливо сказал он Анне Фёдоровне, моргая большими близорукими глазами. — Это большой удар по моему брату, по всей моей семье. Я надеюсь, что вы ещё передумаете, оставите всё, как есть.
Обычно скромная, покорная невестка, всегда державшая глаза долу, на этот раз высказала большую твёрдость.
— Государь, — ответила она, — вы знаете, всё моё несчастье в браке, вы знаете, что Константин меня никогда не любил и не любит. А после того, что произошло, разве могу я оставаться с человеком, который может покрыть себя несмываемой грязью? С моей честью, честью кобургской герцогини и кобургского герцога невозможно примирить все поступки Константина Павловича, о которых я написала вам в этом письме. Я ещё раз настоятельно прошу отпустить меня в Кобург на всегдашнее житьё, вдали от России, на моей родине. Я не требую официального развода, но оставаться долее женой такого человека, как наследник престола, больше не могу, да и не хочу...
Александр долго молчал.
— Мы с матушкой поговорим, и я сообщу вам наше решение, — наконец сказал он.
Константин встретил новость со странным равнодушием.
— Пусть едет, — сказал он об Анне Фёдоровне, — всё равно у нас никогда не будет детей, а жить в одном доме совершенно чужими не стоит. Я виноват и перед ней, и перед всей нашей семьёй, я виноват перед тобой, брат, и раскаиваюсь, сознаю это...
Александр заклинал его переменить своё отношение к Анне Фёдоровне, наладить семейную жизнь, но Константин, опустив глаза, всё так же безучастно повторял:
— Пусть хоть она будет счастливой там. Пусть едет. Наилучшее решение...
Мария Фёдоровна возмущённо заколыхалась всем своим большим и сильным телом:
— Как это — развод? Как это — разъезд? Да кто она такая, чтобы себе позволять подобное в нашей императорской семье?
— Матушка, — начал Александр, — вы сами видите, каков этот брак, ничто не держит его, ничто не скрепляет. Вы видите, что у них нет и никогда не будет детей. А какая же семья без детей?
Ему пришлось долго убеждать мать и прибегать и к хитрости, и к дипломатическим увёрткам. В течение месяца он ездил к ней в Павловск, где Мария Фёдоровна затворилась наедине со своим горем: вскоре после смерти мужа она получила известие о том, что в далёкой Венгрии скончалась её любимая Дочь Александрина. Она бродила среди памятников и статуй Павловского парка в глубоком трауре, и казалось, ничто уже не сможет вызволить её из этой пучины горя.
Но Александру удалось сломить сопротивление матери, и Анна Фёдоровна уехала в Кобург. Официально её отправляли в гости к родителям, тоскующим по дочери, но весь двор знал, что она уезжает навсегда.
Положение Константина стало напоминать ему положение отца, который тридцать четыре года не допускался к государственным делам, сидел в своей Гатчине и муштровал выделенных ему два батальона солдат. Теперь и Константин занимался тем же, его не привлекали к государственным делам, ему не говорили даже о тех указах, что подготовлял и выпускал новый император.
Указов и установлений новой власти было огромное количество, но Константин узнавал о них из «Ведомостей». Никто не приезжал к нему, никто не спрашивал его мнения, никому он не был нужен с его безудержно отважной головой. Краем уха слышал он о том, что Александр всё больше и больше сближается со своими молодыми друзьями, которых он вызвал из-за границы. Проведя большой совет, состоящий из двенадцати сенаторов старой, ещё екатерининской школы, Александр уходил после чашки чаю или кофе к себе в кабинет, и туда после одиннадцати ночи, когда засыпал весь дворец, пробирались его молодые друзья — Адам Чарторыйский, Кочубей, Новосильцев, молодой граф Строганов. Сами себя прозвали они комитетом общественного спасения и подолгу беседовали, рассуждая о преобразованиях и нововведениях в России. Пока это были лишь туманные, бесплодные рассуждения, но и они дали целую гору указов, которыми облегчалась жизнь пусть и не основного народа — крестьян, а среднего сословия и дворянства. Эти указы говорили о том, что в России повеяло новым ветром: дворянские выборы, жалованные грамоты дворянскому сословию и городам, разрешение на свободный въезд в Россию и выезд из неё, свободный ввоз иностранных книг, запрещённых Павлом, открытие им же закрытых типографий, отмена телесного наказания для священников и дьяконов. Запрещена была продажа крестьян без земли, уничтожены виселицы по городам, отменена пытка, и, наконец, ликвидирована ненавистная Тайная канцелярия.
Константин только покачивал головой, читая строки манифеста: «В благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общею силою закона». Сенат должен был представить доклад о своих правах и обязанностях; комиссия, созданная для составления новых законов, должна была работать днём и ночью, потому что, как писал император, «в едином законе заключается начало и источник народного блаженства».
Константин понимал, что новым указам и установлениям будут противостоять сенаторы и дельцы старой, екатерининской школы, потому что уже при коронации новый император не раздавал деревни с людьми, как делали это при вступлении на престол все его предшественники, а сокрушался о рабстве целого сословия России. Отсюда недалеко было и до отмены крепостного права.
Стороной же слышал Константин, как поднялась против Александра волна шумихи — обвиняли его молодых друзей, клеветали, чернили их. Народное образование, просвещение, проекты освобождения крестьян уже носились в воздухе, и дворянство заволновалось. Говорили о новой революции, что подорвёт устои самодержавия, открыто возмущались молодыми советниками императора, вовлекавшими его в смуту и мятеж.
Итак, стороной, лишь из разговоров и недомолвок своих прежних друзей, изредка навещавших его в Стрельне, узнал Константин, что его брат перестал собирать свой тайный молодой комитет общественного спасения.
А потом в Стрельну пожаловал и сам император. Начиналась война с Францией, коварно захватывающей целые области Пруссии, кумира Александра, и, стало быть, пришло время готовиться к этой войне.
Константин ликовал: кончилась его опала, его безвременье, он снова нужен, он вновь в войсках.
Александр назначил его начальником всех резервных сил армии, выступающей к западным рубежам России. Под рукой Константина очутилась прежде всего гвардия, отправившаяся в поход раньше, и как будто не было этих тяжёлых месяцев раздумий и размышлений, уныния и тоски.
Великий князь Константин шёл со своими гвардейцами к австрийской границе. Уже в пути узнал он, что Наполеон заставил австрийского военачальника Мака капитулировать, разбив наголову под Ульмом. Константин беспокоился лишь о том, что гвардия выступила в поход довольно поздно, помощь австрийцам теперь была как мёртвому припарки, но он надеялся успеть к сражениям, быть в деле. Наполеон уже подвигался к Вене, а гвардия только-только выступила из-под Бреста.
Безостановочные переходы, краткосрочные биваки, марши всё это напоминало Константину итальянскую кампанию, и он веровал, уповал на Бога, что и результат будет тот же, что и в Италии, под руководством Суворова.
Увы, ныне не было Суворова, ныне опять строились рядами и командиры разделяли войска на небольшие части. Забыта была суворовская тактика атаки колоннами, крупными частями, без разбивки на куски, осадные манёвры задерживали движение. Суворов всегда оставлял осады на потом, обходил крепости, не брал их. Оказавшись в тылу, изнемогая от голода и недостатка боеприпасов, крепости сдавались ему сами. А Константину тогда казалось, что Суворову очень везёт, что его военное счастье зависит от одних лишь звёзд. Но вернувшаяся в войска силою императора Павла тактика теперь давала себя знать, и сколько ни гнал свою гвардию Константин, какие ни задавал переходы, даже она неспособна была на суворовские марши.
Только к середине ноября подступила гвардия Константина к самым ответственным местам войны, но было уже поздно.
Кутузов, назначенный главнокомандующим, уже соединился с австрийскими войсками около Бренау и намеревался преградить путь Наполеону к Вене. Но французы были более подготовлены, вели бои всё тем же колонным строем, каким действовал в своё время и Суворов, лучше снаряжены и более воинственны. Под натиском бесстрашных наполеоновских войск Кутузову пришлось подвинуться на левый берег Дуная.
Поздновата привёл Константин свою гвардию к Проснице, главной квартире двух союзных императоров — русского, Александра, и австрийского, Франца. Александр сдерживал Константина, рвущегося в бой, он определил ему место в резерве, чтобы в случае любой опасности двинуть на неприятеля грозную лавину кавалергардов, преображенцев, лейб-казаков.
Гвардия расположилась по левую сторону реки Литтау, немного впереди знаменитого потом для военных историков Аустерлица.
Военный совет расписал всю диспозицию. Австрийский генерал Лихтенштейн должен был явиться со своими войсками на место, определённое между правым крылом соединённых войск и центром, между Блазовицем и Кругом.
Гвардию Константина поставили в резерв правого крыла, но, как всегда, австрийцы не спешили, и, конечно же, Лихтенштейн не прибыл на позицию вовремя. Константин ждал австрийцев, спешил, посматривал на часы, но не видел и следа австрийских мундиров между собой и центром.
В назначенное для наступления время Константин приказал выступить от Аустерлица и перейти Раусницкий ручей. Командующий велел ему выйти вплотную к центру и правому крылу, чтобы держать связь для необходимой подмоги на правом фланге или в центре.
И вдруг первые же линии конногвардейцев заметили военные мундиры, конных кирасиров. Константин было обрадовался: слава богу, австрийцы поспевают к моменту боя. Он приказал всем своим шести батальонам и десяти эскадронам выстроиться в боевой порядок, чтобы занять позицию рядом с австрийцами. Но от войск, выступавших навстречу Константину, неожиданно полетели ядра и картечь, раздались частые взрывы, поднялась дыбом земля, загрохотала ружейная перестрелка. Константин обомлел — оказалось, что к намеченной позиции вышли не австрийцы, а французы, которые атаковали русскую гвардию, внезапно очутившуюся на самом передовом рубеже вместо резерва.
Французы наступали правильными колоннами, поливая гвардию ядрами, картечью, ружейным огнём. Уланы было смешались, но Константин выскочил на своём могучем коне перед солдатами. Этот уланский полк носил его имя — великого князя Константина.
— Ребята, помните, чьё имя вы носите! Не выдавай! — громко прокричал он уланам и понёсся впереди отряда прямо на французов.
Его обогнали, лошади храпели от напряжения и скачки, сверкнули на солнце палаши, выдернутые из ножен, загремела позади артиллерия, приданная резерву.
Две линии конников столкнулись одна с другой, словно налетели на подводную скалу. Всеобщая свалка означала бой — кони взрывали землю копытами, опрокидываясь на спину, брызгала кровь из рассечённых рук, ног, голов. Всё смешалось в яростной борьбе.
Слева медленно, не нарушая строя, подходили австрийские войска под командованием Лихтенштейна. Константин ожидал, что австрийцы сразу станут в боевой порядок, кинутся на помощь его малочисленному резерву, уже теснимому французами. Ничуть не бывало: австрийцы внимательно наблюдали за боем, неспешно рассредоточиваясь и готовясь отступать: видели, как гнётся перед французами русская стена.
Русские уланы сражались храбро, бились изо всех сил, снова и снова посылал Константин в бой конногвардейцев, кавалергардов, лейб-казаков, но убийственный огонь и натиск конных французов, превышавших численностью русский резерв во много раз, отбрасывали назад русскую гвардию.
Все усилия Константина прорваться к центру, соединиться с правым флангом разбивались о крепость и неистовство французских войск. Каждая атака сопровождалась громадными потерями, и скоро всё поле было покрыто трупами людей и лошадей. Связь с центром была потеряна, соединиться с ним стало невозможно. Австрийцы не поддержали русских, сражавшихся за их интересы.
Стиснув зубы, побелев от бешенства, Константин приказал гвардии отходить за Раусницкий ручей. Французы не преследовали русскую гвардию. Австрийцы убрались с поля боя, так и не вступив в дело, предпочтя поспешное отступление...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Тысячи блесток кинуло солнце на широкую полноводную реку Неман. Лучи его отражались и в дощатых павильонах, устроенных на самой середине, и в омывавших мостки лёгких волнах. Глаза слепило от яркости июньского дня, от сквозной панорамы водной глади, широкой полосы полей за рекой и синеющей вдали кромки лесных массивов.
Константин стоял рядом с Александром у самого берега и взволнованно следил за выражением лица императора.
Странное сооружение на середине реки, установленное за несколько дней перед этим торжественным днём, приковывало все взгляды русской гвардии, охранявшей русского императора.
На противоположном берегу Немана в строгом порядке выстроились французские войска, сверкая на солнце белыми лосинами, золотыми эполетами, примкнутыми штыками и начищенными ботфортами.
Целый лес штыков ровнёхонько, словно по линеечке, солдатских строев, вытянувшихся в длинный ряд по берегу, наводили на мысль о военном спектакле, устроенном в честь двух императоров, сошедшихся по обе стороны реки.
Громадный паром, удерживаемый на самой середине реки, венчали два сооружения, над одним из которых развевался французский флаг, а на другом угрюмо глядел в воду золотой двуглавый орёл.
Долго и нудно обсуждали парламентёры условия встречи двух императоров, долго строили это невиданное сооружение прямо на середине реки солдаты союзных армий и французы. Но вот всё готово, теперь осталось только увидеть, как два полководца, два повелителя спустятся на этот дощатый паром, сойдутся в приветственном шаге и начнут переговоры.
Константин ещё раз кинул взгляд на Александра. Как он был красив, его родной старший брат! Белые лосины туго обтягивали его стройные длинные ноги, золотые эполеты венчали широкие, слегка сутулые плечи, исправляя эту оплошность природы, широкая грудь блистала орденами и перетянутой голубой андреевской лентой, а на щеках, белых и почти прозрачных, горел пятнами волнующий румянец, лишь он и выдавал волнение Александра, но Константин понимал, что творилось в душе у брата. Он был вынужден пойти на эту оскорбительную для его чести встречу, он, едва не погибший в кровавой каше Аустерлица, он, признавший за корсиканцем силу и талант полководца. Какое, должно быть, унижение испытывал он, глядя на паром, который должен был стать свидетелем соглашения с нищим корсиканцем, волею судьбы ставшим императором Франции.
Ах, как жалел Константин, что не дожил до этих битв Суворов! Уж он не дал бы торжествовать Наполеону, он бы не пожалел сил и энергии, чтобы разбить его. А старый полководец Голенищев-Кутузов придерживался устарелой прусской тактики, отводил и отводил войска от решающего сражения, понимая, что численное преимущество на стороне французов и отлично сознавая, сколь ненадёжны союзники. Константин и сам это хорошо знал. Ну да бог с ними. Александр правильно решил заключить перемирие с Наполеоном, а потом и мир. Константин потратил немало сил, чтобы убедить брата в этой необходимости.
Свита следовала за Александром по пятам. Он ступил на дощатый настил помоста и приостановился. Константин встал прямо за спиной у брата и отлично видел, как быстро и суетливо приближался к нему Наполеон, также сопровождаемый большой, залитой золотом свитой.
Они шагнули навстречу друг другу и вдруг заключили друг друга в объятия.
— Почему мы воюем?! — вскричал Наполеон.
Константин зорко смотрел на двух великих людей своего времени.
Как они непохожи! Александр чуть ли не на голову выше Наполеона. Рослый, стройный, красивый, белокожий, румянолицый, он был необычайно Эффектен по сравнению с императором французов. Константин сразу отметил длинную спину и короткие ноги корсиканца, его толстые ляжки, тоже обтянутые белыми лосинами, его громадные, вовсе не по росту, ступни, обутые в грубые ботфорты, напомаженную чёрную голову. Но, взглянув в глаза Наполеона, он был поражён огнём, горевшим в его глазах, выражавших восхищение, восторг, радость.
«Как ему не радоваться, — неприязненно подумал вдруг Константин, — такая великая держава, и на коленях перед ним, жалким корсиканцем, возложившим на себя императорскую корону на плечах французов, мечтавших о свободе, равенстве и братстве. Такой могущественный русский император просит мира у него. Да он же просто урод!» — так и хотелось воскликнуть Константину прямо в лица золототканых генералов, окружавших двух императоров. Но все так внимательно вглядывались в их лица, так жадно ловили каждое их слово, что глубокая тишина окружала огромный паром, и только тихий плеск воды о дощатый настил нарушал эту благоговейную тишину.
Слегка приобняв друг друга за талии, высокий, слегка горбившийся от необычного роста своего вчерашнего неприятеля, а сегодня восторженного почитателя Александр и низенький Наполеон прошли в павильон, приготовленный для их разговора. Свита, и та, и другая, остались вне стен павильона, жадно прислушиваясь к словам, которые могли сказать друг другу два императора, но толстые стены не пропускали ни единого звука.
Константин всё ещё переживал горечь поражения в Аустерлицком сражении. Лишь много позже узнал он все подробности. Он сам со своей гвардией был отрезан от центра и правого фланга, не сумел устоять против внезапно появившихся французов, а австрийцы не подкрепили его своими действиями. Он думал, что только он один отошёл за Раусницкий ручей, и благословлял небо, что неприятель не пошёл вслед, иначе от гвардии бы ничего не осталось. Но, ознакомившись после битвы со всеми операциями союзной армии, он понял, что ему ещё выпала счастливая карта — гвардия была сохранена, хотя и потеряла немало убитыми и ранеными. Хуже обстояли дела в центре и на правом фланге. Сражение под Аустерлицем, на котором так настаивали Александр, император Франц и все молодые командиры, которым надоело отступать перед французами, закончилось недолгим, кровавым и сокрушительным поражением.
Сам Александр следовал за четвёртой колонной войск и неожиданно попал под неприятельский огонь. Вся его свита была либо убита, либо рассеяна по полю, и лишь верный ему лейб-медик Виллие и берейтор[18] Ене прикрывали скачущего императора. Под Виллие картечью убило лошадь, он едва выбрался из-под бьющегося в агонии коня, но неотступно следовал за императором. Александр приостановился, чтобы подождать Виллие, и тут рядом с ним упало неприятельское ядро. Император с головы до ног был засыпан землёй.
На них хлынула оголтелая, обезумевшая толпа солдат, бежавших с поля боя. Она увлекла их за собой, но скоро унеслась к своим укреплениям, и император остался один посреди громадного пустого поля, засыпанного трупами людей и лошадей.
Александр не мог отдышаться от этого беспорядочного бегства. Он подождал, пока Виллие поймает лошадь, потерявшую седока и бродившую по полю, оглянулся, проверяя, следуют ли за ним два этих верных человека, и медленно двинулся в сторону русских расположений.
Только глубокий ров с водой отделял императора от укреплений русских войск, но он застыл в недоумении перед этим рвом и мучительно соображал, как ему перескочить через эту длинную и широкую канаву, словно забыл все упражнения на коне, которые всегда лихо и славно выполнял. Берейтор подскочил к Александру, грубо хлестнул его коня, и он решительно поскакал ко рву. Прыжок был удачен, на той стороне государя встретили солдаты...
Константину рассказывали, как удручённо остановился император посреди укреплений, как неторопливо, словно во сне, сошёл с коня, сел на землю и схватился за голову. Он долго сидел так, и никто не видел его горьких слёз. Когда он поднял голову, лицо его опять стало обычным, непроницаемым. Наверное, вспоминал в эти минуты Александр все доводы и резоны Кутузова, настаивавшего на отступлении: старый фельдмаршал хорошо понимал, что поражение в крупном сражении неминуемо.
Много позже Александр признавался, что эти минуты были самыми тяжёлыми в его жизни.
— Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе. Я пренебрёг его мнением...
Именно в эти минуты оценил Александр всю силу и мощь полководческого таланта Наполеона, понял, что на одной лихости и мужестве солдат нельзя его победить, и уступил своим офицерам, предлагавшим перемирие, а потом и мир. Он не мог не пойти на это. Союзники покинули Александра на другой же день после Аустерлица. Что оставалось ему делать?
И вот он находится на этом выстроенном посреди Немана пароме, видит чёрные горящие глаза Наполеона и всматривается в них с пристальной внимательностью близорукого...
Горький привкус поражения преследовал и Константина. Он тоже понимал, что за спиной Наполеона почти вся Европа, что вчерашние союзники уже пошли на мир с Наполеоном ценою жертв и уступок, Россия одна не могла выстоять против громадной армии корсиканца.
И Константин вместе со всей блестящей свитой прислушивался к тому, что творилось за стенами павильона, куда скрылись оба императора. Однако оттуда не было слышно ни звука.
Французские и русские офицеры, понимая, что начало этих переговоров приведёт к тому, что вчерашние враги станут друзьями, принялись знакомиться. На плоту не было лишь Кутузова.
Блестящие празднества, продолжавшиеся целую неделю, не изгладили из памяти Константина горечь аустерлицкого поражения. Как мог, он поддерживал брата, часто говорил ему, что когда-нибудь Наполеон получит своё от русских, но теперь, видно, такая полоса пошла в жизни, что приходится заключать мир с Францией. Тильзитский мир был позорным для русских, заставил согласиться на блокаду Англии, прежде бывшей союзником России и поддерживавшей её субсидиями. Союзники в полном смысле слова предали русского царя, поодиночке заключая с Наполеоном наступательно-оборонительные союзы, и Александр, хоть и был очарован умом, остроумием и гениальными планами Наполеона, втайне делился с братом своим отчаянием и унынием.
В таком настроении они и вернулись в Петербург.
Константина увлекла светская жизнь. По случаю заключения мира давались пиры и обеды, балы и спектакли, и даже Мария Фёдоровна вышла, наконец, из своего заточения в Павловске и пригласила на празднество самое блестящее общество.
Здесь, на балу у матери, Константин и увидел прелестнейшую девушку — Жанетту Антоновну Четвертинскую, младшую сестру княгини Марии Антоновны, бывшей тогда замужем за Дмитрием Львовичем Нарышкиным. Удивительная по красоте девушка совершенно очаровала Константина своим изяществом, недюжинным умом, восторгом от его воинских подвигов. Воспользоваться её привязанностью Константин посчитал для себя невозможным и потому помчался к матери в Павловск, чтобы выложить ей свои мысли по поводу его предполагаемой женитьбы.
Конечно, прежде следовало уладить вопрос относительно его развода. Великая княгиня Анна Фёдоровна в одном из писем к цесаревичу предложила ему начать дело о разводе. Основанием могло быть это письмо великой княгини и отношение родственников к делу о разводе. Жене в ответ на её письмо Константин написал следующее:
«Вы пишите, что оставление Вами меня через выезд в чужие края последовало потому, что мы не сходны друг с другом нравами, почему Вы и любви своей ко мне оказывать не можете. Покорно прошу Вас, для успокоения себя и меня в устроении жребия жизни нашей, все сии обстоятельства изобразить письменно, и что, кроме сего, других причин не имеете, и то письмо с засвидетельствованием, что оно действительно Вами писано и подписано, российского министра или находящегося при нём священника, немедля доставить в Вашему покорному слуге Константину...»
Думалось ему, что такое письмо может быть благосклонно принято его матерью и братом, поможет развязаться с оставившей его женой, и снова обзавестись собственным домом, семьёй, возможно, детьми, по которым уже начало тосковать его сердце. Избранница казалась ему исполненной всяческих достоинств, и он только и думал о том, что поведёт её к алтарю.
Увы, слишком уж была привержена к чистоте родовых связей его матушка, Мария Фёдоровна. Однажды, когда уехала Анна Фёдоровна, она уже не дала своего благословения на новый брак Константина, а теперь обрушилась на него с ещё большей силой.
«Вас, однако же, вижу, — написала она ему, — снова обращающегося к сей пагубной и опасной мысли о разводе. Сим растворяются все раны сердца моего, но при всём том, мой любезный Константин Павлович, несмотря на скорбь, которую я чувствую, занимаясь печальною этою мыслию, я изображу Вам моё по сему предмету мнение, как оно мною видится, и, наконец, объявляю Вам условия, на которых нежная моя к Вам любовь может склонить меня заняться мыслью о Вашем разводе... Развод Ваш будет иметь пагубные последствия для общественных нравов, огорчительные и опасные соблазны от него долженствуют произойти. По разрушении брака цесаревича последний крестьянин отдалённой губернии, не слыша более имени великой княгини, при церковных молебствиях произносимого, известится о его разводе, и почтение крестьянина к достоинству брака и к самой вере поколеблется тем паче, что с ним неудобно войти в исследование причин, возмогших подать к тому повод. Он предположит, что вера для императорской фамилии менее священна, чем для него, а такового мнения довольно, чтобы отщепить сердца и умы подданных от государя и всего дома. Сын и брат императора должен быть образцом добродетели для подданных, нравы и без того уже развращены и испорчены и придут ещё в вящее развращение чрез пагубный пример лица, стоящего на самых ступенях трона и занимающего первое место после государя. Ваше место обязывает Вас полным самого себя пожертвованием для государства. Если же настаивает цесаревич на втором браке, то тогда обязан он будет избрать себе достойную невесту и из дома германских князей».
Только на этом условии соглашалась вдовствующая императрица рассмотреть вопрос о разводе.
Итак, развод и немецкая принцесса...
Константин говорил и с братом, но оба они не могли переубедить матушку — для неё главным было, чтобы немецкая принцесса заняла место невестки, а какова она будет и есть ли склонность у Константина к ней — об этом Мария Фёдоровна и слышать не желала. Так ничем и кончилось начавшееся дело о разводе.
А род Четвертинских был не из худших. Жанетта происходила от одной из ветвей Рюриковичей, тех самых, что заложили основы Российского государства. Но Марии Фёдоровне не хотелось, чтобы эта исконно русская девушка могла бывать вместе с нею на всех церемониях царствующего дома, тогда как зять её, Нарышкин, тоже близкий к дому русских царей, занимал должность всего лишь придворного камергера. Да и свойственное Марии Фёдоровне тяготение к германским родовитым принцессам пересилило её желание видеть сына счастливым.
Как ни обливалось сердце Константина кровью, как ни умолял он матушку и брата составить его счастье, не пошли они навстречу желанию наследника.
Четвертинскую скоро выдали замуж за вельможного пана Вышковского. Она родила ему кучу детей и чувствовала себя в браке совершенно счастливой, хотя и горько сожалела о милом её сердцу наследнике российского престола.
С прежним пылом занялся Константин военной службой, муштруя и жестоко дрессируя вверенные ему войска, но теперь и не помышлял о том, чтобы вернуться в действующую армию. Четыре его кампании, не принёсшие успехов русскому оружию, довольно охладили его стремление воевать, а бесконечные потери солдат, трупы, устилавшие чужие поля сражений, и вовсе заставили его содрогаться. Жалел он только об одном, что нет в России полководца, как Суворов, ушёл из жизни единственный человек, способный унять широко шагавшего Наполеона.
С головой окунулся Константин в светскую жизнь, в вихрь самых разнообразных празднеств и увеселений, назначавшихся по любому, самому ничтожному поводу. Веселился Петербург, веселилась Москва, словно бы в предчувствии грозы, в короткое затишье перед громом.
Павел изгнал из России французских эмигрантов-аристократов, а теперь при дворе то и дело появлялись ставленники Наполеона, ведущие себя заносчиво и дерзко. Константин с неодобрением посматривал на графа Коленкура, которого всесильный наполеоновский министр иностранных дел Талейран определил ко двору российскому. Задача у Коленкура была почти единственной — склонить русского императора и его августейшую матушку к браку Наполеона с русской принцессой, неважно, какой. Ещё там, на плоту посреди Немана, Наполеон намекнул Александру, что мир нужно усилить и скрепить ещё и родственными узами. Российский император намёк понял, но его сердце перевернулось от унижения, бессилия перед дерзким низкородным врагом. Он сдержанно ответил, что сие зависит лишь от воли его матушки и его сестры, что он не сдерживает их желания и единственную его радость составляют счастье и покой всей царской семьи.
Этот уклончивый ответ Наполеон расценил как положительный, и первый намёк дал ему возможность действовать дальше. Коленкур и должен был добиться положительного ответа от вдовствующей императрицы и её дочери.
Правда, Александр рассудил, что Наполеон ещё и сам не свободен в своём выборе, что он женат. Но высокомерный корсиканец уже давно решил составить свою династию, развестись с Жозефиной, которая в силу своего возраста уже не могла дать ему наследника. Раз нет наследника, необходимо развестись и взять в жёны одну из принцесс царствующего дома. Это укрепит его позиции, утвердит на престоле Франции его фамилию[19].
Когда хотел, Наполеон мог быть и ласков, и обаятелен, и льстив.
В Тильзите, среди бесконечных увеселений, завтраков, обедов и поздних ужинов он сумел увлечь русского императора грандиозными планами покорения Индии, и Александр уже начал было собирать войска для этого совместного похода. И всё-таки в душе Александр продолжал смотреть на корсиканца как на выскочку, низкородное существо, и всё в нём возмущалось его наглостью и дерзостью. Но он чувствовал своё бессилие перед этой напористостью, своё одиночество среди династий Европы, склонившихся к подножию трона Бонапарта, и не смог дать отпора зарвавшемуся корсиканцу. Тильзитский мир и вовсе доконал его. Наполеон сумел выжать из России всё, что только мог: континентальная блокада Англии нейтрализовала действия его извечного врага, признание всех его завоеваний стоило ему лишь незначительных уступок, да и то на словах. Теперь ему важно было породниться с российским императорским домом, ибо в Европе осталась только одна неподвластная ему сила — громадное пространство России.
Изысканный, ловкий, пронырливый граф Коленкур то и дело наезжал в любимый Марией Фёдоровной Павловск, и изящно танцевал, расточал комплименты, добился, что вдовствующая императрица приглашала его в партнёры по картам, и между сдачами колод ввёртывал то одно, то другое слово, зондируя почву для исполнения своей задачи.
Его принимали милостиво, впрочем, как и всех иных послов иностранных государств, — любезность помогала скрывать истинные намерения. Но граф Коленкур принимал эти внешние знаки внимания за благожелательное отношение к своей истинной задаче. Даже в Париж он уже писал об этом как о деле решённом:
«Здесь думают, что великая княжна так благосклонна к французскому послу потому, что её брак — дело решённое. Император будто бы, как говорят слухи и молва, будет сопровождать её во Францию. Императрица-мать будто бы, опять так носятся слухи, очень довольна, этим объясняется её милостивое отношение к послу...»
Впрочем, если бы Коленкур дал себе труд критически отнестись ко всем этим слухам, он бы понял, что Александр старательно поддерживал видимость дружеских связей с Наполеоном, что все усилия императора и двора его матери усердно сохраняли эту видимость. Коленкур был в восторге, в своём дневнике он записал: «Великая княжна Екатерина выходит за императора, ибо она учится танцевать французскую кадриль». Коленкур тщательно собирал все слухи, сплетни, домыслы и доносил обо всём этом в Париж. Он даже приписал царевне Екатерине пышную фразу, которую она, конечно же, никогда не произносила. Но так болтали в салонах великосветских дам, а там Коленкур был частым гостем. Будто бы императору Александру выражали сочувствие, что ему придётся расстаться и с этой сестрой, предполагавшийся брак унесёт её во Францию, и тогда Екатерина, сестра императора, сказала:
— Когда речь идёт о том, чтобы сделаться залогом вечного мира для своей родины и супругой величайшего человека, какой когда-либо существовал, не следует сожалеть об этом...
На самом деле — и Константин присутствовал на всех семейных разговорах о браке Екатерины — эта сильная и храбрая девушка произнесла одну лишь фразу:
— Лучше я выйду за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца!
Ах, как пожалел Константин, что у него нет такой силы и твёрдости характера, как у этой младшей его сестры! Уж тогда он сумел бы настоять на своём браке с Четвертинской, убедить и матушку, и брата, что этот союз укрепит связи русской аристократии и полунемецкой верхушки власти. Но он умел только молчать из любви и уважения к матушке и брату, к своему титулу наследника, последней воле отца.
Коленкур упивался своей задачей, он осторожно, шаг за шагом подвигался к её решению. Константин понимал все ужимки французского посла. Мария Фёдоровна любезничала с ним, и Коленкур вообразил, что пришло время решительных слов и действий. Его завуалированное предложение руки и сердца княжне Екатерине состоялось за карточным столом в салоне у Марии Фёдоровны в Павловске. Константин не был там, но присутствовавшие при этом приближённые, конечно же, передали ему во всех подробностях смысл этого разговора.
Граф Коленкур рассказывал Марии Фёдоровне, что он видел странный сон, главными действующими лицами которого были император Наполеон и великая княжна Екатерина. Будто бы император вёл Екатерину Павловну за руку, и небесный ореол окружал их головы.
— Что бы значил сей сон? — лукаво спросил Коленкур императрицу-мать.
Мария Фёдоровна приблизила лорнет к своим близоруким, всё ещё красивым голубым глазам и резко ответила:
— Разве вы не знаете, граф, что сны всегда лгут?
Коленкур побледнел. Это был явный отказ, хоть и не было никакого официального предложения от Наполеона. Задача Коленкура провалилась, он не справился с её выполнением. Тут только понял французский посол, что обольщался и упивался сознанием своей значимости зря.
Константин долго хохотал над этим рассказом: всё-таки матушка сумела отбрить лощёного французского посла. Уважительно он стал относиться и к сестре, отстоявшей свою волю.
Но смеялся он напрасно. Александр в доверительном разговоре с братом сказал ему:
— Что ж, придётся готовиться к войне...
Константин молча согласился — лицемерный и злопамятный Наполеон никогда не простит этой обиды русскому двору — и с ещё большей энергией занялся своим делом — теперь его интересовала не только шагистика, экзерциции, упражнения в войсках, но и их снаряжение, снабжение, хозяйственные заботы. А с этим всё в русской армии обстояло из рук вон плохо: поставщики наживались, а солдаты получали амуницию из гнилого сукна, мушкеты плохо заряжались и ещё хуже стреляли, пушки ржавели без употребления, а картечь отсыревала ещё в магазинах-складах вооружения. Как ни бесновался Константин, как ни обрушивался на исполнителей с бранью, угрозами и иногда даже побоями, русская бюрократическая машина поворачивалась с трудом, кругом воровали, и предстоящая война грозила обернуться для России огромным бедствием.
А тут ещё был нанесён такой удар по престижу императорской семьи, что Константин лишь стискивал зубы от ярости.
Как и младший брат, Александр давно уже фактически разошёлся с императрицей Елизаветой Алексеевной. Ещё в предпоследний год царствования Павла прекратились между ними всякие супружеские отношения. Первая дочь их от этого брака умерла в самом раннем возрасте, и с тех пор у Елизаветы Алексеевны не было детей. Зато Александр, получив полную свободу от жены, не имел недостатка в любовницах. Правда, холодный и скрытный по натуре, он не привязывался надолго к своим фавориткам, оставляя их после одной, иногда после второй встречи. Константин привык смотреть на его связи также легко — он не упрекал брата, понимал, что и тому нужна разрядка, и супружеская привязанность Александра к жене выражалась только в прилюдном к ней внимании и щедром обеспечении. Но вот появилась возле Александра красавица Мария Нарышкина и надолго приковала к себе внимание императора. Теперь она готовилась стать матерью, и Константин с умилением ждал рождения племянника или племянницы от этого хоть и незаконного сожительства. У него самого не было детей...
И вдруг в петербургских гостиных заговорили о беременности императрицы Елизаветы Алексеевны. Константин поначалу был ошарашен этим известием: неужели Александр вернулся к жене и они зачали нового наследника престола?
Он долго крутился вокруг да около Александра, стараясь выведать, что и как, и лишь его верный Курута, грек, с рождения ходивший за Константином и сохранивший своё влияние на него, открыл ему тайну. Не Александр, молчавший и как будто не понимавший намёков брата, а Курута, всё знавший, во всё проникавший, державший в своих руках все сплетни и слухи. Под большим секретом он рассказал Константину, что в то время когда Александр был на войне, Елизавета Алексеевна сблизилась с ротмистром кавалергардского полка Алексеем Охотниковым.
Как, этот ублюдок посеял семя в императорской семье, отпрыск ротмистра может стать наследником императорского престола?
Константин краснел и бледнел от стыда за Александра, которому так дерзко наставили рога, от гнева на Елизавету Алексеевну, императрицу, которая не постыдилась завести шашни с простым ротмистром. «Вот они, немецкие принцессы!» — злобно кривил он губы.
Он пытался вызвать Александра на откровенный разговор, понять его непонятное великодушие и равнодушие, но брат уходил от разговора, ограничивался недомолвками и жестами, словно ему и дела не было до того, что происходило в его собственной семье. И Константин решился действовать на свой страх и риск, чтобы смыть пятно с репутации Александра, тем более что в великосветских гостиных уже открыто подсмеивались над императором.
И опять на помощь Константину пришёл его верный Курута. Алексей Охотников выходил из театра, когда на него набросился какой-то оборванец кинжалом и нанёс ему смертельную рану. Убийца скрылся. Его не догнали, не нашли. Алексея Охотникова принесли домой окровавленного, и он скончался, не успев даже написать завещание.
Через месяц Елизавета Алексеевна родила дочку. Александр был холоден и к жене, и к ребёнку, и Мария Фёдоровна изумлялась этой холодности. Сколько она помнила, её муж всегда был нежен с ней после её многочисленных родов, заботлив и внимателен.
Девочка умерла, не прожив и месяца. Только потом Мария Фёдоровна поняла причину странного поведения своего сына. Под большим секретом одному из самых близких своих людей она поведала эту историю:
— Я никогда не могла понять отношения моего сына к этому ребёнку, отсутствие мягкости к нему и его матери. Лишь после смерти девочки поверил он мне эту тайну: его жена, признавшись ему в своей беременности, хотела уйти, уехать... Мой сын поступил с ней с величайшим великодушием...
Константин горько усмехался: как калечит судьбу высокий сан, как не может быть счастлив брат в своей семье, как не может быть счастлив и он сам — и всё из-за того, что обязанности императора и его наследника ограничивают свободу и сердце, всё должно быть подчинено интересам государства и короны.
Впрочем, Александр утешился: Мария Антоновна Нарышкина тоже родила девочку, и это дитя стало утешением Александра. Он полюбил её с колыбели, берег и тешил, и это была самая сильная его привязанность. Даже имя её он повторял с необычайной нежностью — Соня, Сонечка...
Константин размышлял: а если бы Александр развёлся с Елизаветой или заточил её в монастырь по примеру своего предка, женился бы снова, завёл детей... И тут же отбрасывал эту мысль — а что было бы с империей, с короной? Каждый мог бы бросить комок грязи в корону, и права мать, что соблюдает величайшую осторожность во всех личных делах своих детей. Он начинал понимать тяжёлую ношу брата.
Впрочем, Константину всегда не хватало времени для длительных раздумий. Характер его был характером действия, а не размышления, хотя неровность его нрава, вспышки неукротимого гнева, как и у отца, наводили на всех окружавших его страх и нелюбовь. Но он обращал мало внимания на отношение к нему людей, он ставил перед собой задачи и выполнял их с безукоризненной точностью. Его отец в Гатчине завёл так называемые гатчинские модельные батальоны. С них должно было взять пример всё войско. Это были пудреные по прусскому образцу батальоны, и эту моду ввёл Павел во все войска, когда пришёл к власти.
Константин недаром был выучеником Суворова. Получив в полное своё ведение всю военную организацию российского государства, Константин тут же отменил парики и косы, букли и штиблеты. Живя в Стрельне после Тильзитского мира с Францией, великий князь призывал к себе офицеров из всех частей русского войска, обучал их и затем рассылал во вверенные им части, с тем чтобы и там вводились порядки и военные управления, которым обучились они в Стрельне.
Однако нетерпение его бывало так велико, что гнева его боялись все офицеры и полковые командиры. Он слишком часто бывал несправедлив, а уж если полковой командир не вызывал в нём уважения и подвергался заслуженному наказанию, той весь полк, независимо от его подготовки, определялся великим князем как самый плохой, никуда не годный. Если ротный начальник был нерасторопен, то жестоко наказывалась вся рота. С прапорщиков взыскивал Константин вину всего взвода и перелагал часть наказания на солдат. Потому служить под его началом было для солдат и офицеров большим испытанием.
Вспышки гнева Константина теперь не сдерживались никем, и характер его портился день ото дня, не встречая никакого сопротивления в подчинённых. Доходило до того, что иногда Константин пускал в ход кулаки, а брань и оскорбительные выражения всегда были в полном ходу у двадцативосьмилетнего великого князя, гордившегося тем, что он солдат и грубость — качество, присущее только солдату, — подобает ему.
Однажды на учениях лошадь его испугалась и кинулась в сторону от строя. Константин выхватил палаш и на бегу изрубил шею и круп коня. Соскочив с него, он добил несчастное животное, свалившееся к его ногам. Недаром ходил про Константина стишок:
Несмотря на это, в войсках хорошо знали, что Константин не потерпит никакого нарушения дисциплины и воинского устава, и старались солдаты, стремились командиры заслужить благорасположение своего требовательного начальника.
Кроме занятий с войсками непосредственно, было у Константина множество других дел. Ещё в первом году нового столетия он был утверждён председателем воинской комиссии, которая должна была пересчитать все расходы по войскам и привести их в соответствие по всем статьям. Оказалось, что множество средств просто разворовывается командирами и офицерами, а рекрутов целыми взводами приписывают к усадьбам генералов, что почти треть войска только числится на бумаге, а в действительности состоит крепостными у командиров.
Жёстко взялся Константин за наведение порядка в этой области. Все рекруты были возвращены в свои части, командиров, особенно преуспевших в воровстве и казнокрадстве, Константин жестоко карал.
К тому времени, когда он возвратился из Тильзита, уже не было воровства людей из полков и команд, хотя воровство казённого имущества и казённых денег всё ещё процветало. И если при Павле уже были искоренены порядки, при которых офицеры не являлись на службу годами, получая лишь жалованье, когда в строй являлись во фраках и с меховыми муфтами, то теперь об этом не было и речи. Армия не роптала, солдаты и офицеры только боялись нареканий со стороны Константина.
А скольких трудов стоило великому князю управление разными хозяйственными делами войска! Он старался привести всё снабжение армии к строгому порядку, обзавестись магазинами — хозяйственными складами — во всех войсках с особым тщанием. Тут пригодилась ему боевая и хозяйственная выучка великого полководца Суворова. И, наверное, недаром Константин слыл тогда в России самым деятельным способным организатором, конечно, по всем тогдашним понятиям...
Тильзитский мир дал России передышку — армия была истощена, казна пустела, очень много людей полегло на полях сражений. Необходимость мира понимали все, но лишь Константин выказал себя наиболее приверженным к заключению мирного договора. Он, выученик и сподвижник Суворова, яснее всех понимал состояние армии и был ближайшим советником Александра, страшившегося позорного и невыгодного для России мирного договора. Но если в Тильзите Александру пришлось при всех блистательных празднествах и пиршествах, испытать горечь поражения, бессилие перед огромной армией Наполеона, то уже при следующем свидании двух императоров, в Эрфурте, Александр показал себя твёрдым и неуступчивым.
Константин сопровождал Александра в его поездке в Эрфурт на свидание с Наполеоном.
Как отличалось это свидание от тильзитского! Константин часто наблюдал, как срывал с себя треуголку Наполеон, бросал её на пол и топтал ногами. Но Александр спокойно и негромко говорил:
— Вы слишком страстны, а я настойчив — гневом со мной ничего не сделаешь. Будем беседовать и рассуждать, или я удалюсь...
И Константин гордился братом, восторг умиления вызывал на его глаза слёзы.
Александр был твёрд и напорист, он приводил свои политические и экономические доводы хладнокровно, со знанием дела и отношений всех государств в Европе, и Наполеону ничего не оставалось, как заявить своему отозванному из России послу Коленкуру, который принялся было хвалить российского императора:
— Ваш император упрям, как мул. Он глух ко всему, чего не хочет слышать.
И как же радовался Константин за брата, когда услышал переданные ему эти слова: русский император становился всё сильнее и сильнее, требования его были справедливы. Но именно эта непримиримая позиция русского императора вызвала новую войну — со Швецией.
На этот раз Константин не поехал в армию, он был сыт по горло боевыми действиями, только издалека, из Петербурга, следил он за действиями армии, которую так тщательно готовил к битвам.
Лишь изредка наведывался он в полки, двигающиеся от западных границ к северным и проходящие мимо столицы. Инспектор армии не забивал о своих обязанностях.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Кто-то назойливо стучал по стеклу. Константин резко открыл глаза и, весь ещё во власти ночных сновидений, прислушался к настойчивому стуку. Низенькая горница в обычной, слегка почище, чухонской избе была ещё темноватой; железная койка великого князя поставлена была в самом углу, тут же были расстелены домашние тканые половики да стояло перед простенком между двумя окнами старое бюро, изъеденное жучками. Бархатные тяжёлые занавеси скрывали маленькие окна, всё-таки застеклённые, не в пример обычным крестьянским жилищам, довольствующимся слюдяными пластинами или воловьим пузырём. Но из щелей между шторами и рамами окна пробивался в комнату неясный рассвет, высвечивал белые, отмытые песком и кирпичной крошкой доски некрашеного пола, ложился на белёный потолок серыми, ещё неяркими полосами.
Константин вначале не понял, где он, что с ним и кто так назойливо долбит в окошко. Он приехал в этот Ревельский пехотный полк, чтобы провести инспекцию перед походом в Швецию, проверить состояние солдат и снабжение полка, его амуницию и готовность к боям.
Ревельский пехотный полк понравился Константину. Смотр выявил строгую дисциплину, что так любил великий князь, боевую выучку — полк уже прошёл с боями от австро-прусской границы почти до самых северных границ со Швецией. Солдаты были сыты и хорошо обмундированы — их лица сразу выдавали заботу командира полка, полковника Тучкова, о самочувствии последнего из солдат.
Константин погонял весь полк, проверяя его способность к перестроению, к боевой позиции, осмотрел оружие и остался доволен.
На вечернем сборище всех офицеров за ужином он похвалил полк и командиров и пожелал им побед. Сегодня утром, едва ли не на рассвете, он хотел уехать и приказал с вечера готовить коляску.
И вот теперь, до назначенного часа, кто-то тревожно и настойчиво будил его странным стуком в стекло.
Константин вскочил, готовый ко всему на свете. Со времени ужасной ночи 11 марта 1801 года, когда он увидел слегка подгримированный и готовый к осмотру труп отца, императора Павла, его не оставляла мысль, что и его, как отца, могут убить так же зверски, удавить на собственном шарфе, и впечатления той ночи всегда хранились на донышке его памяти.
Может быть, и теперь подстерегает его ужасная смерть — смерть наследника престола, может быть, и он кому-то встал на пути, как встал на пути развращённых дворян его отец?
Он осторожно подошёл к окну, кинул быстрый взгляд на низенькую дверь. Засов надёжно закрывал горницу, дверь была закрыта плотно, из-за неё не доносилось ни звука.
Константин слегка отогнул угол тяжёлой бархатной портьеры. Взгляду его открылось пустое пространство большой чухонской мызы, немного подготовленной к приезду наследника престола. Часовые мерно расхаживали по дорожкам, стояли по углам дома, и Константин несколько успокоился. Отогнув побольше штору, он увидел вдруг довольно большую чёрную птицу с серыми полосами на крыльях. Зацепившись острыми когтями за край резного наружного наличника, птица долбила толстым чёрным клювом по стеклу.
Великий князь никогда не был суеверен, мистические настроения не посещали его, как Александра, но сейчас он содрогнулся. Что бы это значило, почему такая большая чёрная птица стучит в его окно? Должно быть, принесла нехорошую весть? Он судорожно перекрестился.
Птица не улетала и продолжала долбить в стекло, издавая странный звук — словно бы острым концом палаша царапали окно.
Константин опамятовался: птица как птица, только что большая да чёрная. Определил, что это галка — серые полосы вдоль спины и сравнительно с воронами не очень черна. От сердца отлегло, и он хотел прогнать непрошеную посетительницу. Слегка приоткрыл низенькую створку, хотел было ударить по странной птице ладонью, но она нисколько не испугалась, мимо его ладони проскользнула в щель окна и спрыгнула с подоконника на белый, тщательно вымытый пол, уже отблескивающий в первых розовых лучах зари.
Великий князь опустил штору и неподвижно стоял у окна, боясь спугнуть птицу и в то же время страшась её появления. А она как будто не замечала его: прохаживалась по половицам, постукивала клювом по полу, словно бы всегда была здесь и всё было ей тут привычно.
Константин осторожно переместился к своей железной койке с кожаным неизменным матрасом, набитым соломой. Птица, склоняя голову то на одну, то на другую сторону, внимательно наблюдала за его передвижениями, вращая круглыми бусинами глаз.
Он начал одеваться, а птица внезапно широко раскрыла клюв, узкий красный язычок затрепетал в глубине его, и комнату прорезал звук, похожий на скрипучий старушечий голос:
— Кашки Варюшке!
Константин так и сел на свой кожаный матрац: ещё не хватало, чтобы птица говорила по-человечески.
А галка спокойно закрыла клюв, осторожно стукнула им по полу и настойчиво повторила:
— Кашки Варюшке!
— Так ты учёная, — догадался наконец Константин, — ты даже говорить умеешь.
Птица теперь беспрестанно трещала:
— Кашки Варюшке!
Константин подошёл к двери, отодвинул толстый деревянный брус засова. У двери неподвижно стояли два гвардейца.
— Аникеев, — сказал Константин, — ну-ка слетай в полковую кухню, принеси каши...
— Сей момент, — и Аникеев стремительно вылетел за двери.
— И чья же ты будешь? — вернулся Константин к странной птице.
Но она упорно твердила:
— Кашки Варюшке!
Она спокойно расхаживала по белым половицам, не собиралась улетать и даже не выказывала никаких признаков волнения.
Константин едва дождался Аникеева. Тот просунул в дверь полный котелок вчерашней, зачерствелой каши. Константин взял его и поставил прямо на пол.
Птица невозмутимо подошла к котелку, погрузила клюв в жёсткие куски и принялась глотать. Константин наблюдал за ней.
Выклевав почти всю кашу, птица важно обернулась к Константину, несколько раз вздёрнула головой, словно бы кланяясь, и проскрипела:
— Доброго здоровьечка, Маргарита Михална!
— Так вот ты чья! — засмеялся Константин.
Он уже хотел было позвать Аникеева, чтобы поймать птицу, но она шустро скользнула под угол занавески, вспрыгнула на широкий подоконник и протиснулась в щель, оставленную Константином. Словно бы и не было её только что в горнице, остались лишь следы её грязных лап да летевшая во все стороны крупа.
— Кто такая Маргарита Михайловна, найти и доставить, — приказал Константин.
Утро давно разгорелось в полную силу, лучи бледного позднеосеннего солнца уже вовсю заливали горницу, а он всё ждал эту неизвестную Маргариту Михайловну, Несколько раз ему робко докладывали, что коляска готова, а он всё откладывал свой отъезд и уже начинал сердиться. Ещё со времён суворовской кампании запрещено было в полках возить с собой жён, и теперь он подозревал, что этот запрет нарушен, какая-то Маргарита следует за своим мужем или, не дай бог, любовником, и потому следовало строжайше взыскать с полковника Тучкова, в чьём полку обнаружил он это нарушение.
Наконец к середине дня в проёме низенькой двери появился высокий стройный солдат. Так, во всяком случае, определил эту фигуру Константин. Широкая епанча[20] скрывала всю фигуру, надвинутая на лоб треуголка не позволяла разглядеть лицо, но Константин сразу почуял обман и подвох.
Но солдатик отдал честь, низко поклонился и звонко, по-мальчишески отрапортовал:
— Денщик полковника Тучкова явился по вашему приказанию!
Константин подошёл ближе, сдёрнул с головы денщика солдатскую треуголку.
— Женщина. Маргарита Михайловна, — победно констатировал он.
— Да, ваше императорское высочество, — по-французски сказала Маргарита, — винюсь, нарушила, карайте...
Константин отошёл в сторону, разглядывая яркие зелёные глаза, золотые волосы, каскадом упавшие на спину, розовые губы.
— Да ведь я вас знаю, — вдруг проговорил он.
— Ваше императорское высочество, — опять по-французски сказала Маргарита, — из ваших рук я получила моего дорогого мужа. Как же я могла бы перенести разлуку с ним на столько лет?
— Помню, — покачал головой Константин, — это ведь вас я пригласил на бал по случаю коронации моего брата. Но прежде вы были у меня, подавали прошение о месте для мужа, а потом, вспоминаю, было дело о разводе. Так что же, помирились, что следуете за ним?
— Нет, великий князь, ваше императорское высочество, — ответила Маргарита, — я развелась с Ласунским, а затем вышла замуж за Тучкова. Люблю его всем сердцем, потому и решилась нарушить запрет государя, но служу денщиком, и обязанности свои выполняю честно...
Константин засмеялся:
— Действительно, запрета на денщика женского пола не было по армии, упустили из виду женскую хитрость...
Он сел на стул и махнул рукой Маргарите, чтобы она сняла епанчу и тоже села.
— Ваше императорское высочество, — мужественно заговорила Маргарита, — вы всегда были так добры ко мне...
— А что же не написали императору, он бы разрешил вам следовать за мужем, — удивился Константин, — брат очень добр, особенно к молоденьким красивым женщинам.
Едва присев на краешек стула, Маргарита печально покачала головой. Её волосы рассыпались по плечам, и Константин откровенно любовался ею.
— Я писала, — сообщила Маргарита, — но император запретил. Тогда ещё муж мой не был полковником, офицерам ниже рангом вовсе запрещалось возить за собой жён. Но мы уже прошли прусско-русскую кампанию, теперь Александр Тучков полковник, государь удостоил его орденами. Я им горжусь, он пулям не кланяется, а полк, видели сами, каков.
— Да, полк хорош, я был вчера им доволен, — подтвердил Константин.
— Осмелюсь спросить, ваше императорское высочество, — потупила глаза Маргарита, — кто меня выдал? Все в полку знают, что я женщина, но никто бы не сказал вам этого...
— А вот и есть доносчик! — весело засмеялся Константин. — Ваша Варюша прилетела сегодня ко мне ни свет ни заря, мало того что разбудила, тарабанила в окно, так ещё и каши требовала...
— Так это Варюшка! — ахнула Маргарита. — Простите её великодушно, ваше императорское высочество, повадилась она к хозяину этого дома — он встаёт рано, и кашу у него варят рано. Вот она и летит, стучит и, пока каши не дадут, не улетает. И то уж сколько жалоб на неё! Ладно бы попрошайка, ещё и воровка — таскает всё, что блестит. Приходят потом ко мне и требуют...
Маргарита так умоляюще и жалобно глядела на Константина огромными, налитыми слезами глазами, что он расхохотался.
— Ай да Варюшка! — только и вымолвил он. — Да откуда у вас такая учёная птица?
— А это ещё с войны, — несколько поуспокоилась Маргарита. — В гнездо, видно, осколок попал, галчонок и свалился на землю. Ногу перебило да крыло повредило. Жалко, такой комочек перьев, а кричит от боли. Я её перевязала — я в лазарете помогала, — подлечила, кормила её, вот она и привязалась. Теперь везде с ней и ездим.
— Никогда не слышал, чтобы птица разговаривала человеческим голосом, — задумчиво сказал Константин.
— Да она ж птица умная, слышит, что люди говорят, вот и повторяет. Да и слов-то знает всего ничего...
— И какие же слова?
— «Кашки Варюшке», «Спаси тя Христос», ещё «Доброго здоровьечка»...
— А не договариваете... — опять засмеялся Константин, — она назвала мне и ваше имя...
Маргарита покраснела и опять опустила глаза.
— Солдаты приходят, чем могу, им помогаю, вот и говорят мне: «Доброго здоровьечка, Маргарита Михална!» Она и подцепила эти слова...
— Значит, часто вам их говорят, если даже птица запомнила, — задумчиво проговорил Константин. — А вы, наверно, помогаете мужу...
— А жена обязана быть помощницей, — откликнулась Маргарита.
— Так, — встал Константин, — я вас не видел, женщины в полку не было, а письмо быстро пишите, сам доложу брату. Он вам разрешит уже не в мужском костюме следовать за мужем.
Маргарита вскочила со стула, упала перед великим князем на колени.
— Как мне вас благодарить! — воскликнула она. — Вы подвели ко мне моего будущего мужа, благодаря вам я узнала великую силу любви, вы помогли мне получить развод... Я всегда буду молиться за вас...
— Встаньте, встаньте, — засуетился Константин, — что за нелепая привычка падать на колени!
— Да я за вас умереть готова, — ещё ниже склонилась Маргарита.
— Полно, полно, — поднял её Константин. — Идите и пишите письмо государю. Я подожду...
Она, всё ещё низко кланяясь, с глазами, переполненными слезами, выскочила из горницы Константина.
В сенях уже стоял Александр Тучков, готовый ко всему. Он увидел Маргариту, выбежавшую из горницы, и приготовился к самому худшему. Могло быть всё, что угодно: разжалование за нарушение приказа, ссылка в Сибирь, арест. Что ж, он готов ко всему, лишь бы гроза обошла Маргариту.
— Потом, потом, — замахала руками Маргарита, — иди...
К его удивлению, Константин сразу же подошёл к нему, едва он ступил на порог, и обнял. Отпустил, посмотрел в голубые, взволнованные и смущённые глаза полковника и сказал задумчиво и серьёзно:
— Завидую тебе, полковник. С такой женой никакие вороги не страшны.
Через неделю, уже на следующей днёвке, из Петербурга прискакал курьер и вручил Маргарите именное, от государя, письмо. Писано оно было к князю Багратиону, но командующий переслал его в том же пакете самой Маргарите.
«Командующему 4-го корпуса генерал-лейтенанту князю Багратиону.
Князь Пётр Иванович! Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную дань удивления и восторга. Какая страсть, какая воля!
Она предпочла покинуть сферу созерцательности, тепла и покоя. Пусть Тучковы будут вместе. Они ставят себя и чувства свои на публичное испытание самым страшным — войной.
Любовь есть сила, Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения!
Александр Первый. 28 генваря 1808 года.
Санкт-Петербург».
А Маргарите вспомнилось: когда отъезжал Константин, уже с её письмом государю, он всё оглядывался, хотел ещё раз увидеть Варюшку. Но птицы не было, и он уже садился в свою коляску, но тут на высокий столб деревянного полусгнившего заплота, хлопая крыльями, села большая чёрная птица с серыми полосами по спине и крыльям.
Константин замер, высунулся из коляски и словно ждал, что скажет ему любимица Маргариты. И дождался. Птица замахала крыльями, будто прощаясь с ним, потом раскрыла большой чёрный клюв и громко старушечьим хриплым голосом прокричала:
— Спаси тя Христос!
Константин будто ждал этого. Он махнул рукой, и лошади поскакали.
Собственно, после письма государя как будто ничего и не изменилось, только теперь Маргарите не надо было прятаться от многочисленных инспектирующих, да можно было изредка одеваться в женское платье. Но всё равно на дневных переходах она вместе с Александром на коне, одетая в мужские военные штаны и зимнюю епанчу — так было ловчее, удобнее, а главное, теплее. А мороз уже начал донимать всех солдат и офицеров полка. Днёвки были короткими, полк делал быстрые переходы, и на марше уже становилось трудно дышать из-за сильных северных ветров, из-за крепчающего с каждым днём мороза, и над колонной солдат всё время поднимался парок от дыхания людей. В такие большие переходы Маргарита позволяла себе маленькую вольность. Она садилась в просторную карету, плотно обитую изнутри мехом, с небольшой жаровней, мягкими пуховиками и сиденьями, брала к себе Стешу, крепостную девушку, которую прислал ей отец, привязывала к передней стенке кареты клетку с Варюшкой, не выпуская её на свободу до тех пор, пока полк не устраивался на ночь в какой-нибудь крохотной деревушке ил просто в чистом поле, согреваясь лишь кострами. В такие ночёвки Маргарита прежде всего обходила все роты, приглядывалась к солдатам и, если находила больных или обмороженных, немедленно посылала их в походный лазарет, а то и сама принималась оттирать носы гусиным салом, благо прислали его ей из дому. Присматривалась к обувке и одежде солдат, распекала ротных, если те не следили за амуницией и питанием. «Наш ангел-хранитель!» — улыбаясь, говорили про неё солдаты и отдаривали то связкой поленьев для деревенской печки, то охапкой сена для повозки. Теперь она смогла везти с собой и провизию, и запасные тёплые епанчи и шинели для Александра и строго следила, чтобы он не натёр ноги, не обморозился на ледяном ветру.
Александр целыми днями не сходил с лошади, то выезжая далеко впереди колонны и обоза, то возвращаясь назад, следя за сохранностью и солдат, и артиллерии, и провианта. Забот у него хватало, и лишь иногда забирался он в тёплую карету жены, чтобы просто поцеловать её милое личико с загрубевшей на ветрах и морозах кожей и потрескавшимися, шелушащимися губами.
Они шли и шли навстречу боям, продвигались всё дальше на север, и всё больше и больше приходилось защищаться от холода и ледяного ветра.
Наконец полк прибыл на позиции, и командование дало ему отдых на два дня. Дальше начиналась уже настоящая война...
Русский императорский двор ещё не забыл давней своей обиды на Густава Четвёртого, своенравного и упрямого шведского короля. Здесь все — и мать, Мария Фёдоровна, и сам Александр — ещё помнили, сколько страданий принесло их старшей дочери и сестре это неудавшееся сватовство, когда Густав в самый последний момент отказался присутствовать на обручении и уехал, даже не простившись с приглянувшейся ему царской дочерью. И хотя Александрина уже давно лежала в склепе в далёкой Венгрии, здесь до сих пор хранили в памяти предательскую черту Густава. Он был сосед, с ним обходились с ледяной вежливостью, но старые раны не затягивались. Особенно злобилась на Густава Мария Фёдоровна: первая неудача её дочери определила и всю её несчастную жизнь, рано унесла в могилу, и мать оплакивала свою старшенькую уже который год. Не менее враждебно был настроен против России и сам Густав.
Тильзитский мир больно ударил по Англии: Россия закрыла все порты для английских кораблей, привозивших всякого рода товары. Правда, эта континентальная блокада ударила и по самой России: часть сбыта прекратилась, деньги упали в цене, даже хлеб подорожал. Многие российские купцы разорились — хлеб, лес, металл покупала только Англия, теперь же их некому стало сбывать. В отместку Англия начала субсидировать Густава, который всегда искал денежной поддержки у любой страны: его держава была слишком мала и неспособна выставить большое и хорошо обученное войско против северной соседки. Но в Швеции ещё не забыли позора Полтавской битвы, настроены были крайне враждебно, и Густав, узнав о мире с Наполеоном, выслал из страны полномочных посланников российского императора, а самому Александру отослал орден Андрея Первозванного, которым одарил его ещё Павел. Густав заявил, что не может носить орден, которым наделён и Наполеон — Александр в период дружественных связей с Наполеоном наградил его этим старинным русским орденом.
Конечно, это была пощёчина русскому царю, конечно, Александр видел во всех этих действиях угрюмого и своенравного соседа признаки сближения с Англией. Россия не могла допустить такого сближения, тревожные известия поступали из Стокгольма каждый день.
Русские войска подошли к самым границам Финляндии, территории, занятой шведскими войсками. Предстояли серьёзные бои за овладение этой бедной северной страной, залитой сотнями рек, озёр, речушек и ручьёв, изобилующей ущельями, скалами и скудной растительностью. К северу Финляндия и вовсе превращалась в тундру, обильную лишь оленями, кочевыми племенами оленеводов да северным мохом — ягелем.
Двадцать первая пехотная дивизия князя Петра Ивановича Багратиона заняла центр наступательной линии Вильманстранд — Давидштадт, с тем чтобы продвигаться к Тавастгусту. А самый центр этой линии занял полк Александра Тучкова. Слева прикрывала центр семнадцатая пехотная дивизия князя Горчакова, а справа командовал пятой пехотной дивизией брат Александра — генерал-майор Николай Тучков. Они оба знали, что воюют на одной линии, но так и не встретились — бои уже начались, и задачей дивизии Николая было не допустить отхода шведских частей к Тавастгусту, чтобы не дать соединиться шведам.
Перед первыми боями было много хлопот. Всей лёгкой пехоте выдавались лыжи, маскировочные покрывала, солдаты учились ходить на широких деревянных лыжах, подбитых оленьим мехом. Научилась ходить на лыжах и Маргарита.
Ночью лыжники, лёгкие пехотинцы Александра Тучкова, перешли шведскую границу. Небольшая речка Кюмень была скована толстым слоем льда и мало чем отличалась от окрестностей, только не было на ней бесчисленных каменных громад — валунов. Лыжники быстро пересекли реку и остановились перед передовым шведским отрядом, закрывавшим границу.
Шведский берег встретил пехотинцев зловещим безмолвием, пехотинцы видели лишь нацеленные на них орудия, уже готовые к бою и ждущие только приказа.
Вперёд выскочил парламентёр с большим белым флагом. Это был Александр Тучков в офицерском мундире, на белом коне. Он встал перед передовыми заграждениями шведских линий. Твёрдо и чётко прочитал он требование русского императора отойти на позиции, которые были заранее обговорены в Стокгольме.
Внезапный залп из всех пушек и мушкетов был ответом на слова парламентёра.
Маргарита в сильном волнении наблюдала за Александром. Он стоял перед линиями шведских укреплений и размахивал белым флагом. Ружейный огонь, блеск раскалённых пушечных ядер, внезапно ударивших по колоннам пехотинцев, заставили её сердце вздрогнуть.
Вот сейчас он упадёт, вот сейчас подогнутся ноги коня, вот сейчас свалится он на белое пространство, и она останется одна.
Она вся замерла и даже не заметила, как прилетела и села ей на плечо Варюшка. Залп испугал птицу: громко крича, она взмыла в небо и полетела за холмы. А Маргарита, напрягая глаза, глядела и глядела на одинокого всадника, словно мишень стоявшего перед шведами.
Но пули и ядра будто обходили Александра стороной. Он повернул коня и стремительно поскакал к своим, петляя на ходу, не давая возможности ударить по нему прицельно. Доскакав до своих, он скомандовал:
— Полк, к бою!
И полилась лава по снежному насту к передовому шведскому отряду. Скоро не осталось от шведов ничего — передовой отряд был смят и обращён в бегство. А лавина лыжников-пехотинцев всё неслась и неслась по снежному полю, огибая скалы и редкий кустарник.
Только тут дала Маргарита волю слезам, лишь потом осознала, сколь опасна была миссия Александра: первый же ружейный выстрел мог убить его.
После атаки, когда весь передовой отряд шведов был рассеян и пехотинцы Тучкова заняли их хорошо оборудованные домишки, Маргарита нашла Александра в самой гуще солдат. Не замечая никого, она обняла его, прижалась лицом к его мягкой епанче и расплакалась.
— Ну что ты, что ты, — смущённый многолюдьем, отстранил Александр жену, — всё хорошо, видишь, меня и пуля не берёт...
Она отбежала в сторону — надо было приготовить ему сытный обильный ужин и постараться скрасить походную жизнь хотя бы мягкой пуховой периной.
— Как ты мог, — выговаривала она ему после ужина, — как ты мог! Ты полковник, командуешь целым полком, неужели среди твоих офицеров не нашлось парламентёра, неужели все встали за твоей спиной?
— Ты ошибаешься, — Александр, ласково улыбаясь, посмотрел на взволнованное лицо Маргариты, — нашлось, и немало, смельчаков. Да только моё ли это дело посылать их на верную смерть, если сам я спрячусь за их спиной?! Нет, я пошёл сам, чтобы никто и думать не смел, что я трус, что я боюсь такого шага! Но видишь, всё кончилось хорошо, твоя любовь завернула меня в такую обёртку, что никакая пуля и никакой штык меня не возьмут...
— Я так люблю тебя, — слёзы навернулись на глаза Маргариты, — но я очень боюсь за тебя.
Она взглянула в его сияющие голубые глаза, на его раскрасневшееся лицо.
— И я так горжусь тобой, — уже ясно улыбнулась она, — никто не может сравниться с тобой...
Маргарита долго ещё могла бы говорить о том, какой он герой, как она радуется и гордится им, но он закрыл ей рот долгим поцелуем.
Первые же дни военных действий показали русским войскам слабость и разбросанность шведских защитников на большом пространстве. Пала хорошо укреплённая шведская крепость Тавастгуст, сдался Гельсингфорс, затем главная база снаряжения и продовольствия шведов Свеаборг. Рандасальми, Сульков, Пумола, Истоумаки, Таммерфорс — все эти финские города были быстро, почти молниеносно взяты русскими войсками.
А потом пришёл черёд и финской столицы — Або. Месяц наступления, и вся южная и средняя Финляндия была покорена. Император Александр уже торжествовал победу, хвастливо извещал Наполеона о своих успехах, закатывал пиры и празднества в Петербурге.
Но что значила эта победа! Здесь, в Финляндии, русским войскам предстояло встретиться с таким сопротивлением населения, с такими кровопролитными стычками малыми силами, что никто и не предполагал столь затяжной войны. Здесь не было огромных пустынных пространств для большого, решающего сражения, равнин Европы, где могли бы сосредоточиться крупные силы. Здесь были скалы, болота, кустарники и редколесье, всюду из-под завалов снега торчали пики вершин, и развернуться русские войска не могли. Началась пора затяжных схваток, и война растянулась на долгие два года.
Русские поняли тактику шведов и потому решились на невероятное — перейти границу Швеции, не гоняться за шведскими войсками на севере, а найти путь к самому сердцу соседнего королевства.
Путь предстоял обходный, далёкий. Самым укреплённым городом-крепостью русские овладели после кровопролитных боев. Теперь можно было выходить из Куопио, занять почти незаселённые Аландские острова, и лишь Ботнический залив Балтийского моря отделил бы войска от столицы Швеции — Стокгольма.
Почти прямая линия соединяла на карте город-крепость Куопио со Стокгольмом. Но на этой прямой линии лежали десятки тысяч вёрст, снежных завалов, ледяных скользких скал, незамерзающих ям с болотной жижей, непроходимых ущелий, Аландские острова с оставленным там шведами сильным гарнизоном, да ещё Ботнический залив, только слегка замерзающий в самые сильные морозы. Но русские отважились на этот переход, спрямляющий дорогу к сердцу шведского королевства.
Маргарита ехала за полком в своей уже продуваемой ветрами, обветшавшей колымаге. Варюшка, во всё время перехода не выпускавшаяся из клетки, жалобно кричала свои слова, и Маргарита нежно утешала птицу:
— Погоди, Варюшка, нельзя тебя выпустить, останешься где-нибудь в глухом месте, тут ты не проживёшь, заклюют тебя вороны...
Варюшка словно понимала, склоняла головку то в одну, то в другую сторону, неохотно клевала надоевшую пшённую кашу и снова скрипучим старушечьим голосом повторяла:
— Варюшке...
— Скоро, скоро выпущу тебя на вольный воздух, — повторяла Маргарита. — Вот дойдём до Стокгольма, будешь вольной пташкой, там, вероятно, надолго остановимся...
Но всё продолжалось и продолжалось это медленное продвижение, этот тягостный переход, лишь изредка прерываемый небольшими стычками с отрядами шведских волонтёров.
С тревогой и волнением всматривался Александр в бескрайнюю гладь белой пелены, укрывавшей Ботнический залив Балтийского моря. Где-то там, много южнее, Балтийское море, хоть и холодное, ледяное, но незамерзающее — потому и стоит много столетий на страже этой водной дороги шведский флот и не пускает русские корабли из Санкт-Петербурга на просторы Атлантики. А здесь гуляет по заливу северный ветер, метёт позёмку, опускает туман на белые поля.
Можно ли пройти по льду, не прогнётся ли тонкая корка под тяжестью тысяч людей и лошадей, не провалятся ли тяжёлые колёса артиллерийских орудий в тонкую настилку из воды и льда?
Одна за другой отправлялись в далёкие разведки группы лыжников, проверяли состояние льда, промеряли глубину в полыньях, курившихся паром, намечали дорогу через залив. И главная мысль была — устоит ли этот естественный мост, не потопит ли коварный залив всю армию, не сделает ли недоступной столицу соседнего королевства?
Но сильные морозы как будто способствовали русским. Лёд всё больше и больше затягивался снегом, всё более и более выдерживал груза, и настал день, когда все лыжники в один голос повторяли — лёд устоит, словно бы сам дед Мороз выстелил ледяную дорогу перед русскими войсками.
Не все дошли до противоположного берега. Огромные полыньи разверзались перед солдатами, поглощали тела, проваливались пушки, лошади били ногами по тонкой корке льда, всё сильнее обрушивающегося под их копытами.
Из щели в закрытых окошках кареты видела Маргарита и утопавших, и бьющихся в агонии лошадей, застрявших в ледяных торосах, и пыталась было выскочить, помочь, облегчить, но понимала, что не может этого сделать, и только молилась Богу.
Но вот первые линии достигли другого берега залива, и сразу же началась канонада. Хоть и не ждали шведы такого подвига от русских войск, но на подступах к столице заблаговременно соорудили почти неприступные укрепления.
Полки русских с ходу обрушились на них, окрылённые тем, что преодолели коварный залив, что под ногами больше нет воды, а есть крепкая, твёрдая земля.
Под самое утро, перед восходом бледненького, жалкого солнца, Маргарита выбралась из коляски. Студёный ветер как будто поутих, буран прекратился. Его заменил огонь из пушек и ружей с вражеских редутов.
Впереди шли в атаку солдаты, где-то там, среди них, был Александр, а Маргарита размяла ноги, открыла клетку с Варюшкой, так давно не взмахивавшей крыльями. Галка потопталась на снегу, похлопала могучими крыльями, пробежалась по рыхлому снежку и взмыла в воздух, уже просеченный тонкими голубыми лучиками, розовевший на глазах.
Она кружилась над солдатами, атакующими боевые укрепления, над взрытыми валами шведских редутов, опустилась ниже и плавно пронеслась над всей линией русских полков.
Маргарита следила глазами за своей птицей. Варюшка носилась в высоте, устремлялась вниз, затем снова взмывала. Хорошо ей было там, в вышине, даже ружейный треск и гром орудийных залпов не тревожили её. Давно не наслаждалась она свободным полётом, давно не кувыркалась в синем воздухе, не парила над миром.
И вдруг Маргарита увидела, как птица словно споткнулась, огненные осколки распороли перья, тихим дождём замерли они в воздухе на короткое мгновение, потом плавно начали опускаться на землю.
А сама Варюшка, кувыркаясь, пыталась взлететь, неслась прямо к Маргарите, теряя на лету и перья, и кровь. Мокрым красным комком она упала к её ногам и вытянула маленькую головку с налитыми кровью глазами, словно хотела что-то сказать своей хозяйке, но из разбитого горла доносилось лишь шипение.
Маргарита схватила разодранное тельце своей любимицы, прижала к себе, невзирая на кровь и трепещущие перья, ощупала его.
— Только не умирай, Варюшка, — захлёбываясь слезами, шептала она, — только не умирай, я тебя выхожу, вылечу, я тебя согрею...
Но мокрый окровавленный комок перьев уже не был Варюшкой. Раз и другой дёрнулась птица на руках у Маргариты и замерла, свесив голову набок, плотная плёнка затянула остывающие глаза.
— Варюшка! — кричала Маргарита. — Что же это, как же это?
Лишь гром пушек да ружейные залпы были ей ответом.
Она стояла посреди снежного пространства, кровь птицы стекала с её пальцев и падала на белое полотно, пятная его. Мягкий комок распустился в руках Маргариты, и она поняла, что её любимицы больше нет на свете.
— С Варюшки начнутся мои потери, — вдруг с ужасом прошептала Маргарита и устремила взгляд вдаль, туда, где русские солдаты штурмовали укрепления шведской столицы.
Бой продолжался недолго. Изумлённые неожиданным появлением сильной русской армии с той стороны, откуда её вовсе не ожидали, ошеломлённые бурным натиском, шведы выслали парламентёров. Им важно было продержаться, чтобы не допустить захвата столицы, падения самого шведского государства.
Русские миролюбиво согласились на перемирие.
Пока договаривались вчерашние противники, пока шли согласования и увязки, в Стокгольме произошла революция. Так долго добивавшийся трона герцог Зюдерманландский Карл уговорил знатные круги столицы свергнуть его племянника Густава Четвёртого, приведшего своей своенравной политикой к краху всю страну. Густава свергли. Карл, под именем Карл Тринадцатый встал у руля политики Швеции. Он был хитёр и пронырлив, провидел будущее и постарался заключить с северной соседкой мир. Пусть позорный, наносящий урон всей стране, но мир — любой ценой.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
С самого раннего утра Маргарита поджидала гостей. Много раз выбегала она на высокое резное крыльцо с резным же навесом над ним, всматривалась в даль подъездной аллеи, в закрытые створки деревянных, высоких, украшенных резьбой ворот. Но стоял на часах сторож у ворот, створки не открывались, и никто не спешил по дорожке, усыпанной колотым кирпичом, к резному крылечку.
Только в этом маленьком местечке Тучковы устроились с относительным комфортом и уютом. Прежние хозяева усадьбы, старого господского дома, проживали в самой России, лишь изредка наведывались в своё имение и с радостью предоставили генеральской семье Тучковых дом для постоя. Маргарита радовалась тому, какой тихий тенистый сад окружает его, какая неспешная речка протекает под самым взгорком, на котором построен был большой кирпичный дом. Она ликовала, что после стольких лет странствий по военным дорогам, стольких испытаний, стольких временных жилищ вроде крестьянских изб и палаток пришло время и для домашнего уюта. Правда, и после шведской войны ещё немало дней скитались они по дорогам России, даже сына Николеньку родила она в трудной дороге, среди распутицы и грязи. И теперь здесь, в этой барской усадьбе, наслаждалась она относительным покоем, устроилась широко и уютно.
И у неё, и у Александра была одна мечта — уехать в деревню, где можно было бы на просторе воспитывать сына, следить за ходом полевых работ, отдохнуть наконец от свиста пуль и разрывов ядер и бесконечных скитаний по разъезженным дорогам.
Александр уже озаботился этим новым, вторым в их жизни домом: загодя послал он своего верного человека купить имение в Тульской губернии, поближе к Москве, с хорошим домом, большим садом, рекой и видом на просторные поля, раскинувшиеся за ней.
Имение было куплено, и они уже планировали, как расставить мебель, какие комнаты отвести Николеньке, где устроить кабинет Александра и куда поставить клавесин, на котором Маргарита так долго не играла. На плане, который заботливо был прислан им, они отмечали эти места кружочками и крестиками, мечтали о благом лете, когда можно купаться в речке, устроив там небольшую купальню, водить в сад Николеньку, бродить по полям и собирать грибы в лесах.
Пока что они жили здесь, в этой оставленной хозяевами барской усадьбе, предавались мечтам и радовались на Николеньку, быстро вырастающему из пелёнок.
Александр отправил прошение императору — отставка была бы для него временем покоя и благополучия, дала бы возможность вернуться к занятиям философией и историей, которым так много внимания уделял он в своих путешествиях по Европе.
В который раз выскочила Маргарита на крыльцо.
По сторонам красной, посыпанной толчёным кирпичом дорожки уже вылезла буйная молодая трава, на голых ещё сучьях деревьев налились почки, скоро листва начнёт шелестеть под свежим ветерком. Ранняя весна этого года уже разукрасила луга разнотравьем, пестрели среди яркой зелени белые, неказистые ещё цветочки. Земля просыпалась от зимней спячки, расправляла плечи и выталкивала на ослепительный свет острые стрелки травы и первых весенних цветов.
Маргарита ждала в гости братьев Александра. Они стояли совсем недалеко: где-то под Витебском — Павел и почти рядом — Николай. Они твёрдо обещали, что приедут в гости на день рождения Николеньки. Сегодня ему исполнялся ровно год.
Мальчик пошёл рано, рос здоровым и крепким, и Маргарита приписывала это своему материнскому молоку. Она не взяла кормилицу, как было всегда в дворянских семьях, а сама кормила и пеленала младенца. Да и где бы в дороге из далёкой Финляндии до Минской губернии нашла она здоровую и молодую мать, которая согласна была бы следовать за Тучковыми в их бесконечных переездах?
Слава богу, что молока у неё хватало, и теперь, когда Маргарита уже отняла сына от груди, могла она сознавать, что мальчишка растёт хорошо, а его толстые, словно перетянутые в коленках ножки бодро топочут по деревянным крашеным полам дома.
Она ещё раз взглянула на высокие резные ворота под деревянным козырьком и сразу же заулыбалась. Сторож-денщик в военной форме без всяких знаков отличия растворял их. Они подавались нехотя, со скрипом и скрежетом. «Надо было Смазать петли, — подумала Маргарита. — Скрипят, ровно сто лет не открывались...»
В открытую щель ворот завиднелась щегольская упряжка пары лошадей с султанами на головах, с блестящими побрякушками на сбруе.
Маргарита нахмурилась. Неужели Николай, тоже генерал-майор, завёл себе такую франтоватую упряжку? А может, это Павел Алексеевич? Но в ворота въехала карета, украшенная по сторонам императорским гербом, и Маргарита замерла.
— Господи боже, кого это принесло?
Она кинулась в тёмные сени, выскочила в просторную гостиную, уже убранную по случаю ожидавшихся гостей. Александр сидел у камина, читал книгу, и лицо его было сосредоточенным и углублённым в свои мысли.
— Кто-то приехал! — вскричала Маргарита. — Только, боюсь, не те, кого мы ждём...
Александр, при полном параде, вскочил с кресла. Высокие воротнички подпирали его свежие щёки с небольшими вьющимися бачками, шитый золотом воротник оттенял белое чистое лицо, зачёсанные назад пряди светлых волнистых волос открывали высокий гладкий лоб. Белые лосины туго обтягивали его длинные стройные ноги, и Маргарита снова мельком отметила, как красив её муж, как хорош он в этом генеральском мундире и каким умным проницательным взором смотрит он на неё.
На этот раз и она, готовясь к приёму гостей, нарядилась в красное модное платье, и её белая шея, слегка прикрытая кружевной вязаной накидкой, гордо несла головку с уложенными по моде золотистыми волосами, украшенными костяными высокими гребнями.
Кинув взгляд на жену, Александр в который раз отметил, что она уже полностью оправилась от родов, стан её строен и гибок, кожа на лице и шее ослепительно бела, а тонкие руки, открытые до локтя, украшены драгоценными браслетами. Изумрудное ожерелье и такие же длинные висячие серьги оттеняли её яркие зелёные глаза.
Он подал ей руку, она неспешно оперлась на неё, и вдвоём они пошли на крыльцо принимать гостей.
А там уже суетились слуги, принимая лошадей, раздувавших ноздри от быстрого бега, ещё не остывших после гонки. Из кареты с императорским гербом высунулась нога в щегольском ботфорте, показалась голова с пышной треуголкой, потом выскочил курьер императора. Не дав себе времени хоть как-то оправить свой несколько помятый мундир, он взлетел на ступеньки крыльца и, поздоровавшись, спросил:
— Имею честь видеть перед собой генерал-майора командира первой бригады третьей пехотной дивизии Александра Алексеевича Тучкова?
— Это я, — просто ответил Александр, — прошу вас в комнаты.
— Извините, спешу, — галантно поклонился курьер, — ещё в двух местах сегодня должен быть. Прошу принять эти пакеты и расписаться в этой вот книге...
Толстый пакет и ещё более толстый, упакованный в большую коробку, он подал Александру.
Едва только расписался Александр в получении пакетов, как курьер сразу откланялся, вскочил в карету, и кучер, в ливрейной шинели и императорском значке на своей треуголке, повернул коней. Словно видение, пронеслись перед Тучковыми кони, влетели в открытые ворота и вот уже исчезли за недальним поворотом дороги.
Вновь заскрипели ворота, закрываясь, и опять Маргарита мельком подумала, что надо не забыть приказать их смазать.
Они стояли на крыльце. Александр держал в руках большие толстые пакеты. Супруги переглянулись.
— Вероятно, это ответ на моё прошение, — взволнованно промолвил Александр. — Если это от императора...
Он не договорил, и оба одновременно шагнули в сени.
Александр бросил пакеты на большой круглый стол, покрытый красной бархатной скатертью. Длинный пакет занял почти всю поверхность стола, и Александр прежде всего взялся за его обёртку.
Бережно завёрнутая в ткань, потом в лощёную бумагу, затем в проложенную длинную коробку, предстала перед ним шпага с эфесом, усыпанным бриллиантами. Александр поднял её с пакета, наполовину выпавшим из ножен. «В руку храброму», — прочёл он выбитые на синеватом клинке слова. И подпись — «Александр I».
— Боже мой! — задохнулась Маргарита. — Сам император отметил тебя! Сам император признал, сколь достоин ты награды...
Она бережно взяла драгоценную шпагу, вынула клинок до конца из роскошных ножен, поцеловала синеватый булат[21] и кинулась на шею Александру.
— Это и твоя награда, — шепнул он ей в ухо. — Не будь тебя и твоей защиты, твоей любви, я не удостоился бы такой чести.
Они стояли, обнявшись, у стола, где лежали пакеты, и целовались, обнимались, восторженные и изумлённые.
— И это как раз в день рождения нашего сына, — прошептала Маргарита.
Потом они уже вместе развернули другой пакет. Чудесный детский чепчик, вышитый разноцветными нитями, украшенный помпонами, изумрудами, сиял перед ними.
Маргарита схватила письмо, приложенное к чепчику. Писала сама императрица Елизавета Алексеевна. Слёзы капали из глаз Маргариты, когда она читала это приветственное письмо, полное поздравлений по случаю годовщины сына Тучковых, и главное, о чепчике было сказано, что он вышит самой императрицей, настолько ценит она любовь Маргариты и Александра, преданность друг другу.
Прижимая к груди чепчик и письмо императрицы, Маргарита помчалась в детскую. Николенька спал, раскинув пухлые ручки и ножки, веки его слегка подрагивали: наверное, он видел счастливые сны.
— Солнце моё, сынок, — шептала Маргарита на глазах изумлённой няньки, — тебе прислала чепчик сама императрица, она сама его вышивала. Под какой счастливой звездой ты родился!
Николенька продолжал спать, и Маргарита вышла, тихая и сияющая, положила рядом с ребёнком в колыбель чепчик и письмо Елизаветы Алексеевны. Александр в растерянности стоял у стола, держа в руках письмо.
— Ещё? Что ещё? — спросила Маргарита.
— Нам придётся проститься с мечтой уехать в наше Ломаново, — грустно ответил Александр.
— Отказ? — Маргарита села возле стола не в силах устоять перед такой новостью.
— Да. Императору нужны храбрые солдаты, и он не имеет права отпускать со службы людей, уже доказавших свою преданность Отечеству и престолу, — словно бы повторил он слова Александра Первого из его письма к Тучкову.
И сразу потускнели, померкли глаза Маргариты, но она справилась с волнением.
— Что ж, — бодрым, немного фальшивым голосом произнесла она, — значит, наша судьба военная, будем и впредь сражаться с врагами Отечества и престола.
Они сидели у стола, перед дорогой шпагой, позолотившей горькую пилюлю отказа в прошении об отставке, смотрели друг на друга, и смешанные слёзы счастья и боли стояли в двух парах глаз — ярких, изумрудных, и голубых, глубоких и проникновенных.
Они не услышали звона колокольчиков, скрипа колёс на кирпичной подъездной аллее, голосов слуг, встречавших приехавшего гостя, топота сапог в передней и громкого ворчливо-приветливого голоса, раздававшегося в прихожей. Они всё смотрели друг на друга, и слёзы не высыхали в их глазах: рушилась их мечта осесть, сменить грязные военные дороги, сражения и битвы на тихую мирную жизнь сельских поселян...
Наконец Маргарита подняла глаза. В дверях стоял высокий статный генерал в расшитом золотом мундире, блистающий золотыми эполетами и звёздами орденов на груди, золотым поясом, туго обтягивающим полнеющую фигуру.
— Александр, — глухо сказала Маргарита, — мы так невежливы. По-моему, к нам приехали гости...
Александр резко вскочил, обернулся. Перед ним стоял его брат, тоже генерал, только старше и немного ниже.
— Николай, — бросился к нему Александр, — как тихо ты подъехал, мы даже не слыхали!
Они крепко обнялись. Слёзы у Маргариты мгновенно высохли, она подошла к братьям и встала за спиной мужа.
И тут на пороге появился третий генерал — тоже в облитом золотом мундире, со звёздами орденов на груди. Он слегка толкнул двух обнимающихся братьев, и они приняли его в свои объятия. Теперь уже трое генералов стояли в дверях гостиной, обнимали и целовали друг друга, говорили какие-то несвязные слова приветствий, снова и снова обнимались и целовались.
Павел был несколько ниже братьев, коренастый, с густыми бровями, слегка заросший модными ныне баками, но и он выглядел бравым воякой, привыкшим более к седлу, нежели к паркетам гостиных.
Наконец все трое повернулись к Маргарите, и она увидела такие разные, непохожие лица братьев. Но что-то неуловимо общее было у трёх этих генералов, какие-то незначительные жесты, одинаковые черты в лицах да эта родовая стройность и воинская выправка.
— Представляю вам мою дорогую Маргариту, — сказал Александр, — мою любовь, мою защиту, мою неизменную спутницу во всех походах.
Два старших брата церемонно поцеловали руку Маргариты, оглядывая её с любопытством и нежностью.
— Я опечален, что не нашлось для меня такой же прекрасной женщины, способной переносить все лишения воинских дорог, — тихо сказал ей старший, Николай. — Вы составили счастье нашего любимого младшего брата, и как не благодарить вас за это!
— Я очень рада видеть вас, и как хорошо, что вы приехали на день рождения нашего первенца...
Любезен и проницателен был и Павел. Но оба сразу обратили внимание на разбросанные по столу пакеты и подняли вопрошающие взгляды на Александра.
— Вот, — показал рукой Александр, — шпага, присланная его императорским величеством. А чепчик, вышитый рукой императрицы, лежит в колыбели Николеньки...
С восторгом и жадной, но какой-то хорошей завистью кинулись оба брата к шпаге. Вертели её в руках, взмахивали клинком, оценивали остроту лезвия, любовались драгоценными украшениями ножен. «Как мальчишки», — ласково подумала Маргарита.
— Где же виновник сегодняшнего торжества? — обратился к Маргарите Николай. — Я привёз ему кучу воинских доспехов и солдат. Он ведь будет солдатом и командиром, как и все в нашем роду. — Голос его звучал громко и убедительно.
Да, все пять братьев Тучковых служили Отечеству, воевали на всех концах пространной империи. Жаль, что не было с ними ещё Сергея Алексеевича Тучкова, только что под командованием Кутузова закончившего турецкую кампанию и оставшегося благоустраивать завоёванный южный край, да не мог отлучиться от дел генерал-майор Алексей Алексеевич, находившийся в Западной армии. Как-то так случилось, что три брата Тучковых оказались в армии, расположенной прямо перед Неманом, и потому могли сойтись впервые на дне рождения сына и племянника.
— До сих пор жалею, что нет у меня семьи, — тихо сказал Маргарите Павел, — был бы у меня сын, как у Александра. Да, видно, не все женщины умеют так любить, как вы...
Она покраснела, захлопотала, потом понеслась в детскую, чтобы вынести к генералам сына, показать его, погордиться им, выслушать похвалы ей, матери, и Александру, отцу.
Николенька уже проснулся, протирал пухлыми ручками заспанные глаза и пытался дотянуться до чепчика, оставленного матерью в колыбели. Маргарита взяла ребёнка на руки, вышла в гостиную и представила сына:
— Прошу любить и жаловать нашего первенца, продолжателя рода Тучковых.
Николенька смирно сидел у неё на руках, глядел во все глаза на незнакомых ему людей, строгих и блестящих генералов, и тянулся к золотым эполетам.
Братья смущённо и осторожно подходили к нему, трогали крепкие, круглые, словно яблоки, румяные со сна щёчки, просовывали пальцы в его стиснутые кулаки, умилялись, слегка касались обветренными губами его щёк-яблочек и поспешно отходили. Маргарита понимала, что они не привыкли видеть такого малыша, но видела, что одержала победу над их суровыми сердцами.
— А сейчас Николеньке пора к своим делам, — негромко сказала она, и снова братья умилились этой материнской простоте и любви, отвернулись, стараясь скрыть выступавшие на глазах слёзы. Они, видевшие столько смертей и грязи, непривычны были к такой нежности.
Когда она вышла, братья повернулись к Александру и затискали его в своих объятиях.
— Ну, брат, повезло тебе, — говорили они ему, — мало того что красавица, умница, скромница, так ещё и не побоялась с тобой всюду ездить...
— Да, она немало вытерпела, — улыбался и Александр.
За обедом, когда Маргарита показала себя ещё и рачительной хозяйкой, снова полились ласковые слова. Братья были очарованы своей невесткой, старались один перед другим наговорить ей любезностей. Она спела им несколько романсов, умно и достойно поддерживала разговор, и Александр не переставал гордиться женой. Это был день особенного торжества Маргариты, к которой вся родня её мужа раньше относилась холодно: не прощали ей и второго брака, и того, что была намного моложе Александра. Оба старших брата вдруг почувствовали всю неустроенность своей жизни, затосковали по теплу и уюту, по беспредельной любви и нежности.
После позднего ужина Маргарита ушла в детскую. Побывав в столь блестящем обществе, изведав столько поцелуев и увидев столько игрушек, Николенька капризничал, не отпускал мать, и ей пришлось присесть к колыбели, баюкать его и спеть ему песенку. Глаза у Николеньки закрылись, но он всё держал её палец в своей ручке. Ей не хотелось снова разбудить его, и она застыла у колыбели в неудобной позе, держа руку у самого лица мальчика. Но сон был заразителен. Едва стали закрываться глазки сына, как её глаза тоже закрылись сами собой, и песенка осталась недопетой. Она словно бы уснула перед колыбелью, хотя ясно сознавала, что сидит у постельки сына, что он уже засыпает. И будто отодвинулись все впечатления этого богатого событиями дня, она вдруг ощутила себя в родительском доме в Москве. В дверях стоял её отец, отставной подполковник Санкт-Петербургского пехотного полка Михаил Петрович Нарышкин. Он держал на руках её Николеньку.
Она вскинула глаза на отца, уже придавленная страшным предчувствием. Михаил Петрович осторожно подошёл к ней и, обнимая Николеньку, сказал ей тихим голосом: «Вот всё, что тебе осталось!» Маргарита вскинулась, обратила удивлённое лицо к отцу. Таинственный голос ударил ей в уши: «Твоя участь решится в Бородине!» Самым удивительным и поразившим Маргариту было то, что отец говорил по-русски, а таинственный грубый голос произнёс свою фразу по-французски...
Она очнулась. Николенька спал, по-прежнему захватив её палец, тускло синела под образами лампада, да горела на столике возле колыбели одинокая свеча. А рядом, в кресле, расположилась нянька, уже приготовившая вязанье на долгую ночь.
Маргарита высвободила палец из ручки ребёнка, едва не разбудив его, и кинулась в гостиную. Сюда после ужина уже сошлись все три брата и тихо беседовали о европейской политике, о неисчислимых армиях Наполеона, о том, что война с ним неизбежна.
Она вбежала в гостиную взволнованная и бледная.
— Что с тобой? — сразу заметил её смятение и поднялся ей навстречу Александр.
— Я даже не знаю, как рассказать, — задыхаясь, произнесла Маргарита. — Мне вдруг привиделось такое страшное...
— Скажи, — тихо произнёс Александр, — когда расскажешь, сразу станет легче...
Недоговаривая, глотая окончания слов, Маргарита поведала трём братьям о своём страшном видении.
— Это от волнений сегодняшнего дня, — засмеялся Николай, — слишком уж много событий обрушилось на вашу семью. Тут и шпага, и чепчик, и письма императора и императрицы. Как тут не увидеть что-то такое, что перевесило бы радость.
— Конечно, конечно, — поддержал его Павел.
— Может быть, может быть, — растерянно пробормотала Маргарита, — но это название — Бородино? Где оно находится и почему я так ясно услышала это слово, да ещё по-французски...
— Право же, не стоит волноваться, — отозвался и Александр, — у тебя всегда было очень богатое воображение, да и события сегодняшнего дня не могли не повлиять на твою чувствительность.
Маргарита слегка успокоилась под влиянием этих слов, но продолжала думать об этом названии — Бородино. Где это и почему участь её там решится?
— Александр, — обратился к брату Николай, — у тебя же есть карта, принеси и найдём, где это Бородино.
— Да, конечно, — поддержал брата Павел. — Может, его и вовсе нет на свете. Мало ли что может пригрезиться?
Александр побежал за картой в свой просторный кабинет. Скоро все три брата расстелили огромный лист бумаги на круглом столе и начали внимательно изучать его.
— Вот Минск, — говорил Павел, проводя по карте пальцем, — а вот Москва. Между ними Можайск, Смоленск. А вот маленькие села, деревни. Сначала поищем вокруг Минска...
Они бормотали это название — Бородино, чтобы не забыть, водили пальцами по карте. Не было такого места вокруг Минска, не было вокруг Смоленска и Можайска, не было и вокруг Москвы. Долго сидели они над картой, и Маргарита уже полностью пришла в себя. Действительно, мало ли что может пригрезиться после такого трудного дня, в который вписалось столько событий.
Они не нашли Бородино на карте, сколько ни искали. Прощаясь, целуя Маргариту, братья говорили ей:
— Видите, нет такого места, значит, всё это было лишь во сне, плодом вашего воображения.
Она успокоилась, но долгие дни потом всё вспоминала своё странное видение, свой не то сон, не то призрачное явление, и сердце её при одном воспоминании об этом замирало и останавливалось.
Не знала тогда Маргарита Тучкова, что карта России, которую рассматривали братья, была крупномасштабной и такое маленькое сельцо, как Бородино, даже не было на ней отмечено...
Уже через два месяца прочитала Маргарита перехваченный русскими приказ Наполеона по армии:
«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого изъяснения о странном поведении своём, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, предав во власть её союзников наших. Россия увлекается роком! Судьба её должна исполниться. Не почитает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия ставит нас между бесчестьем и войною. Выбор не будет сомнителен! Пойдём же вперёд! Перейдём Неман, внесём войну в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, прославит оружие французские. Но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы...»
12 июня 1812 года Наполеон перешёл Неман и стремительно покатился по русским пределам.
Три моста, наведённые через Неман в полном безмолвии между Ковно и Понемунями, пропустили через себя несметное количество артиллерии, конницы и пехоты. Первыми шли триста поляков, пришедших под знамёна Наполеона в ожидании самостоятельности польского государства, обещанного французским императором.
Начальник лейб-казачьего разъезда Жмурин принёс русским войскам весть о том, что Наполеон перешёл Неман и устремился к Москве.
Александр Первый отдал приказ по русским армиям, стоявшим у границ:
«С давнего времени примечали мы неприязненные против России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми мерами и способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанно новое возобновление явных оскорблений, при всём нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши, но и тогда, ласкаясь ещё примирением, оставались в пределах нашей империи, не нарушая мира, а быть токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши при Ковно открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами не преклонного к миру, не остаётся нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца Небес, поставить силы наши против сил неприятеля. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая победами кровь славян...»
Генерал Тучков получил приказ выступить со своим полком к Смоленску. Маргарита понимала, что в этот раз она уже не сможет сопровождать мужа в ратных походах: маленький Николенька властно заявлял о своих правах.
— Теперь ты принадлежишь не только мне, но и ему, продолжателю славного рода нашего, — сказал Александр Маргарите, — поспеши же в Москву, под кров своих родителей, обереги Николеньку от всего самого страшного...
Ей ничего не оставалось делать, как согласиться с мужем. Все его вещи уже были уложены, последний приют, где провела она с мужем оставшиеся прекрасные дни в любви и заботе, покинут.
Посоветовавшись со всеми штабными и полковыми офицерами, Александр поручил Маргарите хранить всю утварь полковой церкви, а особенно главную святыню полка — образ Спаса Нерукотворного.
В последний раз обнялись супруги перед отъездом. Глаза обоих были сухи, словно бы предвидели они, сколько слёз придётся ещё выплакать.
Полк отправился в одну сторону — к Смоленску, а Маргарита с обозом в другую — к Москве.
Не привыкать было Маргарите к трудным военным дорогам — немало тысяч вёрст исколесила она с полком мужа по России, но лишь теперь поняла тех безоружных, беспомощных беженцев, что спасались от войны, бежали со всеми своими пожитками на восток, под сень Москвы.
Словно туча муравьёв копошилось при беспощадном сиянии солнца людское скопище. Ехали в каретах, двуколках, колясках богатые, шли оборванные подпаски и старые, изнурённые пастухи, подгоняя стада коров и отары овец — не доставаться же ворогу, везли на сбитых крестьянских телегах тощий скарб, обвязанный гнилыми верёвками и лубяными бечевами, вдовы и дети, тащились по обочинам нищие, словно бы знали, что не дадут подаяния французы, не станет богомольцев у старинных церквей.
Маргарита запаслась всем, что было необходимо в дороге. На первой же телеге лежали кое-какие вещи и посуда, на вторую были навалены овёс и сено, к задку привязаны были две коровы-ведёрницы.
В облупленной, изъездившейся карете сидели сама Маргарита, крепостная горничная да нянька, пожелавшая тоже убраться из опасного места, хоть и не крепостная. Шесть мужиков из своих крепостных крестьян сопровождали генеральшу, охраняя добро, пася коней по ночам да следя за коровами.
Но даже при такой охране и такой обслуге двигалась Маргарита медленно: дороги были забиты беженцами — помещиками, имевшими на границе усадьбы, но знавшими, что они не уцелеют, гнавшими вглубь России к другим своим имениям, где можно было укрыться на время этой войны. Лишь немногие дворяне оставались в самой зоне боевых действий — всё больше поляки, шляхта, втайне радовавшаяся появлению польского и французского войск.
Две долгих недели понадобились Маргарите, чтобы пересечь эти несколько сотен вёрст. Она приказывала не только подниматься спозаранку, чтобы успеть до пыли, до встречных провиантских обозов уйти подальше, но и продолжать путь уже в кромешной тьме, когда и самые резвые лошади гнули к земле головы, требуя отдыха и пастьбы. И всё-таки она не успевала, находились беженцы, которые поднимались раньше неё и выстилали дорогу пылью и колдобинами, брошенными павшими лошадьми и сломанными колясками.
Бог хранил Маргариту и её спутников: ни разу не кашлянул в дороге Николенька, всегда вовремя получал молоко и горячую, сдобренную дымком костра кашу, — и Маргарита молилась и славила Бога, что ещё день прошёл и не напали на них тати, что Николенька сыт и сух, что солнце не сходит с неба, не прячется за тучами, что дорогу не развозит проливными дождями. Хоть и знойно, и душно, а всё лучше, чем трястись по дороге в хмарь, лучше глотать пыль, но быть уверенным, что не врежется колесо коляски в неожиданную под грязью колдобину и не треснет ось от такого неожиданного наклона.
Поздним вечером жаркого июльского дня въехала Маргарита в Москву и была смущена и охвачена страхом при виде старой столицы. Всюду кучи хлама, везде заполняются и отъезжают коляски, суетится народ, успевая даже в этот поздний час при свете факелов грузить на телеги скарб.
И тут ощутила она тревогу, висевшую в воздухе, услышала беспрерывный печальный звон колоколов, едва протиснулась со своим обозом между бесчисленными колымагами, готовыми к отъезду.
Лишь подъехав к знакомому дому недалеко от церкви Всех Святых на Кулишках, она почуяла тревогу: вдруг уехали все её родичи, вдруг останется она одна посреди пустой Москвы? Но увидела дом, освещённый всё ещё добрыми огнями, крыльцо, знакомое и дорогое по детству, въехала в высокие тесовые ворота и поняла, что спасена, её встретят любимые люди, обнимут, поплачут вместе с ней, сберегут, обогреют...
Выскочил на крыльцо Михаил Петрович, сбежались уже повзрослевшие девочки, расталкивая всех, летела к ней мать — Варвара Алексеевна. Припала к плечу дочери, заголосила, словно по покойнику, и только тут потеряла Маргарита силы, что так берегла в дороге, подломились ноги, побежали в глазах чёрные тени, и она упала прямо на руки отцу.
Едва пришла в себя, поднялась на диване в большой проходной горнице, где в детстве устраивала прятки, и с тревогой закричала:
— Николенька где?
— Не волнуйся, дочка. — Варвара Алексеевна уже успокоилась, вышла к дочери. — Николеньку унесли в детскую, спать уложили.
Маргарита опрокинулась на подложенную подушку и опять провалилась в беспамятство. В дороге она не позволяла себе потерять сознание хоть на минуту, даже когда назвали ей село, которым она проезжала, — Бородино, не осилила её болезнь, и тогда приказала она себе держаться изо всех сил. А теперь, увидев родных, потеряла все свои силы, расслабилась и заболела на долгие две недели...
Пока она лежала, родители не решались собираться, хотя давно приготовлены были и рыдваны, и колымаги, и телеги, подкормлены лошади — надо было спешить в подмосковную деревню, подальше от Москвы: не дай бог, сдадут столицу французу. Да и оставаться в такой Москве, где хлеб вздорожал в десять раз, не было смысла. Но две недели лежала в жару Маргарита, бредила каким-то Бородино, две недели не отходила от неё Варвара Алексеевна, а Михаил Петрович ходил туча тучей.
Чуть оправилась Маргарита, чуть встала с постели, ослабевшая, исхудавшая, почерневшая, Варвара Алексеевна заговорила об отъезде. Маргарита молча соглашалась со всеми словами матери, и в доме закипели сборы.
Всё своё время Маргарита теперь проводила с Николенькой. Переезд в новый, московский, бабушкин и дедушкин дом нисколько не отразился на нём. Он весело улыбался беззубым ртом, ловил ручонками все незнакомые предметы, лазил на колени к Михаилу Петровичу, хватал за юбку Варвару Алексеевну, а к матери даже не подходил — слишком уж пугал его её вид. Но мысли и предчувствия грызли Маргариту лишь изнутри, внешне она старалась не огорчать семейство своим мрачным видом, через силу улыбалась и довольно качала головой, видя, как уже привязался Николенька к бабушке и деду за эти короткие две недели.
Но вот все вещи уложены, потянулись со двора Нарышкиных подводы, отправленные раньше господ, а Маргарита в последний раз пошла в церковь Всех Святых на Кулишках, где не была все последние годы, когда странствовала с мужем по России.
Она упала на колени перед тёмным ликом Богородицы, слёзы брызнули у неё из глаз, и слова, одно нелепее другого, сорвались с её губ. Она не понимала, что говорила, знала, что молится не так, как надо, но обычная молитва не пронимала её, криком хотелось кричать от предстоящей боли и испытаний, и она бессвязно шептала и шептала какие-то слова, надеясь, что Богородица поймёт её, разберёт её нелепое бормотание, обратит к ней свой благосклонный взор.
Маргарита стояла на коленях, склонив голову к самому полу. Горели немногие свечи в больших серебряных подсвечниках, тлели лампады у тёмных и бесстрастных икон, запоздавшее солнце ещё выкладывало на полу яркие полосы. Маргарита подняла голову, взглянула на образ, закрестилась. И словно бы чёрная тень легла на отмытый жёлтый пол. Поползла от подножия высокого подсвечника, выползла на яркую полосу света на полу, закрыла её, подползла к самым коленям Маргариты и охватила её всю.
Маргарита стояла ни жива ни мертва — всё поняла она по этой тени, но молча приготовилась к трудным испытаниям.
— Спаси и сохрани, — ещё раз перекрестилась она на образа, поднялась с колен и, едва переставляя ноги, поплелась к дому.
Чуть ли не последними тронулись из Москвы Нарышкины. Немилосердное солнце било в золотые купола бесчисленных церквей, дробилось в них и рассыпалось в воздухе сверкающими брызгами. Но висел в воздухе печальный колокольный звон — словно тяжёлые медные капли падал на город каждый звук и медленно перекатывался над опустевшими улицами. Свежий веерок поднимал на пустынных улицах и площадях обрывки бумаги, верёвок и тряпок, носился по заброшенным дворам, ударял по доскам, которыми были забиты окна. Лишь кое-где мелькали белые передники дворников, в сердцах взмахивающих ненужными теперь мётлами, высовывались из-за угла рваные грязные рубахи воров да стояли по-прежнему у папертей измазанные мальчишки-бездомники.
Дороги были почти пусты, только кое-где спешили запоздавшие, как и Нарышкины, господа убраться поскорее в свои спасительные далёкие деревенские усадьбы, да паслись стада, продвигающиеся к востоку.
Быстро, споро неслись несколько колясок Нарышкиных. Суета царила в карете, где сидела Маргарита со своими ещё невзрослыми сёстрами.
Радовали разнотравьем пролетающие поля, весело шелестели молодой свежей листвой придорожные деревья, да залетал изредка в окна кареты запоздавший звук трели жаворонка, повисшего над зелёным полем.
Маргарита словно бы не слышала и не видела ничего — вся ещё была под впечатлением той чёрной тени, наползшей на неё в церкви. Не отвечала на вопросы сестёр, скоро оставивших её в покое, изредка выглядывала в узенькое окошко, открытое из-за жары, проводила рукой по побледневшим губам и вся отдавалась чувству странной лёгкой скорби.
К вечеру подъехали к Коломне, и Маргарита оживилась. Они с Александром договорились, что если он не успеет прислать письмо в Москву, а Маргарита поедет с родителями в подмосковную далёкую деревню, то он станет писать ей в Коломну: и до Москвы ближе, и от деревни всегда можно будет добраться сюда на почтовых лошадях.
Она вышла из кареты и подошла к коляске, где расположились родители с Николенькой и нянькой.
— Маман, — сказала она Варваре Алексеевне, — я останусь тут, в Коломне.
Мать так и ахнула.
— Это почему? — жёстко спросила она. — Разве ты не поедешь с нами? Что это ещё за штучки? Почему у тебя всё не так, как у людей?
Михаил Петрович вылез из коляски, разминая ноги, подошёл к дочери и посмотрел в её потускневшие глаза.
— Батюшка, — едва прошептала Маргарита, — сюда будут приходить письма Александра. Я измучаюсь, ожидая вестей, не смогу же я каждый день ездить туда и обратно...
Отец долго смотрел на неё, любимицу, старшенькую.
— Будь по-твоему, дочка, — сказал он, — только где же ты будешь жить?
— Найду угол, — впервые улыбнулась Маргарита. — Привыкать, что ли?
— Поищем вместе, — предложил отец.
И они пошли по тихой коломенской улице, останавливаясь у каждого дома.
Варвара Алексеевна в изумлении смотрела на дочь и мужа, но скоро забавный лепет Николеньки отвлёк её от этого занятия.
Они вернулись нескоро, но Маргарита летела теперь как на крыльях. В почтовой конторе получила она письмо от Александра, покрыла его поцелуями, и радость её невозможно было сравнить ни с чем. Она перецеловалась со всеми своими младшими сёстрами и братьями, проникновенно сказала матери:
— Поручаю вам самое дорогое, что у меня есть. Николеньке будет хорошо с вами. Прощайте, маман, и простите всё вашей своенравной дочке...
Варвара Алексеевна расплакалась, но подчинилась невидимому и неслышимому нажиму мужа и дочери.
И скоро лишь пыль завилась клубом за поездом Нарышкиных. Маргарита осталась в Коломне...
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Но и теперь, в укреплённом местечке Свенцяны, где расположился пятый корпус под его началом, он старался склонить брата к мирным переговорам.
— Если надо, — горячо говорил он брату, — я сам поеду к Наполеону, пусть хоть какой-то мир, но нам не устоять под напором французов.
Александр мрачно смотрел на младшего брата. Да, он знал, что у него, русского императора, всего лишь 120 тысяч войска, а у Наполеона сосредоточено на границе 600 тысяч. Но жестокое поражение при Аустерлице всё ещё жгло ему душу. Он ненавидел Наполеона как своего личного врага, нанёсшего ему унижение и вселившего в него чувство бессилия и подавленной гордости. И Александр старался во что бы то ни стало так построить стратегию войны, чтобы даже с малыми силами русских войск всё-таки постараться достичь успеха. Прусский генерал Пфуль, к которому Александр проникся большим доверием и который славился своими талантливыми стратегическими построениями в войнах, сделался завсегдатаем в императорском кабинете в Вильно, куда Александр выехал, чтобы лично руководить военными действиями.
Однако даже Константину было видно, как слаб и несостоятелен план ведения войны, предложенный Пфулем. Это была стратегия австро-прусской тактики, как всегда, разделяющая всю армию на три части. А как раз эту тактику чаще всего использовал Наполеон — он бил эти части армий поодиночке и выходил победителем.
Пфуль предложил применить для центра укреплённый лагерь на реке Двине при Дриссе. Здесь должна была сосредоточиться важнейшая часть русских войск — основные силы — до 120 тысяч человек, чтобы защитить главные дороги, ведущие к Москве и Петербургу. Вторая армия должна была ударить во фланг Наполеона при осаде Дриссы, а третья зайти ему в тыл.
Все эти части армий были расположены очень далеко друг от друга, а Дрисский лагерь укреплён так плохо, что Наполеон шутя разрушил этот план, который Александр посчитал гениальным. Дрисса оказалась ловушкой, где могли быть разбиты все главные силы, открывались дороги на столицы империи, а фланговые армии так и не сумели даже найти противника, не говоря уж о том, чтобы ударить по нему с фланга и тыла.
Оставалось лишь спешно уходить из-под Дриссы, оставлять лагерь французам на разграбление, соединяться со всеми частями где-нибудь под Смоленском.
Сколько ни убеждал Константин брата, тот не согласился с его доводами. Обида и смертельная ненависть жгли сердце Александра — нет, он не хотел мира, слишком унизительным казалось ему такое обращение к корсиканцу. Впрочем, Наполеон не оставил и Константину надежд на мирное разрешение конфликта, в который зашли отношения России и Франции. Не объявляя войны, Наполеон тайно перешёл Неман и вторгся на территорию России.
Теперь и Константину ничего не оставалось делать, как готовить свой пятый корпус к кровопролитным боям.
Под его началом были две пехотные дивизии: гвардейская под командой генерала Ермолова и сводная гвардейская, да ещё дивизия тяжёлых кавалеристов — кирасиров — под начальством Депрерадовича. 26 батальонов пехоты, 20 батальонов тяжёлой кавалерии под его началом теперь вошли в состав первой западной армии командующего Барклая де Толли. Ещё в самом начале года корпус выступил в поход для соединения с армией из Петербурга и теперь размещался в местечке Видзах и уездном городке Свенцяны. Константин неотлучно был при корпусе во время его похода, заботился о снабжении и вооружении корпуса, хлопотал о том, чтобы гнилые сапоги, поставляемые казнокрадами, и прелое сукно, подмокший порох и негодные мушкеты заменялись качественными. Но Россия всегда славилась воровством, и поставщики императорского двора наживались на поставках провианта и амуниции, сбывая гниль солдатам и добывая громадные барыши. Кипел Константин от таких бесчестных действий, то и дело убирал негодных негоциантов[22], но и новые действовали не лучше.
То и дело наведывался Константин в Вильно, где остановился император. Смотры и проверки занимали всю весну, а в конце апреля к Александру прибыл от французов граф Нарбонн. Он привёз известие от Наполеона, который предлагал России новый позорный мир.
Константин присутствовал при сцене, когда Александр сказал графу Нарбонну:
— Я не ослепляюсь мечтами, я знаю, в какой мере император Наполеон обладает способностями великого полководца. Но на моей стороне пространство и время. — Александр указал на карту, разложенную на походном столе. — Во всей этой враждебной для вас стране нет места, которое оставил бы я без сопротивления, прежде чем соглашусь заключить постыдный мир. Я не начну войны, но не положу оружия, пока хоть один неприятель будет оставаться в России.
Александр ничего не ответил Наполеону на его письмо с предложением мира.
Отпущенный кивком головы, граф Нарбонн вылетел из кабинета императора, и вскоре слова Александра заставили вскипеть сердце прославленного полководца. А нежелание ответить на письмо Наполеон расценил как неучтивое и поклялся отомстить Александру.
Константин подошёл к брату и обнял его за плечи.
— Я с тобой, брат, — тихо сказал он, — что бы ни случилось, служить тебе буду всем сердцем и всей душой.
Александр только кивнул головой.
16 июня французы заняли Вильну.
Александр кинулся к Дрисскому лагерю и принялся объезжать укрепления. Ныне он сам видел, сколь неутешителен план Пфуля. Мрачный и сосредоточенный, император старался теперь, после Аустерлица, не выказывать своих военных соображений, молча слушал резкие отзывы о ловушке в Дриссе. Командующий первой западной армией Барклай де Толли настоятельно советовал отходить, чтобы не быть разгромленными у самых границ империи.
Александр понял, что своим присутствием он связывает руки командующему, обязанному прислушиваться к мнению двора, а военный министр Аракчеев и двое основных советников подали записку, в которой настоятельно убеждали императора Александра удалиться ему от армии. Грустно усмехался император: в его военный талант не верили, ему навязывали нового главнокомандующего, способного противостоять Наполеону...
7 июля Александр выехал в Москву. Он поручил Барклаю де Толли армию и на прощание сказал:
— Доверяю вам свою армию. Не забывайте, что другой у меня нет.
Константин остался при своём корпусе и с тех пор двигался в его составе к Витебску по приказу командующего отступать.
Русской армии с самого начала войны приходилось туго. Барклаю де Толли из состава первой армии надо было выделить корпус для защиты всего севера — Петербурга, столицы, и всей округи.
Этот корпус под началом генерала Витгенштейна мастерски выполнил свою задачу: французы, направлявшиеся к столице России, натолкнулись на упорное сопротивление. Константин то и дело слышал новости, приходящие из корпуса, — русские земли от Двины до Новгорода беспрерывно осаждались французами. Корпус Витгенштейна закрывал Наполеону путь в Северную столицу, и французский император приказал войскам своего маршала Удино очистить от русских правый берег Двины, чтобы затем форсированным маршем достичь Петербурга. И только корпус генерала Виттенштейна оставался на пути лавины французских войск.
Со стороны Себежа двинулся на объединение с маршалом Удино корпус Макдональда. Если бы эти два корпуса соединились, они легко взломали бы защиту Петербурга. За генералом Виттенштейном не было больше ни одной русской части, лишь во Пскове ещё располагались шесть батальонов, набранных из новых рекрутов, необученных и необстрелянных. Князь Виттенштейн прекрасно понимал, как мало надежды на эти батальоны, его корпус был единственной защитой столицы.
Выручила Петра Христофоровича суворовская выучка — стараться разбить французские войска до того момента, пока они не соединились. Надо было оттеснить Удино, а потом уже идти навстречу Макдональду. Подкрепления ждать не приходилось. Барклаю де Толли не из кого было выделить хоть какое-нибудь подразделение, а за французами было полно резервных, отлично обученных полков.
Клястицы — вот был пункт, где надеялись соединиться Удино и Макдональд. Его уже занял Удино, и Наполеон писал своему маршалу:
«Преследуйте Виттенштейна по пятам, оставя небольшой гарнизон в Полоцке в случае, если неприятель бросится влево. Когда вы двинетесь от Витебска к Себежу, вероятно, Виттенштейн отступит для прикрытия Петербургской дороги. У него не более 10 тысяч человек, и вы можете идти на него смело...»
Они и шли смело — французы, поляки, австрийцы, итальянцы, собранные со всей Европы, отборные части. Но Виттенштейн, обнаружив сильные прикрытия у села Якубово, повёл свои полки в наступление. Французы откатились под натиском русских, но сконцентрировались на правом фланге, поливая корпус картечью и атакуя беспрерывно конницей и пехотой. Тогда Виттенштейн приказал отойти вправо, пройти наспех строящийся мост на реке и ударить во фланг. Французам удалось поджечь мост, но русские солдаты прорвались сквозь огонь и на спинах французов ворвались в Клястицы. А здесь бой шёл уже не на штыках — русские и французы буквально резались друг с другом.
Французы откатились. Виттенштейн преследовал их до Двины, до бывшего лагеря у Дриссы. Удино сделал ещё одну попытку отбросить корпус Виттенштейна, но вдохновлённые победой русские остановили его.
Скромно сообщал об этой своей победе избавитель Петербурга князь Виттенштейн:
«Французы спаслись только помощью лесистых мест да переправ через маленькие речки, на которых истребляли мосты, чем затрудняли почти каждый шаг и быстроту нашего за ними преследования, которое кончилось вечером. Полки мужеством и храбростью делали невероятные усилия, которых не могу довольно описать... Все селения и поля покрыты трупами неприятельскими. В плен взято более 900 человек и 12 офицеров. Пороховые ящики, казённый и партикулярный обозы, в числе которого генеральские экипажи, остались в наших руках».
Наполеон прекратил наступление на правый берег Двины, приказав лишь удерживаться на её берегах и охранять пути сообщения главной своей армии...
Узнав о победе в Клястицах, Константин был ещё более возмущён тем, что главная русская армия отходит и отходит, не предпринимая ничего для сражения, хотя под Витебском уже соединились две армии — Барклая и Багратиона. Однако отход продолжался, и Константин негодовал, он рвался в бой, и тактика отступления казалась ему предательской. Не стесняясь в выражениях, в близком ему кругу он так и расценивал действия Барклая де Толли.
Равняться с Константином по влиянию командующему было не по силам: великий князь представлял своей особой императорский двор, а от императора Александра зависело всё. Барклай де Толли удалил самого императора от армии. Теперь надо было удалить и Константина, вызывавшего ропот и возмущение в среде офицеров.
Однако на военном совете под Смоленском Константин ещё присутствовал в числе прочих офицеров и достаточно скромно и толково изложил своё мнение по поводу ведения войны, когда его спросили об этом.
— Надобно взять пример у Суворова, — горячо ответил он. — Не знаю ни одной его кампании, в которой бы он отступал, подобно нам. И, рассмотрев соображения, могу сказать, что моё мнение, хоть и не выше я многих наших командиров, — вперёд, вперёд и вперёд. Армия рвётся в бой, мы готовы ко всему, только бы не отступать. Надобно идти на Рудню — мы знаем, что там главные силы неприятеля — и ударить по нему...
Константин опустил глаза, заметно волнуясь. Старые генералы подхватили его слова и стали развивать перед командующим свои мысли о наступлении, достаточно обоснованные.
Ермолов потом, значительно позже, писал в своих «Записках»: «Я в первый раз, в случае столь важном, видел великого князя и не могу довольно сказать похвалы как о рассуждении его, чрезвычайно основательном, так и о скромности, с каковою предлагал он его, и с сего времени удвоилось моё к нему почтение...»
Военный совет решительно и единодушно постановил — всеми силами идти на Рудню, дать главным войскам французов сражение. Командующий неохотно поддался мнению совета, однако на рассвете дал команду двинуться вперёд от Смоленска.
Но он получил сведения, которые шли вразрез с его данными о расположении и численности войск Наполеона. Эти сведения поставили под сомнение все рассуждения военного совета.
И снова Барклай де Толли приказал отступать.
Армия роптала. Около Смоленска начались бесконечные передвижения, перегруппировки, солдаты рвались в бой, а это нудное отступление держало всех в длительном и изматывающем напряжении.
Константин не скрывал своих взглядов и тоже был в числе людей, громко осуждающих тактику главнокомандующего. В конце концов Барклай де Толли не выдержал и отправил его в Москву, к государю вроде бы с донесением о состоянии войска. Великий князь, конечно, понимал, почему командующий отсылает его из армии, но он решительно обещал себе, что вернётся к армии, как только доложит государю обо всех шёпотах и ропотах в армии. И он действительно рассказал Александру о настроениях в армии.
— Думают, что раз Барклай немец, то и изменник, — с горечью добавил он. — Вовсе это не так. Командующий — преданнейший генерал, преданнейший России человек, да роль играет его немецкая фамилия...
Предки Барклая де Толли выехали из Шотландии в Россию ещё в семнадцатом веке. Дед его уже был русским офицером, возведённым в дворянское достоинство, а сам князь и генерал-фельдмаршал начал свою военную службу ещё в 1776 году вахмистром. Он отличился при штурме Очакова в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, потом в польской кампании девяносто четвёртого года. Война с Наполеоном 1805-1809 годов принесла ему славу прекрасного стратега и тактика, а ледовый поход через Ботнический залив в русско-шведской войне закрепил эту репутацию. Два года перед Отечественной войной он был военным министром, и его соображения по ведению войны с Наполеоном легли в основу плана императора по отражению французского нашествия.
Но все его подвиги во славу русского оружия зачёркивались, едва произносилось его имя — немец, не наш. Русская подозрительность, исконно русское недоверие к иноверцу, хоть бы и жил он в России всю свою жизнь, всё ещё преодолевало симпатии к нему.
Александр хорошо это понимал. Необходим был командующий, расположение к которому превышало бы его ошибки, командующий с истинно русской фамилией, да ещё и самый прославленный из учеников Суворова.
Хоть недолюбливал Александр Кутузова за ту ещё, Аустерлицкую битву, которую проиграл сам, хоть и носил в сердце злое, мстительное чувство против старого фельдмаршала, но все советники в один голос называли ему имя Кутузова. И больше всех в этом деле прислушивался Александр к голосу матери, императрицы Марии Фёдоровны, да сестры Екатерины Павловны. К этим голосам присоединился и Константин.
Александр тоже сразу понял, почему Барклай де Толли отправил в Москву с донесением именно Константина: мешал ему великий князь одним своим присутствием, связывал руки, как некогда связывал руки и Суворову в итальянской кампании: кто знает, как донесёт он императору о тех или иных действиях командующего? И Александр пробовал удержать Константина в старой столице. Посовещавшись с военным генерал-губернатором Ростопчиным, он решил поручить брату сформировать конно-егерский полк в помощь армиям. Но едва Константин заикнулся, как намерен он справиться с этой задачей, Ростопчин пришёл в ужас.
— В две-три недели сформирую. Заберу у обывателей всех лошадей, годных к службе, соберу конников, повозки же, скарб для полка добуду у тех же обывателей, а задачу выполню. И не долее как в три недели...
Очень осторожно, за спиной у Константина, пояснил императору ловкий царедворец Ростопчин, какую реакцию вызовет это начинание у дворянства и купечества Москвы, и намекнул на то, каким молчаливым гневом и ропотом встретила императора старая столица, когда тот приехал из Петербурга в Москву в первый раз до отбытия в армию. Да, Александр хорошо помнил то время, даже шаги его были слышны, когда он шёл в Успенский собор, — ни единого крика, ни единой здравицы — Москва встретила его угрюмо и настороженно.
Так что выводы относительно действий Константина должен был сделать сам император, старший брат. И Александр отправил младшего обратно в армию...
И снова под Смоленском, перед кровавым побоищем, великий князь предложил на военном совете наступательное движение. Герцог Вюртембургский, генерал Бенингсен, Корсаков, Армфельд и некоторые адъютанты самого государя, отпущенные в армию, присутствовали на этом совете и хором поддержали великого князя. Они резко осуждали, правда, в приличествующих выражениях, позицию Барклая де Толли, направленную на отступление, требовали успешного боя.
Кровавый бой под Смоленском показал, что силы неравны, что Наполеон располагает всей мощью Европы. Барклай не выпустил на поддержку основному составу армии корпус великого князя, и Константин так резко и гневно об этом отозвался, что даже при посторонних рассказывал об ошибках командующего.
— Что делать, друзья! — громко сетовал он, подъехав к батарее Жиркевича. — Мы не виноваты! Не допустили нас выручить вас! Не русская кровь течёт в том, кто нами командует, а мы, хоть нам и больно, должны его слушаться. У меня не менее вашего надрывается сердце.
Терпение Барклая лопнуло. Он решил просить императора об отозвании из армии лиц, наиболее жёстко судящих о его действиях.
В его кратком отчёте, составленном для императора, сообщается о духе «происков», «пристрастий», «обидных суждений», слухов, с намерением распространяемых. Слухи эти начались при соединении обеих армий.
«В сие самое время, — писал императору Барклай де Толли, — императорское высочество великий князь Константин Павлович возвратился в армию из Москвы. Ко всему оному должно присовокупить особ, принадлежащих к главной квартире Вашего императорского высочества, для начертания Вам, государь, слабого изображения всего происходящего. Люди, преданные этим лицам, по исторжении ими какого-либо нового сведения, по их мнению, нового, сообщали вымышленные рассказы, иногда всенародно на улице. Я удалил некоторых особ, но я желал бы также иметь право отправить некоторых особ высшего звания...»
Этот отчёт государю повёз сам Константин вместе с письмом самого важного государственного значения.
На станции Ижора коляска его столкнулась с экипажем Кутузова, только что назначенного императором командующим всей армией.
Они оба вышли из карет, расцеловались, причём Константин прослезился — наконец-то его брат решился на самый правильный шаг, наконец-то выученик Суворова едет к армии.
Константин ничего не рассказал Кутузову о состоянии армии, уверяя, что старый фельдмаршал всё увидит сам, лишь прибавил, что армия рвётся к сражению. А потом начал говорить о том, что интенданты и провиантмейстеры сплошь жулики и мошенники, что его корпус нуждается в амуниции и вооружении, что нехватка провианта и амуниции ужасающа. Он хлопотал и о том, чтобы в армию не поступали люди подозрительные и вредные, и предписывал по корпусу удаление таких людей, приказывал, чтобы не забирали насильно подводы у обывателей, а также кур, гусей и прочее имущество, но упомянул об этом лишь вскользь. О самом же способе командования Барклая де Толли армией Константин не сказал ни слова: ему было чуждо наушничанье за спиной.
Они тепло распростились, Константин снова обнял старого фельдмаршала, пожелал ему здравия и благоденствия и добавил:
— Бог услышал наши молитвы, и вот вы здесь...
Разъехались на узкой дороге две коляски, и Константин ещё долго, высунувшись из открытой дверцы, махал рукой вслед главнокомандующему.
К великому удивлению Константина, старый фельдмаршал продолжил линию поведения Барклая де Толли. Только постепенно великий князь стал понимать, как мало смысла было в его разговорах о наступлении. Не сразу начал проясняться замысел старого полководца — сохранить армию, не отвечать молниеносным выступлением на быстрое продвижение Наполеона.
Того и нужно было Наполеону, чтобы на самых границах России разбить русскую армию, навязать России позорный и унизительный мир. При длительном походе его армия могла не выдержать беспредельных пространств России, а снабжение продовольствием и амуницией могло превратиться в настоящую драму.
Но это потом, а сначала Константин всё ждал, когда же Кутузов даст настоящий бой французскому императору, заставит его повернуть обратно. Великий князь надеялся, что Кутузов поддержит его наступательный порыв.
Когда не произошло в течение месяца, что Константин пребывал в Петербурге, ничего сколько-нибудь похожего на генеральное сражение, он приуныл. Ах, как не хотелось ему обвинять самого себя в ошибке, как хотелось ему думать, что Барклай — источник всех бед армии, что его медлительная отходная дорога не была единственно правильным путём.
Да, Константин не любил признавать себя неправым, но, вспоминая об уроках Суворова, он видел, что не дорос до истинного понимания диспозиции, что его знания войны поверхностны и нуждаются в углублении. Не желал он снова садиться за книги и трактаты о войне и военном деле, а пришлось. Вынудила его к этому сама жизнь.
Будни в Петербурге, где были запрещены все увеселительные заведения, развлечения и пустое времяпрепровождение, настроили его на самый серьёзный лад. Он с жадностью ждал известий из армии, всё ещё придирался по пустякам к гвардейцам, снова поступившим в его распоряжение, но уже давно понимал, что муштра и военные экзерциции далеко не всегда нужны в армии.
Константин видел, как страдает Александр, как уходит от решения самых насущных дел. Он устранился от армии, с тревогой и бесконечной грустью следил за развитием событий, мрачнел и мрачнел. Константин старался поддерживать брата, но вести приходили всё более неутешительные, и императору не удавалось сохранять спокойствие и выдержку. Он всё больше и больше замыкался в себе, и Константину казалось, что его слова поддержки падают в пустое пространство.
Бородино сразило обоих...
Реляция Кутузова о Бородинском сражении была составлена в самых радужных тонах:
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твёрдость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью за своё Отечество...»
Так писал царю полководец.
47 генералов Наполеона и 50 тысяч французских солдат остались на поле этого побоища.
Но Александр знал из других источников, что Наполеон хвастал победой. В своих бюллетенях, распространяемых по всей Европе, гордо говорил он, что поставил русскую армию на колени. Александр читал эти хвастливые строки, сравнивал их с письмами и реляциями Кутузова, и мнение его о Бородинском сражении всё время колебалось.
Единственно, что он знал достоверно, что русская армия не разгромлена, хоть и понесла такие же потери, как и Наполеон, что она может сражаться и далее.
Но за спиной у Кутузова была Москва, и никто не мог помочь ему подкреплением. Ополчения, которые спешно собирались в ближайших губерниях, включали в себя голодных, босых новобранцев, вооружённых лишь деревянными кольями. Да и подойти к Москве они не успевали.
Из отступавшей армии неслись и неслись к императору донесения, личные письма, доносы и кляузы от многих соглядатаев, угнездившихся в войске Кутузова. Однако все они отмечали беспримерное мужество русских войск. Александр словно бы видел старого полководца, сидевшего на простой скамейке подле батареи у села Горки, грузного, нахохленного, в расстёгнутом сюртуке, с чёрной повязкой на пустой правой глазнице, или его же на белом коне, в парадной форме, въехавшего прямо на пригорок, где сыпались неприятельские ядра и свистела картечь. Только дерзкие усилия адъютантов заставили Кутузова выехать из-под обстрела — схватив его лошадь за поводья, они вывели её с пригорка.
Кутузов руководил боем, всё рассматривая с высоты, то с колокольни села Бородино, то с флешей[23], то с валов брустверов. Ни на минуту не выходил он из боя, забывая о еде и питье, и бранил тех, кто смел думать о поражении.
Но боже мой, какие неисчислимые потери!
Тысячами гибли солдаты, сотнями — офицеры, десятками — генералы.
Ранен был сам командующий второй армией князь Багратион: осколок ядра ударил ему в ногу и пробил берцовую кость. Его честная солдатская душа не могла вынести суровую размолвку с Барклаем де Толли — до сражения были они смертельными врагами из-за споров о тактике ведения войны. Холодный, непримиримый Барклай являл собой полную противоположность Багратиону — пылкому, храброму, рвущемуся навстречу врагу. В свою последнюю, как ему думалось, минуту Багратион послал ординарца к Барклаю со словами примирения.
Тот, узнав о смертельном ранении своего врага, стал искать собственной гибели. Под ним пало пять лошадей, все его адъютанты были убиты или ранены. Лишь Бог хранил Барклая де Толли, он остался цел и невредим Давняя вражда между двумя храбрейшими полководцами была напрочь забыта перед лицом смертельной опасности.
Константин читал донесения, все письма, посылаемые императору; он страдал, что не был в том бою, что Барклай отослал его в Петербург. Больше всего великого князя страшили известия о его пятом корпусе: как он стоял, как бились солдаты и кавалеристы, как командовал заменивший его человек. Гордостью наполнялось его сердце, когда узнавал он о всё новых и новых подвигах солдат и офицеров своего корпуса.
Самые доблестные, самые бесстрашные падали на этом поле первыми: погиб племянник Александра Васильевича Суворова князь Горчаков, разорван ядром герцог Карл Мекленбургский, служивший в русском войске, истёк кровью командир Астраханского гренадерского полка генерал Буксгевден, картечь сразила начальника штаба шестого корпуса полковника Монахтина...
А когда пришло сообщение о гибели братьев Тучковых, Константин и сам сделался мрачен. Он знал и помнил всех братьев: Павел почти на его глазах был смертельно ранен под Смоленском, а теперь смертельные раны получил и Николай — генерал, прошедший невредимым столько войн.
Как потом выяснилось, раненый Павел Тучков оказался в неприятельском плену, сам Наполеон предлагал ему свободу под честное слово больше не воевать. Но Павел отказался: приняв присягу, он не мог пойти против своей совести и дать подобное слово.
И ещё одна смерть — Александр Тучков. Генерал-майор, шеф Ревельского полка.
Геройская смерть!
У ручья Огник под страшным картечным огнём повёл он свой полк в атаку. Смертельный огонь хлестал в лица солдатам, и они не могли стронуться с места.
— Ребята, вперёд! — позвал Александр Тучков.
Никто ему не ответил, солдаты прижимались к земле.
— Вы стоите? — гневно крикнул шеф Ревельского полка. — Я один пойду!
Он схватил полковое знамя и вырвался вперёд. Солдаты побежали за ним.
Картечь разорвала ему грудь, но солдаты подхватили знамя и кинулись прямо на пушки.
На смертельно раненного Александра Тучкова упало раскалённое ядро, взорвалось, подняв тучу земли и осколков. Легла земля на разорванное в клочья тело, похоронив под собою героя...
Константин читал эти строки, и слёзы пробивались из его глаз. Он всё ещё помнил, как подвёл рослого красавца Тучкова к прелестной Маргарите, как скользили они по паркету залы, залитой бесчисленными огнями. Он помнил о письме Маргариты императору, где она умоляла Александра разрешить ей сопровождать мужа в его походе в Швецию, а больше всего вспоминал он о странной птице, Варюшке, приручённой Маргаритой и просившей у него кашки.
Как далеки и как близки были эти события!
И вот — Александр погиб... А сколько генералов, офицеров, солдат погибло!
Цвет русской армии, цвет русской нации!
Но сколько славных французских генералов было убито или взято в плен! Неаполитанским королём назвался бригадный генерал Бонами, чтобы спастись от неминуемой гибели...
Впрочем, лучше считать свои потери, нежели неприятельские, а своих потерь было 45 тысяч человек, Наполеон потерял 65 тысяч. Однако у него оставался ещё целый корпус, не брошенный в бой, а у русских подкрепления не было. Это хорошо понимали Александр и его брат. За Кутузовым больше не было никого!
— Умереть, но не отдать Москву, — хрипло выговорил Константин, взглянув на брата.
— Москва — это ещё не вся Россия, — кинул ему император.
Он как будто провидел, что Кутузов сдаст Москву, и сдаст её без боя, чтобы сохранить оставшуюся армию...
На другой же день получили они в Петербурге донесение самого фельдмаршала. Русские войска были спешно, тайно, ночью, перед самым рассветом, выведены через Москву на рязанскую дорогу.
Вести одна другой тревожнее поступали в столицу. Петербург оделся в траур, пустынные улицы словно заволоклись дымкой тревоги и напряжённого ожидания.
Константин тоже ждал с мрачным щемящим чувством: выдержит ли император, не пойдёт ли на поклон к императору французов?
Александр запёрся в своём кабинете и часами молился, стоя на коленях перед образами святых и самого Спасителя. Виски его побелели, волосы надо лбом всё больше редели, морщины у глаз и упрямо сжатого рта становились всё глубже. И всё-таки Александр выдержал — острое чувство ненависти к Наполеону не позволило ему просить унизительного мира.
Напрасно ждал Наполеон в роскошных покоях Кремля депутатов от городских властей с золотыми ключами от Москвы и посланцев русского императора. Вместо этого Москва заполыхала.
А Кутузов продолжал обманное движение армии. Никто не предполагал, куда поведёт её старый фельдмаршал, никто даже не догадывался о его планах. Никого не посвящал Кутузов в свои мысли, всё строилось на тайне.
Это уже потом начал понимать Константин, что обманным движением к Рязани Кутузов отсёк Наполеона от южных губерний, где французское войско могло бы пополнять запасы своих продовольственных магазинов. Подвоз из Пруссии, Польши, Австрии требовал много затрат, длинная дорога истощала силы самих провиантмейстеров. Подвоза хлеба, мяса, муки не стало.
Наполеон оказался в Москве отрезанным от всех путей сообщения с югом.
Реляции Кутузова к императору и намёка не содержали на его обманный манёвр — знал старый полководец: то, что будет известно при дворе, очень скоро станет достоянием и Наполеона. Даже от императора скрывал Кутузов до поры до времени свои мысли и планы. Потому и терялись в догадках в Петербурге, ломали головы, что предпримет Кутузов, как продолжит войну.
А Кутузов, сделав с армией два перехода по рязанской дороге, остановился у Боровского перехода через Москву-реку. Так и думалось Наполеону, что старый фельдмаршал увёл армию к Рязани, к ближайшему местечку — к Коломне, за Оку.
Наполеон следил за действиями Кутузова, хоть и оставались русские войска невидимыми для его глаз. Но были перебежчики, были и шпионы, им вменялось в обязанность сообщать о всех передвижениях русской армии.
Остановившись у Коломны, Кутузов неожиданно свернул влево, к Подольску, приказав незаметно идти по-над речкой Пахрой. Возле Коломны остался отряд, ему было сказано, что вся армия двигается к Рязани.
А две колонны русских отправились на тульскую дорогу и расположились у Подольска. Здесь и увидели солдаты страшный пожар в Москве. Далёкое зарево вздымалось на западе, закрывая небо густыми облаками чёрного дыма.
Из Москвы Наполеон послал Мюрата по рязанской дороге. Французы двигались по тракту, вполне уверенные, что следуют за главными силами Кутузова. Лишь в Бронницах, уже за Пахрой, понял неаполитанский король, что его провели, и спешно поворотил к Подольску. Но было уже поздно: Кутузов отрядил множество мелких отрядов для перехвата обозов и команд, двигавшихся к Москве. Один только отряд Дорохова за неделю взял в плен полторы тысячи французов.
Тыл был блокирован. Наполеон спешно выслал войска для очищения можайской дороги, но ловкий и неуловимый Дорохов искусно отступил, разгромив при этом два эскадрона гвардейских отборных драгун Наполеона.
Между тем разгоралась народная война против захватчиков. Наполеон сидел в горящей Москве, нервничая и возмущаясь неправильностью методов ведения войны старым полководцем, а партизанские отряды, нередко вооружённые лишь топорами да кольями, нападали на французские отряды, истребляли их, захватывали дороги и прерывали все связи Наполеона с тылом.
Мюрат с крупными силами преследовал русских. Под Чириковом произошло настоящее сражение, даже начальник штаба Мюрата генерал Феррье был взят в плен. Мюрат послал парламентёров к Кутузову — просил освободить Феррье под честное слово. Кутузов был отменно вежлив, ласков с посланными, но твёрдо отказал в просьбе.
В Тарутинском лагере армия остановилась. Стоя над чёрными водами маленькой речушки Нары, Кутузов негромко сказал своим адъютантам:
— Отсель ни шагу назад...
К лагерю подходили ополченцы, каждый день здесь начинались учебные смотры и атаки, сюда сходились и съезжались все, кто хотел биться против захватчиков.
Тыл Наполеона беспрестанно тревожили оставленные и посылаемые Кутузовым отряды казаков, партизанские набеги стали столь частыми, что французы уже не решались спокойно проезжать по можайской дороге.
Наполеон был заперт в стенах Москвы, пылавшей всё сильнее...
А Тарутинский лагерь вбирал в себя всё новые подкрепления. Подходили ополченцы из дальних губерний, из южных мест везли продовольствие, даже крестьянки из дальних селений приносили гостинцы и отыскивали своих мужей, сыновей, братьев.
Наконец и император Александр постиг сущность плана Кутузова — собрать новую армию, подкрепить старую, начать движение обратно именно отсюда, из Тарутинского лагеря. Константин почувствовал облегчение Александра.
Вести из Тарутинского лагеря становились всё отраднее — здесь уже собралось более 100 тысяч человек, причём в расчёт не принимались партизанские отряды и казачьи разъезды. Пушки, единороги, тулупы, сапоги, валенки, сухари прибывали в Тарутино целыми обозами.
Подвоза продовольствия Наполеону почти не было.
А пленных становилось всё больше. Французы и итальянцы, пруссаки и австрийцы, баварцы и вестфальцы составляли такую разнородную, разноцветную и разноголосую толпу, что русские солдаты с удивлением глядели на это скопище иноплеменных захватчиков, нашедших свою участь среди русского лагеря.
Штабс-капитан Фигнер с небольшим числом солдат оставался в Москве. От него узнавал Кутузов о том, что и как происходит в захваченной столице, и переправлял все донесения в Петербург императору.
Читая эти донесения, Александр как будто воочию видел французского императора. Сначала Наполеон ждал депутатов, которые должны были принести ему ключи от древней столицы. Не дождавшись, послал гонцов во все стороны Москвы, чтобы узнать о причине замедления. Но Москва была пуста, только ветер разносил по улицам клочки бумаги, обрывки верёвок. А когда загорелся Гостиный Двор, а потом Каретный ряд и ветер понёс на Кремль тучи дыма и хлопья пепла, Наполеон хрипло произнёс:
— Москвы нет более! Я лишился награды, обещанной войскам! Русские сами зажигают! Что это за люди? Скифы...
Константин тоже как будто наяву видел приземистого, с длинной спиной и короткими толстыми ногами французского императора, расхаживающего по горящему Кремлю. Он негодовал: русские не были цивилизованной нацией — они не покорились захватчикам, сдали Москву, но встали стеной...
Получив под своё начало гвардию, Константин весь погрузился в укрепление Петербурга. Хоть и стоял стеной на берегах Двины корпус Витгенштейна, но нельзя было не ожидать, что Наполеон приведёт в действие свои войска, находившиеся на левом берегу Двины. Петербург лихорадочно готовился к обороне, возводились защитные валы.
Весь день Константина был расписан по минутам, он появлялся и на строительстве оборонительных сооружений, и в гвардейских войсках, долженствующих выдержать осаду столицы, если бы это потребовалось. Сил было мало, приходилось всё время тратить на подкрепления, набирать новых рекрутов, следить за поставкой вооружения, продовольствия и амуниции. Великий князь сбивался с ног...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Третью неделю безвыездно жила Маргарита в Коломне. Она делила со своей дворовой девушкой Стешей угол, снятый у какого-то купца. С самого утра вскакивала, бежала в почтовую контору, снова и снова спрашивала, нет ли вестей для неё — муж обещал писать именно сюда, и уже потом письма должны были доставляться в деревню, куда уехали её родные.
Но кроме первого письма, полученного ею ещё в день приезда, не пришло ни одной весточки.
Маргарита бродила по улицам, переполненным беженцами, уходила к Оке, глядела на тёмную воду реки, на её зелёные весёлые берега и снова направлялась к почтовой конторе.
Нет, письма для неё не было...
Она ждала весточек и от родителей, получала короткие записки, что в деревне всё спокойно. Николушка уже начинает громко разговаривать и всё кричит: «Мама!..»
Маргарита обливалась слезами умиления и восторга, но всё откладывала и откладывала день отъезда, несмотря на вопли Стеши, каждый день начинавшей с одного: когда же поедем в деревню?
Ещё один день, может быть, сегодня придёт письмо от Александра, может быть, завтра он напишет, что всё хорошо, он жив и здоров. Но пусть даже ранен, это неважно!
Когда она была с мужем, с ним никогда ничего не случалось, в каких бы жарких схватках он ни был. Её любовь оберегала его, она хранила его. Что же теперь мешает ему написать ей хотя бы одно слово? Она облила бы слезами серую нечистую бумагу, на которой стояло бы лишь это слово, она хранила бы её у сердца, она вновь ждала бы только одного слова.
А письма всё не было...
Лето проходило в бесплодном ожидании. Маргарита не могла и позволить себе подумать, что с Александром случится самое страшное, — нет, он должен жить ради неё, их огромной любви, ради сына.
Медленно несла свои воды Ока, зеленели её топкие и тенистые берега, волновалась и сновала по улицам тихого городка толпа бесприютных беженцев, норовивших уехать ещё дальше, в самую глушь и тишь. Скрипели колёса несмазанных телег, увозивших барский скарб, покрикивали на старых одров бородатые мужики, угрюмо взмахивающие кнутами и пешком следовавшие за лошадьми, ревели дети, не по жаре закутанные в платки и толстые шали, пылили небольшие стада коров и овец, которых гнали вглубь России...
Вот уже начала свёртываться листва на белоствольных берёзах над берегом Оки, пожухла и стала желтеть трава, остались на полях лишь ровные ряды срезанной стерни, по ночам замерзала роса на листьях и траве, обращая окрестности в утренний час в сказочную страну.
А писем всё не было...
Маргарита зажала своё сердце в комок, страшилась спрашивать у хмурого начальника почтовой конторы, только взглядывала на небритое лицо, — он отвечал покачиванием головы.
Опустели берега реки, снялись со своих мест последние беженцы, унылый ветер погнал по пустынным крохотным улочкам разный мусор. И Маргарита решила уехать.
В последний раз пришла она к почтовой конторе, неспешно вошла в низенькую, унылую избу. Там никого не было, лишь маленькая девочка, дочка начальника конторы, копошилась в пыльном углу.
— А батюшка к войску поехал! — радостно крикнула она Маргарите, уже давно знавшей её.
Маргарита так и застыла.
— Где, куда? — кинулась она к девочке, но та только пожала острыми плечиками, туго обтянутыми стареньким ситцевым платьишком.
Маргарита выскочила из избы. В самом конце узенькой улицы она увидела клубы поднимавшейся пыли, уловила какое-то движение и побежала туда. На самой окраине городка двигались ряды солдат, на берегу Оки уже забелели палатки, завиднелись шалаши, засветились в резком солнечном свете костры.
Маргарита побежала к самым первым рядам располагавшегося на отдых отряда, вглядывалась в обросшие щетиной пыльные лица солдат. Хотела увидеть хоть одно знакомое лицо — солдаты Ревельского полка были все ей известны. Но лица были незнакомые, строгие и угрюмые.
— Какого вы полка, какой дивизии? — громко крикнула она прямо в лицо шедшему впереди с мешком за плечами старому бородатому солдату.
Солдат скинул с плеча мешок, положил на землю тяжёлый мушкет и начал обстоятельно объяснять Маргарите, какой полк прибыл в Коломну. Нет, этих солдат она не знала, не знала даже названия этого полка.
— Что с ревельскими? — только и спросила она, со страхом ожидая услышать плохие новости.
— Что, матушка, — подошёл к ней один из молоденьких солдат, — ай, не слыхала, что Москву супостат забрал?
— Москву? — ахнула Маргарита. — Да как же, неужто отдали?
— Воля Божья, — закрестились стоявшие рядом.
Неожиданно откуда-то из глубины толпы протолкался к ней молодой безусый офицер в небрежно наброшенном на плечи мундире, серых от пыли, когда-то бывших белыми лосинах, с непокрытой головой, позволяющей видеть завитки тёмных взмокших волос.
— Маргарита, ты ли? — остановился он перед ней.
Она подняла глаза и в первую минуту не поняла, кто стоит перед ней. Потные потеки прочертили на пыльном юном лице бороздки, глаза были словно опушены ресницами. Лишь собрав все свои силы, она наконец узнала его.
Перед ней стоял её брат, Кирилл, кого она не видела столько лет и кого отвезли они с отцом в Санкт-Петербург ещё перед войной со Швецией.
— Господи, — от волнения она даже забыла его имя, — неужто ты, братец?
Кирилл обхватил её плечи, прижал к себе.
Солдаты деликатно посторонились, оставив их на пустом пятачке возле бледного при солнечном свете костра.
— Кирилл, — вырвалось у неё, — ты, верно, знаешь что-то? Где Александр, как он, почему я столько недель не получаю весточки?
Кирилл отстранился, заглянул в её наполненные слезами зелёные глаза.
— Я ничего о нём не знаю, — поспешно сказал он, опустил голову и, взяв её за руку, протолкался к командиру полка, уже расположившемуся на пригорке и наблюдавшему за солдатами. — Погоди, — остановил он её и подошёл к старшему офицеру. Склонившись к самому его уху, что-то пошептал и молча отодвинулся.
Полковник кивнул головой.
— Через день быть тут же! — крикнул он вслед Кириллу.
Тот тоже кивнул, полуобернувшись. Он уже стоял возле Маргариты и деловито говорил ей:
— Значит, наши поехали в деревню?
— Да, — односложно ответила она.
— Отпустил на денёк меня командир, — всё так же сумрачно сказал Кирилл. — Едем, времени мало, повидаюсь с батюшкой и матушкой, и снова сюда...
Он не давал ей времени задавать вопросы, тащил за руку, расспрашивая по пути, где она остановилась, готова ли к поездке. Ей пришлось рассказать всё: что отец с матушкой, Николенькой и младшими сёстрами уехали в деревню, и что она осталась здесь ожидать вестей от Александра, и что страшно беспокоится. И всё время вертелся у неё на языке один вопрос: знает ли он что-нибудь об Александре?
Но Кирилл ловко уворачивался от ответа, хлопотал, снаряжая двуколку, давно приготовленную Маргаритой за неимением других подвод, усадил в неё саму Маргариту и Стешу, а сам вскочил в седло, свистнул, ударил стеком по лошади, и они тронулись в путь...
Дорога вилась по лесной просеке, с двух сторон их окружала плотная зелёная стена, кое-где среди сосен и елей уже покрылись молодым золотом белоствольные берёзы, а листья рябин и дубов заржавели и свернулись.
До самой деревни, где расположилась семья Нарышкиных, Маргарите не удалось и словом перекинуться с братом, хотя она всё время следила глазами за его ладной фигурой, хорошо державшейся в седле, и ждала, что он скажет хотя бы слово. Кирилл молчал до самого въезда в деревню.
Тихо и пусто было на дворе большого барского дома. Зелёная длинная подъездная аллея ещё желтела песком, принесённым с берега реки, а кусты и старые деревья по её сторонам уже начинали сыпать на этот песок свернувшиеся и тронутые тлением листья.
Кирилл первым спешился и стремительно взбежал на широкое деревянное крыльцо, окаймлённое резными, потемневшими от времени деревянными колонками. Маргарита удивилась, но туго натянула вожжи, стараясь удержать коня.
Из конюшни выскочил лохматый конюх, кинулся к двуколке.
— Матушка, Маргарита Михайловна! — закричал он. — Что ж так-то, сами и правите, сами и...
Он не докончил. Маргарита выпрыгнула из двуколки, за ней полезла Стеша.
— Матушка с батюшкой дома? — только и спросила Маргарита у конюха.
— Где ж им быть, должно, чай пьют, — растерянно проговорил конюх, уводя коня подальше от крыльца.
Маргарита вбежала в дом. Просторный барский особняк наполнен был тишиной и лёгким сумраком — день угасал, и лишь короткие лёгкие полосы света ложились на жёлтые широкие половицы.
Безмолвие и уют старого дома охватили Маргариту. Здесь не было тревог походного быта, здесь ещё висели по стенам портреты предков, здесь всё ещё осторожно ступали ливрейные лакеи в жёлтых с красными отворотами сюртуках и белых перчатках, подавая господам чай в серебряных чашках и ставя на громадный овальный стол пузатый двухвёдерный самовар с серебряными нашлёпками по бокам.
Какое забытое, какое давнее житьё! Она отвыкла от этой роскоши, забыла горьковатый запах дымка из трубы самовара, так давно не видела спокойных оживлённых лиц своих сестёр.
Странно, ни отца, ни матери не было за чайным столом, никто не выбежал на крыльцо, чтобы встретить её, только дворовые девки жались по углам, готовые по первому зову госпожи стремглав нестись за нужной вещью или нужным человеком.
Выскочили младшие сёстры, и Маргарита, облепленная ими, подошла к чайному столу. Ещё дымилась большая пузатая чашка отца, до половины налитая, перевёрнута вверх дном чашка матери, положенная на широкое блюдце. Странно, она замечала такие мелочи, на которые в другое время не обратила бы никакого внимания.
Никого не было в комнате, а сёстры, хоть и приникшие к ней, понуро молчали, прижав головы к её тёплому боку.
Тишина дома сама по себе была зловещей, словно готовила её к взрыву, к грому, как тишина перед грозой, когда замирало всё в природе.
Маргарита присела на стул, в спешке отодвинутый отцом, — это его место, здесь он оглядывал свою большую семью, здесь под его зорким и строгим доглядом смирялись бурные вспышки детской энергии. Высокая резная спинка делала этот стул похожим на трон.
Отсюда он правил усадьбой, многочисленной дворней, отсюда шли его приказы по всему поместью. Маргарита удобно разместилась на широком мягком сиденье отцовского стула.
Она взглянула на белоснежную скатерть накрытого к чаю стола, на белокурые головки сестрёнок, на темнеющие перед вечером стены, и что-то забытое проснулось в ней при виде этой мирной картины.
Где-то когда-то видела она эту картину, не хватало лишь дополнения — отца с ребёнком на руках, с её Николушкой, Кирилла, а рядом, позади, и Варвары Алексеевны.
И словно подчиняясь капризам её памяти, выплыли они — отец с Николушкой на руках, за ним в дверях понурый Кирилл, а сзади мать с её широчайшими юбками.
— Нет-нет, — ужаснулась Маргарита, — только не это...
Это был сон, тот её прежний сон, виденный ею перед разлукой с Александром. Но теперь все лица и предметы обрели устойчивость и твёрдость, теперь это был её сон, воплощённый в действительность.
— Нет, — снова повторила она, — этого не может быть...
— Маргарита, сбереги себя для сына, — произнёс Михаил Петрович. По щекам его пробивались к седым усам дорожки слёз.
— Кирилл! — закричала Маргарита. — Как ты смел не сказать мне ничего?!
Все трое замерли, словно ждали этих укоряющих слов и застыли перед самым страшным. Михаил Петрович держал на руках Николушку, а тот хватал ручонками его седые усы и курчавившиеся баки.
Отчётливая и такая нереальная картина стояла перед глазами Маргариты.
— Так не бывает, — громко сказала она, — я знала, я видела всё это во сне, но не бывает так, чтобы всё повторялось до мельчайшей подробности...
— Сон твой был пророческим, — угрюмо сказал отец, — и вот всё, что осталось тебе от твоего Александра. Твой сын, как две капли воды похожий на твоего мужа.
Маргарита смотрела и смотрела на эту картину, на ребёнка, тянущего к ней пухлые белые ручки, на подавленного брата, на мать, теснившуюся позади мужчин, и темнота заволокла её взор...
Почти две недели провела она в беспамятстве. Сказалось всё — и напряжённое ожидание в Коломне, и предчувствие беды, и эта весть, как огонь проникшая в сознание.
Едва выныривала она на поверхность из провала, оглядывала родные лица, едва успевала произнести одно это прилипшее к ней слово «нет», как опять уплывала по чёрным волнам беспамятства.
Кирилл уехал на другой же день, возвращаясь в армию, отец и мать ломали над ней руки, подносили Николушку в надежде, что один её взгляд на сына произведёт желаемое действие, но Маргарита продолжала метаться на постели, говорить несвязные слова, пылать в жарком бреду и плыть по чёрной реке без сознания.
Доктора было не найти в этом тихом и пустом краю, деревенские знахарки скороговоркой шептали над Маргаритой какие-то странные наговоры, поили отварами трав и зельями, а она всё металась в горячечном бреду и кричала одно и то же: «Нет!»
Но, видно, Бог судил ей другую судьбу, чем небытие. Молодое тело Маргариты справилось и с лихорадочным жаром, и с поразившим её известием, лишь слабость и сонливость ещё одолевали её.
Тело хотело жить, не сдавалось под напором ослабевшего разума, руки и ноги жаждали движения, и через две недели она уже начала приподниматься на постели, всё ещё измученная страданиями разума, но постепенно приводившая в стройную систему само мироздание.
Эти две горячечные недели были для Маргариты спасительными. Она оправилась и со странной грустью вглядывалась в отражение своего мужа — сына Николушку.
Михаил Петрович и Варвара Алексеевна ликовали: Маргарита осваивала первые предметы, связно говорила какие-то незначащие слова, а значит, приступ боли в её сердце понемногу проходит. Теперь только время способно было залечить её рану. Но родители и не предполагали, сколь глубока и тяжка эта рана, и нужны ещё долгие-долгие годы, чтобы она зарубцевалась.
В первые дни после болезни Маргарита ничего и слышать не хотела о подробностях войны, о мелочах Бородинской битвы, словно сознательно отгораживалась от того, что снова могло бы повергнуть её в беспамятство. Она начала выходить из дому на усыпанные опавшим листом дорожки, с умилением разглядывала дом и сад, дальние луга и синие кромки леса по закраинам лугов, тихо радовалась смешливым крикам сестёр, сбегавших по отлогой тропинке к чёрным водам речки, по утрам уже собиравшей наледи по берегам.
Осень подходила неслышно, под лучами неяркого солнца ещё отступала, но по ночам брала своё. Зелёный цвет сменялся красными и багровыми тонами. Берёзы роняли свой роскошный наряд в грязь разъезженных дорог, усыпали золотым покровом подъездные аллеи, шуршали опадавшие листья.
Даже через две недели Маргарита не могла подумать о том, чтобы куда-то идти, и лишь старательные усилия девочек, младших сестёр, заставляли её ходить по лесу, нагибаться за сучьями и ворошить ими прелую траву и гнилые листья, чтобы отыскать крепкие ножки и бурые шляпки боровиков.
Какие планы могла она строить теперь, когда Александра не было на свете, когда вся её жизнь словно бы свернулась и сделалась маленькой и ненужной без его согревающей любви, без его широкого и твёрдого плеча?
Она больше не плакала, как будто окаменела, и даже Николушка не мог вызвать на её лице весёлую улыбку. Он теперь был для неё сиротой, безотцовщиной, и его шаловливый лепет не порождал в ней ничего, кроме унылого постороннего взгляда.
— Французы ушли из Москвы, — сообщил за завтраком Михаил Петрович.
Все подняли на него глаза, ожидая добавлений, но он не сказал больше ни слова и уставился глазами в тарелку.
— Бородино далеко от Москвы? — спросила Маргарита, и по этому её почти неслышному вопросу Михаил Петрович понял, что все мысли его дочери направлены на одно — увидеть место, где погиб Александр.
— Вёрст полтораста, — ответил он тихо.
Больше за столом не было сказано ничего. Но Маргарита вышла из-за стола, молча ушла к себе в комнату и не выходила до самого обеда.
Когда Варвара Алексеевна пришла звать её к обеденному столу, она увидела, что вся одежда Маргариты сложена, а сама она уже оделась в дорожный костюм. Варвара Алексеевна так и села у маленького столика, за которым Маргарита заканчивала свои приготовления.
— Я не отпущу тебя одну, — сказала она.
— Вы будете долго собираться, — просто ответила Маргарита, — а мне надо поспешать...
— Да кто тебя гонит! — воскликнула мать.
Маргарита ничего не ответила, только посмотрела на мать долгим и грустным взглядом.
— Оставь свои приготовления, поедем все вместе, — твёрдо заявила Варвара Алексеевна.
— Кто знает, что там, — запротестовала Маргарита, — одной мне будет легче. Может быть, не сгорел дом, может быть, найду себе угол...
— Нет, — отрезала мать. — Поедешь вместе с нами. Уж отец что-нибудь да придумает.
Маргарита кивнула головой.
Но сборы были затяжными: надо было приготовиться к самому худшему. И все эти несколько дней Маргарита не говорила ни слова, лишь молча соглашалась и с вопрошающими взглядами отца, и с весело снующими сёстрами, и с жалобными стонами матери.
Свои реликвии Маргарита укладывала сама. Bсe, что доверил ей Александр — образ Спаса Нерукотворного, утварь из полковой церкви, — заворачивала она в свои старые суконные накидки, обёртывала плотной бумагой, перевязывала толстой верёвкой и сама выносила на подводы. Образ Спаса она положила с собой в карету.
Наконец всё было упаковано, разложено, и караван Нарышкиных потянулся по дороге в Москву.
В лёгкой рессорной коляске разместился сам Михаил Петрович с младшим сыном, тоже Михаилом, прелестным мальчуганом тринадцати-четырнадцати лет с широким и круглым лицом, кожа на котором отдавала перламутром — так она была бела и почти прозрачна. Карие глаза его старались смотреть серьёзно и даже мрачно, мальчишка стремился выглядеть более взрослым и самостоятельным, хоть и был в семье всеобщим любимцем. Вместе с ним ехали его воспитатели немцы. Теперь уже не было моды в московских семьях приглашать для воспитания детей французов — слишком много горя принесли они в Россию, и невольно вся ненависть к Наполеону отразилась на всех, без исключения, людях этой национальности.
Гесслер и Кастнер так и жили в семье Нарышкиных, обучая младшего отпрыска семьи всем наукам. Даже во время нашествия и взятия Москвы не прерывались уроки.
За коляской следовал рыдван с самыми нежными членами семейства Нарышкиных — Маргарита с маленьким Николушкой на руках, его нянька Стеша, две младшие сестры Маргариты — погодки Машенька и Наташа, русые головёнки, блестящие озорные глаза. А напротив раскинулась на мягких пуховиках Варвара Алексеевна, охая и ахая: толчки кареты отдавались по всей спине, болели старые отёкшие ноги.
В телегах, кибитках было размещено, разложено добро Нарышкиных, рассажены дворовые люди — много их, ведь неизвестно, что ждёт в Москве.
Наташа и Машенька с самого начала прилипли к крохотным окошечкам рыдвана, не давая никому взглянуть на лесную дорогу, засыпанную золотыми и красными опавшими листьями, на подмороженные колеи, по которым экипаж катился со скрипом и толчками.
Маргарита не глядела по сторонам — внутренняя боль всё ещё сжигала её почерневшее лицо, седые прядки выбивались из-под мехового капора, а руки беспрестанно теребили то бахрому муфты, положенной на колени, то край меховой накидки.
Она молчала всю дорогу, мечтая только об одном — скорей, скорей к Бородину, пойти на это страшное поле, увидеть дорогое мёртвое лицо, запрокинутое к небу. Почему-то казалось ей, что едва она взойдёт на это поле, как тут же увидит лицо Александра. И в то же время не верилось ей, что он мог погибнуть, хоть и рассказали ей о его смерти со всеми подробностями, которые удалось услышать от уцелевших солдат Ревельского полка. Кирилл передал отцу всё, что знал, а тот с немалыми предосторожностями поведал об этом Маргарите.
Одна Варвара Алексеевна никак не могла угомониться — она то и дело отпихивала Наташу или Машеньку, выглядывала в окошечко и ворчала:
— Невесть куда едем, невесть что ждёт нас. Может, спалил француз дом, может, и голову преклонить негде будет, а мы едем, просто безумные какие-то. А ну, как остались от дома одни головешки — что делать будем?
Отвечали ей лишь младшие девочки, которые радовались путешествию: им в двенадцать-тринадцать лет всё было любопытно.
— Маман, у нас же есть шатры, раскинем и будем жить, — весело вторили они воркотне матери.
Она негромко покрикивала на девчонок, но оживление и любопытство не покидали их, и они возились в углах рыдвана, то забиваясь под груды перин, то вылезая, чтобы снова уткнуться в окошки.
Николушка беспрестанно спал, покачивание усыпляло его, и Стеша, толстая, бесформенная в бесчисленных накидках и тулупе, томилась от безделья.
От Коломны, где весь обоз остановился передохнуть и перекусить, стали попадаться то сброшенная с обочины старая сломанная коляска со снятыми колёсами, то трупы взбухших лошадей, а порой лежали и неубранные тела людей в остатках рваных синих мундиров.
Притихли девчонки, с ужасом взглядывая на эти останки, перестала ворчать и теперь уже откровенно рыдала Варвара Алексеевна. Со всё возрастающим страхом подумывала она о том, чтобы воротиться в деревню, переждать зиму, а по весне, когда всё придёт в порядок, вернуться в Москву. Она то и дело робко закидывала словечко Маргарите, всё ещё безмолвно и прямо сидящей в глубине рыдвана, но та ничего не отвечала. И Варвара Алексеевна только громко вздыхала: не пойдёт Маргарита ни на какие уговоры, будет всё так же угрюмо смотреть мимо, а взгляд прожжёт душу.
И Варвара Алексеевна замолкала, натыкаясь на этот углублённый в себя взгляд, но ненадолго. Всё ещё надеялась она, что Маргарита позволит вернуться, поворотить назад...
Перед самой Москвой остановились в какой-то убогой деревушке, кое-как разместились в крестьянской избе, и Варваре Алексеевне так и не удалось хоть немного поспать: беспокойство заползало ей в душу и не покидало её.
С самого раннего утра все уже были на ногах, и обоз тронулся дальше. Теперь уже по сторонам дороги громоздились трупы людей и лошадей, попадались головешки, а пепел устилал проезжую часть дороги. На въезде в Москву не было нигде застав, околоточных, не было видно и слышно никого, лишь дикий вой одичалых собак различался вдалеке.
Ехать стало трудно: то и дело дорогу перегораживали упавшие обгорелые брёвна, груды обломков, куски каменных стен. Приходилось вылезать, мужики расчищали проезд, даже Михаил Петрович и Мишенька помогали таскать с дороги головешки, остатки кирпичей, чтоб кое-как продолжать путь.
Варвара Алексеевна отирала глаза мокрым платком. Она ожидала всего, но даже она не представляла себе Москву такой — безлюдной, чёрной от сгоревших домов, с огромными пепелищами, ветер с которых поднимал тучи чёрной пыли, оседавшей на гривах лошадей, на тёплых платках и шалях женщин, на меховых картузах и епанчах мужчин.
Высунувшись из дверцы, Варвара Алексеевна всё глядела и глядела на когда-то белокаменную, светившуюся золотыми куполами церквей Москву, не узнавала ничего, но первой завидела словно бы белый зуб среди чёрных пепелищ.
— Дом наш, — задохнулась она, — стоит, целёхонький!
Но дом не был целёхоньким. Ветер, беспрестанно дувший в Москве во время пожара, перенёс огонь на правое крыло двухэтажного господского дома, и только каменный бельведер[24] в середине его, возвышавшийся над всем строением, задержал огонь. Бельведер обгорел, но стоял крепко, чёрный и мрачный, а левое крыло здания сохранилось почти в неприкосновенности.
Правда, сгорело и крыльцо дома, но закоптелые каменные стены, строенные на века, остались стоять, крыша, крытая зелёным железом, тоже почернела, но не пропустила огня.
Правое крыло всё выгорело, крыша там провалилась, и лишь головешки чернели среди развалин. Но левое крыло чётко белело среди руин, и даже стёкла в окнах, заколоченных перед отъездом, кое-где сохранились целыми.
Михаил Петрович вышел из коляски, встал на колени перед домом, прикоснулся лбом к обгорелой земле и громко сказал:
— Господи, благодарю тебя за то, что сохранил моё старое родовое гнездо!
Варвара Алексеевна подскочила к мужу, тронула его за плечо, рыдая, показала на сгоревшее крыло дома.
— А ты не смотри туда, — отвёл её руку Михаил Петрович, — ты гляди сюда, даже краска на стенах ещё белеет...
Внутри всё было разграблено: исчезли высокие золочёные зеркала, дорогие старинные диваны и кресла, даже столы из чёрного дерева на толстых резных ножках, и те были утащены. Двери всех комнат висели на полувытащенных петлях — видно, грабители очень старались сломать замки, но, когда это не удавалось, стаскивали двери прямо с петель.
И только в одной из комнат всё было, как прежде: возвышались по углам раскрытые и пустые сундуки, окованные железом, валялись сломанные и разбитые стулья, а в красном углу, где вместо киота темнела пустота с густой паутиной, стояла под полочкой, где размещались украденные теперь иконы, толстая высокая палка с отполированным до блеска деревянным набалдашником — посох, что вручил Маргарите юродивый в самый счастливый день её жизни — в день свадьбы.
Она прошла в этот красный разорённый угол, осторожно взяла посох. Высокая палка с ручкой углом словно бы хранила ещё тепло того дня.
Маргарита поцеловала посох и тихо сказала:
— Ты был неправ, юродивый, ты вручил этот посох игуменье Марии, а я лишь вдова генерала Тучкова. И зовут меня Маргарита.
В доме уже вовсю хлопотали крепостные, осматривалась Варвара Алексеевна, носились по уцелевшим, хоть и разгромленным комнатам девчонки, солидно помогал отцу Михаил-младший, а Маргарита, оставив Николушку на попечение Стеши, вышла на двор.
Пепелища вокруг открывали вид на старую любимую церквушку. Содранное с куполов золото обнажило решетчатые остовы, но каменная кладка стен, хоть и почернелая от пожаров, всё ещё стояла нерушимо. Никем не остановленная, Маргарита вышла со двора и направилась к храму. Она положила в карман немного мелочи — может быть, есть нищие, подать им милостыню — взяла толстую витую восковую свечу и коробок спичек. Кто знает, имеются ли теперь в церкви свечи, а ей хотелось постоять перед образами на коленях, помолиться, просто помолчать перед святыми ликами.
С трудом пробираясь по засыпанным пеплом и обломками тропинкам, бывшим когда-то улицами, Маргарита подошла к церкви.
Всё было тихо и пусто вокруг, даже собачьего лая не слышалось. С колокольни не раздавался привычный звук колокола, только верёвка болталась на ветру, шурша и шелестя. Золочёных, всегда блестевших колоколов теперь не было: видно, и их сняли пришельцы. Тяжёлая резная дубовая дверь была распахнута, внутри царило запустение.
Маргарита осторожно вошла в дверь, терпеливо разожгла отсыревший фитиль свечи. Держа её перед собой, ступила через высокий порог. Мрак окружил её. Иконостас был весь разграблен, витые золочёные высокие подсвечники исчезли, решетчатые переплёты иконостаса открывали унылую пустоту алтаря, деревянный аналой был опрокинут и лежал сбоку. Не было тронуто лишь старое деревянное распятие, и Спаситель, повернувшись лицом к своей правой руке, проколотой гвоздём, словно не желал глядеть на запущенность храма.
Маргарита расчистила местечко возле распятия, встала на колени и поставила свечу на пол, прямо среди мусора и обломков. Слов у неё не было, она только отрешённо глядела на Спасителя, сложив перед лицом руки.
Она стояла так долго, что сумерки, уже наползавшие на весь город, сгустились в храме до полной черноты. И тогда вырвались у Маргариты слова, шедшие прямо из сердца:
— Господи, дозволь мне сохранить память о том, кого я любила, с кем в минуты Твоей неизречённой милости Ты соединил меня через таинство брака и кого Тебе угодно было лишить меня. Прости мне, Отец всякого милосердия, если чувство привязанности заставляет меня проливать горькие слёзы... Ужели не существует тот, кто так нежно любил меня? Ужели слёзы мои не оживят праха его? О Боже, укрепи мой разум и утешь бедное сердце моё...
Слёзы катились по её щекам, а свеча догорала в сумраке разграбленного храма. И лишь когда фитиль начал плавать в лужице растаявшего воска, Маргарита пальцами прижала огненный цветок и встала с колен. Темнота окружила её. Ощупью нашла она выход из храма, прямоугольник распахнутой двери засинел перед её глазами.
Словно бы немного отогрелось её сердце, и она оглянулась в поисках нищих, калек, убогих, кому могла бы раздать медные деньги. На низкой паперти не было никого.
Она вышла из железной ограды храма, чудом уцелевшей, и, осторожно ступая, направилась к дому. И тут чья-то бесформенная тень заступила ей дорогу.
— Мадам, — услышала она шёпот по-французски, — будьте добры ко мне, бедной чужестранке...
Маргарита молча выгребла из кармана всю мелочь, что взяла с собой, и протянула руку к француженке.
— Благодарю вас, — опять услышала она прекрасный парижский выговор, — но теперь даже на эти деньги я не найду куска хлеба. Мне не нужны деньги, — шёпот понизился ещё больше, — мне нужен только кусок хлеба.
— Пойдёмте со мной, — ответила Маргарита тоже по-французски.
Она уже разглядела в синем сумраке вечера эту странную попрошайку. Закутанная по самые брови в старую рваную шаль, накрытая сверху какой-то странной накидкой, женщина тем не менее сверкала большими чёрными глазами, а бледные губы твердили лишь одно:
— Кусок хлеба...
— Кто вы и почему здесь, в оставленной вашими соотечественниками Москве? — спросила Маргарита. — Почему вы не ушли вместе с ними?
Закутанная в тряпки женщина приостановилась, и слёзы потоком полились из её глаз.
— Если бы знала я, что произойдёт со мной, разве решилась бы я выехать из Парижа?
— Вы приехали из Парижа? — переспросила Маргарита.
— Меня зовут Тереза. Тереза Бувье. — Женщина опять зашлась слезами. — У меня нет никого на свете, я круглая сирота... Я так любила мосье, и он взял меня с собой в Москву. Но бородатые мужики на самом отходе напали на нашу кибитку, убили его, меня вышвырнули прямо на мостовую и уехали прочь со всем моим добром...
— Вы потеряли мужа?
— Ах, — заломила руки мадам Бувье, — он не был мне мужем, но я надеялась, что, когда вернёмся в Париж, мы обвенчаемся. Я не могла с ним расстаться, когда он с войском пошёл в Россию. Я сопровождала его во всех походах, моя любовь хранила его, но здесь, в этой холодной стране, он нашёл свою смерть, а я осталась на камнях этого города одна-одинёшенька. Никого, нигде, ни в Москве, ни в Париже, уже две недели я скитаюсь по этому городу, роюсь в помойках, ищу хоть какую-то еду. Я не знаю, куда мне идти, что делать. Опасаюсь говорить по-французски, но ни слова не знаю по-русски...
Маргарита приостановилась. Какая печальная история, в чём-то очень похожая на её собственную.
— Вся наша семья только что приехала, — быстро сказала она. — Половина нашего собственного дома не сгорела и теперь приняла нас. Пойдёмте со мной, и я накормлю вас. Да и крова у вас нет, может быть, вы поживёте пока у нас. Наверное, мы первыми вернулись в Москву, ещё нет никого из соседей...
— Простите великодушно, но не обрушится ли гнев вашей семьи на меня? Город спален, нигде нет людей, лишь изредка выходят на промысел воры и грабители, да и ваш дом тоже сожгли наполовину...
— Я получила известие, — вдруг сказала Маргарита, — что мой муж погиб в бою под Бородином...
Она впервые вымолвила эти слова, которые потом ей придётся повторять всю свою жизнь, и замолчала надолго. Кто такая эта француженка, чтобы выкладывать ей то, что у неё на душе? Почему она вдруг сказала ей это? Но мадам Бувье остановилась и тихонько проговорила:
— Боже мой, что же переживаете вы теперь! Громадное горе, я хорошо это понимаю, я сама пережила это. Но моя потеря недавняя, и меня сразу обступили заботы о хлебе насущном, мне было легче пережить потерю любимого человека, потому что надо было позаботиться о себе — вы видите, что сталось со мной, со всей моей красотой и любовью. Я так вам сострадаю...
Маргарита вдруг потянулась к бесформенной фигуре мадам Бувье и, обняв её, припала к ней, и слёзы хлынули из её глаз. Впервые плакала она такими благодатными слезами, они как будто уносили с собой каменную неподвижность её души, всё ещё не освоившейся со своей потерей.
Они стояли среди чёрных развалин, припав друг к другу, плакали вместе, слёзы их смешивались, и молодой месяц, выглянув в разрывы туч, холодным голубоватым светом высветил эту картину.
Молодые женщины дошли до дома Нарышкиных. Тут уже была видна жизнь: горели костры в саду, бродили по двору мужики и раздавался стук топоров, рубивших дрова.
Маргарита вошла в дом, вслед за ней последовала мадам Бувье. В самой вместительной комнате собралась вся семья Нарышкиных. Варвара Алексеевна, увидев дочь, кинулась к ней:
— Господи, куда тебя унесло, мы так беспокоились, куда ты подевалась, почему не предупредила?
Маргарита ничего не ответила матери. Она только взглянула на отца, стоявшего у заколоченного окна.
— Я хочу представить вам мадам Бувье, — громко произнесла она, — я наняла её, она будет бонной у Николушки...
Мадам Бувье переводила взгляд с Михаила Петровича на Варвару Алексеевну, инстинктивно угадывая в них хозяев дома. Она не понимала ни слова из их русской речи, но чувствовала, что говорят о ней, и сердце её сжималось.
Варвара Алексеевна кинула на мадам Бувье суровый, неодобрительный взгляд: вот так бонна, откуда выкопала её Маргарита?
Тереза молча склонилась перед Варварой Алексеевной, потом также низко присела в реверансе перед Михаилом Петровичем. Взгляд её устремился к столу, разысканному слугами и кое-как водворённому в эту комнату. На столе стоял самовар; курясь дымком и паром, лежали куски белого хлеба и ломти чёрного, нарезанное сало и конфеты, насыпанные в сахарницу. Француженка чуть не упала в обморок.
— Мадам Бувье очень голодна, — просто сказала Маргарита. — Маман, покормите мою бонну.
Варвара Алексеевна с изумлением взглянула на Маргариту.
— Конечно, конечно,— засуетилась она.
— Батюшка, — обратилась Маргарита к отцу, — я хочу завтра рано утром выехать в Бородино. Будьте милостивы, прикажите заложить карету.
Михаил Петрович лишь молча кивнул головой. Варвара Алексеевна хотела было вмешаться, но взгляд Маргариты остановил её.
— Мадам Бувье поедет со мной, — предупредила она слова матери.
Она и не подозревала, что Тереза Бувье останется с ней на долгие тридцать лет...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ранним утром, ещё до света, Михаил Петрович вышел на обгорелое крылечко, проверил, как запрягли коней, какие подушки и перины положили. Словом, всё сделал так, как и хотела Маргарита. Когда она вышла из дому с Николушкой на руках, со Стешей, сонно плетущейся позади, с приодетой и выглядевшей вполне по-барски бонной Терезой Бувье, всё уже было готово к отъезду.
— Может, и я с тобой... — заикнулся было отец, приобняв дочь за плечи.
— Нет, батюшка, у тебя на руках Мишенька, да сестрички мои, да маманя, где уж тебе. Да и дел у тебя невпроворот, дом-то надо новый ладить. А я справлюсь одна. Мне бы, главное, найти...
Она отвернулась, слёзы едва не показались на её исплаканных глазах, но она глотнула, справляясь с комом в горле, и шагнула к возку. Они разместились удобно, кучер Василий гикнул на лошадей, и в сером сумраке рассвета пара коней вынесла из пролома, где когда-то были тяжёлые резные ворота.
Обычно в этот час благовестили колокола на всех колокольнях, сзывая прихожан к ранней обедне, но теперь всё глухо молчало, и только снежок, едва устлавший почернелые улицы, слегка поскрипывал под копытами лошадей.
Маргарита даже не выглядывала в окошки кареты. Внутренний взор её был прикован к одной и той же картине, что стояла перед ней: заснеженное поле, зелёный мундир с золотыми эполетами и запрокинутое к нему белое лицо Александра, треуголка валяется рядом, а прекрасные вьющиеся волосы раскинулись на снегу...
Она одёргивала себя: может быть, он не мёртв, может быть, все ошиблись и он, как его старший брат Павел, в плену? Может быть, бредёт, как и все пленные, в колонне русских под охраной наполеоновских солдат, под штыками и дулами ружей? Она мучилась неверием в те картины, что пробегали перед её мысленным взором, и хотела, и не хотела увидеть поскорей то место, где, как сказали ей, геройски погиб Александр. Всё чудилось ей, что он жив, что он не может умереть. Лишь тело его, лежащее на окровавленной земле, могло убедить её, что его нет.
И потому не смотрела она на окрестности, не видела, как мёрзнут под стылым ветром голые сучья чернеющих деревьев, как открываются под снегом проплешины чёрной земли, как взблескивают под неровной белой пеленой зелёные озими, кое-где и кое-как посеянной селянами. Не видела лугов, поникшей травы, усеянной белой крупой, укатанной стойкой дороги, только слышала стук мёрзлых комьев, бьющих в передок кареты. Но и эти стуки проходили как бы мимо её слуха.
Что-то лопотала по-французски её новая бонна Тереза Бувье, шевелил розовыми губками полуторагодовалый Николушка и склонялась к нему Стеша, закутанная в тёплые шали и суконный старый Маргаритин салоп.
В одну точку глядела Маргарита, ни на что не обращала внимания и корила себя: не уберегла Александра, столько лет шла с ним вместе, была своей в Ревельском полку, а вот уехала, увезла с собой свою любовь — и он погиб.
Лошади бежали ходко, и уже к обеду карета вкатилась в присыпанную снежком улицу-дорогу Можайска.
Кучер Василий знал, куда надо повернуть лошадей: он сидел на облучке и тогда, когда Маргарита с сыном отправлялась из полка в Москву. Тогда на короткий отдых остановились они у Авдотьи Ивановны Белосельской, вдовы полковника, имевшей в Можайске небольшой домик с тенистым садом и крохотной деревенькой, едва дававшей ей средства на пропитание. И теперь Василий направил карету к её дому.
Как ни странно, но дом, кирпичный, одноэтажный, покрытый гонтом, не пострадал совсем, хоть деревянная изгородь разобрана, и лишь редкие жерди-колья обозначали её прежнее место. Невысокое крылечко под тесовым навесом сохранилось в целости, и на него, услышав звон бубенчиков, выскочила дворня Авдотьи Ивановны, а затем выплыла и она сама, грузная низенькая старуха в едва накинутой мантилье и большой пуховой шали.
Маргарита первой сошла в нерасчищенный снег на подъездной дорожке, шагнула к Авдотье Ивановне и упала прямо на её плечо.
— Вот и привелось встретиться, — заулыбалась румяная круглая старушка, — а уж как говорили, что не свидимся!
Закипел на столе самовар, дворня разбегалась с подушками и перинами, устраивая на ночлег Стешу и Николушку, а Маргарита тихонько прошептала Авдотье Ивановне:
— Позаботьтесь о моих, а мне надо на поле Бородинское...
— Одна не смей и думать идти туда, — также тихо ответила ей Авдотья Ивановна. — Выпей чайку да и ступай в Лужецкий монастырь. Пусть монахи тебя спроводят...
— Только лошадей покормим и сразу в путь, — откликнулась Маргарита на совет полковничьей вдовы.
— Пограбили, конечно, маленько, — весело проговорила Авдотья Ивановна, — да ведь у меня и добра-то всего ничего, ушли восвояси.
Одной лишь фразой отозвалась о происшедшем — о нашествии французов, и Маргарита была благодарна старой знакомке, что не лезет с расспросами, что и о своей беде — быть под французами — сказала как, прошлогоднем дожде, и глазки её, маленькие, подслеповатые от долголетних слёз по мужу и детям, блестят лукаво.
Лужецкий монастырь, вёрстах в трёх от Можайска, был обнесён высокой кирпичной стеной, и железная и узкая калитка выдавалась лишь гнутой проволокой, объединённой с колоколом во дворе.
Нигде не было видно никого. Маргарита долго дёргала за петлю проволоки, и колокол внутри глухо отзывался густым медным звоном.
— Кто там? — послышался наконец дребезжащий старческий голос из-за калитки.
— Генеральша Тучкова! — крикнула Маргарита. — К отцу настоятелю...
— Спрошу, погодите, — ответил голос и снова надолго замолчал.
Стылый ветер поддувал под накидку, меховой капор с тёплой шалью на нём заслонял от Маргариты его порывы, а ноги в меховых козловых башмаках начали мёрзнуть, когда загремели засовы, со скрипом и скрежетом приоткрылась железная дверца и Маргарита ступила на монастырский двор.
— Отец-настоятель ждёт вас, — поклонился ей горбатый седой старик в чёрной рясе, тёплой кацавейке поверх и монашеском клобуке.
Маргарита взглянула на небо. День давно клонился к вечеру, небо было затянуто серыми непроницаемыми тучами, и она беспокоилась, успеет ли сегодня же съездить на Бородинское поле.
Седенький настоятель Лужецкого мужского монастыря принял её в просторной комнате — приёмной монастыря, скупо обставленной чёрными скамейками и увешанной тёмными ликами святых.
— Прошу пожаловать, — указал ей сухонькой рукой на скамью настоятель — невысокий старец с длинной седой бородой и золотым наперстным крестом.
Маргарита наспех помолилась перед образами и, повернувшись к настоятелю, вымолвила:
— Отец настоятель, прибегаю к вашей помощи...
Старец присел на длинную чёрную скамью и поднял на неё выцветшие голубые глаза.
— Бог всегда приходит на помощь, — глухо ответил он.
— Муж мой, — начала Маргарита, — как мне сказали, погиб на Бородинском поле. Генерал, прошёл несколько воинских кампаний, храбр и честен. Лежит без погребения. Кто, как не вы, можете помочь мне предать земле тело моего мужа.
Она встала на колени, подставляя голову под благословение. Старик с изумлением поглядел на молодую женщину.
— Разве вы не знаете, что на этом поле тысячи людей? Как сможете вы среди них найти своего мужа? — наконец заговорил он. — Погодите несколько дней, по высочайшему повелению образованы похоронные команды, они подготовят наших воинов к погребению. Тогда вы и сможете опознать мужа, если, конечно, он действительно погиб там.
— Я не могу ждать, — нетерпеливо поднялась с колен Маргарита, — семья моя в Москве, сюда, в Можайск, я приехала сегодня с маленьким сыном. Вся моя душа рвётся к делу, не могу я сидеть сложа руки и ждать чего-то. Да и кто знает, что сделают похоронные команды, смогут ли они отыскать мужа. Проявите такую милость для меня, окажите помощь...
Она снова бросилась на колени. Сложив руки перед собой, вытянув их к старику, она молитвенно глядела на него, заклиная помочь ей.
— Я не прошу вас сделать невозможное, — говорила она, — прошу вас только дать мне хоть одного сопровождающего, чтобы не бродить в потёмках одной. Поймите, святой отец, мне необходимо сегодня же, сей же час попасть туда, где погиб мой муж...
Она так молила настоятеля, что он заколебался.
— Но ведь неприятели ушли всего несколько дней назад, а тела оставались без погребения с августа, — пытался сопротивляться он мольбам Маргариты, — кто знает, что теперь там творится. Подождите, дайте похоронным командам разобраться...
Слёзы ручьём хлынули из глаз Маргариты.
— Святой отец, я не могу ждать! — сквозь рыдания кричала она. — Если вы не поможете мне, я одна поеду туда, и пусть это будет на вашей совести!
Старик сдался.
— Хорошо, — сказал он, — с вами поедет отец Иоасаф. Но надо приготовить святую воду, сделать факелы, подождите немного...
Он неслышно вышел из приёмной, а Маргарита осталась сидеть на жёсткой скамейке, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся из-за низеньких дверей.
В приёмную тихо проскользнул отец Иоасаф — высокий сутулый монах в длинной чёрной рясе и ватной кацавейке, с капюшоном на чёрной скуфейке, едва закрывающей голову. Он кивнул головой Маргарите, и она вскочила со скамейки.
К Бородинскому полю лошади подскакали уже под самый вечер. Из окрестных лесов наползали неясные сумерки, серое небо чернело с востока, а на западе ещё клубился полумрак неохотно покидающего свой пост дня.
Отец Иоасаф первым вышел из кареты, подал руку Маргарите, и она остановилась на пригорке, вглядываясь и стараясь различить поле, на котором нашёл свою гибель её дорогой Александр.
Она бывала на полях сражений, навидалась в своей короткой жизни много страшного, видела трупы убитых людей и лошадей, раненых с оторванными руками и ногами, но такого она не видела ещё никогда.
Под серым сумеречным небом расстилалось не поле, а огромное пространство, перепаханное траншеями и окопами, занятое овражками и перелесками, редкими участками пожухлой травы, едва прикрытой снегом. И на всём этом пространстве, занимающем несколько вёрст, куда только доставал взгляд, видела она брошенные, разорванные пушки, трупы лошадей, вздувшиеся и бесформенные, а самое главное — тела солдат. Чёрные, синие, красные мундиры с белыми, зелёными, красными обшлагами и воротниками, продравшиеся, истрёпанные. И лица — поднятые к небу, зарывшиеся в землю, торчащие руки и ноги, вздёрнутые сапоги, воткнутые в землю палаши. Всё это лишь слегка припорошено снегом, но лежал он пятнами, ветер то и дело вздымал тучи снежной пыли. Маргарита стояла и смотрела на это огромное мёртвое поле, засыпанное телами, и холодок ужаса заползал в её сердце.
Туча тяжёлых, разжиревших ворон снялась с поля и обсыпала чёрными комьями голые сучья перелеска, их хриплое карканье слилось со свистом ветра.
— Может, боитесь? — негромко спросил Иоасаф.
— Пойдёмте, — так же тихо ответила она, словно боялась разбудить тысячи спящих вечным сном людей.
Василий остался на дороге, плотнее завернувшись в тулуп и на самые глаза нахлобучив меховую шапку, а Маргарита и монах начали спускаться с дороги в пожухлую траву поля.
Остановившись на краю этой многовёрстной могилы, отец Иоасаф зажёг первый из смоляных факелов, захваченных в дорогу. Жёлтый и коптящий огонёк ещё больше сгустил темноту поля, и скоро уже стала видна не его огромность, а только то, что было под ногами.
А под ногами лежали тела...
Отец Иоасаф наклонял факел к самым лицам, едва видневшимся из-под снега и мёрзлой земли, и Маргарита коротко говорила:
— Не он!
Тела лежали кучами, ступать на землю было почти невозможно. Надо было выбирать местечко, чтобы поставить ногу.
Маргарита осматривала погибших. Пока шли лишь беловолосые французы, смуглые итальянцы и мертвенно-белые пруссаки. Их она оглядывала мельком и стремилась пройти всё дальше и дальше от дороги, на которой темнел короб кареты.
Сгорел дотла один факел, отец Иоасаф зажёг другой. Одной рукой он держал факел, а другой взмахивал маленьким веничком, кропя святой водой погибших. Возле небольшого овражка почти не было трупов, зато на другой его стороне они лежали вповалку, сплошной массой — различить лица не было никакой возможности.
Но Маргарита шла и шла по изрытому полю, спотыкаясь и едва не падая на ледяные тела, светил и светил отец Иоасаф в лица лежавших. Не было того, кого она искала. И они снова продолжали свой путь по этому бесконечному могильнику.
Лица многих из убитых были уже попорчены птицами и животными, но мундиры, изодранные воротники и обшлага всё ещё сохраняли свой цвет. Пока среди погибших она не увидела ни одного мундира, принадлежащего к Ревельскому полку. Она узнала бы его среди сотен других мундиров, она знала его цвет, различные отделки и опушки, все эполеты и расцветки поясов.
Ревельцев не было.
Они медленно подвигались всё ближе и ближе к середине мёртвого поля. Все раскраски мундиров были здесь, и разнообразие этих лоскутов материи позволяло Маргарите судить о том, кто здесь лёг — свои или французы.
Давно прошла полночь, небо немного высветлилось, ветер разогнал хмурые тёмные облака, и кое-где в просветах появились бледные звёзды. А они, два живых человека среди тысяч мёртвых, всё бродили и бродили по полю, выискивая только одного среди них.
Поначалу они шли кругами, оглядывая при дымном дрожащем свете факела лица лежащих по всем овражкам и густым перелескам. Круги их всё суживались, и когда на востоке начало светлеть, они уже были почти в самой середине громадного поля.
Разбитые пушки, переломанные повозки, заваленные умершими, мешали их продвижению, но оба они научились искать пути обхода и осматривали, осматривали безжизненные тела. И снова и снова роняла в мёртвую пустоту поля Маргарита одни и те же слова:
— Нет, это не он.
Давно уже потеряла она пушистую шаль, давно уже лицо отца Иоасафа покрылось мёрзлой коркой налипшего на усы и бороду льда, а они всё шли и шли по Бородинскому полю. Маргарита старалась не замечать страшных ран, оторванных рук и ног, старалась не всматриваться в зияющие утробы лошадей с торчащими голыми рёбрами, не задерживаться глазами на выклеванных лицах.
Но цветов Ревельского полка она так и не увидела и в изнеможении присела на разломанную повозку. Её меховые башмаки давно намокли, и стылая вода холодила пальцы, капор сбился набок, меховая накидка покрылась пятнами ржавой земли и грязного снега.
Силы оставили её, и она взглянула на отца Иоасафа. Он всё ещё взмахивал крохотным веничком, кропя тела святой водой, и глаза его, красные и воспалённые, тоже всматривались в погибших.
— Многие тысячи здесь, — глухо сказал он присевшей Маргарите, — и не один день потребуется.
— Простите меня, отец Иоасаф, — заплакала Маргарита, и слёзы её сразу застыли на холодном ветру маленькими круглыми комочками.
Не сговариваясь, они побрели к дороге.
— Сегодня опять пойдём, — кивнула головой Маргарита, когда отец Иоасаф взглянул на неё, высадившись у железной калитки Лужецкого монастыря. — Я заеду за вами. Спасибо вам, и простите меня.
Он ничего не ответил, лишь покачал головой: откуда в этой хрупкой молодой женщине столько сил и мужества, это бесстрашие перед лицом стольких смертей! Обычно женщины даже одного покойника боятся до дрожи...
Однако ни в этот день, ни в следующий, отец Иоасаф не дождался Маргариты. Напрасно выходил он к калитке, приготовившись ехать на кладбище без гробов, напрасно ждал генеральшу со святой водой и факелами. Когда понял, что только что-то ужасное могло случиться, он заложил в одноколку маленькую косматую лошадёнку, чудом уцелевшую в монастырской конюшне во время набега французов, и поехал по городу, разыскивая генеральшу Тучкову.
Оказалось, что Маргарита после страшной ночи, проведённой на бородинском поле, не смогла встать. Сильный жар, а потом перемежающийся озноб сотрясали всё её тело. Она не приходила в себя, в бреду всё время повторяла имя своего мужа, кричала от ужаса, перенесённого на большом могильном поле, и жуткие картины вставали в её больном воображении.
Отец Иоасаф покропил больную святой водой, пошептал над ней молитвы, проверил, как и чем лечит больную старушка Авдотья Ивановна, и удалился в надежде, что генеральша придёт в себя ещё до больших похорон всех убиенных.
На Бородинское поле уже пришли похоронные команды, в которые набрали и крестьян соседних сёл и деревень. Люди разбирали завалы трупов, зажимали носы от смрада, царящего над полем. Складывали как дрова — французов отдельно, собираясь сжечь их трупы, а для православных копали огромный ров. Под молитвы и пение монахов должны были быть погребены все павшие на этом поле.
Авдотья Ивановна хотела было известить Нарышкиных о болезни дочери, но Тереза Бувье, неотлучно сидевшая у постели Маргариты, не позволила. Она умоляла старушку не писать родителям, которые и так были в большом горе, говорила, что те сразу заберут Маргариту в Москву, а та, поправившись, снова поедет на Бородинское поле, и всё начнётся сначала.
Авдотья Ивановна понимала не всё, что говорит француженка, переспрашивала её, но Тереза старательно и медленно произносила слова, сознавая, что старая полковница давно забыла французский и теперь роется в памяти, с трудом подыскивая выражения. Но жесты, подкреплённые мимикой, отдельные слова всё же дали ей понять, как беспокоится за здоровье Маргариты сама Тереза, как вдруг дорога и бесконечно близка ей её госпожа и подруга.
А Терезе и в самом деле больше некуда было податься. Маргарита была её последней надеждой, и потому она выполняла свои обязанности сиделки и лекарки с большой любовью и заботой. Может быть, именно этой заботе и была обязана Маргарита скорым выздоровлением. Во всяком случае, уже через неделю прекратились у неё припадки ужаса, она стала чаще выходить из беспамятства, и скоро лечебные отвары трав вернули ей способность не только смотреть и разговаривать, но даже садиться в постели.
Едва оправившись от болезни, Маргарита снова приказала закладывать лошадей.
— Куда? — заартачился Василий. — Опять искать?
Очень уж не хотелось ему, чтобы Маргарита вновь бродила по большому могильнику, вглядываясь в лица убитых.
Но в полдень одного светлого дня, когда неяркое солнце высветило всю округу, искрясь на пятнах снега и любопытно заглядывая в маленькие окошки домов, к крыльцу Белосельской прискакал всадник. Это был дворовый человек Нарышкиных, привёзший большой пакет от самих господ и сказавший, что Михаил Петрович отправил его в помощь Маргарите.
Сидя в постели, Маргарита дрожащими от слабости руками вскрыла большой конверт. Из него выпало письмо Михаила Петровича — два листа, покрытые его мелким причудливым почерком, страницы с каким-то незнакомым почерком и большой лист плотной бумаги, сложенный вчетверо.
Прежде всего развернула она этот плотный лист. Какие-то значки, дороги, кресты, обозначения, к которым привыкла она во времена бывших войн. Какой-то военный план... Она пожала плечами и принялась за письмо от батюшки.
Он рассказывал, что в доме всё в порядке, уже началось строительство сгоревшего крыла, что к Москве день и ночь подъезжают и подходят люди в поисках заработков, что многие из прибывших начинают обустраиваться, а колокольный звон теперь вовсю стоит над столицей — вернулись священники, подняли колокола, церковные службы идут своим чередом. Матушка и детушки здоровы, чего желают они и Маргарите. Крайне беспокоился отец за Николеньку, расспрашивал, как она доехала, где приютилась, что надобно из тёплых вещей и скарба, но очень просил не задерживаться надолго в Можайске, а возвращаться в Москву.
И прибавлял, что генерал Коновницын, под началом которого в Бородинской битве состоял Александр Тучков, прислал вдове, то бишь Маргарите, памятное письмо с описанием подвига её мужа, а на карте Бородинского поля отметил крестом место его гибели.
Руки Маргариты сами собой опустились — исчезла последняя надежда, что муж её не был убит, чудесным образом спасся. Но она подавила рыдания и приступила к чтению большого письма генерала Коновницына — она хорошо его знала, в его дивизию входил Ревельский полк. Александр всегда говорил о генерале почтительно и по-сыновьему тепло. Старый, много воевавший генерал был умён и добр.
Генерал просил присоединить к слезам Маргариты и его слёзы — он глубоко скорбит об Александре Тучкове, хотя и гордится его славным подвигом. И написал, как погиб её муж.
Заливаясь слезами, читала Маргарита описание последнего боя Александра и сквозь слёзы как будто ясно видела всю картину.
Битва началась у деревни Семёновской с самым восходом солнца. С реки Колочи поднимался густой туман, и под его прикрытием вся масса французских войск обрушилась на левый фланг армии Багратиона. Эту часть русской обороны Наполеон счёл наиболее уязвимой и ударил в этот фланг, намереваясь развернуть свой удар колесом в сторону русского тыла, вызвать панику, раздробить оборону на отдельные единицы, а потом уничтожить их поодиночке.
Однако после семи часов непрерывных ужасающих атак и бомбардировок флеши Багратиона так и оставались в руках русских защитников, хотя потери с обеих сторон были безмерными. Русские стояли насмерть, отражая бесчисленные атаки. У деревни Семёновской, на маленькой равнинке корсиканец выставил более 45 тысяч солдат и более 400 пушек. У Багратиона же было всего 25 тысяч и не набиралось даже 300 орудий.
Но прорыв и разобщение левого крыла означало бы крушение обороны, гибель всей русской армии, и потому стояли Семёновские флеши до последнего. На выручку французам подходили всё новые и новые подкрепления — у русских же резервов не было. И тогда Коновницын послал в атаку против неприятеля Ревельский и Муромский пехотные полки под командой Александра Тучкова.
— На вас уповаем, Александр Алексеевич, ваше время, — сказал он Тучкову.
И Тучков повёл. В штыковую атаку бросились солдаты, да жёсткий шквальный огонь остановил полк. Солдаты замедлили бег и остановились вовсе — шрапнель косила ряды, они густо падали на землю. Много было среди солдат новобранцев, прибывших в полки из-за потерь под Смоленском.
Генерал Тучков позвал солдат в бой, но они припадали к земле. «Не пойдёте, один пойду!» — Он выхватил знамя у раненого знаменосца, высоко поднял над собой и побежал. Полк кинулся за ним. Сшиблись с гренадерами, опрокинули их, спасли свой левый фланг, погнали по полю до самой рощи.
Но картечь вонзилась в грудь Александра, два вражеских снаряда разорвались на этом месте. Подняло вверх тело Тучкова, разбросало мелкими кусочками...
Да, лишь он мог так погибнуть — бесстрашный, любимый солдатами, ведущий их всегда вперёд.
Она плакала и плакала, но это были уже слёзы облегчения — теперь она знала, где искать его размётанное тело. Коновницын отметил на плане Бородинского поля крестом то место, где погребла Александра под собой земля этого поля...
Сейчас она точно знала это место — в первое своё посещение она даже боялась подходить к нему — так много трупов навалено было там вперемежку — и русских, и французов. В самом жарком месте, в самом кровопролитном бою погиб её муж.
Генерал Коновницын сообщил, что император посмертно наградил Александра Тучкова за его воинский подвиг: к двум орденам Святого Георгия II-й степени и Святого Владимира III-й степени добавил он крест Святой Анны III-й степени с алмазами. Этот крест был завернут в тонкую шёлковую бумагу и укутан куском знамени Ревельского полка.
Теперь ей надо было только воздвигнуть на месте гибели мужа крест — оставить знак погребения.
Как будто придало ей сил это письмо — она вскочила постели, ещё бледная, слабая и дрожащая, и потребовала у Василия:
— Запрягай!
Как ни урезонивала её Авдотья Ивановна, как ни просила Тереза Бувье, как ни смотрела жалостливо Стеша, держа на руках Николушку, Маргарита торопливо одевалась, то и дело роняя вещи, нагибаясь за ними и выпрямляясь с сильным головокружением. Но и это не остановило её, она вышла на крыльцо, глотнула свежего воздуха, и он будто придал ей сил.
В калитку Лужецкого монастыря входили и выходили из него какие-то люди, сновали монахи в чёрных рясах и скуфейках, стояли сани с косматыми лошадёнками, крытые возки, запряжённые одной или двумя лошадьми.
— Мне бы отца Иоасафа, — робко попросила Маргарита у одного из монахов.
— Нету его, уехал на Бородино отпевать павших, — бойко ответил ей молодой монашек.
Тогда Маргарита снова пошла к настоятелю и, как он ни противился, уговорила его срочно изготовить большой деревянный крест с православной надписью: «Здесь погребён Александр Тучков».
Она дождалась, пока несколько монахов, взяв пилы и рубанки, не сделали большой, дышавший свежестью соснового леса крест, а едва он был сооружён, попросила сопровождать её к месту погребения и помчалась на Бородинское поле.
Его уже было не узнать.
Команды похоронщиков рассеялись по всему полю, собирали и свозили трупы ко рву, вырытому почти на целую версту, укладывали на краю этой большой братской могилы по цвету мундиров — всех пехотинцев вместе, всех кавалеристов — вместе.
А на другом краю поля над заснеженной равниной повис дымный шлейф — там сжигали трупы французов. Похоронить всех было просто невозможно — нужно было очистить от десятков тысяч трупов всё поле. Иначе могло быть всё — трупы не хоронили с того самого жаркого дня, когда отгремела славная Бородинская битва.
Маргарита увидела отца Иоасафа, быстро шагающего к ней через рвы и овражки.
— Отец Иоасаф, я здесь! — кричала она ему. — Не могу понять, где тут эти Семёновские флеши, — со слезами в голосе заговорила Маргарита. Он вплотную подошёл к ней. — Вот, вот, — совала она план-карту.
Отец Иоасаф быстро разобрался в карте. Он показал ей все отмеченные места, и она поняла его. А место, указанное Коновницыным, заставило его прошагать далеко от дороги, влево. Здесь ещё не успели разобрать трупы, и начавшаяся оттепель несла с этой стороны такой смрад, что у Маргариты закружилась голова. Донёсся сюда и запах горелого мяса: трупы жгли невдалеке. Она едва не упала.
— Напрасно вы так рано встали, — мягко пожурил Маргариту отец Иоасаф, и от этих слов, сказанных с ангельской добротой, ей как будто стало легче. — Молебен начнётся немного позже, — сказал он, — ещё не всех убиенных вытащили к общей могиле. Давайте вместе поищем место упокоения вашего супруга.
Они добрели до высокой равнинки, похоронщики шли впереди них и укладывали на возы почернелые, почти разложившиеся трупы.
— Здесь, — показал отец Иоасаф на самый высокий склон Семёновских флешей. — Видите? — Он развернул карту-план, долго сверял место с отмеченным на плане крестом, потом также долго ходил по склону.
Маргарита встала на взгорок, затем опустилась на колени и припала губами к мёрзлой, кое-где заснеженной земле.
— Мой дорогой Александр, — тихо сказала она, — здесь ты покоишься, здесь поставлю я крест, здесь будет место, куда приедет поклониться твой сын...
Она зарыдала, свалилась на землю, обняв её руками, и долго лежала так.
— Вставайте, — потянул её за руку отец Иоасаф, — давайте всё сделаем по нашим христианским обычаям...
Подошли похоронщики с большими лопатами, вырыли яму, а монахи принесли большой сосновый крест с надписью. Отец Иоасаф начал читать молитвы, кропил святой водой место, потом похоронщики вонзили в землю нижний конец креста и засыпали его землёй. Припала к подножию креста Маргарита, облила слезами его свежую, ещё пахнущую смолой поверхность.
Весь обряд был выполнен по всем правилам церковных канонов.
На другой же день Маргарита отправилась со всеми своими домочадцами в Москву.
Город поразил её жизнью, весёлой и шумной, беготнёй, толпами народа на пустынных прежде улицах. Уже белели кое-где тесовые крыши над всё ещё задымлёнными стенами, уже свежели новыми постройками чёрные от копоти улицы. Везде стучали топоры и визжали пилы, бегали мелкие разносчики-торговцы, громко предлагая свой немудрёный товар, у паперти уже собирались нищие и попрошайки, а голоногие мальчишки в одних опорках, в распахнутых армячишках носились по дворам, выискивая на старых пожарищах уцелевшие вещи.
Москва быстро просыпалась от спячки, охорашивалась, приводя в порядок свои разрушенные и сгоревшие жилища, отстраивая новые дома и отгораживаясь деревянными заборами от разъезженной черноты мостовых.
За поздним ужином Маргарита объявила Варваре Алексеевне и Михаилу Петровичу, что надумала поехать пока в Ломаново, пожить в нём несколько лет.
— Александр мечтал поселиться там навсегда, читать и работать в тиши, воспитывать сына именно в Ломанове, — осторожно сказала она.
— Вот так новость, — растерянно отозвалась Варвара Алексеевна. — Выманила нас в Москву, где при этой дороговизне теперь трудно прожить, а сама думает ехать куда-то в деревню? Сколько у тебя придумок в голове, что ж, нам всё время и прислушиваться к ним?
Маргарита посмотрела на мать так, как будто она была старшей в семье, а не эта старая, расплывшаяся женщина.
— Я вдова, маман, — тихо ответила она, — мне и жизнь теперь надобно строить вдовью. И сын у меня. Вот подрастёт, буду возить его на могилу отца, пусть с самого раннего детства знает, каким героем был его отец. — И вдруг зарыдала: — Если бы вы знали, как тяжело произносить это слово — был...
— Ну-ну, — растроганно отозвался отец, — делай, как знаешь, ты и всегда делала, что хотела, мы ж только тебя слушали...
— В Ломанове Александр так мечтал жить, — грустно повторила Маргарита.
— Вот что, — покашлял в кулак Михаил Петрович, — ты на мысли этой не застаивайся, жизнь идёт своим чередом... Нам вон девок поднимать надо, да и Мишу пора в Пажеский корпус определять...
— Ох, настроили планов, — заволновалась Варвара Алексеевна, — а ещё с французом война, а ещё Москва вся сгоревшая...
Михаил Петрович и Маргарита дружно улыбнулись её речам, словно бы речам несмышлёныша.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Пятинедельное стояние Наполеона в Москве было самым тяжёлым временем для Александра и Константина. Император ещё сильнее ссутулился, слух его всё более притуплялся, виски, ещё прикрытые тёмными прядями волос, всё больше белели. Константин каждодневно приходил к брату, знакомился с содержанием писем и реляций, ежеминутно поступавших к императору.
Оба они ожидали, что Наполеон, зная о малой численности армии Кутузова, начнёт дальнейшее движение вглубь страны, и со страхом распечатывали пакеты из армии. Но великий французский полководец всё медлил, и братья догадывались, почему. Наполеон ждал, что сам русский император запросит мира, признает себя побеждённым. Александр стискивал зубы, но твёрдо знал, что не будет унижен таким оборотом войны. Ему уже было известно, что к Кутузову стягиваются ополчения из ближайших губерний, что ополченцы пока раздеты и разуты, в руках у них колья вместо ружей — скоро научат этих неопытных крестьян, взятых от сохи, обращению с мушкетами и палашами, оденут, обуют и пошлют против французов.
Пожар в Москве резкой болью отозвался в сердце Александра, он лёг на такой же кожаный матрас, каким пользовался и Константин, и весь день пролежал, отвернувшись к стене. Ни жена, робко пришедшая посочувствовать ему, ни матушка, постоянно справлявшаяся о его здоровье, ни сам Константин, безотлучно находящийся у посели брата, не могли поднять императора, вызвать у него хоть слово.
А Наполеон всё ещё без толку сидел в Москве, ожидая депутации, парламентёров от Александра. Никто не шёл к нему, никто не просил мира.
Эти пять недель промедления стоили Наполеону очень дорого. Кутузовская армия под Тарутином росла не по дням, а по часам, и скоро в её составе уже насчитывалось более ста тысяч человек. Промедление Наполеона позволило командующему отрезать французов от южных плодородных земель, занять все дороги, ведущие в эти губернии.
Наполеон написал Александру письмо. Он предлагал великодушный мир, вспоминая, как они дружили после Тильзита. Сыпал любезностями. Вот тогда Александр повеселел. Он дружески улыбнулся Константину, прочёл ему всё письмо императора французов.
— Останется без ответа, — презрительно сказал он по-французски.
Наполеон всё ещё думал, что русский император пойдёт хотя бы на перемирие.
Но наступала зима, подвоза продовольствия не было, все дороги были перекрыты русскими партизанами, захватывавшими обозы, шедшие из Пруссии и Саксонии, постоянные стычки изматывали французских солдат. Наполеон негодовал. «Русские воюют не по правилам, — то и дело повторял он, — дикая страна, бесплодная, а русские — дикари, нападающие с тыла, бьющие в спину...»
Через пять недель он приказал уходить из сгоревшей Москвы, взорвать Кремль, чтобы навеки унизить русскую старую столицу. Несколько взрывов действительно прогремело, но словно бы само небо ополчилось на захватчиков — шёл мелкий нудный осенний дождичек, и запалы подмокли.
Наполеон свернул на южные дороги, у Тарутина наткнулся на боевые порядки русской армии и принуждён был вернуться на ту самую дорогу, по которой пришёл в Москву, отступать через тот же разорённый Можайск, проходить через Бородинское поле, где всё ещё лежали трупы его сорока пяти тысяч солдат, а потом идти на Смоленск, разграбленный и выморочный.
Зима наступила неожиданно рано, начались сильные морозы, ветры, бураны. Армия распадалась на глазах. Некованые лошади падали сотнями, люди так и оставались замерзшими у ночных костров, приходилось бросать обозы и пушки, награбленное в Москве добро, а крестьяне и партизаны, пользуясь ночной тьмой, добивали французов.
У Вязьмы снова вступила в действие кутузовская армия, французы были разбиты и бежали к Березине у Борисова. Только обманом удалось французам навести мост через Березину, но едва войска бросились бежать через него, как он подломился, и сотни людей оказались в грязном ледяном крошеве реки.
После вынужденного угрюмого пятинедельного молчания Александр словно бы ожил. Кутузов посылал реляции об утомлении армии, о необходимом отдыхе — Александр потребовал быстрого продвижения вслед за французами.
Он знал, что одна лишь переправа через Березину стоила Наполеону половины остатков его некогда могучей, шестисоттысячной армии. Ныне в ней оставалось едва ли сто тысяч, и те были дезорганизованы поспешным, голодным и трудным отступлением. Теперь уже русская армия по численности превосходила наполеоновскую, теперь уже она могла гнать и гнать на запад пришельцев.
Александр решил сам выехать к армии. Кутузовская позиция сейчас не устраивала императора. Старый фельдмаршал считал, что надо только прогнать француза за пределы Российской империи. Александр думал лишь о том, чтобы уничтожить Наполеона до конца, иначе неминуемо возродится из пепла этот феникс и начнёт опять покорять Европу.
Прежде Александра в поход со своей гвардией выступил из Петербурга великий князь Константин. В Вильне, уже очищенной от неприятельской армии, встретился он с Кутузовым. Здесь, в Вильне, хранились огромные запасы амуниции, и Константин почтительно просил фельдмаршала позволить ему отобрать самое необходимое для нижних чинов гвардейского корпуса, которым он командовал.
Константин ни о чём больше не говорил с Кутузовым, не касался планов дальнейшего ведения войны, не навязывался в советники — он только хотел одеть солдат и низших офицеров по форме, чтобы суровое зимнее время не было для них ещё более жестоким из-за сильных морозов. Кутузов ласково кивал головой: он любил солдат, и потому забота об их нуждах возбуждала в нём любовь и уважение к такому командиру.
Они долго беседовали, Константин старательно уклонялся от всякого упоминания о ходе кампании, он был шефом и командиром резервного корпуса гвардии, и его интересовали теперь лишь самые насущные нужды его частей.
Через несколько дней в Вильну приехал сам император Александр.
Ему уже было известно, что у местечка Сморгони, оглядев свою разношёрстную, одетую кто во что горазд — от бабьих платков до меховых крестьянских кацавеек — разболтанную армию, в которой осталось едва ли десять тысяч солдат, Наполеон бросил её и уехал в Париж собирать новое воинство.
Армия, с которой он пришёл в Россию, шестисоттысячная, собранная со всех стран Европы, перестала существовать...
1 января 1813 года русские полки перешли границу — переправились через Неман. В первой западной армии, которой командовал Барклай де Толли, состояли и гвардейские полки, над которыми начальствовал великий князь Константин. Ни на одну минуту он не допускал, чтобы солдаты и офицеры были расхлябанными, строго следил за ровностью строя и быстрым выполнением команд, за экипировкой. Гвардейцы обязаны были задавать тон всей армии, и малейшая небрежность в их амуниции вызвала бы нарекания в адрес отборных гвардейских полков, славившихся своей отвагой и отличным видом. Поход не поход, мороз не мороз, а кивера офицеров должны быть вздёрнуты высоко, палаши приторочены к поясам аккуратно и красиво, а все мундиры не имели ни единого пятнышка.
Константин стоял на высоком взгорке впереди блестящей свиты своих адъютантов и зорко смотрел, как проходят перед ним его любимые конные гвардейцы. Лошади — морда в морду, ни одна не выдаётся перед другой, рядочки ровненькие, словно по линейке, кивера задорно откинуты на затылок, колышутся цветные султаны над головами, белые мундиры сверкают так, что глазам больно.
И вдруг перед Кавалергардским полком Константин увидел полковника в высокой медвежьей шапке. Как, теперь, когда он отдал приказ ни в чём не отступать от введённой формы, так грубо нарушить его?
Ярость заволокла глаза, словно туманом. Руки дёрнули повод, лошадь стремительно сорвалась с места и мгновенно подскочила к коню полковника.
Рука Константина грубо протянулась к голове полковника, резко сдёрнула мохнатую шапку. Голый череп со старыми рубцами от ран обнажился под ней. Константин бросил шапку к ногам лошади, стараясь наступить на неё копытом коня, и пронзительно закричал, ничего не слыша из-за подступившей к самому горлу ярости:
— Как ты посмел нарушить мой приказ? Не для тебя писан? Разжалую, сгною, выгоню, стервец ты этакий!
Полковник стоял перед Константином бледный, с дрожащими от гнева и ненависти губами, сдерживая коня сразу закоченевшими пальцами.
— Прошу ваше императорское высочество уволить меня в отставку! — громко отозвался он на брань Константина.
— Ты неё ещё и в отставку! — Пена пузырилась на губах Константина, глаза, и так светло-голубые, как будто побелели. — Да я тебя...
Он сорвал с плеча полковника золотой эполет, бросил его на снег.
— Ваше императорское высочество, — подскакал к Константину один из адъютантов, — вы забыли, уже опаздываете, государь ждёт вас...
Константин непонимающе оглянулся на адъютанта — белое лицо, пушистые чёрные усы, даже не узнал... Адъютант шпорил коня, бледнея под взглядом великого князя.
— Поспешите, ваше императорское высочество, — молил он, — государь вас ждёт...
Константин повернул коня и рысью двинулся в сторону. Опередив полки, всё ещё медленно проходившие в марше, он стремительно понёсся к предместью Вильны. Уже подъезжая к самой заставе, обернулся к адъютанту.
— Посылал государь?
Тот смущённо наклонил голову почти к самой луке седла.
— Простите, ваше императорское высочество...
Всю ярость Константина как будто ветром унесло. Он всё смотрел в лицо адъютанта.
— Герой Аустерлица, ваше императорское высочество, голова от ран болит, видели сами, какие шрамы — палашами.
— Оттого и шапку надел — нетерпимо, — подал голос кто-то из свиты.
Константин отвернул лицо от говорившего. Жаль, что не знал, но головная боль — это не повод нарушать приказ. Он всё ещё возмущался таким грубым нарушением.
Главная квартира, где располагался и Константин, находилась в большом мрачном старинном замке. Великий князь быстро поднялся в свои покои, велел затопить все камины и встал перед огнём, согревая озябшие руки и затёкшую спину.
Вечером ему принесли целый ворох бумаг.
Разные почерки, но везде одно и то же — прошение об увольнении от службы, прошение об отставке. И все от офицеров Кавалергардского полка. Все высшие офицеры вдруг потребовали отставки.
Что за чушь. Идёт война, какая может быть отставка? Что это, бунт? Но спокойный огонь в камине словно согревал его душу. Языки пламени лизали толстые поленья, смола медленно кипела, занимаясь синими струйками.
«И чего меня понесло так?» — вдруг подумалось Константину. Давненько не бывало с ним этих припадков ярости, которыми он отличался с самого детства. Вспоминалось, как заходился от крика отец, как искажалось его лицо, наливаясь сине-багровой краской, как кривился рот, и ни следа не оставалось от его обычной ласковости и доброй улыбки. «Ия таков же, — горько посетовал Константин, — отец передал мне не самые лучшие свои свойства».
Припоминались многие случаи из жизни, когда ярость душила его, делала вовсе не человеком. Потом, отойдя, и сам не понимал, что вызывало в нём эту дикую неудержимую волну: зачем надо было кричать из-за пустяков дико и пронзительно, до пены на губах, скапливавшейся в уголках рта белыми полосами?
Если бы кто-нибудь когда-нибудь показал ему его лицо во время этих припадков, он не узнал бы себя. Может быть, и его лицо искажалось так же, как и у отца, и он становился в такие минуты отвратительным, безобразным, ужасным?
На следующей днёвке Константин назначил смотр Кавалергардскому полку. Оглядел притихшие ряды, выстроившиеся в боевом каре, лошадей, замерших в строю, белоснежные мундиры с золотыми аксельбантами и эполетами в бахроме.
Полковника не было.
Константин подъехал ближе к строю и громим голосом сказал, ещё раз окинув знакомую ему и давно милую картину красивого строя:
— В прошлый раз, на походе, я проявил невеликодушие, оскорбил и унизил полковника, вашего командира. Перед всеми вами приношу ему мои почтительные извинения:
Он передохнул немного, потряс зажатой в руке пачкой прошений:
— Офицеры полка просят отставки. Я не могу её принять: война, марш, поход, — и потому просьбы офицеров об отставке удовлетворены быть не могут. Но я сознаю себя виноватым, удостоверился, что полковник нарушил форму по вполне уважительной причине — головной боли. Потому я прошу извинения у него и у всех других офицеров, — повторил Константин.
Громкое «ура» прокатилось по рядам. Константин поднял руку, требуя тишины.
— А если кто-то этим недоволен, я готов дать личное удовлетворение...
И снова громкое «ура», и приветствие великому князю.
Из строя вдруг выскочила лошадь, на которой сидел молодой бравый кавалергард. Срывающимся голосом крикнул он, чтобы великий князь как следует расслышал его слова:
— Ваше высочество изволили сейчас предложить личное удовлетворение! Позвольте же мне воспользоваться такой честью...
Константин с улыбкой посмотрел на молоденького, безусого ещё кавалергарда — он, пожалуй, знал его как отчаянного рубаку, героя прошедшей кампании, заслужившего уже и благоволение Александра, и орден в алмазах. Это был Михаил Лунин, о котором ходили легенды: храбр, порывист, гуляка и озорник.
— Ну, брат, для этого ты ещё слишком молод, — улыбаясь, ответил Константин.
Он долго не забывал этого кавалергарда и потом, немалое время спустя, взял его к себе адъютантом...
Конфликт был исчерпан, полковник вышел к фронту[25], Константин сам надел на него эполеты и расцеловал его, прося забыть прошлое.
Нескончаемо кричали кавалергарды «ура» Константину, великодушно забывая его проступок и нелепую ярость...
Михаил Илларионович Кутузов ещё медлил догонять французские войска, перешедшие Неман, бросившие пределы России. Он несколько смягчал итоги Отечественной войны, донося императору в своих реляциях: «Наполеон вошёл с 480 тысячами, а вывел около 30 тысяч, оставив не менее 150 тысяч пленных и 850 пушек...»
Уже перед самым Рождеством Кутузов поздравил все русские войска с изгнанием неприятеля из пределов России.
Александр ещё прежде, не въезжая в Вильну, писал Кутузову: «С нетерпением ожидаю я свидания в Вами, дабы изъявить Вам лично, сколь новые заслуги, оказанные Вами Отечеству и, можно сказать, Европе целой, усилили во мне уважение, которое всегда к Вам имел. Пребываю навсегда к Вам доброжелательным. Александр...»
Но Константин знал, что, настаивая на необязательности торжеств, сопутствующих приезду императора в армию, отправляя благодарственные письма Кутузову, Александр, в сущности, ехал, чтобы заменить старого фельдмаршала другим человеком. Он так и не простил Кутузову сдачи Москвы, не простил взрыва Наполеоном Кремлёвского дворца, Грановитой палаты и колокольни Иван Великий. Конечно, это не были разрушения, которые нельзя было восстановить, тонны пороха были извлечены казаками, ворвавшимися в Москву накануне ухода французов, дождь подмочил и фитили, и этот порох не подействовал.
Впрочем, и сам Кутузов всё отлично понимал. Только один он мог сдать Москву, взять на себя тяжёлый груз ответственности. Александр или любой другой главнокомандующий положил бы под Москвой всю армию, а потом, позволив Наполеону войти в столицу, запросил бы позорного мира. Но теперь уже не было времени для раздумий и размышлений — что сделано, то сделано.
Старый маршал вдруг стал хворать и хиреть, его то и дело одолевала слабость, и он знал, что дело его кончено и ему остаётся лишь уйти на вечный покой. Он тихо скончался в городке Бунцлау, ведая о намерении императора убрать его с поста главнокомандующего, понимая, что ничем не может помешать этому. Последний суворовский полководец неслышно сошёл с исторической сцены, завершив своё предназначение...
План войны был разработан самим Александром, и по этому плану Константин впереди своих войск вступил сначала в Силезию, а потом в Саксонию.
Однако у Лютцена союзники дрогнули перед Наполеоном. 20 тысяч было потеряно в этой битве. Но Александр держался твёрдо и уверенно, и граф Коленкур, прибывший от Наполеона с предложением начать мирные переговоры, не был даже допущен к главной квартире русского императора.
Ещё через месяц союзникам пришлось убедиться в силе Наполеона. В битве под Бауденом армия Барклая де Толли столкнулась с яростным натиском наполеоновского маршала Нея.
Самое непосредственное участие принимал в этой тяжелейшей битве Константин. Его резервные части подверглись неистовому нападению французских кирасир. А едва отступив для выбора наиболее удобной позиции, гвардия подверглась натиску самого Наполеона.
Константин в этой битве, кончившейся плачевно для союзников, тем не менее показал, что он храбрый и отчаянный воин, а его распоряжения носили властный и разумный характер. Не выдержали атак пруссаки, отошли, и гвардия Константина, оказавшаяся в одиночестве, также вынуждена была перебраться обратно за Эльбу, чтобы не остаться растерзанной и уничтоженной.
Во всех дальнейших сражениях этой войны резервные, отборные полки великого князя Константина бросались на выручку в самые напряжённые моменты, и не раз именно это вмешательство решало исход битвы. Свежие силы гвардейских частей запирали противника, сминали его и добивались побед.
Константин неоднократно награждался орденами с алмазами и шпагами с надписью «За храбрость».
Наполеон пробовал завязать мирные переговоры, потому что теперь ввёл в действие всю свою армию — у него не оставалось больше резервов. Он уже соглашался на всё — отдать Варшавское герцогство, ганзейские города, Италию, Испанию.
Австрийский император Франц сильно склонялся к принятию этих предложений, но Александр непоколебимо стоял за продолжение сражения. Он убедил и прусского короля Фридриха-Вильгельма. Наполеон не получил даже ответа на свои предложения. Очень скоро вся Германия была очищена от французских войск.
Русский император под градом пуль переправился через реку Луару, пронаблюдав всё сражение у Ла-Ротьера. Здесь, в Труа, его посетила депутация французских аристократов, выразившая желание восстановить на престоле Франции короля Людовика Восемнадцатого. Язвительно улыбнувшись, Александр ответил монархистам, что прежде надо уничтожить Наполеона.
В сражении при Бриенне, одном из самых кровопролитных в этой войне, Константин не принимал участия. Его резерв стоял в шестнадцати вёрстах от поля битвы.
Но в следующей битве — при Шер-Шампенуазе — он не только был задействован со всеми своими резервными войсками, но и показал пример личного подвига, храбрости и геройства.
Французы, теснимые с центра, стали отступать на Конантре. Тогда Константин обошёл овраг с левого фланга и стремительно ударил по кирасирам Наполеона.
В белом мундире, на белом коне, размахивая алмазной шпагой, летел он на них впереди своих конников. Не ожидавшие такого удара французы растерялись, бежали, и вслед им мчалась лава двух гвардейских полков, вовсе не превышавших численностью неприятеля. Ни один кирасир не ушёл, все остались на поле боя либо были захвачены в плен. Константину удалось захватить и обозы, и артиллерию противника.
Все историки позже отмечали эту атаку как одну из самых блистательных в истории ведения наполеоновских войн. Руководил ею великий князь Константин.
К концу марта союзная армия вышла к Парижу.
Французы ещё сопротивлялись. Наполеон появлялся то в одном, то в другом месте, нападая исподтишка на союзные войска. Но силы его были уже настолько истощены, что их хватало лишь на небольшие и не слишком тревожащие союзников вылазки.
Теперь предстоял штурм Парижа. Александр стоял невдалеке от высот, где расположилось всё командование союзников. Рядом находился Константин на своём белом коне. Оба были в белых мундирах, с золотыми эполетами, с перевязями через плечо.
Они переглянулись.
— Вот и Париж, — тихо сказал брату император.
— Ты добился, — также тихо ответил ему Константин. — История этого не забудет.
— Бог с ней, с историей, — улыбнулся Александр. — Мы отомстили Бонапарту за Москву. Но он подорвал Кремль, а мы не станем разрушать этот красивый город...
Константин с удивлением глядел на Александра.
— Мы не варвары, чтобы превращать в развалины такие прекрасные здания, средоточие культуры Европы...
К Александру подъехал полковник Орлов.
— Вы поедете парламентёром в Париж, — сказал ему Александр своим немного глуховатым голосом, — предложите войскам уйти из Парижа без боя, чтобы не бить по нему пушками. И нам, и всей Европе надобно сохранить этот город для Франции и для всего мира...
Полковник также с удивлением смотрел на Александра: небось Наполеон не задумывался над тем, чтобы сохранить всю красоту Москвы.
Ранним утром, едва Александр встал с постели и готовился к утреннему туалету, к нему явилась депутация парижан. Беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне заставили их прийти к самому влиятельному и могущественному монарху. Александр принял их очень ласково.
— Мы ведём войну не против Франции, а против Наполеона, — несколько раз повторил он во время аудиенции.
Но и Наполеон не оставил надежды, что сумеет заключить наконец мир. Всё тот же неистребимый граф Коленкур приехал в ставку Александра. На этот раз Александр принял посла, но всё также ласково и твёрдо ответил, что уже слишком поздно, союзники не будут больше вести переговоры с Наполеоном.
— Единственный способ для Наполеона остановить войну, сохранить Францию — отречение от престола... — добавил он.
На другой день Константин, сидя на коне, въехал в Париж рядом с братом.
Пышная свита, гвардейские отобранные полки Константина сопровождали въезд российского императора в столицу Франции. Как-то даже потерялись на этом фоне и фельдмаршал Шварценберг, и другие монархи, толпящиеся позади Александра.
Это был день триумфа Александра, и Константин то и дело вглядывался в строгое, но освещённое внутренней радостью лицо брата и гордился им. Испытывал гордость от того, что он русский, что русские войска идут впереди всех союзников и что его конные гвардейцы сопровождают императора при торжественном вступлении в столицу Франции.
Война закончилась. Париж приветствовал победителей, но теперь уже Александру предстояло решить судьбу послевоенной Франции. Вместе с Александром в доме Талейрана Константин присутствовал на совещании, где сразу был поднят разговор об устройстве Франции.
За большим круглым столом сидели главы государств, и Александр объявил, что готов признать во главе Франции кого угодно, если сами французы будут готовы объявить об этом. Как ни странно, представитель побеждённой страны изворотливый хитрый Талейран вёл себя так, как будто он победил и ему диктовать условия мира. Он заявил, что только вернувшиеся к престолу Франции Бурбоны способны будут поддерживать и упрочивать мир в Европе.
С ним сразу же согласились прусский король Фридрих-Вильгельм, к которому Александр питал самую нежную дружбу, и австрийский главнокомандующий Шварценберг. Они стали настойчиво убеждать Александра последовать совету Талейрана.
Талейран созвал Сенат. На его заседании было решено создать Временное правительство, и уже на следующий день Сенат объявил о низложении Наполеона. И опять Коленкур приехал к Александру всё с теми же предложениями от Наполеона. Император принял его.
— Я не питаю никакой ненависти к Наполеону, — сказал он послу, — он несчастен, и этого довольно, чтобы я позабыл зло, сделанное им России. Но Франция и Европа имеют нужду в мире и не могут пользоваться им при Наполеоне. Все французские пленные будут нами отпущены, а Наполеон пусть выскажет свои пожелания лишь для себя лично...
— На что же может теперь рассчитывать император Наполеон? — спросил Коленкур.
— Со своей стороны я готов предложить ему в собственность остров Эльбу, — сообщил русский император.
Коленкур поехал с этим ответом к войскам Наполеона.
Французские войска раскололись. Корпус маршала Мормона перешёл на сторону Временного правительства и прибыл в Париж.
Судьба Наполеона была решена. 25 марта он подписал своё отречение от престола Франции. Это так подорвало его нравственное здоровье, что он решился на самоубийство. Но попытка закончилась неудачей, и на следующий день Наполеон подписал трактат о перемирии.
Людовик Восемнадцатый, которому Александр вернул утраченную корону, встретил русского императора в Компьене, но так, что надолго отбил у него охоту видеться с французским королём. Надменно и холодно разговаривал он со своим спасителем.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Они сидели друг против друга и молчали.
Константин всё оглядывал сводчатую залу, где были развешаны по стенам многочисленные портреты предков, едва ли не с тринадцатого века. Потемневшие от времени, они являли то лик прекрасной женщины в роскошном уборе, то задубелое лицо старого вояки-рыцаря, то холодно-высокомерного арийца с белым надменным лицом, утопавшим в старинном воротнике, то совсем юное личико какой-то девушки в розовато-зелёных тонах, то седые букли старой дамы с гордо посаженной головой и живым взглядом орлиных глаз.
Константин как будто терялся под взглядами этих многочисленных предков Анны Фёдоровны, ёжился словно бы от холода, хотя уже наступило лето и яркая зелень затягивала холодное бесснежье зимы.
Но кроме портретов предков каменные стены залы не могли больше ничего явить взору постороннего посетителя. В этом мрачном старинном замке и жизнь, наверное, была мрачна и безысходна. Константин переводил взгляд на Анну Фёдоровну — изучал её постаревшее лицо так, как изучал бы любой старый портрет из висевших на стенах этой низкой тёмной залы.
Впрочем, она постарела не слишком. Её белое лицо несколько пожелтело, карие живые глаза словно бы заволокло какой-то пеленой, и они не сверкали так живо, как это было в первые годы их совместной жизни. Узкие губы ещё более сузили рот, и складки вокруг них говорили о возрасте, но пышная копна её волос была высоко зачёсана и открывала бледный высокий лоб, гладкий и будто выточенный из слоновой кости. Узорные костяные гребни украшали её причёску, а на слегка открытой шее, в узеньком декольте красовались бриллиантовые подвески, подаренные ей ещё во время её помолвки с великим князем тогда, в 1796 году, когда она впервые приехала в Петербург, чтоб понравиться Екатерине Великой и выйти замуж за одного из её внуков.
Тогда ей было всего пятнадцать лет, она выглядела угловатым подростком, и Константин вовсе не пленился её формами. Теперь это была женщина уже слегка увядшая, её тридцать с лишним лет выдавали её возраст, и Константин с любопытством, хоть и тщательно скрываемым, разглядывал свою жену. Они не виделись больше десяти лет.
Константин подумал не без горечи: она получает сто тысяч в год, полновесные золотые червонцы из русского царского дома, — могла бы и одеваться соответственно.
Но она держала себя так, словно была королевой, и принимала его, великого князя, наследника царского престола великой державы, своего мужа, с высокомерием и холодной любезностью своего титула.
Они молчали, не зная, что сказать друг другу.
Время тоже не пощадило Константина. Он несколько расплылся, хоть и был ещё строен и имел могучую мускулистую фигуру, но его короткие густые кустистые брови, сходящиеся на переносье, хмуро прикрывали голубые, слегка выцветшие глаза, а маленький носик терялся среди круглых румяных щёк, окаймлённых небольшими вьющимися бачками.
Она смотрела на него и думала, зачем он пожаловал в Кобург? Ей так спокойно здесь живётся, она проводит время в кругу своих родителей, своего маленького штата придворных дам, она, в сущности, содержит этот замок на русские деньги, и если иссякнет этот золотой источник, родители её будут прозябать в полной нищете.
Её сёстры вышли замуж за каких-то незначительных немецких баронов, братья разбрелись по свету, служа в разных армиях. Один её брат даже воевал под знамёнами России рядом с Константином, и потому Юлиана-Ульрика знала всю подноготную о похождениях великого князя. Брат писал ей часто и таким образом, что она понимала всё между строк: перлюстрация была в большой моде у русских...
Она знала, что у госпожи Фридерикс, любовницы Константина, родился от него сын и ему уже три года, что Константин содержит свою любовницу в большой роскоши, что тем не менее у него много связей с другими блестящими женщинами. Он вёл рассеянную приятную жизнь в перерывах между военными кампаниями.
Но она знала также, как бесконечно храбр был её муж, как кидался он в самые опасные места сражений, не щадил своей жизни, и ордена, сверкавшие сейчас на его груди, доказывали это.
— Как тебе живётся, Анна? — тихим, очень проникновенным голосом спросил Константин.
Он хотел хоть немного утеплить атмосферу любезно-холодного приёма, взаимных и необязательных приветствий, внести в их отношения капельку близости и тепла.
Она вздрогнула — уже более десяти лет никто не называл так её здесь. В Кобурге она опять была Юлианой, Ульрикой, она почти забыла своё русское имя, хотя и не перешла открыто в свою католическую веру. Да и русский она подзабыла, несмотря на то, что в первые годы в Петербурге старательно изучала его и научилась понимать самые тонкие оттенки фраз.
И она ответила по-немецки:
— Благодарю вас, хорошо...
Константин тоже знал немецкий, но его всегдашняя лень не давала ему возможности так же хорошо его выучить, как греческий, на котором он разговаривал с малолетства, или французский, на котором он болтал, как истинный парижанин. И хотя его мать, императрица Мария Фёдоровна, была немкой и до конца своих дней не научилась без акцента изъясняться по-русски, он тем не менее коверкал и ломал немецкую речь, так и не поняв её красоты и звучности.
Он спросил по-русски, она ответила по-немецки. Они говорили на разных языках.
И снова он сказал по-русски:
— Я приехал за тобой...
Она высоко подняла тёмные и бархатистые брови, в её карих глазах блеснули удивление и любопытство, но она притушила этот блеск и ответила по-немецки, всё также холодно:
— Едва ли это возможно...
Её любезно-вежливый тон, не допускавший ни малейшего тепла и близости, начинал раздражать его, гнев уже поднимался в его груди тугим комком, но он подавил это чувство, искал и всё не мог найти слова, которые растопили бы корку этой ледяной вежливости.
— Я получил назначение, — заговорил он тоже по-немецки, ожидая, что этот язык, возможно, станет ей ближе. — Мне необходимо создать семью, мне необходимо... — Он споткнулся, подбирая слова, и перешёл на русский: — Я хочу жить своим домом, иметь законных детей, которых я мог бы назвать своими наследниками.
Она взглянула на него удивлённо. Если уж у них не было детей тогда, в самом раннем периоде их брака, то о каких детях может идти разговор теперь, в её возрасте, когда она давно забыла, что такое мужчина и близкие отношения между полами?
Но опять её удивление скрылось под маской ледяной любезности. Она слушала его не прерывая, стараясь доискаться причин такой настойчивости.
— Но ведь однажды вы уже пытались склонить меня к разводу, — внезапно напомнила она.
Константин осёкся, и его румяные щёки залились багровой краской.
— Да, я хотел жениться, — преодолев своё смущение, заговорил он. — Мне надоело мотаться между многими женщинами. Мне встретилась прелестная девушка. Но матушка и брат не позволили, и я очень жалею, что не настоял, скоро сдался.
Он говорил горячо и искренне, стараясь убедить жену в своей правдивости и прямоте. И услышал ответ, холодный и острый, как ледяной душ, который он всегда принимал по утрам.
— Вы можете получить развод, когда вам будет угодно...
Все мысли, все слова, с которыми он ехал в Кобург, сразу рассеялись, ушли. Он тоже замолчал.
— Бывшая жена лишь имеет возможность получать всё то же пособие, которое теперь вы мне выплачиваете.
Она строго посмотрела на него, и он понял, что только это имеет для неё значение.
— А разве тебе не хочется иметь свой дом, свою семью, обзавестись кучей детей и внуков? Разве устраивает тебя это одинокое существование? Я же вижу, что тебе здесь скучно, что тебе тоже необходим воздух. Разве старые родители и их болезни — это всё, что должна иметь женщина в таком возрасте, как наш?
Он горячо убеждал её, но она насмешливо взглянула на него.
— Мы слишком разные люди. — Анна несколько отошла от любезно-холодного тона, и в голосе её зазвучала глубокая печаль. — Мы так различны, потому и жизнь наша не сложилась. И никогда не сложится!..
— Жаль, я хотел, чтобы ты была счастливее, да и я тоже... Нам уже не пятнадцать лет, мы многое испытали. Может быть, всё-таки попробуем начать всё сначала?
Она молча покачала головой.
— Значит, нет? — снова спросил он, желая поставить все точки.
— Значит нет, — как эхо, откликнулась она.
— Что ж, видно, сама судьба мешает мне...
Вошли герцог с герцогиней, любезности начались снова, и, как ни отказывался Константин, ему пришлось остаться пообедать в старинном мрачном кобургском замке.
После обеда он сел в давно поджидавшую его карету, гвардейцы сопровождения окружили её, гикнул сидевший на облучке кучер, Константин откинулся на жёсткие кожаные подушки и принялся мысленно просматривать все картины, только что прошедшие перед ним.
Нет, эта чужая холодная женщина в старомодном платье была ему вовсе не нужна, он не сумел бы наладить с ней свой домашний очаг, хоть и страстно хотел этого. Хотел, потому что теперь он был властен, теперь он получил новое назначение...
И он отдался воспоминаниям о том, как это произошло, каким образом он становился главнокомандующим русской и польской армиями в Варшаве. Фактически главой польского государства.
Эта страна, лежащая между Востоком и Западом, всегда была камнем преткновения. Трижды делили её имеющие силу и власть державы — трижды разделы Польши сотрясали всё польское общество от верха до низа.
Наполеон, готовясь к войне с Россией, всё ещё заигрывал с Александром, предлагая ему поделить эту страну на две части: западную — ему, властелину западного мира, восточную — Александру, властелину восточного мира.
Оказывая покровительство полякам, Наполеон восстановил под властью короля Саксонского герцогство Варшавское, да ещё прибавил к нему несколько областей, ранее отошедших к Австрии при прежних разделах Польши.
Александр обеспокоился такими действиями своего союзника, французского императора, и потребовал подписания акта, который удостоверил бы невозможность создания Польского королевства и спокойное обладание Россией областями, отошедшими к ней по разделам Польши.
В 1809 году заключена была в Петербурге конвенция между Россией и Францией, главными пунктами которой стали:
1. Королевство Польское никогда не будет восстановлено.
2. Имя Польши не будет присвоено никакой из бывших её областей и изглажено будет из всех государственных бумаг.
3. Ордена, существовавшие в Польше, навсегда будут уничтожены.
4. Русские подданные из возвращённых от Польши губерний не будут приниматься на службу в герцогство Варшавское.
5. Герцогство это не будет увеличено областями, ранее принадлежавшими Польше.
6. Россия и герцогство Варшавское не будут иметь общих подданных.
Однако Наполеон захватил Польшу, забрал в полном составе польские войска в свою общую армию, расположил впереди своих солдат и пошёл на Москву. Парижский трактат и отречение Наполеона поставили перед польской армией вопрос: что делать, как быть дальше?
Едва Париж был взят, вождь польских войск генерал Домбровский послал к Александру двух своих депутатов — генерала Сокольницкого и полковника Шимановского. Забыто было то, с какой жестокостью расправлялись поляки с жителями Москвы, что они отличались наибольшей боевитостью в войсках Наполеона — резали и жгли русских с такой ненавистью, что у коренных французов лишь округлялись глаза.
Константин вспоминал бледное и напряжённо-спокойное лицо брата, когда ему доложили о приходе двух польских парламентёров.
Обычная блестящая свита окружала Александра: рядом с ним стоял он сам, Константин, чуть подальше — князь Адам Чарторыйский, ещё дальше — князь Пётр. Михайлович Волконский, бессменный флигель-адъютант русского императора и самый доверенный его человек, за ними сгрудились граф Ожеровский, флигель-адъютант Брозин, а впереди этой группы стоял сильно выдвинувшийся в последнее время граф Алексей Андреевич Аракчеев.
Сильно волнуясь перед столькими блестящими представителями победившей державы, генерал Сокольницкий изложил вопросы, от решения которых зависело всё войско польское, ожидания поляков, воевавших в составе армии Наполеона.
Александр долго молчал, рассматривая близорукими глазами военную обмундировку поляков — красивые красные кунтуши[26], их осанку и выправку.
Когда он начал свою речь, оба поляка вздрогнули от чувства радости и признательности к русскому императору. Александр убедительно сказал им, что вовсе не возражает против желания поляков вернуться на родину, и сделать это им, конечно же, лучше всего сомкнутым строем и военным маршем, а не толпой. Даже оружие можно будет взять с собой польским войскам.
Поляки не ожидали такого.
Сомкнутые строи полков, барабаны и знамёна — словно и не было войны с русскими и не участвовали поляки в резне и пожарах в Москве.
Но Александр предупредил, что сопровождать польские легионы станут русские полки, что пойдут они вместе, а уж в самом герцогстве Варшавском воинам-полякам предоставят выбор — оставаться на службе или уходить на покой, в отставку.
И тут Александр прибавил такое, от чего стеснило в груди у генерала Сокольницкого: Александр выразил желание восстановить царство Польское под опекой его, русского императора, на тот манер, когда Габсбурги, австрийские императоры, правили Венгрией. Оба войска, и русское, и польское, будут стоять в Варшаве, исправно нести службу. В конце этой речи Александр сказал:
— А главнокомандующим русскими и польскими войсками в Варшаве назначается мой брат.
Не ожидал этого и Константин — он сразу же вспыхнул и слегка подвинулся к брату, словно ждал немедленных распоряжений.
— Сборный пункт будет в Познани, — добавил Александр и отпустил депутатов.
Константин не доискивался причин, по которым его брат так круто изменил своё отношение к полякам, ему было достаточно того, что он станет главнокомандующим, и он со всей тщательностью и дотошностью готовился к новому назначению. Уж он постарается, чтобы польская армия, как и русская армия в Варшаве, полностью соответствовала своему званию.
Мысли снова вернулись к женщине, которая волей судьбы и его царственной бабки стала его женой. Как проигрывала она в сравнении с Жозефиной Фридерикс!
Эта маленькая тоненькая черноглазая брюнетка с пышными иссиня-чёрными кудрявыми волосами очаровала его с первого же вечера и едва ли не в первый вечер отдалась ему.
Константину и не приходило в голову привязываться к ней по-настоящему, но через пару месяцев она, заливаясь слезами, сообщила ему, что ждёт ребёнка. Он так и подскочил тогда. Ему в его браке, лишённом детей, казалось, что никогда не станет он отцом, никогда не появится у него сын.
Он всё ещё вздыхал по гибкой, как тростинка, высокой белокурой голубоглазой Жанетте Четвертинской — синеокой, как он её называл. Как он жалел, что не смог на ней жениться! Мало того, что она не могла по роду своему сравниться с царским родом, так ещё и брата Александра угораздило влюбиться в её сестру и сделать её своей фавориткой.
Мария Антоновна Нарышкина, родная сестра Жанетты, принесла Александру дочку, очаровательную девочку, которую тот любил со всею страстью отца, имеющего единственного ребёнка.
И вот, пожалуйста, Жозефина сообщила, что и Константин будет отцом.
Он ждал родов с любопытством и надеждой, и когда ему сказали, что у него появился сын, Константин решил для себя, что уже никогда не разлучится с его матерью.
Да, пожалуй, даже хорошо, что Анна Фёдоровна отказалась ехать с ним и обосновываться в Варшаве. Теперь Жозефина поселится в его дворце, и Павел, его единственный сын, всегда будет на глазах у отца.
Петербург встретил великого князя так, как будто это он выиграл все сражения у Наполеона, заставил корсиканца отречься от престола и решал теперь судьбы Европы. Обласканный матерью, захваленный всеми придворными льстецами, Константин был счастлив, и история с отказом Анны Фёдоровны отступила куда-то в тень.
Но после праздника, сопровождавшегося фейерверком, пушечными залпами, модным спектаклем, он нашёл минуту, чтобы рассказать матери о своём посещении Кобурга и о том, как униженно просил свою жену вернуться в Россию.
Мария Фёдоровна внимательно посмотрела на своего второго сына.
Он немного постарел, ему давно пора обзавестись собственным домом, все его любовные выходки и проделки уже перестали её огорчать, но, конечно, новое назначение требовало по этикету хозяйки большого дворца.
— Когда-нибудь я разведусь с ней, — грустно сказал Константин матери, — даже если вы, матушка, будете против...
— Я никогда не была против, — живо возразила его располневшая и едва влезающая в новомодные лёгкие платья мать, — я лишь прошу тебя устроить второй брак равным твоему сану и достоинству. Ты наследник престола. У Александра вряд ли будет сын. Тебе наследовать ему. Каким же ты станешь царём, если жена будет недостойна твоего сана?
Он молча пожал плечами.
— Поезжай по Германии, присмотрись, разве мало там хорошеньких родовитых принцесс? Выбери сам себе жену, пусть она будет тебе не только по сердцу, но и по титулу.
Он смотрел на мать прищурясь, а в душе говорил себе: «Избави нас Бог от немецких принцесс...» Как будто бес противоречия сидел в нём: уж если ему твердили о немецких принцессах, он и знать их не хотел...
Едва он вернулся в Зимний, как ему пришлось принять большую депутацию от дворянства и купечества Петербурга. Они просили его появиться на большом открытом балу, перед всеми горожанами, удостоить их высокой чести посетить такой бал, который они собираются устроить по подписке. Множество горожан, купцов и богачей-дворян дали свои деньги, чтобы бал был многолюден и роскошен, чтобы на нём присутствовал весь Петербург.
— Я с удовольствием посетил бы ваш бал, — ответил Константин, — но когда я думаю, сколько тысяч вы истратите на пустое удовольствие, сердце моё содрогается. Я помню воинов, истекающих кровью в сражениях при Шер-Шампенуазе и при взятии самого Парижа. Их много, этих несчастных раненых и калек, оставшихся по милости нашего неприятеля без рук и ног. Помогите им, и вы сделаете самое большое доброе дело. А потанцевать можно и в парке, не тратя таких больших денег...
Пристыженной ушла от него эта депутация. Собранные деньги пошли на помощь раненым и калекам, о которых говорил Константин.
А с какой радостью и вопреки всем правилам этикета встретила его Жозефина!
Она влетела в его покои счастливая, сияющая, её глаза сверкали от удовольствия. За нею чинно шёл её сын, сын Константина — семилетний мальчишка с такими же чёрными, как у матери, глазами, но с белым, как у отца, лицом. Все признаки похожести делали Павла ещё дороже его отцу — и длинная верхняя губа, и почти такой же маленький курносый нос, и высокий чистый белый лоб, и небольшие пунцовые губы.
Константин прежде обнял сына, прижал его к себе — мальчишка уже был высоковат ростом для своих лет, свободно болтал по-немецки и по-французски. Он был крестником Александра, российского императора, и хоть носил фамилию Александров и отчество тоже было Александрович, но знал, что отец его — цесаревич Константин.
Великий князь долго расспрашивал учителей сына, как тот ведёт себя, как держится, каковы успехи в науках, и изумлялся: в его годы Константин был шалопаем и никогда не мог прочесть псалтырь даже по слогам.
Павел казался ему воплощением образованности, и горячая любовь к сыну сменялась гордостью за его успехи.
Несколько дней радостного, спокойного пребывания в этой семье, которая, хоть и не формально, была ближе и дороже всех, — и опять Константин отправился в дорогу. На этот раз он держал путь в Вену, где собралось самое блестящее общество всей Европы. Столько королей, императоров, герцогов, принцев ещё не видела Вена...
Этот конгресс стал временем полного триумфа Александра. С обожанием глядел Константин на своего брата, сразу сделавшегося центральной фигурой. Вместе с ним Константин поселился в Вене в самом роскошном дворце Габсбургов — Ховбурге. Вся сверкающая свита императора проживала тоже здесь и появлялась на всех увеселениях, празднествах, балах, сопровождая русского императора.
Два императора, целая дюжина королей и королев, больше сотни самых владетельных особ — было отчего растеряться Константину.
Александр держался так, что скоро стал кумиром всей этой родовитой публики. Он выделялся высоким ростом среди любой толпы, а его царственная простота, обворожительная улыбка и прекрасные манеры увлекали за собой всех участников конгресса.
Заседания чередовались с балами, театральными представлениями, бесчисленными завтраками и обедами. Александр танцевал лучше и больше всех.
Первыми жертвами покоряющей любезности русского императора стали красавица графиня Зичи, княгиня Багратион, бывшая прежде любовницей Меттерниха, великосветская красавица графиня Эстергази, княгиня Ауэсперт, венгерская графиня Сегеньи.
Константин не вёл счета своим победам, но его звезда сияла вслед за славой Александра, и самые очаровательные красавицы Европы дарили его своим вниманием.
Конечно же, бывшие союзники взбунтовались против плана Александра восстановить в правах Польшу и отдать её под эгиду России. Прусский король Фридрих-Вильгельм готов был отказаться от своих польских владений, но под условием, что ему отдадут всю Саксонию: её король, преданный Наполеону, был в плену и потерял право на корону. Потому Александр, не дожидаясь решения конгресса, приказал своим войскам очистить всю территорию Саксонии. Но против этого восстали мелкие германские князьки и решили объединиться, чтобы развалить Пруссию вовсе и урвать из её владений каждый кто сколько сможет.
И вдруг, как гром среди ясного неба, приехал из Лондона Талейран и объявил об оборонительном союзе, заключённом между Австрией, Англией и Францией.
Этот секретный пакт, о котором, правда, сразу же узнал русский император, был ударом против России и Пруссии. Германские князьки тут же присоединились к этому союзу — Бавария, Ганновер, Нидерланды.
Александр оказался в одиночестве. России, победительнице в войне народов, опять приходилось быть в убытке.
Но сама судьба была на этот раз за Россию: в марте пятнадцатого года Наполеон высадился с острова Эльбы и стремительно двинулся на Париж. Тогда все взоры обратились на спасителя Европы — Александра: лишь он, с его огромными силами, мог восстановить мир в Европе.
Под этим дамокловым мечом в Вене всё-таки был подписан новый союзный договор.
Россия устояла в интригах конгресса, и Польша, хоть и урезанная, оглоданная соседями, всё-таки получила признание в Европе как царство Польское под властью русского короля — Александра.
Константин выехал к войскам в Познань. Здесь уже собирались польские и русские полки...
История ста дней Наполеона известна. Французский король Людовик Восемнадцатый бежал из Парижа, забыв на столе тайный договор Талейрана с Англией. Когда русскому императору показали этот предательский пакт, он молча бросил его в камин.
В июне Наполеон был окончательно разбит и сдался англичанам, сославшим его на остров Святой Елены, где он и умер через несколько лет. Все эти известия Константин получил уже в Польше, куда направился с русско-польским войском. В Варшаве срочно начали реставрировать два дворца: один, Брюлевский, — для зимнего проживания Константина, другой, Бельведерский, — для его летнего отдыха.
Польские легионеры потянулись в Варшаву, а в сентябре и русский гвардейский корпус под начальством цесаревича торжественно вступил в столицу нового королевства. Приняв главное командование над всеми войсками в Польше, Константин прежде всего обратился к ним с приказом:
«Явитесь поддержать готовыми ценою вашей крови великодушные усилия вашего августейшего монарха, заботящегося о благосостоянии вашей страны. Те самые вожди, которые в продолжение двадцати лет указывали вам путь к славе, снова укажут его вам. Императору известна ваша храбрость. Среди бедствий злополучной войны ваша доблесть пережила не зависящие от вас обстоятельства. Вы отличались великими подвигами в борьбе, нередко вам чуждой. Теперь, когда вы посвятите все свои усилия защите Отечества, вы будете непобедимы!»
С самого начала пятнадцатого года Константин приступил к формированию польской армии на особых основаниях и в тех размерах, что были постановлены по Венскому трактату.
Инструктировать эту армию должны были русские офицеры, а в солдаты поступали не только уроженцы самого царства Польского, но и западных областей. Из числа этих людей составился и Литовский корпус, куда потом волей судеб попал Михаил Лунин и где приметил его цесаревич, предложив стать его адъютантом.
По всему краю стояли русские солдаты, и поляки примирились с тем, что Польша снова возродилась как самостоятельное королевство, хоть и под властью русского короля Александра, но отзывались о решениях Венского конгресса несколько насмешливо, называя свою урезанную родину конгрессувкой.
Эти настроения замечали трезвые политические головы из русских и предупреждали Александра о том, что рассчитывать на благодарность поляков не стоит.
Один из таких трезвомыслящих политиков, хорошо знавший положение в Польше, послал Александру записку, где точно указал на будущие ростки недовольства. Это был Ланской, занимавший в герцогстве Варшавском пост председателя временного управления по гражданской части. Он писал по зрелому размышлению, и многие его мысли оказались пророческими:
«Всемилостивейший государь! Бывшего Сената герцогства Варшавского президент Островский объявил публике повеление к нему Вашего императорского величества об участи герцогства.
Хотя полагаю, что доведено уже до сведения Вашего величества, как принято это объявление, но вменяю в обязанность со своей стороны довести Вашему величеству, что оно не произвело того влияния, какого можно было бы ожидать от народа, более чувствительного.
Причиною есть следующее:
Более года уже хотя не совершенно, но уже известно было настоящее событие. Во всё сие время непрестанно было толковано, каким образом восстановится существование Польши? Всеобщее желание, частию — искренно, частию — притворно, запальчиво, но имеющее одну и ту же цель — чтобы быть Польше владением отдельным и в том же пространстве, в каком было оно прежде разделений.
Сие желание так помрачило некоторые умы, что вместо довлеемой признательности и беспримерным благотворением Вашего императорского величества, вместо покорного благодарения за высокое к судьбе сей нации участие, наконец, вместо того, чтобы чувствовать, чтобы превозноситься снисхождением, с которым Ваше императорское величество соизволили осчастливить их принятием титула короля, они, подстрекаемые свойственною некоторым кичливостью, что по твёрдости духа, храбрости и другим мнимым достоинствам они единственные, наполнились мечтанием, что восстановление королевства Польши по-прежнему быть должно, и так решительно определяли сие, как бы имели право то требовать...
Объявление титула короля и уверение в будущем конституционном правлении принимается не за милость, но за опасения последствий от беглеца с Эльбы.
Я уверен в душе моей, что приверженность некоторых, а особливо военных, к врагу Европы (Наполеону) не угаснет и ничто не обратит к нам их расположения. Туда манят их прелести грабежа, там господствует дерзкая вольность, там ни за какое бесчиние нет ответственности.
Государь, прости русскому, открывающему перед тобой чувства свои, но осмеливаюсь изъяснить, что благосердие твоё и все усилия наши не могут быть сильны сблизить к нам народ и войско польское, коего прежнее буйное поведение и сообразные наклонности противны всякому и священным правилам нашим, и потому, если я не ошибаюсь, то в формируемом войске питаем мы змия, готового всегда излиять яд свой на нас.
Ни в коем случае рассчитывать на поляков не можно.
Вашего всемилостивейшего императорского величества верноподданный Ланской».
Как в воду смотрел Ланской. Дальнейшие события подтвердили это.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Просторная дорожная кибитка, поставленная на полозья, уже была запряжена тройкой сытых гнедых коней. На дуге коренника бренчал неизменный бубенчик, а пристяжные нетерпеливо переступали копытами, торопясь в путь.
Всю ночь шёл лёгкий снег, и Москва преобразилась под этим пуховым покровом. Закрылись горелые места, дороги выстелились нежным покрывалом, а решетчатые остовы ободранных куполов словно бы украсились пушистыми полосами и являли собой неведомые воздушные шары с тёмными прорезями между белыми линиями. Эти сквозные купола, кое-где уже накрывающиеся новыми листами меди и железа, словно излучали слабый утренний звон колоколов, плывший в чистом морозном воздухе.
Маргарита вышла на крыльцо, уже накрытое новым тесовым навесом из смолистых сосновых досок, и оглядела двор, дороги, не закрытые изгородью, изумляясь удивительной свежести и красоте мягкого, даже на взгляд, ласкового снега. Она держала в руках обёрнутый многими слоями мягкой ткани образ Спаса Нерукотворного из полковой церкви, который вручил ей Александр при последнем свидании, и прижимала его к себе. Деревянная доска, укутанная и крепко обвязанная, словно бы согревала её, тепло проникало даже сквозь меховую накидку.
Кибитка уже стояла у крыльца, последние распоряжения были сделаны, осталось лишь одеть Николушку, разместиться в санях и начать долгое путешествие на постоянное место их нового жительства, в тверскую деревню Ломаново, где мечтал поселиться с женой и сыном погибший Александр Тучков...
Едва Маргарита ступила на вторую ступеньку крыльца, как раздался издали мягкий звон колокольцев, топот копыт, смягчаемый пушистым снегом, и скоро встала перед домом большая карета, тоже поставленная на полозья. Маргарита так и застыла на крыльце со Спасом Нерукотворным, прижатым к груди.
Из кареты неловко полез грузный человек в тёплой армейской шинели и высокой меховой шапке, а следом бодро выпрыгнул на нетронутый снег вовсе молодой ещё священник в длинной чёрной рясе.
Военный склонился перед Маргаритой и, коротко поздоровавшись, спросил, правильно ли он попал — ему нужна усадьба Нарышкиных. Маргарита утвердительно кивнула головой, а сама сникла от предчувствия.
— Командир Ревельского полка полковник Гагарин, — отрекомендовался военный и подскочил к Маргарите, едва не осевшей в снег на крыльце.
Он подхватил её, но она пересилила себя, удержалась на ногах и только сиплым, сразу севшим голосом спросила:
— Вы, верно, за образом?
Батюшка подошёл поближе, осенил её крестом и приостановился за спиной полковника.
— Прошу вас, проходите, — пригласила Маргарита приехавших и отошла от двери, пропуская гостей.
Но гости не двинулись с места, пока она сама не вошла, и лишь потом несмело направились в дом.
Гостей встретили поспешившие к проводам Маргариты родители и сразу заахали, заохали, удивляясь совпадению.
— Ещё бы чуток, и не застали бы дочь, — сдержанно говорил Михаил Петрович, — прямо сказать, с дороги воротили...
Гости стеснялись, раздевались неспешно, но послушно уселись за накрытый к утреннему чаю стол. Маргарите тоже пришлось раздеться, и она с тревогой всматривалась в прибывших.
— Я не знаю вас, — тихо обратилась она к полковнику, — видно, получили назначение из других войск?.. Да и вас, батюшка, вижу впервые. Что же случилось с отцом Андреем из нашей полковой церкви?
— Царствие ему небесное, — перекрестился молодой священник, — погиб в бою при Бородине, шёл впереди воинов, благословлял их на бой и получил пулю прямо в грудь, там же и остался. Господь ему воздаст за духовные труды его.
Он снова перекрестился и тронул белой рукой большой наперсный крест.
— Пухом будет ему земля бородинская, — отозвалась. Маргарита, — только не видела я его на поле побоища, когда искала тело мужа...
Полковник внимательно посмотрел на Маргариту.
— Как и всех, верно, зарыли в братской могиле, — ответил он. — Чуть ли не весь полк там полёг, теперь вот сформировали по-новому, всё больше новобранцы, ветеранов почти что и нет. Заново пришлось полк восстанавливать, зато знамя полковое сохранилось, всё простреленное, но мы его свято храним, как самое дорогое. Теперь вот пришло время и церковь полковую обустроить...
Маргарита взглянула на гостей, степенно пьющих чай с кренделями и мёдом, разложенными на столе.
— Я в целости и сохранности сберегла все полковые церковные реликвии, — твёрдо сказала она. — Возвращаю их вам, потому что знаю, как дороги вам эти святыни.
Она приказала принести два больших ящика, что были уже приготовлены для отправки в Ломаново.
— Хранила бы и дальше, увезла бы с собой в Ломаново, значит, надо было вам поспеть, как раз перед дорогой...
Дворовые люди принесли два запечатанных деревянных ящика. Открыли туго заколоченные крышки, и Маргарита взяла в руки тот самый реестр, по которому получила на хранение все святые дары походной полковой церкви.
— Да мы и так вам верим, госпожа Тучкова, — заикнулся было молодой священник, но Маргарита строго глянула на него, и он притих.
— Я долгое время сопровождала полк, — сказала она голосом, исполненным крепости, — и знаю, как нужны все эти вещи для церкви. Теперь, когда француз пограбил даже храмы, вдвойне необходимы и потиры[27], и складни, и шандалы...
Слуга вынимал из ящика церковные реликвии, а Маргарита читала по сохранённому реестру их названия. На длинном диване слуга раскладывал принадлежности церковной службы, а Маргарита то и дело сверяла их со списком.
— А теперь проверьте сами. — Она подала священнику список за подписью старого погибшего священника, отца Андрея, и полкового командира Александра Тучкова.
— В наших бумагах список такой не сохранился, — смущённо пробормотал полковник Гагарин. — Благодарствуйте, что сохранили всё. Мы и не думали, что может что-то быть в целости...
Изящной золотой вязью сверкнули на красном бархате дивана лампады на длинных золотых цепях, потиры и кадила, разобранные и тщательно упакованные стоячие высокие подсвечники, большие и маленькие живописные образа в золотых и серебряных окладах.
Священник сиял, разглядывая все принадлежности, ему и не мнилось, что служить он будет при таких потирах и кадилах, с такими лампадами и перед такими иконами.
— И вот самый главный образ, — тихо сказала Маргарита, — образ Спаса Нерукотворного...
Она бережно взяла деревянную доску, разрезала все узлы, вынула дорогой образ, поцеловала его и положила вместе с другими реликвиями на бархат дивана.
— Вот теперь всё, — твёрдо произнесла она.
Молодой священник ещё долго перебирал все предметы, любовался их искусной выделкой, сиянием золотых и серебряных окладов.
— Я уже подготовил небольшой походный иконостас, — смущённо обратился он к Маргарите, — все образа хороши для него, подходят по размеру и украшениям. А вот этот, самый большой, боюсь, негоден нам будет, слишком уж велик, в иконостас не вместится, а при походе каждая вещица тяжела будет...
Он смущённо посмотрел на полковника. А тот внимательно глянул на Маргариту, увидел вспыхнувшее в её глазах ожидание и подтвердил слова священника:
— Оставим у вас, Маргарита Михайловна, не пригодится столь большой образ для полка...
Она подняла с бархатной поверхности дивана тяжёлую доску образа, перекрестившись, сказала:
— Этот образ я получила из рук своего мужа, генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова, и отца Андрея для сохранения. Пусть и дальше хранится он у меня, коль скоро вам не надобен...
Она поцеловала край иконы и прижала её к сердцу.
— Если же потребуется Ревельскому полку, в любое время возвращу вам эту святую для меня икону. Но и скажу теперь же, какая радость мне держать в руках единственное, что осталось от мужа...
Слёзы показались было на её глазах, но она пересилила себя, повернулась к гостям и принялась угощать их:
— Кушайте, гости дорогие, вы первые принесли мне весточку о нашем храбром полке...
Ломаново оказалось большой барской усадьбой с разбросанной вокруг неё деревней дворов на сто, с широкими и длинными аллеями парка, обсаженными вековыми дубами, буками и вязами, с густой порослью шиповника, жимолости и сирени, с неширокой рекой, протекавшей внизу и заросшей камышом, ракитами и осокой.
Барский дом стоял на самом взгорке, а за рекой открывались просторные поля, покрытые теперь нетронутой пеленой снега, вдали синела кромка густого елового и соснового бора.
Бродя по комнатам, удобно и изящно обставленным старинной дубовой мебелью, выходя на высокую террасу в середине дома, Маргарита мучительно думала о том, как позаботился её муж о том, чтобы ей было хорошо и вольготно жить в самом центре страны, среди русских берёз и медленно текущей реки, скрытой теперь синим прозрачным льдом, на котором спозаранку катались на самодельных санках деревенские ребятишки. Слёзы всё время накатывались на её глаза, но она стискивала зубы, хмурила брови и старательно находила себе занятия, которые утишили бы боль сердца и непреходящую тоску. Самую лучшую комнату отвела она под кабинет Александра, уставила её резными деревянными столиками, огромным, на бронзовых львах, письменным столом, повесила икону Спаса Нерукотворно, словно бы украшала и обустраивала всё для живого мужа.
Она приходила сюда по утрам, молилась перед образом, оглядывала комнату, придирчиво смотрела, нет ли где пыли или соринки, потом запирала дверь и точно знала, что кабинет мужа ждёт её вечернего посещения.
Вечером она снова отворяла высокую резную деревянную дверь, становилась на колени и молилась Богу, но как будто и ему, своему незабвенному Александру. Как с живым, беседовала она с мужем, порой забывая, что он лежит под сосновым крестом на Бородинском поле, и представляя себе, что он рядом, тут, в кресле, над своими рукописями и дневниками, великое множество которых она хранила.
Маргарита рассказывала ему все свои горести, о том, каким болезненным и слабеньким растёт Николушка, как начинает лепетать первые французские слова под руководством своей бонны, прелестной и несчастной вдовы госпожи Бувье, её незаменимой и подруги, и помощницы. Часто забывалась она до того, что до самого серого рассвета продолжала говорить с Александром, словно бы исповедуясь перед ним.
Под утро приходила маленькая кругленькая Тереза, весело ворковала, поднимала под руки, уводила в крохотную спаленку, сидела у постели, уговаривая поспать, не изнурять себя постом и молитвой.
Но вечером повторялась та же история: Маргарита уходила в кабинет Александра и до утра изливала душу, взглядывая на икону Спаса Нерукотворного, пред которой то стояла на коленях, то садилась у кресла перед столом на маленькую скамеечку.
— Пиши, пиши, — тихонько шептала она, — я не буду тебе мешать, тебе столько надо высказать...
Тогда Тереза придумала новое занятие для своей госпожи-подруги: вечером, при свечах, одевала она Николушку, подавала Маргарите меховую накидку и выводила их в тёмный сад, освещённый лишь фонарём перед крыльцом старого господского дома.
— Николенька слаб здоровьем, — строго говорила она Маргарите, — с ним необходимо каждый вечер гулять, чтобы он дышал чистым морозным воздухом, а ни с кем из дворни он не желает этого делать. Только вам, матушке своей, доверяет он, только с вами может бегать и резвиться. Пожертвуйте вечерок для своего дитяти...
Уговоры её подействовали на Маргариту. Вдоволь нагулявшись с нею и ребёнком вокруг дома, побродив по сугробам аллей, она возвращалась утомлённая свежим воздухом, садилась возле открытой дверцы растопленной печи, смотрела на огонь, и скоро усталость делала своё дело: она ложилась в постель и крепко засыпала.
И месяц, и второй так боролась с её ночными бдениями Тереза и добилась того, что Маргарита уже реже заходила вечерами в кабинет мужа, а зайдя, лишь молилась Спасу и отправлялась на покой.
Её горе и душевные страдания не проходили, но чистый воздух, однообразие деревенской жизни, утомительные прогулки делали потихоньку своё дело. Тело Маргариты начинало возрождаться, требовало пищи и глубокого, полного сна. Маргарита начала оживать, чаще улыбалась рассказам и стрекотанию своей подруги, изумлялась её практическому уму, позволявшему подсказывать госпоже разные способы хозяйствования.
Николушка каждый день произносил какое-нибудь новое слово, и Маргарита нежно целовала его, находя теперь в непрерывном детском лепете утешение и отраду.
Но Тереза зорко следила за своей подругой, и едва видела, что её ясный взор начинает заволакиваться тенью грусти, придумывала разные незатейливые развлечения: то катание на санях по заснеженному лесу и с ледяных горок, с которых лихо съезжал Николушка, то вышивание различных узоров для покровов деревенской церкви, то различные игры.
Мадам Бувье была истовой католичкой и молилась у себя в комнате по своей манере, но чутко относилась к иной вере. Сама она оказалась более стойкой и жизнерадостной в жизненных испытаниях, и её постоянное присутствие спасало Маргариту от периодов неизбывной печали.
Так прошла зима в неспешном житье, в однообразных будничных занятиях. Но едва появились первые проталины среди потемневшего снега, Маргарита засобиралась в Бородино. Тереза, как могла, старалась отсрочить её поездку, умоляла дождаться хотя бы первой травы, упорно выскакивающей из-под снежного покрова, но Маргариту как будто что-то подталкивало.
Она всё время видела перед собой мысленным взором белеющий сосновый высокий крест на взгорке и насыпанный под ним холмик земли.
Открытое кладбище под серым небом так и стояло в её глазах, и странная неодолимая тяга к нему гнала её. Рвалась её душа к тому месту, где похоронены были под фонтаном вздыбившейся земли останки её Александра.
Тереза всё-таки заставила её дождаться первых весенних цветов, черноты проснувшейся земли, просохших дорог и отправилась вместе с нею, зорко оберегая и Николушку, резво веселившегося со Стешей, и саму Маргариту, всю устремлённую к Бородину.
Заехав к родителям, оставив у них и Терезу, и Николушку, Маргарита налегке отправилась на Бородинское поле.
Картина со времени её первого приезда изменилась. И Маргарита не поверила своим глазам, когда вместе с иеромонахом отцом Иоасафом остановилась у края дороги.
Пушистый зелёный ковёр травы затянул свежие ямы и овражки, зелёным туманом обметало прибрежные кусты у речки Колочи, среди них нелепо выглядели ржавые остатки изуродованных пушек, порыжелые остовы бывших колёс, разбитые куски ружей.
Уже не было той горы трупов, что пришлось увидеть ей в первую её ночь здесь, на поле; ровные ряды холмов обозначали места братских могил, а почернелые круги погребальных костров утыканы были острыми иголками свежей молодой зелени, пробивающейся сквозь их черноту.
Природа словно торопилась закрыть всё зеленью, создала полянки жёлтых одуванчиков, и поле расцветилось под солнцем живо и едва ли не весело.
Отец Иоасаф отслужил панихиду. Маргарита не слышала, как он звал её прочь. Подошедшие крестьяне с изумлением смотрели на важную барыню, стоявшую у креста на коленях и заливавшуюся слезами.
Она попросила крестьян окопать могилу возле креста, насыпать холм побольше, голыми руками накопала свежей зелёной травы и неярких цветов, рассадила их на холмике.
— Скоро я приеду сюда с сыном, — сказала она на об ратном пути отцу Иоасафу. — Пусть сын посадит здесь дерево. Сын — отцу...
— Гораздо важнее посеять в его душе семена любви к погибшему отцу, память его наставить...
Маргарита только кивнула головой. Она уже пыталась рассказывать сыну о войне, в которой участвовал и погиб его отец, но Николушка был ещё так мал, что плохо понимал мать.
Вдруг она увидела крестьянина, шедшего за лохматой лошадёнкой, впряжённой в допотопную соху, и словно бы очнулась.
— Отец Иоасаф, — взволнованно спросила она иеромонаха, — а ведь это поле могут распахать, посеять на нём что-нибудь, уничтожить все следы побоища?
Голос её был таким тревожным, что отец Иоасаф тоже в тревоге посмотрел на молодую женщину. Белые пряди волос у висков были закрыты чёрной кружевной косынкой, тёмное платье и тёмная накидка выдавали глубокий траур, а в зелёных глазах заполыхало вдруг такое пламя, что он постарался успокоить её немногими словами.
— Не тронут, верно, могил, — тихо сказал он, — не язычники же какие, православные...
— Не тронут, но могут и тронуть, — возразила она. — Какое кому дело до могил, запашут, засеют, и взойдёт на русских костях тучное зерно...
Отец Иоасаф снова посмотрел на Маргариту. Видно, тревожная эта мысль разбудила в ней энергию, она вся кипела от возбуждения.
— Чья тут земля? Ничейная, государственная, казённая или кому принадлежит? — допытывалась она у иеромонаха.
— С одной стороны, одному помещику, достойному дворянину, с другой — двум другим, тоже достойным людям. Нет, эта земля не казённая и не пустотная, ею владеют наши местные дворяне...
— Как сделать, кому сказать, кому поклониться, чтобы земли эти не тронули, чтобы поле это осталось памятником нашим доблестным воинам и сюда всегда могли приехать помолиться за погибших их родные и близкие?
Она с жадностью всматривалась в измождённое, бледное лицо отца Иоасафа, ждала от него слова надежды и утешения. Мысль о том, что могила её мужа может быть запахана, удобрена, засыпана семенами, стала для неё нестерпимой.
— Может, просить власти уступить это поле, просить этих дворян не запахивать его, а там что-то да придумается, пошлёт Господь хорошую мысль... — предложил отец Иоасаф.
— Нет-нет, — с жаром подхватила Маргарита, — просить не надо, нужно просто выкупить это поле...
— Но ведь дорого может стоить, — нерешительно произнёс отец Иоасаф. — Да и столковаться с такими соседями нелегко: тут и охотились, и скотину выгоняли до побоища...
— Скотину сюда, на это огромное кладбище? — почти простонала Маргарита. — Я вдруг представила себе, как бродят среди могил коровы, овцы, козы...
Они вышли на дорогу.
— Теперь же, сей же час надо ехать к ним, к соседям, уговорить, улестить, — продолжала твердить Маргарита. — Конечно, моей генеральской пенсии не хватит, собирать надо, помощи просить у родителей, сделать так, чтобы всё поле стало пустынным, дабы сюда приходили лишь помолиться за души убиенных да вспоминать их...
Но от слова до дела огромное расстояние, и Маргарите понадобилось более полугода, чтобы договориться с соседними помещиками, ставшими вдруг подозрительными и скупыми, поторговаться с ними, насобирать денег, продав кое-какие старые свои владения.
Она всё-таки откупила три десятины — по десятине у каждого помещика — большое пространство вокруг соснового креста, стала его владелицей и теперь уже не боялась, что его распашут, что не уцелеют дорогие могилы.
Но стоит только один крест посреди поля, с одного края которого возвышаются холмы братских могил, а всё оно — пустое, не загороженное — открыто для всякого бездельника. И в голове Маргариты зрела мысль — поставить такой памятник туда, где теперь лишь простой сосновый крест на месте гибели Александра, чтобы никому и в голову не пришло не помолиться, не отдать дань памяти всем погибшим. Она уже мысленно видела его — на этом самом месте, на взгорке, на Семёновских флешах возвышается светлый, словно тянущий к небу руки небольшой уютный храм-памятник.
Маргарита поделилась мыслью с отцом Иоасафом: он теперь управлял Лужецким монастырём и мог во многом помочь ей. Отец Иоасаф поддержал её.
Но нужны были деньги, много денег, и она начала добывать их, где только можно.
Её скупые сбережения пошли на покупку земли, оставались драгоценности, полученные ещё в приданое, — всё, что смогла она сохранить от первого брака. Значит, надо их продать, оставить себе лишь заветный перстень, который подарил ей Александр, — гербы Нарышкиных и Тучковых переплетались на этом перстне, она хранила его как самое заветное.
Остановившись в Москве у родителей, она почти каждый день приезжала теперь в Бородино, узнавала цены на камень, кирпич, доски, брёвна, торговалась с поставщиками.
Однажды, вернувшись из Бородина поздним вечером, Маргарита услышала незнакомые голоса в малой гостиной и насторожилась: не слишком часто посещали гости дом Нарышкиных, уже почти отстроившийся, но ещё не огороженный, весь ещё в подмостьях, потёках извести и следах глины.
Один голос — глуховатый низкий бас — рокотал, другой — скрипучий, старушечий — перебивал его. Родители тоже вмешивались в разговор, и, хотя слов не было слышно, интонации их голосов выдавали удивление и радостное недоумение.
Маргарита остановилась у портьеры, прикрывавшей вход в малую гостиную, и схватилась рукой за сердце — что-то давнее, знакомое, послышалось ей в голосе басившего. Она неслышно вошла в гостиную.
В кресле почти у самого входа утопала старая женщина с белыми, невидящими глазами, с седыми буклями по сторонам лица, в глухом чёрном траурном платье. А подальше между Михаилом Петровичем и Варварой Алексеевной сидел рослый здоровяк в военном мундире генерал-майора с орденами и звёздами, с высоким воротником, подпиравшим тугие румяные щёки, с вьющимися маленькими рыжеватыми бычками.
И опять что-то знакомое мелькнуло в его лице — таком же длинном, белом, с большими голубыми глазами. «Как похож на Александра!» — хотелось громко крикнуть ей, но она робко остановилась, не желая прерывать разговора, увидев обращённые к ней взгляды, невольно присела в реверансе.
Генерал вскочил, без церемоний схватил её за руку и прижал к пышным усам.
— Кто, кто? — заволновалась слепая женщина.
Маргарита наконец узнала её — это была её свекровь, мать Александра, Ульяна Петровна.
Но как же она изменилась! Из пышной высокой дамы в самом расцвете зрелых лет она превратилась в маленькую старушку, сгорбленную и измождённую. Она казалась теперь жалким подобием той свекрови, которую знала Маргарита всего каких-нибудь десять лет назад.
— Матушка, — кинулась к ней Маргарита, — это я, Маргарита, жена, — так выговорилось у неё, но она спешно поправилась: — Вдова вашего младшего, Александра.
Белые глаза старухи сразу наполнились слезами. Она ощупала сухонькими пальцами лицо Маргариты, её кружевную чёрную косынку, глухой ворот траурного платья, спустилась к самым запястьям.
— Родная ты моя, — притянула она к себе невестку, — родная, дорогая...
Десять лет назад свекровь смотрела на неё строгими неласковыми глазами, сдержанно улыбалась узкими губами — уж слишком ей не нравился этот странный второй брак невестки. Только теперь признала она её родной.
Они долго плакали вместе: старуха, сидя в мягком глубоком кресле, и Маргарита, стоя перед нею на коленях.
— Я уже видела внучонка, доченька моя, — шептала ей на ухо свекровь, всё продолжая ощупывать её чуткими пальцами. — Как же он похож на Александра...
И Маргарита поняла: старуха так же долго ощупывала ребёнка, проводила пальцами по щёчкам, по носу, по шейке, и осознала, что он удивительно напоминает её младшенького.
Маргарита слышала, как шмыгают носами родители и тянутся за платками, чтобы стереть непрошеную слезу, и как сдержанно вздыхает коренастый усач, такой непохожий на Александра.
Она поднялась с колен, и генерал наконец смог представиться ей по всей форме:
— Павел Алексеевич Тучков, брат вашего покойного мужа. Мы знакомы.
Они расцеловались. Маргарита вглядывалась в него и старалась найти в нём чёрточки, хоть отдалённо напоминающие Александра.
Нет, он не был похож на него. Тот был рослый, высокий, широкоплечий, но в нём было много воздушности, стройности, а этот меньше ростом, зато более плотен. Генеральский мундир едва сходился на его солидном брюшке.
— Я уж думала, что погибли все трое, — сказала свекровь, — я ослепла от слёз, императрица-матушка прислала мне лекаря, но я ответила, что мне не на кого больше смотреть — трое моих сынов пали на войне. Но оказалось, что Павел был ранен, попал в плен и вот теперь, после представления государю в Париже, получил полугодовой отпуск для поправки здоровья, приехал ко мне и везёт меня в наше имение — Пьянишное Озеро во Владимирской губернии.
— Вы тоже были в Бородине? — едва слышно спросила Маргарита.
Генерал уселся на высокий прямой стул, расправил пышные усы и заговорил громким командирским рокочущим басом:
— Нет, я ещё прежде, 6 августа, вступил в бой у Валутиной горы. Лошадь подо мной пала, штыками меня изрешетили и уж занесли надо мной сабли, да тут подоспел французский поручик Этьен. Он увидел мою звезду, закричал, что я генерал и надобно брать меня в плен. Положили на носилки и понесли меня к Мюрату. Этьен не просто так взял меня в плен — хотел, чтобы замолвил перед неаполитанским королём словечко за него. Я и замолвил. Сказал ему, чтобы наградил офицера, что меня в плен взял, он действовал храбро. Этьену дали орден Почётного легиона, а меня перевезли в Смоленск...
Раскрыв рты, слушали генерала Михаил Петрович и Варвара Алексеевна.
Сжав руки, горестно думала Маргарита о том, что мог бы и её Александр попасть в плен, остаться живым, как этот его брат, и теперь он так же сидел здесь и говорил о Наполеоне. Но Господу угодно было сохранить именно этого брата, а не младшего, не Александра...
— Видел я корсиканца, — рассказывал далее, уже за чайным столом, генерал Тучков, — видел, каков он, и продолжительный с ним имел разговор. О войне, о тактике, словом, это уж неинтересные для вас подробности, — улыбнулся он. — Ну а из Смоленска отвезли меня в саму Францию, я там был в Бретани, среди всех наших военнопленных. Наголодался, конечно, но держались мы все хорошо, достоинство сохранили. А как освободили наши Париж, я был представлен государю-императору. Очень милостиво принял меня государь, похвалил за храбрость да и отпустил на полгода в отпуск. А потом опять служба, опять война...
— Даст Бог, больше войны не будет, — негромко сказала Маргарита. — Уж такая это была война, что слёз доставила всем...
— Россия да без войны, — усмехнулся генерал, — это не Россия. Да и армия у нас теперь другая.
Он оглянулся на стариков, ловивших каждое его слово.
— Теперь ваша очередь рассказывать, — повернулся Тучков к Маргарите. — Мы знаем, что брат погиб, но на Бородинском поле не бывали, а вы, говорят, туда постоянно наезжаете...
Маргарита опустила глаза: зачем рассказывать, если они не смогут даже представить себе, что пережила она при виде гор трупов в ту первую ночь в Бородине? Зачем рассказывать, что ей тяжело и больно, что не находится ни одного человека, который помог бы ей поставить достойный памятник?
Ни государь-император, который положил под Москвой, у Бородина, более пятидесяти тысяч русских людей, ни правительствующий Сенат, ни генерал-губернатор Москвы, ни окрестные помещики, ни те, у которых погибли там сыновья, мужья, братья, — никто не озаботился тем, чтобы почтить память тех десятков тысяч солдат.
— Кстати, — оживился генерал, — Наполеон хотел вручить мне пакет с письмом к государю. Он тогда сказал: «Я ничего более не желаю, как прекратить миром наши военные действия». Да я ответил, что на такие действия не уполномочен... Я тогда приуныл сильно: вот воевал, а в плену очутился. Но мне корсиканец сказал: «Берут в плен только тех, кто впереди, но не тех, которые позади остаются...»
Маргарита стала тихо рассказывать о том, что представляло собою Бородинское поле, когда она впервые приехала туда. С изумлением смотрели на неё родители: они и не подозревали, как это было, она никогда не говорила им об этом.
— И ты, доченька моя родная, — прошептала свекровь, — неужто не побоялась одна в ночь-полночь с мёртвыми соприкасаться, осматривать всех?
— Разве я никогда не видела мёртвых? — возразила Маргарита. — Я же в войну бывала с Александром, всюду ездила за ним. А в талой воде да битом льду, когда мы проходили по Ботническому заливу... — Она спохватилась и сухо добавила: — Мне в походных лазаретах приходилось и за ранеными солдатами ухаживать...
Она ничего не прибавила более, считая, что всё и так понятно.
— Маргарита, — растроганно сказал отец, — да ты у меня геройская девка...
Он не знал, как выразить свою гордость за дочь.
— Какая же я геройская, — горестно возразила Маргарита, — если не знаю, как взяться за дело. Бородино — это же память на века для России, а никто даже пальцем не хочет пошевелить, чтобы памятник там устроить. Мне пришлось выкупить те земли, а теперь понимаю, что одной мне такой памятник не осилить. А надобно хотя бы маленький храм, чтобы каждый год 26 августа служить там поминальную службу...
И родители, и генерал во все глаза глядели на Маргариту.
— Я дам тебе денег, — подала голос свекровь, — но не слишком-то я богата, вдова. А ты вот что сделай: напиши государю-императору, неужели на такое дело не пожертвует, да и богачи наши неужто не помогут?
Маргарита подняла голову и с благодарностью посмотрела на старуху.
Как же она не догадалась, что надо обратиться с прошением к императору, напомнить ему о том, какое поле славы в Бородине, сколько русской крови там пролито!..
Письмо вышло длинное, большое и плаксивое. Разорвала, скомкала. Больше гордости, думалось ей, больше достоинства. И не просить, а просто говорить, что память о русских воинах в запустении, что её необходимо поддерживать...
Она отправила письмо уже в конце лета, после многих поездок в Бородино и советов с отцом Иоасафом, с разными умными людьми. И принялась ждать.
Из-за границы приходили известия о европейских делах: о Венском конгрессе, где русский император блистал и очаровывал всю Европу, о внезапных Ста днях воскресшего Наполеона, о Битве народов.
Маргарита следила за всеми передвижениями императора. Он ездил в Англию, приезжал в Вену, посетил Берлин.
Ответа ей всё не было.
Маргарита продала свои старинные бриллианты, заказывала брёвна и доски, нанимала каменщиков.
За два дня плотники из соседней деревни построили для неё деревянную сторожку рядом с площадкой, на которой она возводила храм.
Денег хватало лишь на самое необходимое.
Только через три месяца получила она ответ от императора — он выделил 10 тысяч рублей на строительство часовни-храма на месте гибели русских солдат в Бородине. Она потратила уже 20 тысяч...
Прошло несколько лет, прежде чем на взгорке, на среднем редуте, вознёсся снежно-белый храм. Маргарита внесла в него свою драгоценную икону Спаса Нерукотворного и поместила её на правом клиросе[28] усыпальницы.
Лишь в двадцатом году храм наконец был построен и освящён архиепископом Московским Августином.
Маргарита смотрела на создание своих рук и думала о том, что теперь память о Бородинском сражении запечатлёна в камне, и ныне уже всяк проходящий перекрестится, глядя на него, и вспомнит о самом кровопролитном сражении в жестокой войне...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
С замиранием сердца думал Константин о том, что скажет он брату и матери, какой отклик получат его слова и как сложится его дальнейшая судьба в зависимости от этих слов...
Кованые полозья большой гербовой кареты легко несли свой груз, а шестёрка вороных коней, запряжённых цугом, весело неслась по укатанной зимней дороге. Верный и неизменный Курута, толстый и обрюзглый, слегка всхрапывал в углу кареты, флигель-адъютанты осовело клёвами носами, а Константин всё думал свою тяжёлую думу.
В какие слова облечь своё заветное желание, как дать понять матери и брату, что без Иоанны теперь жизнь его не в жизнь, что без её тёмно-голубых сверкающих глаз, пышных локонов, обрамляющих свежее, нежно-белое лицо с розовыми бутонами губ, без её тонких рук с детски-мягкими пальчиками он и не представляет себе дальнейшую жизнь!
Они сразу спросят, кто такая, какова по рождению, по происхождению, пара ли ему, наследнику престола, достойна ли породниться с императорской фамилией, идти во всех торжественных процессиях впереди великих княжон, царских дочерей, рядом с самой императрицей Марией Фёдоровной, рядом с императрицей Елизаветой Алексеевной?
Что скажет им он? Конечно, нет, недостойна, конечно, дочь графа вовсе не ровня императорскому сыну.
Но какие слова найти, чтобы поняли: без неё у него не будет жизни, без неё ждёт его пустота?
Было уже однажды у него такое — как он был влюблён в Жанетту Антоновну Четвертинскую, как страдал, как изнывал сердцем, когда отказали и строго-настрого запретили даже думать о ней и мать, и брат. Неужели и теперь, когда судьба повторяет свой поворот, когда даже голосом походит Иоанна на Четвертинскую, когда её тёмно-голубые, синие, васильковые глаза так напоминают глаза Жанетты, а розовые щёки точь-в-точь как у неё, всё распадётся?
Нет, видно, не забыл он Жанетту Четвертинскую, не сможет забыть никогда, если увидел её в Иоанне и поразился сходству, тому, как может природа создать двойник той его давней любви.
Он изумился ещё больше, когда и имена их совпали до точности. Иоанна по-польски, а по-французски её звали Жанетта. И по отцу была она отчеством Антоновна. Жанетта Антоновна Четвертинская и Жанетта Антоновна Грудзинская...
Снова и снова выговаривал он её имя — Жанетта, вспоминал свою давнюю любовь, горевал, что не смог уговорить мать и брата позволить ему жениться на той, что запала в его сердце да так и осталась в нём навсегда.
«Брошусь на колени, — думал он, — умолю, упрошу...» — и всё подыскивал слова, с которыми обратится к матери и брату. Но фразы получались неловкие, неубедительные.
«Застрелюсь, если не допустят, — холодно, как о деле решённом, подумал он. — Не допущу, чтобы опять увели из-под носа, отдали замуж за какого-нибудь гонористого пана, чтобы не видеть её больше рядом, не танцевать с нею полонез, не положить руку на её гибкий стан и не почувствовать нежный запах её волос».
А с каким интересом слушала она его рассказы о войне, о боях, как расспрашивала о самых мельчайших подробностях! Никто так не слушал его!
Карету покачивало, но сон не шёл к нему, всё более и более напряжённо думал он об одном и том же.
Константин ехал на свадьбу, даже на две свадьбы сразу. Второй раз выходила замуж Екатерина, его сестра, а первый раз под венцом должна была стоять самая младшая из сестёр — Анна.
На эти две свадьбы должна была съехаться вся царская семья. Из Веймара прикатила Мария, из Варшавы ехал Константин. Вслед за этими двумя свадьбами уже близилось и время венчания предпоследнего брата — Николая. Он был в Шлезии во время заграничных походов русской армии и в Берлине увидел свою будущую жену — принцессу Прусскую Шарлотту.
Константин задумался о последствиях своего предполагаемого брака. Ещё не было в семье Романовых ни одного развода, ещё ни один член этого клана не женился по собственному выбору и по любви. Ему предстояло стать первым, а, как известно, первому всегда достаются самые главные трудности. Это уже потом, как по накатанной дороге, идут вслед за ним другие, а для первого и ухаб становится горой.
Среди всех празднеств Константину всё никак не удавалось заговорить о своём намерении с братом.
В первый же день он представился государю, рассказал, какой широкой рекой полились в Польшу порох и пушки, ружья и деньги, с увлечением говорил о том построении войска польского, которым он теперь занимался, его формировании, обмундировке, маршевых занятиях, смотрах.
— Я не ошибся в тебе, брат, — милостиво сказал ему Александр, и Константин не решился излагать свою просьбу. Отсвет хмурости от его намерения мог лечь и на все его действия в Польше по поводу устройства войск.
Но вот прошла и свадьба Анны Павловны с принцем Оранским, а после свадебных торжеств Мария Фёдоровна, счастливая тем, что и последняя её дочь выдана замуж, начала устраивать в Павловске, любимом месте своего летнего пребывания, бесконечные балы, спектакли, праздники.
В честь принца Оранского в начале лета здесь был устроен великолепный праздник со сценами из спектаклей, с балетами. Хор должен был исполнить торжественную оду, которая посвящалась принцу Оранскому.
Мария Фёдоровна очень серьёзно готовилась к торжеству и просила придворного поэта Нелединского-Мелецкого, обслуживающего все придворные торжества своими виршами, написать такую оду, которая удовлетворила бы любой взыскательный слух.
Старый поэт был нездоров, рифмы давно уже не слагались у него с лёгкостью и изяществом. Он был в отчаянии, что заказ матушки-императрицы будет сорван, и поехал к историку Карамзину. Николай Михайлович знал, кто может помочь престарелому придворному. Он направил его в недавно созданный Царскосельский лицей, к юному лицеисту Александру Пушкину.
Курчавый семнадцатилетний Пушкин легко, за два часа, набросал стихи. Они и прозвучали на празднике в исполнении хора, и Мария Фёдоровна была в восторге. Она расспрашивала, кто создал эти стихи, узнала, что один из лицеистов, Пушкин, и прислала ему в подарок золотые часы с цепочкой.
Говорят, Пушкин был смущён этим подарком, старался казаться независимым от царских милостей и нарочно разбил о каблук эти часы. Единственный царский заказ потом вызывал у поэта смущение и раскаяние. Впрочем, хор на стихи Пушкина потонул в целом ряде других представлений.
Константин с удовольствием смотрел на палатки, разбитые на лугу на фоне декорации, изображавшей швейцарскую деревню впереди гор.
Гвардейские полки, только что вернувшиеся из похода по странам Европы, разместились здесь со всей требовательностью военного строя — это напоминало всем войну против Наполеона, в которой участвовал и принц Оранский.
В лагере строго по уставу жгли костры, и всё это смягчало сердце Константина — всё-таки в душе он всегда был и оставался воином...
После блестящего празднества в Павловске пришло время Константину возвращаться в Варшаву. Лишь в самый последний момент — прощания с императором — он решился заговорить с братом.
— Бог поразил меня любовью, — грустно сказал он Александру, — чистая, светлая, прекрасная девушка полюбила меня, и я не могу совратить её, не могу позволить себе обмануть её доверие...
Император с удивлением смотрел на Константина.
— Государь, — Константин вдруг кинулся на колени, — разреши!
— Встань, брат, ты что, — поднял его Александр, — что ты...
— Знаю, что много глупостей натворил я в своей жизни, много проделок за мной, но сколь милостив ты ко мне, батюшка-государь, брат мой любимый! Служил и служить тебе буду преданно, ты знаешь душу мою. И всю твою кару приму, только бы рядом была та, к которой сердце моё прикипело, и ничем не вытравить любви из него...
— Счастлив ты, брат, — глухо сказал Александр. — Бог подарил тебе величайшую из всех радостей.
Константин понял тайный и больной намёк Александра: давно уже его сердце было пусто и оттого казался он разочарованным и смущённым среди блестящей толпы льстецов, негодяев, прикрытых золотыми мундирами. Слишком уж хорошо понимал он природу окружавших его людей.
Ничего не обещал император Константину, но у того как будто легче стало на душе — он сказал, а брат решит, брат всё объяснит матери. Конечно, она восстанет, опять с горечью начнёт говорить, что всё у Константина идёт шиворот-навыворот, что всю жизнь он огорчает её своими проделками.
Но брат знает, что и как сказать матери, как получить её благословение. Константин уехал из Петербурга, исполненный надежд.
Но прошло ещё два года, прежде чем он получил известие, что дело его движется помаленьку.
В марте 1818 года император приехал в Варшаву, чтобы открыть польский сейм, уверить поляков в принятии конституции.
Ещё в июле 1815 года зареяли над Варшавой белые орлы, на общественных зданиях появились польские флаги. В соборном костёле Варшавы была проведена большая божественная служба, а далее в присутствии всех правительственных лиц было отречение короля Саксонского от всех своих прав на польскую корону.
Но главным в этом действе оставались манифест императора российского о восстановлении Польского королевства и основания для конституции, даруемой восстановленной стране новым королём польским, императором российским Александром.
Принятая повсеместно присяга в верности своему новому государю поставила членов Государственного совета, сенаторов, чиновников и всех жителей Польши под защиту и опеку нового властелина.
Тогда же Александр учредил особый комитет для составления конституции под председательством графа Владислава Островского.
Константину царь не предоставил формально никакого участия в решении вопросов внутреннего управления новым государством, даже имени его не было в списке первых сановников. Ему, как и всем великим князьям царствующего дома, лишь давалось право заседать в Сенате и занимать первое сенаторское место по правой стороне царского трона.
Однако Александр хорошо понимал, что без слова Константина ни одно действие здесь, в Польше, не будет произведено. И первое время Константин занимался войском деятельно и с любовью.
Александр очень внимательно относился ко всем рапортам и докладам Константина, поощрял его. Из Стрельны, во время празднования двух свадеб в Петербурге, Константин писал в Варшаву Новосильцеву: «Принят был так милостиво государем императором, что даже этого никак не заслуживаю, и, лучше сказать, государь изволил особенною своею ко мне ласкою, будто бичом, подгонять, чтоб я ещё больше старался хлопотать».
Открывая польский сейм в первый раз, Александр в своей речи упомянул и Константина:
«Не имея возможности посреди вас всегда находиться, я оставил вам брата, искреннего моего друга, неразлучного моего сотрудника от самой юности. Я поручил ему ваше войско. Зная мои намерения и разделяя мои о вас попечения, он возлюбил плоды собственных трудов своих. Его стараниями всё войско, уже столь богатое славными воспоминаниями и воинскими доблестями, обогатилось ещё с тех пор, как он им предводительствует, тем навыком к порядку, который только в мирное время приобретается и подготовляет воина к истинному его предназначению».
После открытия сейма, его работы и торжественного закрытия Александр осматривал польские и русские полки, хвалил Константина за его деятельную, успешную работу по организации войска.
А Константин всё ждал, когда же император скажет ему заветные слова...
Трепеща, волнуясь, как мальчик, представил Константин Иоанну императору. На балу, который пришлось ему дать в честь приезда Александра, император протанцевал с Иоанной, много и долго разговаривал с ней, и уже в карете, на Калишском тракте, куда провожал Константин брата, обронил:
— Дело твоё пошло в Синод. Уговорю и матушку.
Константин, не помня себя от радости, принялся благодарить.
И опять потянулось время, занятое муштровкой, работой, войском.
Впрочем, Александр доверил брату военные дела не только по царству Польскому. В следующем же за открытием сейма году Сенату был дан указ:
«Главнокомандующему Литовским корпусом, его Императорскому высочеству цесаревичу Константину Павловичу всемилостивейше предоставляю над губерниями: Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Подольской — и Белостокскою областью власть главнокомандующего действующей армией, на основании учреждения оной, генваря 27-го 1812 года, впредь до нашего указа. Главнокомандующий представляет лицо императора и облекается властью его величества...»
В ведении Константина по этому указу не было гражданских дел, но все дела, касающиеся этих губерний, даже такие, как учреждение «контрактов», то есть съездов для торговых и промышленных дел в местечке Шавли, и гораздо менее важные, шли в министерство внутренних дел лишь после одобрения их со стороны цесаревича. А такие дела, как предание военно-полевому суду за измену, шпионство, разбой, грабёж и насилие, даже не докладывались министру, а сразу утверждались государем.
Губернии, попавшие под ведение Константина, были прежними польскими владениями, и наблюдение с его стороны над ними было первым шагом к воссоединению с исконной польской землёй. Фактически Константин был не только оком государевым в Польше, но и главой.
Кто знает, что задумывал Александр для Константина — возможно, полное отделение Польши под властью короля польского Константина. В одном лишь он был совершенно уверен: Константин останется до самого конца верным России, её государю, будет его твёрдой опорой и надеждой.
Новый брак Константина нарушал все эти возможные планы.
Четыре долгих года прошло, покуда Александр улаживал все дела по браку Константина. Наконец в самом начале двадцатого года Александр вызвал в столицу брата, наказав ему привезти портрет его избранницы.
И снова мчатся кони по наезженной зимней дороге, и снова теряется в догадках Константин, хотя и надеется на удачный исход своего дела. Портрет Иоанны, плотно завёрнутый в толстую ткань, словно даёт надежду на лучшее...
Александр сразу, не говоря ни слова Константину, повёл его к матери. А Мария Фёдоровна, всё ещё властная, расплывшаяся старая дама, встретила Константина упрёками. Едва ответив на его приветствие:
— Вы никогда не были достаточно благоразумны, мой милый сын. Покойный ваш отец очень благоволил к вам, но вы не оправдали его надежд. Я не буду говорить вам, насколько вы огорчили меня, но я согласилась с доводами государя, моего старшего сына, который тоже милостиво и крайне снисходительно относится к вам...
— Матушка, — упал к её ногам Константин, — простите меня за все огорчения, что я вам причинил, любите меня по-прежнему, даже если я сделал что-нибудь не так, как было вам желательно. Клянусь, в моём сердце вы занимаете первое место, я всегда любил и буду любить вас преданно...
— Ладно-ладно, — нахмурилась Мария Фёдоровна, — я советовала вам воспользоваться обстановкой, которая сложилась в вашей семье, выбрать себе жену из рода, достойного вас, вашего положения и нашего рода. Вы не послушались моего совета. Что ж, свою судьбу вы ломаете сами. Всё остальное вам скажет государь...
Она протянула Константину руку для поцелуя, и он припал к этой пухлой, унизанной перстнями, руке.
— В последний раз спрашиваю я вас, мой сын, — снова заговорила она, как будто всё ещё веря, что может что-нибудь изменить, — не перемените ли вы своё намерение?
— Простите, матушка, но я не могу поступить иначе.
— В таком случае, — жёстко сказала Мария Фёдоровна, — ваш выбор хорош, но лишь для частного лица. На вашу свадьбу я не отпущу никого из царствующего дома...
Он снова припал к не руке, чувствуя, как холодок заползает к нему в сердце.
— Возьмите портрет, — указала она на портрет Иоанны, стоявший в углу комнаты, — надеюсь, вы будете счастливы...
Вот такое благословение получил сын от матери. Он вышел из её кабинета, еле держась на ногах.
Александр сразу же вручил ему целую кипу бумаг.
— Синод расторгнул ваш брак с Анной Фёдоровной. — Он замолчал, выжидательно глядя на брата.
— Государь мой, брат мой, — склонился перед ним Константин, — не знаю, чем я смогу отплатить за все милости, что проливаются на меня...
— Но я смог уговорить матушку согласиться на твой брак с Иоанной Грудзинской только очень дорогой ценой...
Константин уже понял.
— Вот манифест, заготовленный по случаю расторжения брака. — Александр показал ему бумагу.
Константин бегло пробежал глазами манифест:
«Цесаревич Константин Павлович просьбою, принесённой императрице Марии Фёдоровне и императору Александру, обратил внимание на домашнее его положение в долговременном отсутствии супруги его великой княгини Анны Фёдоровны, которая ещё в 1801 году, удалясь в чужие края по крайне расстроенному состоянию её здоровья, как доныне к нему не возвратилась, так и впредь, по личному её объявлению, возвратиться в Россию не сможет, и вследствие сего изъявил желание, чтоб брак его с нею был расторжен.
Вняв сей просьбе, с любезного соизволения любезнейшей родительницы нашей, мы предлагали дело сие на рассмотрение Святейшего Синода, который, по сличении обстоятельств оного с церковными узаконениями, на точном основании 35-го правила Василия Великого, постановил: брак цесаревича великого князя Константина Павловича с великою княгинею Анной Фёдоровной расторгнуть, с дозволением ему вступить в новый, если он пожелает.
Из всех сих обстоятельств усмотрели мы, что бесплодное было бы усилие удерживать в составе императорской фамилии брачный союз четы, 19-й год уже разлучённой безо всякой надежды быть соединённою, а потому, изъявив соизволение наше, по точной силе церковных узаконений, на приведение вышеизложенного постановления Святейшего Синода в действие — повелеваем: повсюду признавать оное в свойственной ему силе...»
Константин радостно передохнул: теперь он был свободен, теперь он мог вступить в брак с Жанеттой.
Но уже следующие слова манифеста насторожили его:
«При сём, объемля мыслью различные случаи, которые могут встретиться при брачных союзах членов императорской фамилии и которых последствия, если не предусмотрены и не определены общим законом, сопряжены быть могут с затруднительными недоумениями, мы признаем за благо, для непоколебимого сохранения достоинства и спокойствия императорской фамилии и самой империи нашей, присовокупить к прежним постановлениям об императорской фамилии следующее дополнительное право...»
Он взглянул поверх плотного листа бумаги прямо в лицо Александру. Тот сидел с задумчивым и немного грустным видом, глаза его были опущены, словно бы он был в чём-то виноват перед Константином.
Что ж, брат прав: если уж он, цесаревич, поступает так, неизвестно, как поступят другие члены семьи. И Константин снова уткнулся глазами в манифест:
«Если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии и, рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола...»
Мелькнуло в голове: отец, император Павел в «Учреждении об императорской фамилии» ничего не говорил о неравных браках. Там было постановлено только, что без согласия действующего императора такой брак не может быть признан законным. Следовательно, никакого вопроса о происхождении жениха или невесты не могло возникать, если согласен был с таким браком государь.
Значит, мать настояла на этом манифесте, принудила Александра сделать подобное добавление к действующему и ещё отцом учреждённому указу. Значит, Иоанна не сможет быть великой княгиней и наследовать трон вместе с ним, а её дети лишатся всех его титулов.
— Погоди, — глухо подтвердил вопросительный взгляд Константина, — Грудзинской я присвоил титул княгини. Дарю тебе имение Лович, по нему жена твоя будет считаться княгиней и титуловать её должно «светлостью»...
— Благодарю тебя, брат, — тихо ответил Константин, — милости твои выше всего, что я могу для тебя сделать...
— Но матушка обязала меня, — Александру было трудно говорить, — убедить тебя...
Он остановился, словно ему не хватало силы сказать всё, что было нужно.
— Не знаю, как ты, — тихо произнёс он, — но мне всё как-то труднее и труднее жить. С такой ношей ходить...
— Я понимаю тебя, брат, — так же тихо ответил Константин. — В нашей семье не очень-то много счастья...
Они посмотрели друг другу в глаза.
— Пожалуй, один лишь Николай счастлив, — снова заговорил Александр. — Молод, почти на два десятка лет моложе, сильный, рослый...
— Брат, брат, — тревожно перебил его Константин, — что с тобой, какая расстройка[29]?
Александру хотелось выговориться, рассказать, как угнетают его не только внутренние, но и общеевропейские дела.
Священный союз, который собирал он под девизом христианского принципа любви монархов, на деле превратился в орган подавления революций, стал полицейской мерой, а в личной его жизни не было просвета.
— Тяготит меня отцовский престол, — раздумчиво сказал он брату, — отягощает...
Константин внимательно поглядел на императора.
— Как бы я хотел бросить всё, жить частным человеком, тяжело тянуть этот воз, — всё так же медленно говорил Александр. — Тоска, скука, ни одного верного человека, и Господь на меня прогневался...
— Государь, брат мой... — Константин невольно перешёл ту грань близости, которую позволял ему Александр, и прижался к его плечу.
— Жить частным человеком — это ли не отрада, — настойчиво твердил Александр, — а ты встанешь на престол...
— Уволь, брат, от такого, — засмеялся Константин, — да если ты отойдёшь от трона, я к тебе в камергеры пойду, сапоги твои чистить буду. Да и какой из меня царь — ты красив, молод, дипломат, а я солдат, солдатом и останусь...
— Серьёзно я тебе говорю, — нахмурился Александр. — И потом — нет на нас Божьего благословения. Погляди, ни у тебя, ни у меня нет законных отпрысков мужского пола...
— Никогда я не взойду на отцовский трон, — горячо заговорил Константин, — к делу я не приучен, да и убьют меня, как отца убили...
— Ты цесаревич, Константин, тебя отец избрал в преемники мне, — снова задумчиво сказал император, — и власть я тебе передам, коль скоро решу отойти от дел. Хватит уж, сколько лет, даже солдату положен срок выслуги, а тут — по самую смерть...
— Нет, батюшка-брат, не надо мне и говорить такого. Я тут же отрекусь, не нужно мне трона, не справлюсь я, если уж тебе невмоготу...
— Значит, думать будем, кто на трон сядет, когда я отойду от дел. Николай у нас единственный благословен Богом — у него уже родился наследник. Его и будем прочить в преемники...
— Хорошо ты задумал, брат, — сказал Константин, чувствуя, что именно так и должен был уговорить его Александр по мысли матушки. — Что ж тянуть, я и теперь готов.
Они долго ещё разговаривали, и результатом этой беседы было собственноручное письмо Константина с отречением от трона.
Он набросал текст своего отречения легко и непроизвольно, как будто всю жизнь только и делал, что отрекался от империи.
«Приношу всенижайшую просьбу, — писал он, — отставить меня, цесаревича Константина Павловича, от участи владеть троном. Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда-либо возведён на то достоинство, к которому, по рождению моему, могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего императорского величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня...»
Александр подсказывал слова отречения, и Константин спокойно писал, то и дело обмакивая перо в чернильницу.
«Сим могу я прибавить ещё новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал непринуждённо и торжественно при случае развода моего с первою моею женою...»
— Теперь я спокоен, брат, — поцеловал его Александр, — матушка будет довольна. Но, — он поднял палец, — никто и никогда об этом документе не узнает, кроме нас троих: тебя, меня и матушки. Даже Николаю ничего не станет известно об этом. И в ход это письмо будет пущено лишь в случае самой крайней необходимости.
Константин бросился на шею брату, они расцеловались и простились как самые лучшие друзья. Константин был искренен, в его чувствах никогда не было никаких дипломатических уловок. Другое дело — Александр. Он получил это отречение, понимая всё, показал его матери и велел хранить в полной тайне.
Но и Константин понимал, что только ценой такого отречения от российского престола покупал он своё желанное счастье — возможность брака с Иоанной Грудзинской.
Купил он и свободу от Жозефины Фридерикс. Он предложил ей громадную сумму, со слезами согласилась бывшая его фаворитка оставить сына у Константина, удалиться из Королевского замка и выйти замуж за незначительного польского дворянина. Через четыре года она умерла в Ницце...
Брак с Грудзинской был заключён быстро. Из своего любимого Бельведера, маленького замка, определённого ему на летнее проживание, приехал он в кабриолете, сам правя парой лошадей. В Королевском замке его уже ждали невеста и всего четыре лица, назначенные присутствовать при его бракосочетании: граф Курута, старый грек; его начальник штаба и с детства преданный друг Альбрехт, Нарышкин и Кнорринг. Никто из приближённых не был приглашён, даже никто из прислуги не наблюдал это действо.
В дворцовой церкви Королевского замка совершено было бракосочетание по православному обряду, потом такой же обряд был проведён в католической каплице[30] того же замка.
Тайна должна была окружать это бракосочетание, и поначалу всё так и было.
После брачных обрядов Константин вышел из замка, ведя под руку свою новую спутницу жизни. Они сели в тот же кабриолет, и Константин взялся за вожжи. Только вдвоём ехали они к новой жизни в Бельведерском замке.
Но хорошие вести не стоят на месте. Как и когда узнали варшавяне о браке Константина, осталось тайной, но едва они поехали по улицам Варшавы до Бельведера, который отстоял от города на семь вёрст, как толпы народа, чудом и мигом собравшиеся на улицах, ликующими криками, громкими приветствиями и цветами под ноги лошадей обнаружили свои чувства.
Константин был польщён этими выражениями радости, принял их за признательность и гордо взглядывал на свою юную супругу.
До самого Бельведера сопровождало их ликование тысячных толп, приветствовавших главу польского войска. Лишь в Бельведере настали наконец покой и тишина. На многие дни затворился этот маленький замок, чтобы молодые могли предаться своему счастью. Нисколько не пожалел Константин о своём отречении — столько счастья доставляла ему его молодая жена. Один только взгляд на её свежее лицо, доверчивые синие глаза приводил его в состояние радости и благополучия. Нрав его смягчился, теперь он не подвергал свои полки вспышкам неистового гнева, не выходил из себя при малейшем недостатке в построении.
Несмотря на знаки внимания по поводу свадьбы цесаревича, поляки были крайне недовольны им. При любом случае цесаревич обещал «задать им конституцию», проводил свои организационные действия «жутковато», и хоть надеялись польские офицеры на содействие польской жены главнокомандующего, но Иоанна мягко уходила от вмешательства в дела мужа.
Храброго военачальника, но плохого наместника, безвольного и дряхлого, поляки уже не принимали в расчёт. Недовольство выливалось в ропот, в тайные сборища и общества по всей Польше.
И лишь Константин не видел этого. Он считал, что поляки должны поставить ему памятник за создание и отработку войска.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Утренняя дымка затянула изрытое и заросшее слегка пожухлой травой Бородинское поле. Отзвенели небольшие колокола, установленные под навесом крохотной колокольни перед самым входом в беломраморный храм, чудными ангельски-протяжными голосами пронеся последний звук песнопений, и из резной двери храма на невысокую паперть потянулись люди.
Наскоро стирая накатившиеся во время церковной службы слёзы, они сходили по широким ступеням вниз, бросали последние взгляды на тесовую сторожку, сиротливо притулившуюся к подножию холма, где возвышался храм, расходились по громадному полю, крестясь перед каждым обросшим травой и запоздалыми цветами холмиком братских могил, кланяясь праху захороненных тут воинов.
Рассыпались по полю кучки людей, приехавших в это светлое поминальное 26 августа, разбрелись всякий к своему холму, к своему излюбленному месту. И поле, громадное, пустое, тихо лежащее под безоблачным летним небом, словно бы вобрало в себя ещё и эти пусть большие, но такие привычные разноцветные пятна, нисколько не меняясь в своих очертаниях.
Вдовы, сыновья, дети, внуки — их было так немного, тех, кто чтил этот день, кто заливался слезами от горькой утраты.
Только дворянки, графы да князья, их отпрыски могли себе позволить прибыть в этот день на Бородинское поле, уже десять лет лежащее в море невидимых слёз, прорастая редким кустарником и деревьями, посаженными теми, кто не забывал павших здесь.
Маргарита вышла на скромную паперть храма после всех. Она привычным взором окинула широкую пустоту поля, скромное разноцветье ложков и овражков, бросила беглый взгляд на сторожку, своё жильё, поставленное много лет назад у подножия холма, и сказала сыну:
— Смотри внимательно на эту картину. Она должна отпечататься в твоей памяти...
Но мальчик лет двенадцати, одетый в мундирчик Пажеского корпуса, голубоглазый и рослый для своих лет, и без того сосредоточенно окидывал глазами просторную, слегка всхолмлённую равнину.
С тех пор как он помнил себя, мать привозила его на это поле, водила по жёстким травам и невзрачным цветам, указывала на рвы и холмики и объясняла всё бывшее десять лет назад так, как будто сама была в этом сражении, видела эти кровавые реки, горы трупов, закопчённые мундиры и сверкающие лезвия штыков.
Он смотрел на поле, и оно словно оживало под его взглядом — вон там, вдали, реяли под солнцем наполеоновские штандарты, скакали французские кирасиры в синих мундирах, а навстречу им протянулась сверкающая цепь штыков.
Вернувшись в Москву, Маргарита едва успела к кончине своего отца.
Старый дуб нарышкинского древа, Михаил Петрович доживал последние минуты. Увидел Маргариту, поцеловал внука и спокойно испустил предсмертный вздох.
И сразу тихо и пусто стало в громадном, вновь отстроенном дворце Нарышкиных: сёстры Маргариты давно повыходили замуж, Кирилл и Михаил, самый младший, служили в Петербурге в гвардии, одна лишь Варвара Алексеевна, грузная, располневшая до того, что не влезала ни в одно из платьев, и весь день проводившая в мягком кресле в большом тёплом капоте и белоснежном кружевном чепце, кричала старческим скрипучим голосом, напоминавшим Маргарите о галке Варюшке, на челядь, бестолково тыкавшуюся во все углы опустевшего дома.
В последний раз собралась вместе семья Нарышкиных — приехали на похороны отца братья из Петербурга, заплакали над его гробом сёстры, и Маргарита, как самая старшая в семье, невольно сдерживала свою печаль, хлопотала о последних приготовлениях, принимала братьев и сестёр и утешала мать, оглаживая её полные плечи и прижимая к груди её белоснежный плотеный чепец.
Она провела с матерью первые, самые скорбные дни, а потом засобиралась в Дерпт: Николушке шёл уже тринадцатый год, он завершил своё домашнее воспитание, сдал все экзамены в Пажеском корпусе, где числился, но по слабости здоровья был возле матери. Теперь надо было продолжить его образование, и Маргарита выбрала для него один из самых лучших университетов Европы и России по тому времени — Дерптский.
Николушка был единственным утешением матери. Рослый, гибкий, он так напоминал ей незабвенного Александра, что она страшилась этого.
Взгляд его голубых глаз был умён и проницателен, мечтательность и романтичность, склонность к уединению вызывали в памяти пристрастия и способности отца, и Маргарита с ужасом думала, что когда-нибудь ей придётся расстаться и с Николушкой: взрослая жизнь заберёт сына, служба заставит их разлучиться. И она всё время упорно отдаляла этот срок. Даже в университет Николушка поехал вместе с матерью.
Она видела, как нежно он любит её, но старалась строгостью и требовательностью не избаловать его, вырастить достойным своего отца. Нередко она писала сыну письма, хоть он и был каждый миг возле неё:
«Тебе сегодня минуло шесть лет, сын мой. С этой минуты я буду записывать всё, что ты говоришь, что делаешь. Я хочу передать главные черты твоего детства. Ты начинаешь уже рассуждать, чувствовать, и всё, что ты говоришь, приводит меня в восторг: ты много обещаешь. Да поможет мне небесное милосердие воспитать в твоём сердце все добродетели твоего отца.
Твой отец! При этом имени всё существо моё потрясается. Ты не знаешь, милое дитя, что мы потеряли в нём и сколько страдает твоя мать с тех пор, как лишилась этого друга своего сердца. Ты ознакомишься из наших писем, которые я сохранила, как драгоценность, с историей нашей жизни, ты увидишь, насколько чувство, соединяющее нас, усилилось с тех пор, как мы вступили в брак. Казалось, что каждый год скреплял наши узы, которые становились нам всё дороже.
Твоё рождение было последним пределом нашего счастья, омрачённого, однако, частыми разлуками, — необходимое последствие деятельности, которую твой отец принуждён был избрать.
Как описать тебе нашу радость в минуту твоего рождения? Я забыла при твоём первом крике все страдания, все утомления, которые испытала, пока носила тебя. Чтобы не расставаться с твоим отцом, который должен был сопровождать свой полк, я подвергалась трудности тяжких переходов и родила тебя дорогой.
Всё было забыто при твоём рождении, чтобы думать о счастии иметь тебя, чтобы любить тебя и чтобы любить друг друга ещё более.
Твой отец хотел, чтобы я выполнила священную обязанность матери, в настоящем смысле этого слова, — он тем угадывал желание моего сердца, потому что я не решилась уступить другой женщине радости быть твоей кормилицей, — и я кормила тебя.
Опишу ли тебе всю заботливость, которой твой отец окружил твоё детство? Когда он возвращался, утомлённый своими военными обязанностями, он бежал к твоей колыбели, чтобы покачать тебя, или выманивал из неё и клал к моей груди. С каким восторгом он любовался нами обоими и сколько раз я видела в его глазах слёзы счастья!
Но недолго оно продолжалось. Тебе был лишь год и четыре месяца, когда ты потерял отца. Но Отец Небесный не оставил тебя, потому что бедная твоя мать так была поражена своим несчастьем, что утратила возможность заботиться о своей собственной жизни и о твоей...
Когда в 1812 году французы вторглись в наш край, твой отец был убит 26 августа, а 1 сентября, в день моих именин, мой брат приехал из армии, чтобы известить нас о нашей утрате... Я не помню, что сталось со мной при этом известии: пускай другие тебе об этом расскажут.
Молю моего Спасителя простить мне мой бред: он доходил до того, что, когда моя мать говорила мне о блаженствах рая и о возмездии[31] тому, кто умеет нести свой крест, посланный Богом, я отвечала, что и самый рай не нужен мне без моего Александра и что не существует возмездия для души, уничтоженной несчастием.
В один вечер ты спал — четыре месяца после известия — и во время сна ясно произнёс слова: «Боже мой, отдай папу Кокоше!»
С этой минуты я увидела в тебе моего ангела-хранителя: мне показалось, что ты разделял со мной моё горе, коль скоро оно занимало тебя даже и во сне. Я подумала, что Бог видит тебя, слышит тебя, что неотразимы молитвы такого ангела, как ты, и ослабевший мой ум омрачился до такой степени, что я стала сомневаться в своём несчастье.
В продолжение всего года я надеялась, и когда, желая спасти меня от грустных последствий мечты, старались меня возвратить к сознанию печальной истины, ничто не ставило меня в более жестокое положение.
Я переехала в это имение, которое отец твой купил в надежде, что после похода он будет наслаждаться здесь семейным счастьем и займётся твоим воспитанием. Там я никого не видела и отрывалась лишь с трудом от моего уединения, чтобы навестить моих родителей, которые приходили в отчаяние от моего состояния.
Бедные мои сёстры! Они такие набожные, такие добрые, и сколько раз я отталкивала их, когда обращались они ко мне со словами утешения и мира. Они мне говорили о блаженстве в будущем, а я жила в настоящем.
Я очнулась от этого состояния лишь тогда, когда ты занемог. Не забывая своего горя, я думала о предстоящей опасности и обратилась к тому, который никогда не оставляет существо, молящее его. Сердце моё почуяло Бога, и я научилась покорности.
Но рана моя не заживала никогда, она свежа...»
Такой же страстной любовью отвечал матери и сын. Уже в шесть лет написал он ей первое письмо — опыт во французском:
«Маменька! Жизнь моей жизни! Если бы я мог показать Вам моё сердце, то Вы бы увидели начертанное на нём Ваше имя!»
Маргарита добилась, что учёба Николушки в Пажеском корпусе была лишь простой формальностью, но теперь пришла нужда начинать хорошее образование. Вскоре после похорон отца она отправилась с сыном в старинный университетский город Дерпт.
Но едва кончались зимние занятия и студентов распускали на летние вакации[32], как Маргарита вместе с сыном приезжала в Москву, проводила несколько недель в сторожке возле храма, молясь и припадая лицом к мраморной могиле Александра, ехала в Троице-Сергиеву лавру, молилась вместе с Николенькой у раки преподобного Сергия Радонежского и опять возвращалась в крохотную сторожку, не в силах видеть опустевший дом Нарышкиных, страшно и безобразно состарившуюся мать, теперь уже почти не поднимавшуюся с постели.
Варвара Алексеевна, не переставая, говорила о Михаиле Петровиче как о живом, и Маргарита с ужасом вспоминала свой прежний бред в первый год гибели мужа.
Её и Николушку всюду сопровождали Тереза, мадам Бувье, её неразлучная подруга, и немка компаньонка Марта Бругер, с которой Маргарита познакомилась и подружилась в Дерпте.
Маргарита почти не писала своим братьям, и они лишь изредка сообщали ей о своей жизни. Но короткое письмо, пришедшее после восстания на Сенатской площади, на долгие месяцы повергло её в печаль. Её младших! брат Михаил был арестован, посажен в Петропавловскую крепость, затем выслан в Сибирь.
Долго не решалась Маргарита открыть матери эту страшную весть. И не напрасно. Едва узнав об этом, проплакав четыре месяца беспрерывно, Варвара Алексеевна скончалась. И опять все хлопоты по погребению выпали на долю Маргариты — она одна из всех своих братьев и сестёр оставалась в московском доме Нарышкиных.
Но год, следующий за страшным 1825 годом восстания, принёс ей такое горе, от которого она не смогла оправиться до самого конца своей жизни...
Они возвращались с кладбища, где, как всегда, поминали отца и мать Маргариты, схороненных в одной могиле, отслушав панихиду, проведя все обряды, которые положены по этому случаю.
Ветер рвал накидки Маргариты, мадам Бувье и Марты, холодком заползал под тёплую епанчу Николушки. Мать то и дело оборачивалась к сыну, запахивала на нём одежду, поправляла меховую шапку: октябрь в двадцать шестом выдался морозный, со свирепыми северными ветрами, сильными утренниками, выступавшими серебряным инеем и сырым воздухом, от которого схватывало горло.
Николушка гордо отворачивался, стараясь показать, что он уже взрослый, и заботы матери лишь принижают его возраст. Маргарита понимала, ласково усмехалась — сын становился самостоятельным, отдалялся от материнских забот.
С ужасом думала она о том времени, когда ему нужно будет ехать в Петербург, где уже давно ждало его место при дворе.
Как только могла, оттягивала она это время, понимая, что не сможет жить вдали от сына, что и ей приспело время отправляться в столицу, снова увидеть высший свет, возобновить старые знакомства. Это могло, оказаться полезным для Николушки, а ему ещё жить и жить, служить и служить...
В закрытой колымаге, где все они с трудом уместились, было до крайности холодно — медвежья полость отдавала льдом, кожаные сиденья словно напитались морозом. И хоть недолгой была поездка домой, под тёплую и уютную крышу московского нарышкинского дома, да непродолжительная эта скачка заставила всех дрожать от холода и ледяных струй воздуха, проникавших через многочисленные щели.
В доме топились все печи, жаркий воздух обдал теплом замерзшие щёки, а пальцы скоро перед огнём сделались влажными и горячими.
Встал перед открытой дверцей печи и Николушка, ещё не сбросив епанчу и даже не сняв шапки. Щёки его пылали.
— Николенька, — подошла к нему мать, едва скинув меховую пелерину, — ты не заболел?
Она приложила руку к его лбу — он пылал.
Маргарита кликнула слуг. Николеньку быстро раздели, уложили в мягкую, нагретую грелками, постель. И снова приложила она руку к его пылающему лбу, но Николушка уже был в беспамятстве.
Забегали, засуетились дворовые люди, мадам Бувье, так и не сняв накидку и капор, втиснулась в ту же колымагу и понеслась за докторами.
Маргарита сидела у постели Николушки, то поила его через силу горячим отваром из трав, то перестилала сразу ставшей мокрой постель.
— Испарина, пот, это ничего, это хорошо, — бормотала она.
Николенька много болел, она научилась ухаживать за ним, знала, какие травы заваривать, что делать в случае лихорадки и жара.
И в этот раз она всё так и делала, заставляя себя не волноваться, а лечить сына, уговаривала себя, что и в этот раз, как и в прошлый, всё обойдётся.
Доктор приехал скоро, так же, как Маргарита, приложил руку к пылающему лбу мальчика, пощупал пульс и прослушал сердце. Маргарита с замиранием сердца смотрела на старого знаменитого доктора, лечившего всю её семью.
— Я пришлю сиделку, — сказал он, — просто просквозило молодого человека. Питьё горячее, порошки вот эти, несколько дней, и всё пройдёт.
— Но он в беспамятстве, — запротестовала Маргарита, — никогда не было у него такого бесчувствия.
— Если вы не доверяете мне, — обиделся старый немец, — я прикажу созвать других докторов. Не возражаете?
— Настаиваю, — едва вымолвила Маргарита, держа сына за горячую руку.
Приехали ещё доктора, и к полуночи дом наполнился их учёными словечками, полушёпотом, латинскими спорами.
Сиделка, обвязавшись длинным белым фартуком и нацепив на голову высокий белый колпак, уже присела с другой стороны Николушкиной постели. Заставляла мальчика пить растворенные в горячей воде порошки, растирала чем-то его трепещущее горячее тело, смазывала стопы особыми мазями.
К утру Николушка пришёл в себя. Слабый, влажный, он поискал глазами мать. Маргарита сидела подле него, вся в напряжении и ожидании.
— Матушка, — только и выдохнул Николушка.
Она крепко сжала ему руку, и он умиротворённо закрыл глаза.
— Теперь он будет спать, ему нужен лишь крепкий сон, — единодушно постановили доктора и стали собираться к отъезду.
— А вам, голубушка, — наклонился к Маргарите один из лекарей, — необходимо отдохнуть. Сиделка здесь, мальчик будет спать спокойно, так что поберегите и себя...
Она согласно кивнула головой, но не ушла из комнаты.
Николушка мирно посапывал, сиделка клевала носом в мягких объёмистых креслах. Маргарита всё держала в руке лёгкую руку сына, поглаживала другой мальчишески-тонкое запястье и тихонько приговаривала:
— Спи, мой родной, поправляйся, дорогой мой мальчик...
Словно сонная одурь навалилась на неё, глаза закрылись, будто засыпанные песком, но она всё не отнимала руки от мальчика и бормотала нежные слова.
И вдруг почувствовала, что рука Николушки, до того сжимавшая её руку, как будто раскрылась, слабеющие пальцы перестали цепляться за её пальцы, а рука словно начала наливаться ледяным холодом. И ещё не поняв ничего, не поверив в самую возможность худого, она громко закричала, всполошив своим криком весь дом.
Вскочила сиделка, ворвались в детскую Тереза и Марта, старые слуги вползли вслед за ними.
Она кричала и кричала и уже просто выла в голос, а с лица Николушки сходила краснота, оно бледнело, застывало и скоро стало белее простыней, на которых он лежал.
Маргарита не помнила, что она кричала, как оттащили её от постели Николушки, и пришла в себя только тогда, когда увидела себя на стуле посреди большой гостиной. И первое, что бросилось ей в глаза, была высокая отполированная палка, стоящая под образами, тот старый посох, что вручил ей в день её свадьбы лохматый юродивый.
— Господи, за что караешь меня? — тихо спросила она и упала без чувств.
Через неделю траурный обоз отправился в Бородино.
Маргарита сидела в траурной колеснице подле гроба, в котором лежал её сын, и всё натягивала на гроб, не закрытый крышкой, большое пуховое одеяло.
— Холодно тебе, мальчик мой, — без конца повторяла он, снова припадала сухими щеками к его странно застывшему лицу и смотрела, смотрела не отрываясь.
Сидевшие рядом Тереза и Марта старательно стягивали одеяло с савана, а Маргарита опять хваталась за его край и старалась укрыть сына. Слёз у неё не было, но словно бы ледяной камень лежал в её груди.
Маргарита не позволила закрыть гроб всю дорогу, и траурный поезд медленно тащился весь день через Можайск и бородинские села.
Лишь в самом конце холодного октябрьского дня, когда начали сереть небеса, предвещая скорый вечер, траурная колесница остановилась у белоснежного храма на взгорке, у паперти которого висели колокола под низким тесовым навесом.
Чёрные монахи из Лужецкого монастыря подняли гроб на плечи, внесли его в тёмную маленькую церквушку, осветили огоньками свечей белую чистую внутренность.
— Господи, дай мне силы, — упала перед гробом на колени Маргарита, — ужели тебе надо было, чтобы я лишилась самого дорогого, что у меня было? Ужели это расплата за мой счастливый брак, за то, что столько лет я была в блаженстве?
Она билась в истерике, а чёрные монахи спокойно совершали отпевальный обряд. Мигали огоньки свечей, тянулось заунывное заупокойное пение, и лишь тогда, когда гроб с телом сына понесли в склеп, в усыпальницу под мраморным надгробием отца, Маргарита словно бы ослепла — слёзы градом хлынули ей на грудь. Они лились и лились, и каждая слезинка будто растапливала тот ледяной камень, что был в её груди.
Без помощи своих подруг она поднялась с колен, пошла за гробом в склеп. Застучали молотки, забивая гвозди в креп гроба, звуки отдавались в сырой и смрадной тишине усыпальницы.
Тихо, так, чтобы слышал только муж, Маргарита сказала:
— Видно, ты, Александр, тоже хотел быть рядом с сыном. Господи, прими всё, что у меня есть...
Она спокойно выполнила всё, что полагалось по обряду, вышла на поверхность сумрачная, холодная, словно и часть себя похоронила в этом склепе.
Много дней ещё оставалась она в Бородине, каждый день приходила в сумрачный склеп, плакала, заказывала панихиды, раздавала милостыни окрестным крестьянам, а сама в ужасе думала о том, что ждёт её впереди.
Пустыня вокруг, все близкие родные покинули её, и не выходило из ума, что тот большой посох недаром подарил ей юродивый, напророчил ей такую судьбу.
Она поставила над могилой мужа и сына образ Богородицы «Всех скорбящих радость», приказала заделать в оклад все драгоценности, которые оставляла Николушке в наследство, затеплила неугасимую лампаду. Этим образом Александр благословил сына, когда она отправлялась в Москву в том роковом двенадцатом году.
Пусто и тихо стало в московском доме Нарышкиных. Бесшумнее мышки ходила мадам Бувье — она не понимала состояния Маргариты: вроде и спокойна, и разумна, да только холод от неё исходит нестерпимый. Заговоришь о делах житейских — лишь глазом поведёт и ничего не ответит. Ничего ей не нужно, ничто не трогает душу, ни к чему не прилагает руки. Сидит в кресле, глядит в угол, но не на образа в киоте, а вниз, на толстую палку с отполированной ручкой.
Обуглилась душа, ничем её не проймёшь, ничем не разбудишь. Только и встряхнётся, когда надо в Бородино ехать, молится в храме, стоит на коленях, лежит на мраморном полу, а глаза сухи, и такая в них тоска, как будто сама загробная жизнь смотрит ей в очи...
Хотела было Тереза выбросить роковую палку и уж нарочно взялась за неё, но Маргарита лишь бровью повела, блеснула зелёными глазами:
— Никогда не трогай...
Тихо сказала, но таким повелительным тоном, какого у неё никогда не бывало.
— Я масла купила, чтобы лампаду мою над Николушкой заправлять, — раз заметила Тереза Маргарите. — Воспитанник мой, и помнить буду до гроба...
Маргарита подняла голову, отвела взгляд от палки — только было собрались в глазах слезинки, нет, сморгнула, ничего не ответила, но взгляд потеплел.
Вечером Тереза, заглянув в гостиную, увидела, что Маргарита стоит на коленях перед образами, перед большой, суковатой, отполированной палкой и шепчет, шепчет, выговаривается.
— Слава Богу, на поправку пошла, — шепнула Тереза Марте.
А назавтра Маргарита подняла всех, погнала лошадей в Бородино, но, доехав до церкви, стоя перед папертью, вдруг повернула обратно, даже в храм не зашла, не перекрестила лба перед церковным крестом. И снова сидела в углу, и понимали Тереза и Марта, что тоскует её душа, просится вслед за сыном и мужем и нет ей покоя ни днём, ни ночью.
Подруги стали потихоньку привлекать Маргариту к делам: то одна, то другая с лицами встревоженными и унылыми рассказывали какие-то истории, больше похожие на библейские, напоминали о числах, которые положено отмечать после похорон, втягивали в беседы. Но Маргарита ничем не интересовалась, и Терезе с Мартой пришлось взять на себя все хозяйственные заботы и лишь сообщать ей о том, что они сделали.
Тоска кидала Маргариту то в одну, то в другую сторону, и однажды она решила съездить к святителю Филарету: может, он успокоит её смятенную душу. Митрополит Московский Филарет славился среди простого народа и знати скромной, праведной жизнью, мудростью и отменным благочестием.
Маргарита хотела исповедаться, да пришла, верно, не вовремя. В приёмной Филарета стояла заплаканная женщина в чёрном с тремя мальчиками примерно возраста Николушки.
Перекрестив их на прощание, владыка повернулся к Маргарите.
— Знаю, вдова бородинская. Это тоже вдова бородинская с тремя малютками...
— Три сына, — возмущённо воскликнула Маргарита. — А у меня всё отнято... За что?
— Видно, милость Божью покорностью заслужила больше, — наставительно произнёс митрополит.
Слёзы хлынули из глаз Маргариты, она повернулась и громко хлопнула дверью...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Первое известие о болезни государя Константин получил за обедом. Только что все отсмеялись в ответ на очередную остроту Лунина, и Константин с удовольствием глядел на свежее бледное лицо своего адъютанта. Он очень любил этого безрассудно смелого офицера, его колкие шутки и крепкие выражения. Разгневавшись однажды на своих подчинённых за нерасторопность и неисполнительность, Константин перестал приглашать их к обеду, но, увидев Лунина, спросил, когда тот попотчует его очередной интересной историей. Лунин смело ответил, что свою историю он приберегает для обеда у главнокомандующего, и Константин хорошо понял намёк: к следующему же обеду в Бельведере были приглашены все адъютанты.
Он прощал Лунину такие дерзкие слова, которых никогда и никому не простил бы. Константин любил свою службу, нёс её с превеликим рвением и вмешивался даже в такие мелочи, которые отнюдь не должны были бы занимать его. Он запретил всем гусарам фабрить — чернить — усы и, увидев в строю Лунина, выделявшегося слишком чёрными усами при светлых волосах на голове, строго выговорил ему, спрашивая, почему его усы чересчур чёрные.
— Потому, ваше императорское высочество, — смело ответил Лунин, — у меня усы чёрные, что у вас носа нет. И надобно справляться о том у наших батюшек...
Ответ был дерзкий и своевольный, но Константин только посмеялся, поняв вполне красноречивый намёк на свой маленький курносый нос. Вот и теперь, насмешив всех очередной остротой, Лунин оглядывал стол, за которым собралась не только вся семья цесаревича, но и все его адъютанты, за исключением дежурных.
Все смеялись, сам Константин заливался хохотом, слегка прижав салфетку ко рту. Лишь Иоанна только улыбнулась и строго глянула на Павла — сына, или как его здесь называли, воспитанника цесаревича. Но Павел словно бы и не слышал, что говорилось за столом, он вяло ковырял вилкой в тарелке, весь уйдя в какие-то свои детские мысли.
Задняя дверь сбоку от Константина приоткрылась, бочком проскользнул в неё дежурный адъютант, бесшумно подошёл к цесаревичу.
— Курьер из Таганрога, — шепнул он на ухо Константину так, что его никто не услышал.
Константин поспешно встал, бросив на стол салфетку.
— Прошу извинить меня, господа, заканчивайте обед без меня.
Он вышел в приёмную, соединённую этой дверью с большой столовой. В кабинете его уже ждал запылённый, пропахший потом курьер. Константин взял два пакета, кивком головы отпустил курьера и вскрыл письма. Разными словами двое доверенных лиц государя — начальник штаба Дибич и флигель-адъютант и друг Александра князь Волконский — сообщали об одном и том же: государь занемог, у него перемежающаяся лихорадка, озноб и жар, и сильная слабость. Сообщали они и о том, какие меры приняли доктора.
Первым порывом Константина было вскочить в седло и мчаться к брату. Когда тот заболел в двадцать третьем году рожистым воспалением, Константин так и сделал — уже через два дня он был у постели брата, бросился перед ним на колени, целовал и обнимал больного. Но тут не два дня — всю страну с севера на юг надо было пересечь, чтобы доскакать до Таганрога.
Что с ним, как он, как изменилось его состояние теперь, когда прошла почти неделя с часа отъезда курьера, — такие мысли терзали Константина. Он не верил в плохой исход, знал, что Александр, воспитанный, как и он, в спартанском духе, крепок телом, но невольно подумал о странном капризе судьбы.
Александр поехал в Таганрог, чтобы повезти Елизавету Алексеевну на юг: доктора в один голос твердили, что ей необходим тёплый морской воздух, рекомендовали юг Франции или Италии. Никуда за границу Елизавета Алексеевна не согласилась ехать. Все при дворе знали, что императрица очень плоха, доживает, может быть, последние месяцы, а то и дни. Чахотка доедала её тело, похудевшее до того, что кости выступали из платьев.
Весь двор ждал, чем кончится эта поездка, которую Александр предпринял, вероятно, лишь из чувства долга: они с женой не были близки уже десятка два лет, никогда их не связывало чувство любви, и Елизавета Алексеевна была одинокой и нелюбимой в царской семье. Она не блистала, двор замирал без увеселений и праздников, когда император уезжал из столицы, а в последние годы он всё время разъезжал, будто что-то гнало его то из конца в конец страны, то за границу.
Свекровь, Мария Фёдоровна, сильно не любила невестку — образованная, воспитанная, изящная Елизавета Алексеевна словно возвышалась над ограниченной прямотой матери-императрицы. А когда случилось сватовство шведского короля Густава Четвёртого, отказавшего в руке старшей дочери Павла и Марии Фёдоровны, Александрине, а потом предложившего разделить с ним престол и корону сестре Елизаветы Алексеевны, Мария Фёдоровна и вовсе озлобилась на невестку, усматривая во всём этом её происки.
Все ждали смерти императрицы, знали приговор врачей, и потому Александр поехал в Таганрог, чтобы то ли успокоить свою больную совесть и побыть при последних часах Елизаветы Алексеевны, то ли устав от напряжённых трудов и великих разочарований.
Константин давно отрёкся от престола, но Александр не опубликовал документ, не дал никому проникнуть в эту тайну. Обнародовать манифест об отречении Константина, всенародно заявить, что престол переходит к младшему брату, Николаю, он не торопился. Только трое знали об этом: мать, Мария Фёдоровна, сам Константин да император.
Пожалуй, Константин догадывался, почему его брат не спешил с обнародованием этого документа: может быть, он ещё надеялся, что смерть жены позволит ему, императору, вновь выбрать себе спутницу жизни, может быть, у него ещё будет наследник по прямой линии — неисповедимы пути Господни.
Тогда и манифест об отречении, первый такой печальный опыт в царской семье, станет ненужным — прямая линия наследования может привести ожидаемого наследника на престол по закону, изданному ещё Павлом.
Ведь и титул цесаревича присвоил отец Константину лишь потому, что у Александра не было наследников мужского пола. Павел ожидал, что у Константина будут такие наследники, и тогда от него пойдёт династия, но и у Константина таких наследников не оказалось.
Теперь Дибич и Волконский сообщали, что Елизавете Алексеевне стало намного лучше, зато император в болезни и занемог серьёзно.
Но на другой день Константин получил известие, что императору полегчало, он даже поел, вставал с постели, и с сердца цесаревича словно свалился тяжёлый камень: пусть что угодно, он готов отречься от престола ещё и ещё, только бы его возлюбленный, обожаемый брат оставался живым. Он не мог себе представить, какая пустота образуется возле него, если брат отойдёт в мир иной.
Константин созвал всех своих адъютантов, объявил им радостную весть — болезнь императора отступает, — и приказал вынести вина — сам он не пил ничего, кроме воды, но эту радость стоило отметить.
Едва все пригубили бокалы, как вдруг дежурный снова скользнул в дверь — приехал курьер, ещё один курьер из Таганрога. Пакет выпал из рук Константина: Александр скончался... «Страшная насмешка судьбы, — в первый же момент подумал Константин, — ещё сравнительно молодой, сорокасемилетний император, крепкий телом, здоровый, с пылом молодости скакавший на лошадях, думавший о новом потомстве, умер, а его жена, чахоточная, плоскогрудая, едва ходящая, едва дышащая, осталась жива».
Что же теперь? Он крепился, хотя слёзы то и дело проступали на его глазах. Надо было отправить брата, Михаила Павловича, к матушке и Николаю, ещё раз подтвердить, что ни в коей мере не претендует на престол, что слово его, данное государю Александру, брату его, твёрдо.
Он написал матушке, что и она присутствовала при его отречении, она знает волю Александра, что сим он желает засвидетельствовать, сколь неизменна его воля следовать своему обещанию. А в письме к брату Николаю он удостоверял, что отречение, данное им ещё в 1822 году, нерушимо и что он хочет лишь просить дозволения у нового императора служить ему в тех же должностях и чинах, что пожалованы ему были покойным императором.
Константин отправил Михаила в Петербург, считая эти два письма официальными.
Однако Николай думал иначе. Да и как он мог думать, если покойный император оставил своё завещание и письмо с отречением Константина в полной тайне, не посвятив в них даже самого Николая?
Но прежде, чем Михаил прискакал в Петербург, произошли события, которые поставили Николая перед необходимостью присягнуть старшему брату.
Да, завещание Александра было зачитано в Государственном совете, да, отречение Константина было признано добровольным и подписанным им, однако Николай полагал, что он отказался от престола, будучи великим князем, а не императором, а в силу закона о престолонаследии только Константин имел право занять российский трон.
На другой же день все войска в Петербурге присягнули новому императору, Константину, на церковных службах ему провозглашалось «здравие», и по всему Петербургу пошли гулять слухи о новом императоре, который до сих пор сидит в Варшаве и не изъявляет никакого желания появиться в своей столице.
Николай сам способствовал этим слухам: желая показать, насколько его стремление царствовать законно, он первым принёс присягу старшему брату, хотя знал уже об его отречении.
Михаил прибыл в Петербург и прежде всего прошёл к матери. Он привёз письма Константина, и Мария Фёдоровна должна была удостовериться, что у её второго сына нет стремления занять российский престол.
Долго сидела она с Михаилом, читая письма Константина и расспрашивая самого младшего сына о последних днях и часах его пребывания в Варшаве. Она поняла, что Константин не приедет в Петербург, как настаивал Николай, что отречение его верно и неизменно, но маленькая деталь царапнула её сердце: Константин не приводил к присяге Николаю свою Варшаву — то ли ждал официального приказа, то ли затаился, выжидая, что будет в Петербурге.
Однако она вышла к Николаю, ожидавшему в приёмной, с весёлым лицом.
— Ну, Николай, преклонитесь перед своим братом — он заслуживает почтения и высок в своём неизменном решении предоставить вам трон...
Но преклонения в голосе Николая не было.
— Прежде чем преклониться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я должен сделать это, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается от трона, или того, кто принимает его при подобных обстоятельствах.
Николай всё ещё считал, что Константин должен приехать в Петербург, отречься от трона уже как император. Тогда вступление его, Николая, на престол выглядело бы законным в глазах всего народа и все слухи об узурпации трона пресеклись бы в самом зародыше.
— Одних сих актов недостаточно, — говорил Николай матери, — необходимо прибавить к ним манифест от Константна, который освободил бы его от присяги, ему данной.
Мария Фёдоровна согласилась с мнением будущего императора, и снова и она, и Николай писали к Константину с убеждением, что одних актов Александра недостаточно, необходим и его приезд в Петербург, и его новое отречение, уже как императора. Письмо было отправлено с фельдъегерем. Константин получил его скоро и раздражённо отвечал матери и брату, что приглашение приехать в Петербург он принять не может, уверяя, что удалится ещё дальше, если всё не устроится согласно воле покойного государя, и поясняя, что непреложное и ни в чём не изменившееся его отречение не может и не должно быть извещено ни в какой другой форме, как только через обнародование завещания покойного Александра и всех приложенных к нему актов.
Оба отстаивали свою правоту: Константин хотел убедить всех, что поступает по воле брата, что лишь это священно и нерушимо для него. Николай же требовал закона, не давшего бы ему возможности не восходить на трон, но ставшего бы и для него непреложным и единственным.
Константин не желал трона, Николай не желал незаконного восшествия — разные точки зрения привели к печальным последствиям...
Пока братья препирались, настаивая каждый на своём, по Петербургу поползли слухи об узурпации трона. Этим воспользовались участники тайных обществ. Трёхнедельное междуцарствие словно бы нарочно было создано для восстания.
Однако Константин не сделал ничего для того, чтобы восшествие на престол младшего брата не сопровождалось возмущением. Он просто закрылся от всех в своём Брюлевском дворце в Варшаве, не принимал никого, не совершал своих обычных разводов и приводил в недоумение публику не только в столице, но и в самой Варшаве. Правда, о своём отказе царствовать он известил председателя Государственного совета князя Лопухина и министра юстиции князя Лобанова-Ростовского, просил и брата принять от него верноподданническую присягу, не имея никакого желания к новым званиям и титулам, лишь хотел ограничиться тем званием цесаревича, которым был удостоен за службу покойным родителем, и сохранением за ним тех должностей и чинов, что возложены были на него покойным братом.
Конечно, легче всего этот узел мог бы распутать сам Константин. Но он страшился ехать в Петербург, страшился встречи лицом к лицу с Николаем, но более всего боялся, что и его убьют, как императора Павла. Эта мысль тревожила его больше и больше.
Императорский комиссар Новосильцев, бывший в Варшаве вторым лицом после Константина, сразу после объявления о кончине Александра обратился к великому князю:
— Какие же теперь будут приказания вашего величества?
Константин повернулся к нему и громким голосом заявил:
— Прошу не давать мне этого не принадлежащего мне титула.
И снова в продолжение всего разговора Новосильцев называл великого князя величеством.
Константин в гневе закричал:
— В последний раз прошу вас перестать именовать меня не принадлежащим мне титулом и помнить, что теперь наш законный государь и император — Николай Павлович!
Здесь впервые услышали все приближённые цесаревича, кто будет императором, и замерли, ожидая объяснений.
Но их не последовало. Зато курьеру, прибывшему из Таганрога с рапортом от Дибича о состоянии армии и подавшему Константину пакет с надписью «Его Императорскому величеству государю Константину Первому», он приказал тотчас скакать в Петербург, вернув ему пакеты нераспечатанными и запретив видеться с кем бы то ни было в Варшаве.
Странное, казалось бы, положение: с одной стороны, признавать законным нового государя, с другой — не делать ничего, что подтверждало бы верность этому государю. Константин выжидал, как обернутся дела в Петербурге, присягнувшем ему, а не Николаю, не приводил к присяге двор, сановников и все войска в Варшаве.
На что он надеялся, о чём мечтал, что тревожило его?
Смутная надежда, что вот возьмут да и провозгласят его императором вопреки его воле? Трагическая тень российского трона?
Однако Иоанна, его польская жена, женщина, ради которой он отказался от трона, рассеяла все чаяния мужа. Умная, честолюбивая, но очень реально оценившая его шансы на престол, она сказала Константину:
— Оставьте надежды. Будьте в Варшаве тем, что вы есть, а Россию предоставьте другим...
Она не любила Россию, не понимала её и не хотела быть там даже неограниченной самодержицей.
Николай не постеснялся вскрыть пакет, который адресовался Константину. Это дало толчок к продолжению дела, которое словно бы застряло на полпути. В донесении Дибича речь шла о существующем заговоре, им открытом и распространившемся уже на всю империю, от Петербурга до Москвы, от Бессарабии и даже до Польши. Подтверждалось это показаниями юнкера Чугуева, служившего в Чугуевском военном поселении, и донесением капитала Майбороды, состоявшем на службе в третьем пехотном корпусе.
Сеть заговорщиков была настолько обширной, что Николай схватился за голову. Тут уже было два пути: либо оставить всё как есть и ждать, пока заговорщики не отважатся на решительные действия, либо срочно арестовать их, даже не дожидаясь вступления на престол.
Вышло иначе — оба эти события совместились...
Николай приказал собрать Государственный совет. Выйдя к сановникам, он произнёс только:
— Я выполняю волю брата Константина Павловича.
И вслед за тем зачитал манифест о своём восшествии на престол. Обнародовал и другие документы.
С утра должна была состояться присяга войск. Что из этого вышло, давно всем известно. На другой же день после подавления восстания на Сенатской площади Николай написал Константину: «Я выполнил волю вашу! Я — император. Но, господи боже, какой ценой! Ценою крови моих подданных...»
Константин спокойно отнёсся к повелению императора о присяге, все войска безоговорочно приняли её, обязавшись служить новому императору верой и правдой.
Своему воспитателю Лагарпу немного позже Константин писал: «Раз принявши положение, одобренное покойным нашим бессмертным императором и моей матерью, на всё остальное смотрел я как на простые последствиями роль моя была тем более легка, что я оставался на том же посте, который занимал прежде и которого никогда не покидал.
Доволен и счастлив, насколько это возможно. Всегда знал — повиновение самое пассивное, действовал с полной откровенностью, без задней мысли, старался, чтобы делать то, что предписано, хотя бы и против моего мнения. Очень немногие поймут меня — они не имели счастья служить императору-брату, императору-другу, императору-товарищу и благодетелю и питать те чувства, которые мы питали друг к другу».
Николай был иным. Он не был товарищем, Константин на полтора десятка лет превосходил его возрастом, они никогда не были близки.
Едва Николай вырос, как Константин удалился в Польшу, и они даже виделись редко. И у младшего брата осталось глухое недовольство старшим, не облегчившим ему восхождение на престол, оставившем его наедине с восставшими. Николай не пригласил старшего брата даже на коронацию в Москву.
Гнев, ярость, возмущение и одновременно глубокая скорбь овладели душой Константина, когда он прочитал в «Ведомостях» объявление о предстоящей коронации государя.
— Как, — распинался он перед Иоанной, — не пригласить меня, который вручил ему, в сущности, власть над Россией! Никогда не позволил бы себе такого покойный Александр, не унизил бы меня так...
— Константин, — нежно взглянула на него жена, — подумай сам хорошенько. Если приглашать тебя, значит, пригласить и меня. А поскольку ты старший брат, то и идти в церковь надлежит тебе впереди всех царствующих особ, рядом с государем. А как же без супруги? Значит, и я должна идти впереди матери-императрицы, впереди самой царствующей императрицы, впереди великих князей, их детей... Разве могут они позволить себе так сравняться со мной, жалкой княгиней Лович, всего лишь получившей титул из рук несравненного монарха, твоего обожаемого брата Александра? Я нисколько не обиделась б, если бы в такой процессии пошла самой последней, но для тебя это было бы унижением и позором. Пойми их пристрастие к этикету, которым я нисколько не дорожу, пойми их оскорблённые чувства. Ты думаешь только о том, что тебе больно, а попробуй стать на их точку зрения...
Константин молча стоял перед камином, как всегда, грея спину и невольно успокаиваясь от звуков завораживающего голоса жены.
— Так что же, мне так и оставаться здесь, в Варшаве?
— О нет, — улыбнулась Иоанна, — тебе надобно ехать в Москву, прибыть неожиданно, словно бы ты получил такое приглашение. Это я останусь здесь, я не поеду, а тебе непременно надо, это твоя родина, твой государь, это в конце концов твой брат...
Она убедила его, и он спешно выехал в Москву. На всех станциях он расспрашивал проезжавших, не было ли уже коронации, не опоздал ли он?
День коронации всё откладывался и откладывался: вдовствующая императрица Мария Фёдоровна то просыпалась в горячем поту, то ею овладевал озноб. Она всё ещё не могла оправиться от тяжёлой дороги в Москву. Старая, расплывшаяся, страдавшая головными болями и какой-то странной сыпью, она уже не имела столько сил, чтобы безбоязненно проделать долгий путь в карете из одной столицы в другую.
И Константин успел.
Пять дней от Варшавы до Москвы он проскакал галопом, постоянно приказывая погонять лошадей. И снова прокручивал в голове свою обиду: как мог брат не прислать ему приглашение, как мог его ближайший советник и друг Опочинин не уведомить Константина о дне коронации — он же просил сообщить ему об этом?
Бог с ними, решил Константин, он проглотит эту обиду: как теперь обижаться на брата, своего государя?
У заставы при въезде в Москву он оставил своих немногих спутников и полетел прямо в Кремлёвский дворец. Гвардейцы, стоявшие на часах, расступались перед ним — его ещё хорошо знали. Лишь перед самым кабинетом Николая дорогу ему заступил дежурный адъютант.
— Повремените, ваше императорское высочество, — низко поклонился он Константину, — я немедля доложу о вас государю...
Константин присел на низенький бархатный диван, стоявший в приёмной. Хорошо, что есть время немного прийти в себя, свободно вздохнуть.
Он увидел адъютанта, пятящегося задом из кабинета. Дверь неслышно прикрылась, адъютант повернулся к цесаревичу.
— Простите, ваше императорское высочество, — вновь низко поклонился он Константину, — государь просит вас несколько обождать...
Константин побледнел, но не сказал ни слова. Он молча сидел и ждал, словно какой-нибудь простой проситель. В такой роли ему ещё не приходилось выступать.
Через приёмную пролетел ещё один адъютант. Он мельком кинул взгляд на Константина и юркнул в дверь кабинета.
— Ваше императорское величество, — тихонько сказал он в спину громадной фигуры Николая, читавшего какие-то бумаги, — там, в вашей приёмной, цесаревич Константин...
— Так это о нём мне докладывали?! — изумлённо вскочил Николай.
Дверь из кабинета распахнулась, Николай бросился к Константину, сжал его в объятиях.
— Прости, брат, что заставил тебя ждать, — заговорил он, — не сказали, канальи, что это ты, я подумал, Михаил вернулся, а мне ещё нужно было просмотреть список...
Он словно бы проглотил следующее слово, но Константин понял: список приглашённых на церемонию коронования в самом Успенском соборе. Положив руку ему на плечо, Николай повёл его в свой кабинет, тепло осведомился, как он чувствует себя с дороги, получил ли вовремя приглашение к коронации, а сам быстро успокаивался: приехал без приглашения, пришёл во дворец один, значит, супругу свою оставил дома, что ж, молодец, понял ситуацию отлично...
— Вот погляди, как пойдёт церемония, — с напускным воодушевлением начал он рассказывать Константину о предстоящей коронации. — Ты пойдёшь справа от меня. Да, матушке что-то неможется, пойдём-ка лучше к ней, должно быть, она заждалась тебя.
Константин, сам никогда не умевший искусно притворяться, говоривший всё, что на душе, прямо и открыто, поверил напускной радости Николая, всему, что произносил тот, и мысленно поблагодарил Иоанну за то, что подтолкнула его к поездке на коронацию.
Мария Фёдоровна, расположившаяся со всем своим бесчисленным штатом в гигантском доме графа Разумовского, едва привстала на кушетке, где лежала, обвязанная полотенцем вокруг головы, и радостно-изумлённо приветствовала своего второго сына.
— Константин, уж и не чаяла увидеть тебя...
Он молча поцеловал её толстую руку с многочисленными перстнями, спросил о здоровье и выразил сожаление, что её одолевает немочь.
— Ничего, завтра, во время праздника Успения, я буду на обедне в Успенском соборе, — сказала Мария Фёдоровна и повернулась на подушках, жестом руки дав понять, что страдания её непереносимы и что им лучше отправиться восвояси.
Поддерживаемая своими статс-дамами, она и в самом деле на несколько минут появилась на другой день в Успенском соборе, но длинная церковная служба очень скоро утомила её, и она удалилась, едва выслушав первые песнопения.
Николай не отпускал от себя старшего брата, словно бы заглаживая его обиду. Он почти всю службу держал Константина едва ли не под руку, то и дело взглядывал на него, как будто приглашая вместе осенить себя крестным знамением.
Обида Константина давно растаяла: поместили его поблизости от апартаментов царя, и он с любопытством вникал во все тонкости предстоящей церемонии.
Но стороной, от одной из своих давних знакомых, к которой заехал по старой дружбе, он узнал вдруг, что Николай готовится принять корону из его, Константина, рук. Он странно забеспокоился. Зачем Николай это делает? Чтобы подчеркнуть, что он, Константин, передал ему престол?
Не медля ни секунды, поехал он к московскому архипастырю митрополиту Филарету и выразил ему своё недоумение. Тщедушный старец с длинной седой бородой почтительно беседовал с Константином и сказал ему, что если он не желает, возможен и другой исход ритуала, иное распоряжение.
Корону на свою голову Николай возложил сам, не прибегая ни к чьей помощи — ни митрополита, ни Константина.
Среди блестящей придворной свиты, нарядных членов императорской фамилии Константин чувствовал себя чужим. Он стоял рядом со всеми, стараясь не выделяться, и только доброе и приветливое лицо Опочинина, с которым он дружил и разделял все свои тайные мысли, заставило немного отогреться его сердце.
Выходя из собора, Константин шепнул Опочинину:
— Теперь я отпет...
Сумрачный, молчаливый, он принимал мало участия во всех празднествах по случаю коронации. Едва явившись на какой-нибудь бал, он сразу уезжал, отведав лишь вторую перемену кушаний на торжественном обеде, поднимался из-за стола и не обращал внимания на то, что его далеко не праздничный вид был замечен всеми и шёпотом обсуждался во всех московских гостиных.
Он уехал, как только закончились все официальные праздники, на которых ему полагалось быть.
Зато с удвоенной энергией принялся он за наведение порядка в Польше. Следствие по делу заговорщиков в Петербурге закончилось, но обнаружились следы, ведущие в войско польское и в русские войска, стоявшие здесь.
Константин негодовал. Ему так хотелось, чтобы в Польше было спокойно, а вот поди ж ты, и сюда забрались заговорщики, и кто знает, какими словами смущали они верных поляков. Сколько раз ручался он за поляков головой перед новым императором, клялся, что здесь всё спокойно и поляки должны быть лишь благодарны за милостивое к ним внимание.
Ещё бы! Деньги лились рекой на Польшу, войско польское было экипировано лучше, чем русское, арсенал битком набит оружием, а потоки пороха, пуль, довольствия изливались на Варшаву так, словно и не было в России другого воинства, кроме польского.
И хотя Новосильцев иной раз докладывал Николаю о брожениях в войске польском, Константин убеждал его в противоположном: «Совершенно уверен во всех войсках и начальниках частей, под командою моею служащих. Им нечем другим заниматься, как только службою».
За годы русского протектората бедная, разорённая Польша быстро превратилась в сильное, цветущее и благоустроенное государство. Финансы, школьное дело, торговля, промышленность — всё росло, развивалось благодаря сильным вливаниям России. Однако были люди, которых не устраивал благожелательный протекторат России, и они сеяли недоверие и ненависть к русским.
Нашлись среди поляков и декабристы...
Николай прислал Константину списки тех, кого следовало арестовать и отправить в Петербург для тщательного ведения следствия над государственными преступниками.
Среди тех, кому пришли вопросные листы следственной комиссии, великий князь увидел знакомую фамилию. Его адъютант, дерзкий, бесстрашный и остроумный Михаил Лунин, тоже был в этих списках.
Как, Лунин, прямой, честный офицер, его собственный адъютант, строго исполняющий службу, задумал вкупе с другими заговорщиками поднять руку на священную особу императора, а значит, и на него, правую руку своего государя? Нет, Константин не мог поверить в это. Так что же? Неужели конституция была им лишь приманкой? Он вспомнил, как кричали на Сенатской площади солдаты:
— Ура Константину! Ура конституции!
А когда их спрашивали, кто такая конституция, простодушно отвечали:
— Жена Константина.
Когда ему рассказывали об этом, он хохотал. Но кровь на Сенатской площади осталась, пушки Николая разогнали восставших.
— Не желаете ли поохотиться? — ответил Константин на вопрос Лунина, для чего он вызван к великому князю. Не повернулся у Константина язык расспрашивать Лунина, предлагать ему вопросные листы.
— С удовольствием, ваше императорское высочество, — удивлённо произнёс Лунин, как всегда, гордый своей выправкой. — Но у меня нет собак, чтобы идти по следу, а без собак какая охота...
— Возьмите мою свору, — торопливо согласился Константин.
— Благодарю, — щёлкнул каблуками Лунин. — На какое время?
— За неделю успеете положить два-три вепря и кучу зайцев, — закончил Константин.
Радостно возбуждённый Лунин выскочил из кабинета. Дмитрий Дмитриевич Курута, старая нянька Константина, ошарашенно поглядел вслед вылетевшему адъютанту.
— Поохотиться едет, — пряча глаза, сообщил ему Константин.
— Ваше императорское высочество, — заволновался Курута, — Лунину пришли вопросные листы, и если ему известно это, он улизнёт...
Константин подошёл к камину, встал перед ним в привычной позе — расставив ноги, грея нывшую спину.
— Знаешь, Курута, — задумчиво промолвил он, — в одной комнате с Луниным я бы не стал ночевать, но если он сказал, что возвратится, значит, возвратится. Слово его верное...
Старый грек покосился на своего господина, он угадал его мысли: ах, как хотелось Константину, чтобы Лунин не вернулся, чтобы ушёл за границу, ведь недалеко от Варшавы можно неплохо спрятаться в Европе...
Но Лунин явился ровно через неделю, привёз для Константина хорошо освежёванную тушу лесного кабана и пару-тройку зайцев.
И снова не решился Константин предложить ему вопросы из листов следственной комиссии, хотя других заговорщиков уже давно схватили и отправили в столицу.
Долго не отваживался он напрямик заговорить с Луниным, опасаясь его дерзкого ответа. Тайком приготовил паспорт, проездную, деньги, сложил всё в большой конверт.
— Лунин, — сказал Константин как о чём-то незначительным. — Не хотите туда, на запад? Деньги, паспорт — всё готово, — торопливо прибавил он.
— У меня нет намерения предать своих товарищей, — спокойно ответил Лунин,— и я готов разделить с ними их судьбу...
— Что ж, прощайте, голубчик, — грустно произнёс Константин. — Не поминайте лихом.
— И вы, Константин Павлович, — пробормотал Лунин, — дай вам Боже за вашу доброту. Столько лет вы меня терпели...
Они вдруг шагнули друг к другу и крепко обнялись. Лунин вышел, а через час арестантская карета уже везла его в Санкт-Петербург.
Лунин был приговорён к высылке в Сибирь, и это угнетало Константина до конца его дней...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Игуменья Мария проснулась ещё до света. Взглянула на крохотные кусочки стекла, оправленные в тяжёлую свинцовую раму, — за окном едва начинало сереть. С трудом, цепляясь за ободья узкой кровати, поднялась — спину схватывало нередко, особенно если долго ходила или сидела. Но бодрилась, сразу бралась за длинную палку — тот самый деревянный посох, что подарил ей в день свадьбы юродивый. Как сейчас помнила она его землистое лицо, густую чёрную бороду, простроченную нитками седины, лохматую голову со спутавшимися, давно немытыми и нечёсаными волосами.
«Игуменья Мария, возьми мой посох, — сказал он грубым хриплым голосом, — пригодится».
Она, радостная, юная, лёгкая, тогда изумилась. Вовсе она не игуменья, даже не монашенка, а Маргарита Нарышкина, теперь вот по мужу Тучкова, но юродивый насильно сунул ей палку в руки и исчез в толпе.
«В такой день от любого подарка не отказываются», — улыбнулся ей её Александр, красивый тем внутренним ярким светом, что всегда поражал её.
Лицо его как будто немного расплылось в её памяти, виделись одни лишь яркие голубые глаза, но, бросив взгляд на чуть выступающий в полумраке его портрет на стене, она словно бы обновила его образ в своей душе.
Наскоро плеснула холодной водой из кувшина в лицо, тщательно вымыла руки в медном тазу с душистым пенным розовым мылом из Парижа.
Только эту привычку — мыть руки парижским мылом — и сохранила она здесь, в обители. Ругала себя, но ничего не могла поделать.
И сёстрам привила этот грех — держать руки в чистоте и опрятности. Все они коротко стригли ногти, но пальцы их были изящны, и никогда не было под ногтями чёрной каёмки, хоть и ходили многие из них за скотиной, пахали землю и сажали овощи, рылись в земле, закладывая рассаду.
Так уж приучена была с детства Маргарита Нарышкина, эта привычка осталась на всю жизнь. И игуменья Мария лишь усмехалась, когда митрополит Филарет говорил ей о её святой жизни:
— Владыко, ты ещё не знаешь, как я грешна...
— Слава Богу, — крестился маленький Филарет, под длинной седой бородой которого едва виден был большой наперсный крест, — хоть одна грешная у нас — мать-игуменья, а то все кричат, что они святые...
Они давно подружились, сразу после того нелепого случая, когда Филарет наставительно сказал ей о такой же, как она, бородинской вдове, что смирением, видимо, заслужила Божью благодать. Тогда Маргарита, вспыльчивая и резкая, повернулась к владыке спиной, выскочила из его приёмной и даже громко хлопнула дверью. Она пришла к нему за утешением, за духовной помощью, измученная горем и пустотой, а получила лишь укоризненное замечание.
Тогда она приехала домой, закрылась в своём покое, не велела никому заходить и отказывать от дома всем посетителям.
Слуги отказали и Филарету, когда он заехал, поняв, как обидел Маргариту.
— Ничего, меня она примет, — не поспешил к выходу Филарет, а прошёл прямо в её комнату.
Она остолбенела, увидев владыку. Он низко поклонился ей, густым смиренным басом произнёс:
— Прости, обидел я тебя...
Она изумлённо подошла к его руке, приложилась, и слёзы полились у неё из глаз — едва начинали её жалеть, как просыпалась в ней страшная жалость к себе, и она рыдала от этой жалости.
Филарет строго попросил её перестать и дружески, но с пристрастием начал расспрашивать. Она рассказала ему, как на исповеди, что не знает, как теперь жить, что жизнь для неё утратила всякий смысл, что она не ведает, чем она так прогневила Бога — он отнял всё, что у неё было.
Они долго беседовали, много раз встречались и позже, и святитель наставлял Маргариту, помогал ей обрести душевный покой и полное приятие воли Бога. Она как будто блуждала в потёмках, а Филарет помог ей выйти на свет.
Потом она поселилась в Бородине, не в силах далеко отойти от дорогих могил, но её не оставили в покое то и дело появлявшиеся горемыки. Приковылял старик, воевавший здесь, в Бородине, и оставшийся без ноги. Его она приютила в своей сторожке, а самой пришлось обустроить новое, уже постоянное жильё.
Потом привезли парализованную и почти не говорившую крестьянку — муж так избивал её, что она перестала двигаться, а две её девочки вынуждены были скрываться от побоев вечно пьяного отца в лесу.
Маргарита приняла горячее участие в судьбе крестьянки, взяла над ней опеку, привезла и двух её дочерей. Из соседнего села пришла ходить за больной крестьянкой девушка.
И очень скоро увидела себя Маргарита окружённой людьми, чьи горести заставляли её искать возможности помочь им...
Игуменья Мария вытерла руки чистейшим полотенцем и только тогда стала на колени перед иконами.
Рассвет уже расстелил по земле розовые лучи ещё не видного за лесом солнца; от прямоугольного пруда, выкопанного посреди обители, струился лёгкий туман, а на траве высыпали бусинки росы, загоравшейся от прикосновения солнечных лучей.
Опираясь на высокий посох с загнутой ручкой, отполированной до блеска, Маргарита добрела до своего храма и взглянула на него с любовью и благоговением.
Мраморные колонны, подпиравшие карниз усыпальницы, возносились гордо и величественно, резные двери ещё закрывали вход, а ветер слегка шевелил языки висевших под навесом колоколов, и они издавали негромкий звук, словно приглашали к утреннему бдению у могил.
Она постояла на коленях возле надгробия, вспомнила, как в первые годы часто спускалась в склеп, надевала на голое тело вериги, истязала свою плоть.
Филарет запретил ей носить вериги, перебирать детские игрушки Николушки, постоянно блуждать в потёмках вокруг храма, приказал сложить в сундук всё, что осталось от дорогих ей людей.
Он наставлял её спокойно и строго, указывал на её слишком сильную привязанность к житейским делам, и постепенно она поняла, что не ей одной послал Бог несчастья, не только её заставляет осознать бренность и временность земного пребывания.
Под руководством Филарета приняла она постриг в монахини, а через несколько лет, когда община её разрослась, вокруг неё было уже около двухсот человек, зависевших от её воли, доброты и снисходительности, он рукоположил её в настоятельницы нового женского монастыря и в диаконисы.
В раннем христианстве диаконисы наравне с мужчинами — диаконами прислуживали епископам и священникам при совершении церковных таинств. Эти женщины, заслужившие своей святой жизнью всеобщее уважение, проходили обряд посвящения и причислялись к клиру[33]. Но в Средние века, когда распространился взгляд на женщину как на сосуд греха и грязи, чин диаконисы упразднили.
Филарет ратовал за восстановление древнего порядка раннехристианской церкви, и рукоположение Маргариты Тучковой в диаконисы было первым конкретным шагом в возрождении традиций первых на земле христиан.
Монастырь, который основала и постепенно довела до цветущего состояния Маргарита Тучкова, был началом на пути создания общин женщин, пожелавших уйти от мира, и строился на общих правах всех вступающих в него.
Православие делало акцент на одиночестве и созерцании, и монахини, поступавшие в монастырь, должны были сами заботиться о себе. Они сами строили себе кельи, добывали пропитание и одежду, да ещё должны были заплатить большой взнос при вступлении в него. В таких условиях — а это было широко распространено и в Западной Европе — бедным женщинам невозможно было вступать в монашескую жизнь, хотя бы и тяготели они к этому призванию.
В год, когда вступила на престол Екатерина Вторая, — 1762-й, в России было 678 мужских монастырей и 203 женских. Екатерина провела секуляризацию церковных земель, все монастырские крестьяне перешли в собственность государства.
Через два года число монастырей уменьшилось наполовину — осталось 308 мужских и 67 женских. Из бюджета государства им выделялось крайне мало, и монастыри влачили жалкое существование.
Государство в корне подорвало возможности для ухода в монастыри мужчин и женщин.
Таково было положение в этом деле к моменту прихода Тучковой к мысли о монастырской тишине. Нужно было в корне изменить сам уклад монастырской жизни, строить его на каких-то других основах, чтобы обеспечивать саму возможность его существования.
И Маргарита задумывалась о том, чтобы принимать в монастырь не только женщин из богатых сословий, способных поддержать его материально, но и бедных, кроме крепостных крестьянок — их запрещалось брать в монастыри государственными установлениями.
В конце восемнадцатого века зажиточные мирянки начали создавать в своих поместьях религиозные общины, в которых всё было общее, все кормились трудами рук своих, а поддерживали их окрестные города и деревни, жаждавшие их духовной помощи.
Именно таким и хотела видеть свой монастырь Маргарита Тучкова, в монашестве ставшая игуменьей Марией...
Она снова и снова подивилась тому странному стечению обстоятельств, которое заставило её навсегда уйти из мира и поселиться в Бородине. Словно сам Бог указывал ей пути.
Тополёк, посаженный хрупкими руками её Николушки, уже осенял своей густой листвой крышу храма, и она словно бы шептала его имя, едва лишь трогал её лёгкий ветер.
Маргарита оглядела с вершины холма всё пространство монастыря. Вдали виднелись кирпичные одноэтажные жилые помещения, трапезная, чуть дальше — разные хозяйственные постройки, откуда доносилось мычание коров и ржание лошадей. За кирпичной оградой, сооружённой на средства, выделенные царём Николаем, расстилались поля, зеленевшие овощами, основной едой монашек.
Первый домик, построенный Маргаритой для первой крестьянки, привезённой к ней, всё ещё был первым камнем и основой монастыря. Возле него начали строиться и зажиточные женщины, в основном вдовы Бородина.
Маргарите вспомнилось, сколько усилий приложила она, чтобы Святейший Синод разрешил общине называться монастырём, и как помогал ей Филарет в этих делах.
Только в 1833 году Синод начал эту процедуру — учреждение женской монастырской общины в Бородине. Но для этого необходимо было тщательно взвесить финансовое состояние, проверить, не входят ли в неё крепостные крестьянки, а уж религиозная честность и благочестие членов общины изучались так старательно, что Маргарита уже стала опасаться — нет, не будет женского монастыря, не пойдёт Святейший Синод против всех установленных ещё в прошлом веке правил.
Половину своего имения в Ярославской губернии Маргарита продала, чтобы внести взнос в общину, а крестьян в деревне Ломаново Тульской губернии освободила, обязав их за пользование землёй платить общине две тысячи рублей в год.
Всю свою генеральскую пенсию она вносила в общинный фонд.
И Синод разрешил бородинской общине именоваться Спасо-Бородинским женским монастырём.
После обители Тучковой такие женские монастыри, способные сами себя содержать, стали возникать во многих местах, и Синоду пришлось разработать правила и уставы для них.
Не была слишком богатой Спасо-Бородинская обитель, но все сёстры получали здесь бесплатно одежду, обувь, бельё, свечи, дрова, чай и сахар. А уж мыло матушка игуменья всегда приказывала покупать настоящее парижское.
25 тысяч рублей пожертвовал царь Николай на кирпичную ограду и постройку трапезной, а потом появились и другие благодетели — графиня Орлова-Чесменская, княгиня Юсупова, граф Шереметев, купец Игумнов.
Однако ни одна из сестёр не сидела без дела — они пряли, ткали, шили рясы и тёплые накидки, красили одежду, писали иконы...
Теперь игуменья Мария получила возможность пригласить для постоянной службы в церкви священников. Каждый год в бородинском храме шла торжественная служба поминовения — 26 августа стало днём всеобщего плача и памяти. Сама игуменья поминала погибших каждый год и каждый день...
Опираясь на посох, игуменья Мария направилась от храма к самому высокому месту Бородинского поля. Посреди расчищенного и утоптанного участка земли стояло странное сооружение — громадный перевёрнутый вверх дном деревянный ящик. Она знала, что это был памятник героям Бородинской битвы, закрытый пока от чужих глаз.
Сегодня, 26 августа, его должен был открыть император Николай. Первыми съехались иностранные гости, ветераны и оставшиеся в живы участники Бородинского сражения, а на поле потом предполагалось провести манёвры, какие были в тот день.
Нет-нет, она не будет смотреть на эти манёвры — игрушечные, учебные, разве могут они показать весь ужас сражения, дать представление о том, что было на этом поле после битвы? Она хорошо это знала...
Игуменья Мария брела по полу, спотыкаясь и оступаясь. Почти не было ровного места на нём, но овраги и рвы, вырытые участниками Бородинского боя, уже успел зарасти травой и густым кустарником, а кое-где на площадках цвели последние незатейливые летние цветы, развевались султаны лилового иван-чая, носились в воздухе пушинки от мелкой болотной травки. Она шла в своём высоком чёрном клобуке с маленьким золотым крестом на нём, в длинной чёрной рясе, края которой цеплялись за траву и колючки и видела перед собой маленькую фигурку Николушки, собиравшего бесчисленные ржавые гильзы в изломах холмиков и строившего из них целые баррикады.
Их было так много — гильз, патронов, неразорвавшихся ядер, она постоянно опасалась, что Николушка набредёт на какой-нибудь патрон, содержащий в себе смертельный заряд, и не убережётся. Но Николушка только смеялся и убегал далеко от неё, к братским могилам на опушке Утицкого леса, или к таким же холмам братских могил в самом Утицком лесу, или к кругам, оставшимся от огромных погребальных костров. Двадцать пять лет прошло с того незабвенного дня, а как будто мелькнуло лишь мгновение, потому что живы в памяти все события тех страшных дней.
Двадцать лет не вспоминала об этом поле царская семья — только один Константин приезжал сюда и пожаловал храму вызолоченный медный иконостас.
Его приезд Маргарита помнила долго — не слишком часто приходилось ей в жизни сталкиваться с этим смешным курносым человеком, но память о нём всегда была благодарной: она хранила воспоминания о том, что из его рук получила она кусочек своего скоротечного счастья, ему была обязана знакомством с Александром.
Празднично, наверное, будет сегодня, торжественно снимут этот огромный ящик с памятной стелы с золотым двуглавым орлом на его вершине, а потом, наверное, потянутся сюда и другие люди — полки поставят памятники своим однополчанам, родственники закажут надгробия.
Она подошла к маленькому скромному холмику у самого края поля — здесь лежала её незабвенная подруга Тереза Бувье. Вспоминалось, как шептала она в последнюю минуту: «Помните, тысяча рублей на масло для лампады Николушке, помните, не забудьте...» Она не забыла — эта тысяча рублей выкроена из скудного жалованья Терезы для лампады воспитаннику, к которому она была привязана как к родному. Поклонилась холмику: «Всё помню, Тереза...»
Частенько ругались они — и это вспомнила игуменья Мария. Маргарита не привыкла считать деньги, раздавала их направо и налево, а Тереза придерживала, иногда даже прятала, берегла крупу и муку, и нередко Маргарите приходилось брать их украдкой, чтобы помочь бедному крестьянину или его заморённой жене.
Католичка Тереза так и не приняла русскую православную веру, и похоронили её по всем её обрядам. А вот поди ж ты, прожила столько лет в православном монастыре вместе с ней, Маргаритой...
Рядом покоится и Марта, тоже подруга, тоже католичка, тоже жившая вместе с ней много лет в общине.
«Как странно, — думалось ей, — могла ли я предполагать, что когда-нибудь стану игуменьей Марией?» Даже тогда, когда приняла она постриг в монахини с именем Мелании, не подозревала, что станет игуменьей. Имя было выбрано Филаретом не случайно — какое сходство судеб, какая разница в веках!
Мелания была женой знатного римского вельможи в самые первые века христианства. Удивительная красавица, знатная, богатая, она была образцом добродетели. Мужество, целомудрие, божественная правда отличали её жизнь. Как и Маргарита, она потеряла сына и всю свою дальнейшую жизнь посвятила богоугодным делам.
Она уговорила мужа остаток дней провести в полной чистоте, а всё своё огромное состояние употребила на сооружение церквей и монастырей, выкупленных, на благотворительные дела. И всего этого было ещё недостаточно для святой женщины. Она отправилась в Палестину и близ Елеонской горы основала женский монастырь.
Недолго продержалось это имя у монахини Мелании. Святитель Филарет сказал ей вскоре:
— Полно тебе ходить чёрной булавкой! Пора тебе облечься в одежду, приличную жительству. Бог тебя призывает мною, недостойным!
Вот так и стала Маргарита игуменьей Марией и с этих пор не расставалась уже с посохом, подаренным ей юродивым.
Она ещё раз окинула взглядом Бородинское поле, блестевшее от росы под первыми солнечными лучами, и поспешила в келью.
У ворот монастыря её поджидал седовласый коренастый военный в генеральском мундире.
— Маргарита... — Он припал к её руке.
Она едва узнала в нём Павла, брата своего мужа.
— Мать-игуменья Мария я отныне, — благословила она его. — Мир тебе, проходи в трапезную, с дороги голоден, поди?
— Матушка, молись за меня. — Он снова поцеловал её руку.
И вновь перекрестила его игуменья Мария.
— Давненько не бывал, — сказал Павел, — но теперь, говорят, пышная церемония будет, получил приглашение как участник военных действий...
— Слава Богу, что хоть через двадцать пять лет вспомнили, — перекрестилась игуменья, — прости меня, Господи, за недовольство моё.
Павел помолчал.
— А ты, мать Мария, не изменилась нисколько, лишь бледна особенно, а глаза всё те же зелёные фонари, — вглядывался он в лицо невестки.
— Не греши, брат, — отмахнулась игуменья, — годы никому скидки не дают. Все стареем потихоньку.
— Я преклоняюсь перед тобой, — снова склонился Павел к её руке, — столько лет верна ты своему супругу, чтишь память его.
— Не только его, — вздохнула игуменья, — всех убиенных ежедневно поминаем в нашем храме.
— Я видел, — ответил Павел, — замечательный памятник, простой, величественный. Удалось же тебе, женскими твоими руками, создать такое...
— Не я строила, — скромно отозвалась Мария, — лишь знала, как построить, да каждую доску слезами смочила...
— А тополь Николушкин, погляди, как вырос, шепчется, будто напоминает о сыне...
Она опять вздохнула и, словно не желая, чтобы Павел увидел её слёзы, перевела разговор на другое:
— Как ты, всё один горе мыкаешь?
— Не нашлось такой жены, как ты, вот и живу бобылём, — улыбнулся он и погладил свои седые пышные усы. — Позволь повести тебя сегодня к панихиде?
Она молча кивнула головой.
Готовясь к церемонии у себя в скромной келье, игуменья Мария вдруг подумала, что если бы не посещение цесаревичем Бородинского поля вместе с его воспитателем поэтом Жуковским, то и сегодняшней церемонии не было бы.
Александру Николаевичу царь подарил деревню Семёновскую, все земли, примыкавшие к Бородинскому полю, и цесаревич, объезжая в своём путешествии Россию, чтобы познакомиться с народом, со своим краем, которым предстояло ему управлять, заехал и в Спасо-Бородинскую обитель.
Он никак не ожидал, что здесь свято чту? память героев, погибших в войне 1812 года, обошёл всё поле, много говорил с игуменьей Марией, изумлялся её стойкости и самоотверженности и посетовал в душе, что императорская фамилия никакого участия в этой народной памяти не принимала.
Причастный к великому сражению поэт Жуковский, написавший прекрасные стихи о нём «Певец во стане русских воинов», наставник цесаревича, также долго беседовал с Маргаритой Тучковой, рассказывал ей о подробностях битвы, обошёл все наиболее славные места. Но больше всего запомнился ему беломраморный храм, поставленный в память Александра Тучкова и всех павших воинов.
Едва солнце встало из-за леса и его лучи высушили росу на траве, как в дальнем углу поля появились первые полки гренадеров, пехотинцев, артиллеристов. Они заняли позицию так, как в двенадцатом году занимали её русские войска. А вслед за ними подъехали архитекторы, осторожно сняли деревянный ящик с памятника, накрыли его огромным белым шёлковым полотнищем, скрепив шёлковыми шнурами.
Чем выше вставало солнце, тем больше народа появлялось на Бородинском поле.
Суетились возле походного аналоя священники, облачась в дорогие золотые ризы, располагались вокруг него музыканты, и начали со всех сторон съезжаться гости.
Под руку с Павлом вышла из своей кельи и мать Мария. В этот день она оставила свой посох и опиралась только на руку старого генерала.
Чёрная стайка общежительниц Спасо-Бородинского монастыря заняла своё место возле памятника, готовясь сопровождать панихиду церковным пением.
Маргарита Тучкова медленно подходила к памятнику. Блестящее общество уже собралось возле него. Сверкали на солнце золотые шнуры, шитые золотом воротники подпирали щёки с непременными бакенбардами, блестели ордена и медали, расшитые золотом перевязи поддерживали шпаги.
Глаза слепило от золота, и мать Мария шествовала впереди этой блестящей толпы, странно контрастируя с ней. Высокий чёрный клобук резко оттенял её бледное до прозрачности лицо, широкая чёрная мантия скрадывала фигуру, но её высокий рост, стройность и спокойная походка будто отодвигали всех приглашённых и знатных приближённых от этой величественной фигуры.
Маргарита поднялась на возвышение, встала у самого постамента памятника, и её чёрная фигура на белом покрывале словно заставила всю говорливую и шумную толпу замолчать и впиться взглядом в этот живой памятник.
В это время от дороги между двумя шпалерами нарядных гренадеров понеслась к памятнику блестящая кавалькада. Впереди на белом могучем коне скакал сам император Николай Первый. Расшитый золотом военный мундир туго обтягивал его сильное тело, белые лосины, заправленные в гвардейские сапоги, облегали мускулистые ноги, а крепкие руки твёрдо держали повод.
И сам всадник, и свита, сопровождавшая его, промчались между рядами войск, и толпа окончательно затихла, устремив глаза на молодцеватого императора. Позади Николая скакали его наследник, члены царской фамилии мужского пола, сверкающая свита сановников и приближённых.
Стоявшие в окружении толпы войска закричали приветствия императору, загремели пушечные выстрелы. В порыве поклонения и те, кто пришёл на этот праздник, тоже кричали «ура» императору, любуясь его красивой посадкой и бравым видом.
Одна мать Мария безмолвно стояла у покрытого памятника, как чёрная статуя, как строгое напоминание о поминальном дне, а уж никак не об очередном блестящем празднике.
Слева от памятника толпились иностранные послы, гости императора из других стран. Среди них выделялся своим необычным мундиром герцог Лихтенбергский, зять Николая, через которого русский император оказался в родственниках с самим Наполеоном. Герцог был сыном Евгения Богарне, пасынка Наполеона и ближайшего его сподвижника. Шпага Наполеона, привезённая герцогом в подарок русскому царю, словно скрадывала память о нашествии Наполеона в Россию.
Император подъехал к ограждению перед возвышением, увидел одинокую фигуру матери Марии, стоявшую поодаль от блестящей толпы генералов и придворных, и громко, подняв руку, воскликнул:
— Ваше превосходительство, кланяюсь вам! Дайте мне вашу руку.
Он дёрнул шнур, шёлковый купол покрывала вздулся и мягко осел на постамент. Открылся скромный, простой памятник, возносящийся ввысь, словно чёрная стрела. На самой его вершине двуглавый золотой орёл смотрел и на восток и на запад — во все концы огромной империи.
Мраморные мемориальные доски по всем сторонам памятника были украшены золотыми надписями.
«Вторгнулись в Россию 554 000 человек, — быстро пробежала глазами мать Мария одну из них, — возвратились 79 000 человек».
Другая гласила: «Умерли за Отечество полководцы — Багратион, Тучков-1, Тучков-4, граф Кутайсов. Всем прочим — слава!»
— Не правда ли, — сказал матери Марии император, — какая прекрасная и трогательная картина для вас? Разделяю скорбь вашу. Да поможет вам Господь!
Обратившись к морю голов, усеявших поле, император добавил по-французски для иностранных гостей:
— Вот почтенная вдова генерала Тучкова, которая опередила меня на двадцать пять лет и воздвигла памятник неподражаемый... Прошу вас, скажите несколько слов, — обратился он к Тучковой по-русски.
Своим звонким красивым голосом мать Мария сказала всем, кто мог её услышать на таком расстоянии:
— Народу русскому кланяюсь — сердобольным родителям, братьям и сёстрам, чьи родные пали в кровавой брани в день святой Бородина. Оплачем их, они убиты, но довольно жили для Отечества, для чести государя, семейств своих. Они не восприемлют достояния вашего, но наследуют Христово... Русская земля народом своим держится. Молитвой воспоём его!
Она плавно и торжественно опустилась на колени, и тут же ангельски-звонкие и чистые голоса монахинь из её церковного хора начали панихиду. Пошёл вокруг памятника священник, кадя ладаном, кропя святой водой, а монахини все разливались в светлой молитве. Толпа стояла на коленях всю долгую панихиду, посвящённую памяти павших воинов.
Но лишь кончилась панихида, как загремели пушки, раздались боевые клики, и перед изумлённой толпой развернулось зрелище того дня, когда состоялась знаменитая Бородинская битва.
Мать Мария уже не могла вынести этого зрелища. Игрушечные выстрелы, игра в солдатики, манёвры войска на самом поле, где было столько трупов...
Она спокойно, едва держась на ногах, пошла к себе. Павел поддерживал её под руку.
На другой день она не смогла встать. Жестокая нервная горячка подорвала её силы. Государь, узнав об этом, направил к ней своего личного доктора, и состояние больной вскоре улучшилось.
Но все дни, пока проходил праздник, мать Мария больше не выходила из монастыря...
Закончились торжества, царская свита собиралась в Петербург, войска удалились, оставив на Бородинском поле бесчисленное множество обрывков бумаги, недоеденных кусков хлеба, мусор.
Николай перед отъездом поспешил выразить матери Марии сожаление по поводу её болезни. Он направился в монастырь, и келейницы предупредили игуменью о визите государя.
Она приподнялась, опершись на подушки, и приняла его полулёжа в постели. Николай участливо пожелал ей здоровья, ещё раз поблагодарил за благородное дело — сохранение в потомстве памяти о великом дне Бородинской битвы, а в конце визита, положив свою холёную большую холодную руку на её маленькую, сухую и бледную ладонь, спросил самым задушевным голосом:
— Я хотел бы быть счастливым, выполнив какое-нибудь ваше пожелание. Не нуждается ли в чём-нибудь ваш монастырь, есть ли у вас просьбы ко мне? Я всё сделаю для вас, — доверительно добавил он.
— Я бесконечно благодарна вам, ваше величество, за столь тёплые заботы о монастыре. Вы уже многое сделали для нас. Прелестная кирпичная ограда, Филаретовская церковь, великолепная трапезная — это всё дело ваших рук. Как я могу просить вас ещё о чём-либо? Да и другие помогают нашему монастырю, даже из Сибири направляют возы с крупами, продовольствием. Добрых людей немало на свете. У меня может быть только одна просьба, но она очень личная, и выполнить её можете лишь вы...
— Прошу вас, выскажите её, — мягко напомнил ей государь.
— Простите брата, — прошептала мать Мария.
И сразу почувствовала, как напряглась и поспешно отдёрнулась рука государя.
Она выжидательно смотрела на императора.
Её младший брат Михаил участвовал в декабрьском восстании и был сослан в Сибирь. Все братья и сёстры отвернулись от него. Даже самая младшая, Дуняша, вышедшая замуж за князя Голицына и жившая в богатстве и довольстве, которую Михаил обожал, не пожелала иметь никакой связи с братом. Правда, она и Маргарите не помогла ни одним рублём, ни одной копейкой. И Кирилл, старший брат, тоже отвернулся от Михаила. Кириллу хотелось, чтобы доля Михаила, выделенная отцом, досталась ему, Кириллу хотелось получить и дворец Нарышкиных в Москве, и подмосковное имение, переданное брату.
Одна Маргарита всегда помогала Михаилу чем могла: посылала посылки, иногда деньги, часто писала, невзирая на все запреты.
И вот теперь была удобная минута попросить именно об этом...
— Я подумаю, — холодно сказал Николай.
Он попрощался с больной и вышел, нагнувшись в низкой двери...
Император долго думал над просьбой матери Марии. Пять долгих лет прошло, прежде чем он вернул Михаила из ссылки, но всё равно отправил под надзор полиции в его подмосковное имение...
Спасо-Бородинский монастырь, основанный Маргаритой Тучковой, очень скоро стал известен во всех концах земли Русской и потому, что свято чтил память русских воинов, полёгших на Бородинском поле, и потому, что каждый день молился за их души.
Сёстры Спасо-Бородинского монастыря любили мать Марию как родную — никому и никогда не отказывала она в помощи, старалась словом, убеждением помочь понять простые божественные истины.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Будто сама судьба простёрла над Константином свою руку и не допустила его гибели в пределах царства Польского. Вот уж поистине удивительно, когда всё готово, чтобы погибнуть человеку, а какая-то нелепая случайность уберегает его.
За все шестнадцать лет своей жизни в Варшаве, за всю свою деятельность не позволил себе Константин Павлович уклониться от своих обязанностей, требовал от подчинённых слепо повиноваться, но и сам неукоснительно следовал этому правилу. Ни разу не пропустил он смотра, парада, тем более развода постов и войск.
А тут заболел палец на ноге — распух, почернел, да так, что ломота пошла по всему бедру: ни встать, ни забыть боль хотя бы на минуту. И ведь утром ещё не было ничего, на разводу на Саксонской площади случилась беда.
Впервые Константин не поехал на развод — доктор прикладывал к распухшему пальцу примочки и давал лекарства.
Развод кончился, и боль прошла, но время было потеряно, и Константину оставалось только негодовать на себя.
— Говаривал покойный князь Багратион: «Молода была — янычар была, стара стала — г... стала», — ворчал он, укладываясь, однако, в постель раньше положенного часа.
Утром боли как не бывало, палец снова пришёл в нормальное состояние.
А на Саксонской площади его поджидали с нетерпением. Заговорщики из польских тайных обществ решили прежде всего убить Константина. Сорок вооружённых молодых людей в плащах должны были явиться на площадь, замешаться в толпу зрителей и ждать приезда главнокомандующего польскими и русскими войсками в Варшаве цесаревича Константина Павловича, в сущности, неограниченного повелителя Польши.
Когда покажется Константин, заговорщики должны были перебить и всю его свиту, а потом провозгласить перед собранными на площади войсками независимость Польши от России, напасть на русские казармы и обезоружить находившиеся там соединения русских войск.
— Треклятый палец, — бормотал Константин, не подозревая, сколь большую услугу оказал ему внезапно образовавшийся нарыв.
В Варшаве уже было неспокойно. На стенах всё чаще появлялись прокламации с призывами ко всеобщему восстанию, с угрозами в адрес русского императора, всё чаще возникали на улицах молодые дерзкие парни в красных конфедератках с национальными кокардами, старались задеть русских солдат и затеять драку, а на Бельведерском дворце была наклеена бумажка, что скоро этот дворец будет сдан в наем.
К Константину то и дело поступали обличительные и остерегающие анонимные письма, рассказывалось о планах восстания, о главарях. Константин лишь бросал в огонь камина эти анонимки, сам он никогда не прибегал к подобному типу сообщений, и они выглядели в его глазах свидетельством подлости и грязи.
Правда, он распорядился в день, о котором ему донесли, что начнётся всеобщее восстание, усилить патрули из русских солдат, заменить поляков своими, местом сбора русских войск в случае тревоги определил Бельведерский дворец, где жил постоянно.
Но назначенный для восстания день прошёл, и Константин посчитал всё выдумкой, дурными угрозами и не возобновил предупредительных мер. Он всё ещё считал, что польские войска останутся верны ему, их преданность и дружелюбие казались ему неизменными.
Заговорщики тем временем разослали в польские полки своих представителей, приглашая принять участие в восстании, сигналом к которому должен был послужить пожар пивоварни в Сольцах, предместье Варшавы.
Общий план уже давно был разработан, обсуждён со всеми участниками, оставалось только назначить день. Константин не явился на Саксонскую площадь, и заговорщикам пришлось отложить всеобщее восстание.
Тем не менее общий план остался неизменным — убить великого князя, взять арсенал и раздать оружие народу, обезоружить русские войска и уничтожить всех генералов.
Первую часть плана поручалось выполнить тридцати двум студентам. Их привели к присяге и ждали лишь условленного знака, чтобы напасть на Бельведерский дворец.
Всё это время Константин не подозревал о решении главных заговорщиков. Его дворец охранялся только двумя безоружными сторожами-инвалидами, а массивная решётка ограды даже не запиралась на ночь.
Странное непростительное легкомыслие! Бельведер отстоял на семь вёрст от самой Варшавы, его легко было окружить, но за пятнадцать лет спокойной жизни в царстве Польском Константин и думать забыл о мерах своей личной безопасности.
За себя он никогда не боялся, но был сын, рядом жили княгиня Лович, слуги, челядь — всё требовало тщательного присмотра и охраны, но великий князь никогда не заботился об этом...
И в этот день он, как всегда, переоделся в лёгкий холстинковый халат, плотно пообедал и, всё ещё чувствуя лёгкую боль в пальце ноги, прилёг отдохнуть в своём кабинете, на неизменно кожаном тюфяке и плоской кожаной подушке.
Но едва он коснулся подушки головой и заснул сладчайшим сном, как в его приёмную вошли вице-президент города начальник варшавской полиции Любовидзский со своим адъютантом. Полицмейстер явился к Константину доложить о готовящемся восстании, но не решился будить его и молча ожидал в приёмной, отделённой от кабинета несколькими комнатами.
Уже смеркалось, в это время года темнеть начинало рано, а Любовидзский всё ещё ждал.
Камердинер Фризе внёс шандалы с зажжёнными свечами, и Любовидзский мерил большими шагами приёмную, подгоняемый всё более и более возрастающим беспокойством.
Слишком сильно надеялся Константин на благодарность и благородство поляков — даже по отзывам иностранных послов польское войско было теперь самым лучшим в Европе, самым организованным и хорошо обученным, и великий князь раздувался от гордости, показывая его императору во время недавней коронации.
Заслужив блестящую похвалу своей деятельности, он ещё ретивее принялся за свой труд. Даже с братом у него пошли некоторые разногласия: Константин всячески отговаривал императора от мысли послать польские войска к границам Турции в открывшуюся там кампанию. Себе под нос он то и дело ворчал, что война лишь развращает солдат, подрывает дисциплину, словно и не думал о том, для чего нужна вся эта дисциплина и муштровка.
Его доводы Николай признал неубедительными, но не хотел огорчать старшего брата, и войска остались в Варшаве.
И вот теперь Любовидзский должен был уведомить о восстании, которое готовилось именно в польском войске.
Но прежде чем полицмейстер дождался пробуждения Константина, он услышал шум во дворе Бельведерского дворца. Молодые парни в красных конфедератках, с ружьями бежали к центральному входу. Часть отряда обогнула угол дворца и спешила к другому — заднему выходу.
Сторожа-инвалиды не только не сумели оказать сопротивление студентам, но сразу были пригвождены к земле сильными ударами штыков.
Любовидзский подскочил к стеклянной стене, выходившей во двор, но уже не увидел студентов: топоча сапогами, поднимая страшный шум, мчались они по лестнице, по пути разбивая всё, что попадалось, — статуи, вазы, срывая со стен картины. Любовидзский отшатнулся от стены и заметил в конце коридора парней со штыками наперевес.
Он бросился бежать, конфедераты — за ним. Пробежав несколько комнат, тучный высокий полицмейстер успел распахнуть дверь кабинета Константина и громко крикнуть по-польски:
— Ваше высочество, спасайтесь! Вас хотят убить!
Захлопнув дверь, он помчался по коридору, крича и размахивая руками.
Константин вскочил с постели, бросился к двери на шум, но в кабинет влетел бледный и перепуганный камердинер Фризе, резко захлопнул дверь и задвинул обе задвижки. Ничего не объясняя Константину, он потащил его за руку к маленькой, незаметной в стене, дверце, ведущей на крышу, в одну из угловых башенок.
Любовидзский же бежал, петляя, от комнаты к комнате, но конца коридора его нагнали молодые и сильные студенты. Первый штык вонзился в его спину, потом были ещё шестнадцать...
Лишь после того как кровь обрызгала все стены и пол коридора, конфедераты поспешили к двери кабинета. Она оказалась закрытой, и студенты начали разбивать её прикладами, руками и ногами. Дверь не поддавалась — старая, дубовая, она скреплялась ещё и широкими железными полосами и не желала открываться при всех усилиях.
Другой отряд убийц наскоро пробежал двор и сгрудился у заднего подъезда. Навстречу им шёл такой же тучный, невысокий человек в генеральском мундире. Это был состоявший при великом князе генерал Жандр, всем свои обликом очень похожий на Константина.
Студенты тут же подскочили к нему, штык прошёл через всё тело генерала, и он упал. Ещё и ещё кололи убийцы бездыханного человека, в сумерках не различая его лица. Потом остановились и закричали тем, кто был внутри дворца:
— Спускайтесь вниз, он убит!
Но те, что ломились в дверь кабинета великого князя, ещё долго и бешено колотили прикладами дверь, выбили кусок толстой старой древесины, увидели через образовавшуюся щель, что комната пуста, и принялись крушить всё, что попадалось под руки.
Звенели осколки стекла, с серебряным звоном лопались старые зеркала, ножки больших прямых стульев ломались о столы и комоды, а диваны с жалобным треском выпускали пружины через вспоротую ткань обивки.
В узкое окно крохотной башенки Константин видел, как скользнули со двора красные конфедератки — над Варшавой уже занималось огромное зарево двух больших пожаров, били в стёкла башенки гулкие тревожные звуки колоколов, зазвонивших со всех католических костёлов, слышались выстрелы, шум и движение заполнили все улицы Варшавы.
Только семивёрстное расстояние да рощи на дорогах заглушали их, но Константин понял, что всё, о чём упорно твердили ему анонимы и о чём предупреждали агенты, началось...
«Варшава восстала, — с ужасом думал он, — и против кого? Против монарха, обласкавшего её своим вниманием, восстановившего страну, сейм, польский язык, войско». Поляки хотели убить и его, кто так их любил, кто позволил стране принимать реки денег, что текли в Польшу из нищей России, порох и пушки, ружья и обмундировку. Теперь они хозяйничают в арсенале, грабят всё, что было доставлено им же из России.
Константин дрожал от холода и горя: в башенке не было камина, а его лёгкий халат не держал тепла.
Он обернулся к Фризе — тот без слов понял великого князя, кивнул головой, прислушался к мёртвой тишине, охватившей Бельведерский дворец, и осторожно отворил маленькую дверцу на винтовую лесенку.
Фризе принёс из кабинета мундир и ботфорты, шпагу и пистолеты.
Константин быстро оделся и тут же повернулся к Фризе.
— Что с княгиней? Она жива?
— Они не посмели ворваться в её покои, — ответил камердинер.
— А я поначалу кинулся к ней, чтобы защитить, — горестно поник головой Константин, — лишь потом уразумел, чем ближе ко мне, тем больше опасности для неё...
Из окна башенки при далёком отсвете пожаров он увидел, что у Бельведерского дворца начинают собираться войска: тёмные тени солдат, ржание лошадей показывали, что прибыл гренадерский конный полк.
Константин сбежал по лесенке, прошёл кабинет, отодвинул задвижки. В конце коридора лежал в луже крови труп Любовидзского, в столовой царил хаос, все стёкла больших окон были выбиты, и осколки хрустели под ногами. В сумраке при отблеске зарева было видно, как ещё покачиваются ржавые спирали пружин разодранных диванов.
Великий князь то и дело натыкался на разбитую мебель, стащенные и разрезанные ковры, но почти не обращал внимания на разорение. «Кончилась спокойная славная жизнь в Варшаве, — внезапно подумалось ему, — что ждёт меня теперь, какая участь предстоит?..»
Ему показалось, что стоит взять командование над русскими полками, что должны были по тревоге собраться у Бельведерского дворца, выступить на улицы Варшавы, принять бой, и поляки покорятся.
Но он понял, что этот созревший в его голове план неосуществим: русских было вдвое меньше, чем поляков, — у них было хорошо снаряженное, сильное, дисциплинированное войско. И он сам создал это войско, своими руками сотворил себе противника.
Единственный путь сберечь русские полки — вывести их из города, постараться любой ценой сохранить, не ввязываться в кровавую сумятицу на улицах Варшавы. «Пусть сами с собой разберутся, — с тоской подумал он. — Найдутся же среди поляков здравомыслящие люди, не позволят черни резать и грабить...»
Уже строились поблизости от дворца солдаты, уже перекликались в сумраке, уже ржали лошади под торопливыми всадниками, когда Константин вышел на площадку перед Бельведерским дворцом.
К нему подошёл вице-адмирал Колзаков. Он едва добрался до Бельведера, обходя Варшаву окольными дорогами, выведя своих солдат из-под огня восстания.
Константин молча пожал ему руку. Колзаков также молча щёлкнул каблуками.
— Ступай, — наконец после долгого молчания сказал Константин, — отыщи княгиню на её половине. Я поручаю её тебе, вези её куда хочешь, лишь бы она была в безопасности.
Он остался с полками, отдавая приказания, а Колзаков поспешил во дворец. Он нашёл княгиню у себя в покое, окружённую женщинами из её придворного штата.
Высокая, тонкая, прямая, она стояла посреди гостиной, бледная и решительная. Хотя отчаяние и ужас были написаны на её лице, но она старалась справиться со своими чувствами, не поддавалась им. Во всяком случае, в голосе её не было страха, он звучал, как всегда, холодно и любезно.
— Я никуда не поеду, — сказала она, но губы её предательски дрожали, — ни за что не расстанусь я с великим князем...
Вице-адмирал долго убеждал княгиню выехать из дворца, но она всё так же решительно и непреклонно качала головой. Колзакову ничего не оставалось делать, как вернуться к Константину и передать ему ответ княгини Лович.
Едва он успел подойти, как услышал последние распоряжения Константина, расставлявшего прибывших солдат для обороны Бельведера.
— Княгиня ни за что не желает расставаться с вами, — тихо передал он великому князю.
— Чёрт, — пробормотал сквозь зубы цесаревич, — позиция слишком нехороша, манёвра нет, а нападения надо ждать с часу на час. Поляжем все без толку...
— Ваше императорское высочество, на Мокотовом поле можно расположиться с удобством, там простор для манёвра, и отпор дать мятежникам можно будет сильнее, если б они вздумали на нас напасть...
Константин насторожился. Он знал Мокотово поле, знал и то, что там находится вилла тестя Колзакова, Миттона-Вержба.
Да, позиция была бы настолько удобнее, чем тут, у Бельведера, что принять бой там можно было бы скорее и успешнее.
Подошли и другие генералы, уже вырвавшиеся из Варшавы.
— Вице-адмирал предлагает отступить к Вержбе, — сумрачно сказал Константин, — по моему расчёту, может быть, и верно.
Его дружно поддержали. Великий князь некоторое время ещё колебался, но потом отдал приказание готовиться к передислокации...
В распоряжении Константина был пока всего лишь эскадрон кирасир. Надо было ждать подхода других войск. В туманной измороси и мелком, всё покрывающем дожде послышался топот копыт, и к Бельведеру подъехал четвёртый эскадрон уланского полка имени его высочества.
Константин посветлел лицом. Стоя с непокрытой головой, в одном только мундире посреди площадки перед Бельведерским дворцом, он словно не замечал ни сумерек, освещаемых лишь заревами пожаров над Варшавой, ни капель дождя, оседающих на его лысине и остатках волос у висков, а также смачивающих его воротник и капающих за шиворот.
Его беспокойство и тревожное ожидание всё усиливались: сумеют ли подойти все войска, расквартированные в окрестностях столицы, — до Блони было двадцать вёрст, до Гуры пятьдесят, а до Скверневиц и вовсе шестьдесят. И эти войска ничего не знали о восстании в Варшаве, и Константину прежде всего надо было озаботиться тем, чтобы они не попали в ловушку.
Он отдавал приказы, посылал курьеров, он деятельно распоряжался, не имея ни минуты, чтобы увидеть жену и убедиться, что с ней всё в порядке.
Прошло несколько часов, и войска стали мало-помалу подходить. Подъехала конно-егерская польская рота, и Константин решил сказать своим любимым полякам несколько слов.
Он вышел к роте, как был, в одном мундире и с непокрытой головой, и обратился к ней на польском языке.
— Солдаты, — громко и раздельно говорил он, — вы не должны в настоящих обстоятельствах забывать долг воинской присяги...
И тут он увидел, как егерский подпоручик Волоечанский выхватил у одного из солдат ружьё и направил его прямо в грудь великого князя.
Константин не побежал, не склонился, он стоял и ждал, когда прогремит выстрел. И даже успел подумать: «Как было бы хорошо...»
Волосчанский нажал на курок. Осечка. Он передёрнул затвор, снова нажал на курок. Снова осечка. И ещё раз передёрнул затвор, и вновь нажал на курок. И вновь осечка.
Константин смотрел на Волосчанского. Тот пригнулся, выскочил из рядов и побежал к маленькой роще. Константин смотрел на него, пока Волосчанский не скрылся в темноте.
Великий князь продолжал свою речь.
Он всё ещё никак не мог поверить, что в бунте участвуют его самые любимые польские полки. Он посылал и посылал разведку в Варшаву, и ему доносили, что на улицах беспорядки, что его самый дорогой егерский полк — чвартаки — не только сам принимает участие в восстании, но разбил караул арсенала и раздаёт народу оружие. Большинство русских офицеров, остававшихся в городе, взяты в плен, чернь громит кабаки, жжёт дома, грабит ни в чём не повинных горожан.
Много позже узнал Константин, что его адъютанта полковника Засса изрубили в куски, двух других ранили и взяли в плен, а живущих в Варшаве русских не щадят, режут и обирают...
К рассвету подморозило, мелкий дождь обратился в снежную крупу, хлестал по лицам, и адъютанты с трудом уговорили великого князя облачиться в шинель и надеть треуголку.
Княгиня вышла из дворца едва одетая, села в карету, Константин вскочил на лошадь, и скорбное отступление русского войска из Варшавы началось.
Не было ни продовольствия, ни обозов, ни обмундировки, в чём были, в том и ушли. «Голы, по тревоге на бивуак, — писал на другой день Константин корпусному командиру, барону Розену, — кроме того, что на себе, у многих ничего нет». И всё-таки добавлял, сожалея о поляках: «Малость помилования более подействует, нежели сила...»
Временное правительство, образованное в Варшаве, прислало к Мокотову полю генерала Шембека, начальника польской дивизии.
Константин обрадовался ему как родному. Он знал Шембека, и тот всегда говорил Константину добрые слова.
Они долго беседовали, но Шембек, обещавший Константину уговорить польские полки, бывшие при великом князе, остаться верными присяге, грубо предал цесаревича. Он подъехал к полкам, скомандовал им идти на Варшаву и, проезжая мимо Константина, лихо запел свой национальный гимн «Ещё Польска не сгинела».
Измены, коварство более всего оскорбляли и возмущали Константина, и голова его, едва прикрытая остатками волос, становилась всё более и более седой...
Через два дня к Мокотову полю подъехал старый рыдван, запряжённый двумя измученными клячами.
Огромный узел с национальными кокардами лежал на козлах, а в четырёхместной карете разместились депутаты от Временного польского правительства, пользовавшиеся сильным влиянием, — князь Адам Чарторыйский, граф Островский, князь Любецкий и профессор истории Лелевель.
Княгиня Лович, бледная и решительная, отказалась покинуть крохотную комнату, где депутаты были намерены провести непосредственные переговоры с великим князем. Она осталась сидеть и то словом, то жестом останавливала мужа, вспыхивавшего от беспримерной дерзости депутатов, или обращала к ним своё строгое лицо, умеряя их вызывающий тон.
Сурово держался Константин на этой встрече, всегдашняя его вспыльчивость уступила место ледяной вежливости.
Князь Адам, друг юного Александра, участник всех молодых увлечений покойного императора, когда-то горячо обсуждавший с ним проект конституции, заговорил первым.
Он сказал, что восставшая Польша считает себя вправе покориться русскому императору не безусловно, а только при соблюдении непреложных требований: если будет восстановлена конституция, данная Александром и урезанная Николаем, если к Польше будут присоединены области, ранее ей принадлежавшие, и если император Николай объявит полную и безоговорочную амнистию всем восставшим.
Лелевель долго распространялся насчёт политических и экономических свобод Польши с точки зрения истории, и, хотя княгиня Лович воскликнула: «Не слушайте этого человека, он предатель!» — Константин с терпением, ему не свойственным, выслушал всё до конца.
И лишь тогда, когда ему была предложена польская корона, если он перейдёт на сторону восставших, кулаки его сжались и он холодно ответил:
— Император Николай — ваш и мой государь. А я здесь только первый подданный, и все эти вопросы может разрешить лишь его величество по своему высочайшему усмотрению...
— Как вы смеете оскорблять великого князя подобным предложением? — закричала княгиня Лович, не выдержавшая тона депутатов.
Но Константин взглянул на жену, и она умолкла.
Депутаты поняли, что Константин никогда не пойдёт против своего брата, даже несмотря на всю его любовь к полякам...
Здесь было решено многое: поляки открывали дорогу войску русскому к границе России, выдали пленных, а Константин позволил польским полкам, ещё остававшимся в его подчинении, вернуться в Варшаву.
Вместе со своим огромным узлом с польскими национальными кокардами, предназначенными для Константина и его свиты в случае, если он согласится принять польскую корону и торжественно вступить в Варшаву, отбыли депутаты восвояси.
И от этой короны Константин отказался...
Потом было долгое отступление к границам России, невыносимая тоска и боль разочарования, затем снова вступление в пределы Польши уже в составе русских войск, двинувшихся на подавление восстания, кровавое сражение под Гроховом, когда полки Константина, бывшие в резерве, оказались в авангарде и были вынуждены принять бой, потом стены Варшавы, под которыми цесаревич не позволил главнокомандующему Дибичу штурмовать прекрасную Прагу[34]... Он просился у Николая в отставку, но брат держал его на границе, имея в виду снова посадить в Варшаве наместником. И Константин сидел в Витебске, умоляя царя пощадить поляков и испытывая душевную боль от их измены...
До Витебска докатилась холера, и здесь Константин скончался, разочарованный, постаревший и утративший весь свой воинский задор.
В гроб, под его голову Иоанна положила свои прекрасные светло-русые волосы, обрезав их.
Император пригласил её жить в Царском Селе в качестве вдовствующей великой княгини.
Ровно через год после смерти мужа Иоанны не стало...
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1779 год
27 апреля. В Царском Селе в семье великого князя Павла Петровича Романова родился второй сын, великий князь Константин Павлович.
1796 год
15 февраля. Бракосочетание Константина Павловича с принцессой Саксен-Заафельд-Кобургской Юлианой-Генриеттой-Ульрикой, получившей в православии имя Анны Фёдоровны.
1798 год
Назначение Константина Павловича петергофским генерал-губернатором.
1799 год
Великий князь Константин Павлович — волонтёр в армии А.В. Суворова в Итальянском походе.
4 августа. Участие в сражении при Нови; за храбрость пожалован орденом Святого Иоанна Иерусалимского.
28 октября. Участие в переходе через Сен-Готардский перевал в Альпах; за храбрость и мужество пожалован титулом цесаревича, награждён орденом Марии-Терезии — императрицы Австрии, от короля Сардинии получен орден Анунциады с цепью.
1801 год
11 марта. Убийство Павла Первого, восхождение на престол брата Константина — Александра Первого.
1805 год
20 ноября. Участие в сражении при Аустерлице.
1807 год
27 ноября. При подписании Тильзитского мирного договора пожалован Наполеоном Бонапартом за храбрость орденом Почётного легиона.
1812 год
Участие в сражении под Смоленском.
1813 год
1 января. Участие в переходе русской армии через Неман.
8 мая. Участие в битве под Бауценом.
4 октября. Участие в битве при Лейпциге.
1814 год
Вступление в составе русских войск в Париж вместе с императором Александром и участие в подписании Парижского мирного договора.
1815 год
Прибытие Константина в Варшаву в качестве главнокомандующего русскими и польскими войсками.
1820 год
20 марта. Манифест о разводе Константина Павловича с Анной Фёдоровной.
12 мая. Бракосочетание великого князя Константина Павловича с графиней Иоанной Грудзинской.
1823 год
16 августа. Манифест российского императора Александра об отречении Константина Павловича от престола и назначение Николая Павловича наследником трона.
1825 год
14 декабря. Присяга Николая Павловича Константину; двухнедельное императорство Константина и его подтверждение об отречении от престола; восхождение на трон Николая Первого.
1830 год
7 ноября. Восстание поляков в Варшаве, покушение на Константина Павловича, его отступление с русским войском от Варшавы.
20 ноября. Предложение поляков Константину Павловичу принять королевский трон в Польше и его отказ.
1831 год
15 июня. Смерть великого князя и цесаревича Константина Павловича в Витебске от холеры.
ОБ АВТОРЕ
Зинаида Кирилловна ЧИРКОВА родилась на Урале, закончила факультет журналистики Ленинградского университета, специальный факультет ВГИКа в Москве. Её перу принадлежат сценарии нескольких художественных фильмов, трёх десятков документальных лент, сборники очерков, рассказов, сказок. Многие годы работала в газетах Крайнего Севера на Кольском полуострове, на киностудии «Молдова-фильм» в Кишинёве, в последние годы активно занимается литературной деятельностью.
Автор более десяти книг художественной прозы.
Исторический роман «Корона за любовь» — новое произведение писательницы.