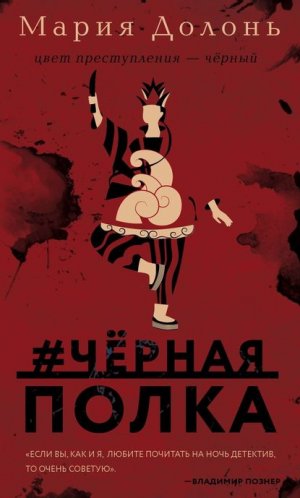
© Долонь М., 2018
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2018
Что может быть лучше хорошего детективного романа?
Ничего.
Много лет назад ехала я на ночном поезде из Лондона в Эдинбург. Было холодно, сыро, черно и бесснежно, и была неуютная эта Англия с ее неотапливаемыми квартирами, с умывальниками без смесителя — либо кипяток, либо ледяная вода; с ее левосторонним движением — каждую минуту меня собирался задавить двухэтажный красный автобус; все было как-то невесело и смутно. И вокзал стоял черный и чугунный, и пахло гарью, и публика была какая-то опасная, вечерняя, и я ни слова не могла понять на их так называемом английском языке.
И вот поезд, и вот наконец купе, и тепло, и проводник жестом просит выйти и сильной рукой опускает полки, и они превращаются в широчайшие, уже застеленные постели, белоснежные и мягкие; и он зажигает для тебя ночник и желает спокойной ночи, и поезд идет на север.
С облегчением зарываешься в это тепло и безопасность и вдруг видишь: на подушке, у ночника лежит книжка размером в ладонь — детективный рассказик тебе на ночь. Недлинный, в самый раз для слипающихся глаз — на дюжину страниц, легкое чтение, без кровавых кишок и без натужных американских погонь со стрельбой, а просто: пропало кольцо, кто же украл? — такое вот что-нибудь.
Никогда в жизни, ни до, ни после не была я так благодарна неизвестному английскому человеку, понимающему одинокую и зябкую душу ночного путешественника! Что бы у нас положили на подушку, случись РЖД внезапно проникнуться если не любовью, то хотя бы сочувствием к людям? Конфету? Запаянный в пластик сервелат в нарезке? Пластмассовый цветок — невянущую чиновничью ромашку? Желтый журнал со сплетнями? Стихи?
Боюсь, что стихи.
Английский человек знает: ничто так не утешает в холодную ночь, как уютное чтение детектива! Ведь, помимо всего прочего, этот волшебный жанр посылает нам подспудный сигнал: горя нет, зла нет, все придумано, все только сказка, все кончится хорошо, книжка закроется, и все злодеи останутся там, под обложкой; под кроватью никто не живет; одеяла и подушки ждут ребят!
Принято считать, что детективный жанр — не вполне литература: некие жесткие рамки не пускают автора развернуться во всю ширь. Пусть так. А зачем мне ваша ширь, если подумать? Мне нужна белая постель, ночник, тепло и маленькая литературная игра в пути на холодный север.
Авторы книжки, которую вы держите в руках, пять замечательных девушек, были моими студентками в семинаре «Пишем детектив». Но я ничему их такому особенному не научила — они и сами все прекрасно сумели сделать. Вся моя роль свелась к тому, чтобы предложить своим студентам: «А давайте…» — и они принялись писать, кто в одиночку (но не справились), кто «в складчину»; один очень даже захватывающий роман был написан бригадой из одиннадцати человек!
И вот семинар закончился, но девушки не разбрелись и принялись за новый проект; первую книгу этого проекта я с удивлением и с удовольствием представляю читателю. Самое непостижимое для меня — это как, каким образом они, самые разные люди с разными литературными голосами, слились в единый авторский голос так, что мы не чувствуем зазора?
Как говорит одна из них: «Мы пишем на одной волне, трудно сказать, где чья идея, мы как единый организм. И даже когда одна рука делает одно, а другая не согласна, в конце концов происходит рукопожатие и согласие». Рука — ладонь — долонь.
Этот единый организм — Нелли Абдуллина, Наталия Звёздкина, Татьяна Лебедева, Наталья Порошина, Елена Рыкова. А все вместе — Мария Долонь.
Возьму ее с собой.
Татьяна Толстая
Глава 1
Он был утомлен. Все-таки возраст есть возраст. Сейчас он мечтал, чтобы его поскорее оставили одного. Он потянулся к пепельнице.
Вдруг он почувствовал мягкое прохладное прикосновение к шее и следом сразу же — тонкий глубокий укол под затылком, будто нить невероятно длинного комариного жала вошла в голову.
— Что за… — прохрипел он. Голос неожиданно пропал. На беспомощном лице отразилось почти детское изумление.
Он изо всех сил попытался обернуться, посмотреть в глаза стоявшему позади него человеку, чтобы прочитать в них ответ на очень важный для себя вопрос. Жизненно важный. Но тело парализовало.
А через миг он уже не мог не то что сформулировать вопрос, но и вспомнить его. Все слова слиплись в жаркий комок пульсирующей боли. Ему чудилось, что его голова превратилась в кроваво-огненный шар. Только руки все еще боролись с жестким жгутом на шее, стремясь сорвать его.
Но это была иллюзия, его правая ладонь все так же безмятежно лежала на подлокотнике, а спокойная левая кисть изящно сжимала сигарету. Шея была перехвачена только легким атласным платком, ставшим для старика невероятно тугим и тяжелым.
Наконец, он смирился, поддался боли. Еще один удар, самый мощный. И наступила невесомость.
Он уже не услышал ни щелчка замков на портфеле, ни тихих шагов по коридору, ни скрипа входной двери.
Лаковые панели в коридорах редакции «QQ» покадрово отражали стремительное движение Инги — острое колено, щиколотка, рука у челки, наклон головы, холодная улыбка, идеальная прямая спина.
Она фурией ворвалась в кабинет главного редактора.
— Ну и как ты объяснишь мне эту хрень? — нависла над столом, сдунула со лба рыжую челку.
— За грубое нарушение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка, — автоматом выпалил Бубнов.
— Это что, тост? — Инга посмотрела на Бубнова в упор. — А теперь членораздельно и по пунктам. За что мы со Штейном уволены? Только не бубни! — Она знала, как он ненавидит это слово. Инга села, расправила юбку, закинула ногу на ногу. — Я не тороплюсь.
Бубнов поднял на Ингу желчный взгляд. Казалось, у главного редактора несварение желудка, которое он мучительно пытается скрыть.
— Вы со Штейном, — сказал он почти без выражения, — нанесли непоправимый ущерб медиахолдингу.
— О как! — Инга откинулась на стуле. — И чем же, интересно?
— Твое интервью с певицей Туми, во-первых, — Бубнов стал нервно загибать пальцы, — было взято без согласования с ее директором, в неподобающей обстановке. Во-вторых…
— Чушь собачья! Наш визит в больницу был согласован.
— Во-вторых, — Бубнов повысил голос, — директор Туми подает на нас в суд. За клевету и нанесение ущерба имиджу звезды. За то, что вы со Штейном воспользовались ее беспомощным состоянием.
— И это ложь. На всех фотографиях Туми нормальная, — чем больше закипал Бубнов, тем спокойнее становилась Инга. — Статья подняла рейтинг журнала. Это же хайп высшей пробы, который мы все так любим! Статью цитируют направо и налево. И ты говоришь мне, что мы со Штейном уволены именно за эту работу?
— Это не хайп, а скандал. Медиахолдингу не нужна популярность такого рода. «QQ» — издание элитарное, мы — тренд-сеттеры, рядом с нами — только Esquire и Vogue.
Инга достала из кармана пиджака сигареты. Бубнов выскочил из-за стола, пробежался по кабинету.
Охрану, что ли, хочет вызвать? Ух ты, драка!
Инга с удовольствием затянулась.
— Не кури! — зашипел Бубнов. Ответом ему был дым в лицо. Бубнов закашлялся, замахал руками, вернулся за свой стол. Хотел ногой придвинуть кресло, но не рассчитал движения, и оно отъехало в сторону.
Инга прыснула.
— Даже кресло, даже кресло убежало от тебя.
— Смотри! — рявкнул на нее Бубнов. Он не стал ловить кресло-предателя, склонился над клавиатурой, что-то набрал и развернул компьютер в ее сторону. Инга увидела изможденное полубезумное лицо певицы. — И что, скажешь, не ваших рук дело?
Она в замешательстве смотрела на экран.
— Дай сюда. — Отобрала у Бубнова мышь, стала листать снимки. Туми с безумным взглядом, страшная и пугающая. Туми с подвернутой голой ногой, с оскалом вместо улыбки.
Штейн, его работа. Талантливая, конечно, но точно не для глянца.
— Текст тоже почитай, — язвительно сказал Бубнов.
— Но это же рабочка! В продакшн и бильдам мы эти материалы не отправляли. — Она подняла на него негодующие глаза. — Каким образом это могло появиться в Сети?
— Слили с ваших компьютеров. Служба безопасности проверила. — Бубнов все-таки сел. — Сама знаешь, лоеры из любой прессы в суде мартышку делают. А адвокат у них знаешь кто? Добронравский! Так вот, во-вторых…
— Во-вторых было, Валер! Во-вторых, это подлая подстава!
— Ты меня вообще будешь слушать! — Он сорвался на крик. — Холдинг по досудебному соглашению изымает номер из продажи! Ты вообще рисуешь себе потери?
Повисла пауза.
Инга встала, смяла сигарету о зеркальную поверхность стола. Бубнов болезненно сморщился. Сказала раздельно:
— Фотографии были в карте памяти фотоаппарата. Его Олег из рук не выпускает. А ему я верю, как себе, — он не мог. И мне дико интересно, кто слил мои тексты. Найду суку…
У Бубнова зазвонил мобильный.
— Что значит — на съемку не приехал? Спасибо, старик, буду должен. Своих пошлем. Пишу адрес.
Бубнов прикрыл трубку рукой.
— Офис покинь немедленно.
Он нажал кнопку громкой связи.
— Эвелина, зайди.
В дверях появилась вышколенная Эвелина Джи с неуместной улыбкой во все зубы.
— Инга Александровна, вас проводить?
В редакции так обращались только к начальству и к чужим. Инга холодно оглядела Эвелину с ног до головы — на той были туфли с последнего показа GF, которые Инга, пользуясь своими связями, выкупила для нее за четверть цены. И неважно, что размер не подходил — Эля заверила, что ступни худеют.
— Не жмут? — небрежно спросила Инга, проходя мимо. — Зайди потом ко мне, пластырь дам.
За спиной Эля стучала каблучками, стараясь не отстать.
Картонное пространство офиса вдруг пришло в движение: зажурчали телефоны, взвились принтеры, заскрипели шредеры, шаги стали четче, взмахи рук — шире, голоса — громче. Каждый старался подхватить новый ритм, встроиться, не отстать. Несколько раз в месяц офис надевал шаблон деловой суеты — это значило, что в редакцию приезжал кто-то из учредителей медиахолдинга «Минерва», которому принадлежал журнал «QQ».
Отлично! Вот сейчас я все и узнаю. Арег!
Он шел вдоль стеклянной стены — строгий, недоступный, словно выточенный из гранита. Среднего роста, но казался высоким даже рядом с мощными телохранителями — окружающие невольно сжимались под его взглядом, становились немного лилипутами внешне и внутренне. Инга видела его ледяным и синим, как арктическая бездна. За его плечами была идеальная, без червоточин, бизнес-карьера: золотая медаль, красный диплом МГУ, MBA в Лондоне. Он не давал поводов для сплетен и пересудов и был не только одним из главных акционеров «Минервы», но и гарантией репутации всего холдинга. Непререкаем.
Чертов киборг!
— Арег, здравствуйте, вы должны меня выслушать…
Он невозмутимо продолжил путь, и она, увидев в этом согласие на разговор, тоже сделала несколько быстрых шагов. В этот момент один из охранников выставил вперед руку, словно шлагбаум, и Инга, со всей скорости налетев на нее, не удержалась на высоких каблуках и упала как подкошенная — на холодный серый пол. Несколько секунд она не могла подняться — только беспомощно хватала руками воздух под звук удаляющихся шагов.
— Бежи, детка, бежи! Надо уже что-то делать! — подгоняла новенькую коренастая азербайджанка, Сафура-Ханум, неизменный ассистент по аудитории ток-шоу «Культурология» на первом канале. А Ленка и так уже прыгала через две ступеньки, сшибая старушек, которые ждали своей очереди, чтобы идти в студию «на передачу». Они собирались на любые ток-шоу в Останкино, взбивая остатки кудрей и выгуливая старинные платья.
— Не берет трубу! До эфира час! Да где же он? — Сафура-Ханум, не отнимая телефона от уха, покатилась по коридору к студии. — А ну, голуби мои, кто на Волохова — за мной!
Публика послушно потянулась за Ханум. На «Культурологию» зрители приглашались исключительно для глубины кадра, другими словами, в качестве мебели. Но это никого не смущало. Небольшая плата свободным временем за возможность побыть очевидцем интересной дискуссии и, конечно, надежда засветиться на экране.
Через пять минут вся эфирная бригада собралась в кабинете исполнительного продюсера.
— Черт, куда ваш ведущий подевался? Мы так запорем первую Орбиту к чертям собачьим. — Евгений Данилович, исполнительный продюсер, бросил телефон, спустил ноги со стола на пол и тщательно протер электронную сигарету. Все следили за его руками. — Морги? Больницы? Ментовки?
— Глухо. — Сергей, старший администратор, помотал головой.
Волохов Александр Витальевич, тонкий и безукоризненный, раздражающе эрудированный, неизменно вежливый и выдержанный, полиглот, мастер интеллектуальных дискуссий, был ведущим «Культурологии» около десяти лет. И не было случая, чтобы за час до эфира он не сидел в грин-рум, как называлась на всемирном телеязыке артистическая комната ожидания, с кофе или с тонкой сигаретой, готовый к диалогу с панелистами, как дрессировщик ко встрече со львами. А вот улыбка у него была совсем не цирковая — без тени превосходства, едва заметная, внутренняя. Александр Витальевич оказался настоящей находкой не только для телевизионщиков, но и для зрителей, уставших от крика и драк в эфире. Почти полвека не выходивший из-за письменного стола, он неожиданно для всех и для себя самого согласился на предложение вести программу на федеральном канале. И вот первый срыв эфира, без звонка, без предупреждения. Телефоны не отвечают.
— Значит, так, — принял решение исполнительный. — Ханум сама знает, что ей делать с публикой. Сергей с новенькой, как тебя, Лена? Вдвоем на машине быстро к Волохову на Вспольный, вот адрес. Миша, вызывай МЧС и ментов, пусть ждут рядом. Но без Сережиного звонка дверь не вскрывать. И «Скорую» туда, платную, — дай бог, все в порядке, тогда с мигалкой назад, в Останкино. Погнали! Нет, стоп! — Он быстро набрал телефон. — МихалИваныч, здорово, дорогой! У нас форс-мажор, перехвати своими гайцами мою машину на Суворовской, протащите по Садовому через пробки на Вспольный. Эфир срывается! Да, Волохов. Спасибо, родной!
Сергей с Леной уже выходили, когда он крикнул им вдогонку:
— Возьмете мою машину, ГИБДД вам в помощь. Да, и вот еще что — с криминалыциками свяжитесь, пусть съемочная группа тоже гонит на Вспольный и сидит там в кустах. Пойдет МЧС, тогда и они с ними, если дверь ломать. Но в эфир без моего указания не давать. Дирекцию программ мне наберите!
«Только вышла на работу — и такое ЧП!» — Лена поднималась на третий этаж старинного дома на ватных ногах. Всю дорогу до квартиры Волохова она не проронила ни слова. Сергей гнал, как псих. У Театра Российской Армии у них перед носом вынырнула машина ГИБДД, врубила сирену с мигалкой и домчала до места, где по разделительной, а где и по встречке. У Юридической академии, остановив все шесть рядов, обе машины крутанулись через две сплошные, свернули на Спиридоновку, а тут и Вспольный.
— Ну где ты там? — Сергей уже взлетел на третий этаж и теперь выглядывал Лену в лестничном проеме.
Он нажал на звонок, и оба замерли, прильнули к двери. Тишина. Нет, шорох какой-то. Сергей еще несколько раз позвонил. Потом вздохнул и даже как-то замедлился. Достал телефон:
— Андреич, не открывают. Подгоняй участкового и своих с болгаркой. Да, вскрывать будем.
— Ой, — по-детски всхлипнула Лена. — Все-таки ломать? А близким разве не надо сообщить?
— Нет у него никого, бывшая не в счет, — буркнул Сергей.
Хлопнула дверь подъезда, и лестница наполнилась людьми. МЧС, полиция, бригада «Скорой». Справа от двери нависла камера, репортер замер в позе сеттера, почуявшего добычу. Лену оттерли к лифту.
— Мы у квартиры известного телеведущего Александра Витальевича Волохова. — Голос репортера звучал почти победно.
— Притухни, шакалье племя! Свои же! — Сергей отжал репортера от двери, камера продолжала снимать.
Замок взломали быстро. Трехметровая белая дверь поддалась, но Сергей удержал спасателей и вошел первым. В ноги ему с воем бросился рыжий кот, проскользнул на лестничную клетку.
В квартире пахло старым деревом и книгами, как в библиотеке. Сквозь полураскрытые плотные шторы почти не пробивался дневной свет, но лампы не горели. Громко тикали часы. Сергей тихонько позвал:
— Александр Витальевич, вы дома?
И пошел по длинному коридору, не ожидая ответа, чувствуя только бьющееся в горле сердце. Боковым зрением отмечал: в квартире чисто, убрано.
— Александр Витальевич…
Кухня пустая, еще одна комната закрыта, Сергей шел прямо, в гостиную.
Там, вполоборота к двери, в старинном дубовом кресле с высокой спинкой, словно на троне, сидел ведущий программы «Культурология», одетый так, будто с минуты на минуту должен был начаться эфир. Сергею на миг показалось, что в такт часам он качает ногой в темно-коричневом кожаном ботинке с перфорацией. Одна рука Волохова опиралась на подлокотник, на нее он склонил голову, другая рука — на бархатном колене, в пальцах он держал сигарету, превратившуюся в тонкий столбик пепла. От легкого порыва сквозняка пепел рассыпался, разлетелся по комнате. Сигарета упала на ковер. Рука соскользнула с подлокотника вниз, и голова, большая седая голова, лишившись опоры, дернулась и повисла.
Глава 2
— Э-э… что тут у нас? — Майор Рыльчин сидел напротив, скреб подбородок и бегал глазами по тексту экспертного осмотра № 16079–17. Дочитал, вернулся назад. — Ни второй подписи, ни печати… Кто прозектор? И вот это вот: «На границе роста волос, тымс-тымс-тымс, в затылочной области слева на границе с задней поверхностью шеи», тымс-тымс-тымс… где же это? А-а. «При дальнейшем исследовании в подкожном пространстве обнаружены следы кровоизлияния, предположительно вызванные уколом, произведенным в левую позвоночную артерию. Предполагается введение препарата». О как! «Для установления препарата, введенного в организм умершего, произведен забор биологического материала». — Он пробежал глазами до конца документа. — Подпись: заведующая танатологическим отделением бюро судмедэкспертизы Холодивкер Е. В. И чего?
Холодивкер Евгения Валерьевна, тяжеловесная брюнетка неопределенного возраста в очках, сгорбившись, сидела за столом и печатала на компьютере отчет о вскрытии.
— И чего? — повторил Рыльчин.
Она отодвинула клавиатуру и оценивающе посмотрела на него.
— Майор, вы не могли бы выразиться яснее?
— Ну это. След от инъекции, откуда он, что значит?
— То и значит!
— Ох-хо-хо… — Майор тяжело вздохнул, отложил в сторону бумагу, потянулся, всем своим видом показывая, что он здесь основательно и надолго. Потом вдруг встал и перед тем, как выйти из кабинета, коротко спросил:
— Точно, что ли, укол? Может, царапина? Или прыщ? А все, что вы там понаписали про мозг, — от старости? Человек-то в годах сильно.
— Совершенно точно. Я не след и не царапинку обнаружила на поверхности, а кровоизлияние в мягких тканях в зоне инъекции, понимаете? — Женя опять опустила голову в журнал.
Он пришел в морг час назад и бесцеремонно начал поторапливать, требовать заключение на смерть Волохова. Труп был сложный, в сопроводиловке из «Скорой» было написано «острая сердечно-сосудистая недостаточность». Давление, стресс, сердце или просто старость? Что же случилось?
Вскрытие проходило обычно — она не делала исключений для звезд. Стерильная одежда, длинный фартук, волосы под косынкой, перчатки и слепящий холодный свет. Тело на металлическом столе, щипцы и скальпели, разложенные в удобном для нее порядке. Лаборант Паша включил компьютер — каждое ее слово записывалось в протокол, как и положено при любом вскрытии.
— Жень, ты сегодня что-то молчишь? Заболела? Заскучала? Повеселить тебя? — Боря, санитар, как заправский мясник, без тени трагизма длинным ножом перерезал реберные хрящи.
— Да, замолчишь тут. Тебе все по барабану — пришел, пошутковал смену и на гульбу. А меня сейчас замотают с этим трупом. Ты ж видишь, кто это? Давай, Пашка, записывай.
«Кожный покров бледный, суховатый, дрябловатый, холодный во всех областях, — диктовала она лаборанту. — Трупные пятна синюшно-фиолетовые, интенсивные, разлитые, расположенные на задней поверхности туловища и конечностей, отсутствуют в лопаточных и ягодичных областях. При надавливании на них пальцем бледнеют и восстанавливают свой цвет через 6–8 минут. Трупное окоченение хорошо выражено во всех исследуемых группах мышц. Волосы на голове седые, редкие, длиной до 2,0 см. Волосистая часть головы и лицо без повреждений. Кости свода черепа, лица, хрящи носа на ощупь целы, веки сомкнуты, глазные яблоки упругие…»
Боря, не останавливаясь, руками, оплетенными наколками с драконами, уже поднимал грудную клетку.
— А нам какое дело до него? По мне, трупы все одинаковые, и моя скромная задача — вам, Евгения Валерьевна, его хорошенечко «подать». Вот, пожалте внутренности осмотреть, товарищ судмедэксперт Холодивкер.
Женя по очереди извлекала органы для описания — тяжелое сердце, ажурные легкие, рыхлую мышцу желудка, темную тусклую печень — они были сильно изношены, видны признаки хронических заболеваний, и причиной смерти могло быть любое. Она уже была готова склониться к версии «общая изношенность организма».
— Старость, вот что его убило, похоже.
— Не старость нас губит, а жадность, дорогая профессорша. Просил у тебя косарь до пятницы — а ты не дала!
— Ты прежний верни сначала, бесстыдник. Голову готовь, я пока перекурю.
Холодивкер вышла, достала сигарету и занялась привычным делом — уговаривать себя, что все смертны, смертны более-менее одинаково, вот вчера человек сидел «в телевизоре» и его обожали миллионы, а сегодня вместо гримеров-режиссеров-операторов и поклонников — только Боря с пилой Джигли, лаборант Пашка и она, Женя Холодивкер.
Но что-то было не так!
Боря уже подключил пилу, надел защитные очки, разрезал мягкие ткани, отогнул, потом быстро распилил череп по линии от уха до уха, снял кость и вынул мозг.
— А теперь — десерт.
— Помолчал бы, а? — Женя рявкнула на Борю, не взглянув.
В норме мозг был светло-серого, с перламутровым оттенком, цвета, но в этот раз Женя увидела плотные кровяные сгустки на нижней поверхности. Пришлось под струей воды осторожно отмывать каждый бугорок, чтобы найти источник такого сильного кровотечения. Казалось, вся кровеносная система мозга в одно мгновение взорвалась, будто ее изрешетили мелкими пулями или прожгли кислотой — множество мелких разрывов сосудов вмиг залили кровью все свободное пространство. Одно уже можно было сказать с уверенностью — смерть Волохова была быстрой.
Она одернула лаборанта.
— Не спи, Пашка, пошла картина маслом: наблюдается обширное субарахноидальное кровоизлияние на нижней поверхности головного мозга. Смерть наступила от попадания крови из субарахноидального пространства в желудочки головного мозга.
Лаборант еле успевал громко стучать по клавиатуре всеми пальцами сразу.
После восьмидесяти лет это было не редкостью — у пожилых людей сосуды истончены, мелкие аневризмы часто не выдерживали и разрывались. «Скорая» в таких случаях доехать не всегда успевала. Но сейчас разрывов было слишком много. Ни одного сосуда в мозге не было возможности освободить, вычленить из кровяной массы, чтобы отослать на анализ. Может, отрезок артерии забрать из шейного отдела?
Женя коротким скальпелем аккуратно освободила шейные позвонки. Кусачками отделила хрящевые отростки и увидела позвоночные артерии — именно они питают мозг кровью. Правая оказалась целой — ровной белой трубкой лежала вдоль позвоночника, а левая была также изранена, изрешечена отверстиями. Странно — откуда такая несимметричная картина? Женя сделала разрез до плечевых суставов, подняла кожу и пошла вдоль артерии выше. Ткани у левой артерии оказались наполнены кровью — внутренняя гематома. При внешнем осмотре ее было совсем не видно. Женя отвернула кожу обратно, взяла лупу и только сейчас ровно над местом гематомы увидела небольшую красную точку. След от укола.
— Не нравится мне этот укол, — пробормотала она едва слышно и добавила полушутя: — Уж не убийство ли?
Глаза лаборанта округлились, руки замерли. Боря снял маску и размашисто зааплодировал.
— Вот ты и нашла геморрой на свою голову! С чем тебя и поздравляю!
— Черт.
Женя перевела дух и скомандовала:
— Отставить шуточки! Препараты на анализ.
— Яволь, майн хенерал, — Боря вытянул руки по швам.
— Кровь, моча — на стандартный газхром, проверим на алкоголь. Дальше, на гистологию: мозг, сердце, почки, печень. На химию: фрагмент печени, желудок с содержимым, почку, кровь, мочу. С газхрома ответ будет дня через три-четыре. Гистология дней через десять, а общая химия только недели через три, а то и четыре.
Женя описывала этот труп с начала рабочего дня, то есть с восьми утра. Обычных повреждений криминального характера, других признаков внешнего воздействия на трупе не было. Зато наблюдались отчетливые признаки внешнего воздействия на саму Женю Холодивкер. С утра начались звонки из управления здравоохранения, затем пришел главврач — раз в год, какая честь, покрутился, спросил что-то неважное и ушел. Днем приехали телевизионщики. Внутрь их, конечно, не пустили, они раскинули лагерь прямо за воротами — ждали сенсации. Да кто им скажет сенсацию? Наивные. Зинаида Петровна, техничка, сначала шумела на них с крыльца, а потом сжалилась: вынесла промерзшей бригаде чай, покрутилась перед камерой.
А затем явился этот майор. Представился следователем ОВД «Пресненское» Рыльчиным. Женя попросила подождать, но он повел себя чрезвычайно брезгливо и как-то по-начальственному, а это было неправильно. В морге ретивых не любили. А этому, похоже, фуражка голову сдавила, кислород не поступает, а из человеческого только отпечатки пальцев остались. Только рапорт, только звание, только хардкор.
Рыльчин стоял в коридоре, дверь за собой не закрыл, и Женя слышала, как он говорит по телефону:
— Да. Да, заключение заберу. Э-э-э, да. Есть. Что делать?
«Ох, майор, лучше бы ты дверь закрыл и сразу домой пошел!» Женя дубасила по клавишам, дописывая заключение, стараясь заглушить неприятное ожидание. Сейчас начнется: «Гражданка Холодивкер, присаживайтесь, поговорим…»
— Евгения Валерьевна, еще несколько минут вашего внимания. Давайте присядем.
— Я вообще-то сижу. Как вы смягчились-то сразу, стряслось что?
— Вы опытный работник, — с нажимом начал Рыльчин. — Мне о вас сказали: самый лучший наш судмедэксперт. Это вне всяких сомнений. — Его тон вдруг ни с того ни с сего изменился. Он почти крикнул: — И что ж это вы делаете? Я вас спрашиваю, это что такое?
— Майор, я начинаю за вас волноваться. — Женя смерила его взглядом. — Что-то вы раскраснелись! Водички? Мы тут хорошо знаем, что бывает от повышенного давления. Может, оставим эту неловкую прелюдию? Перейдем к делу, у вас же дело ко мне, правильно?
— Душа моя, Евгения Валерьевна, дело-то у нас с вами общее. — Рыльчин опять стал благодушным. — Охранять спокойствие граждан нашей родины. Спокойствие!
Женя нахмурилась, но Рыльчин продолжал:
— Следственный комитет все бумаги проверяет, ну как полагается, когда труп известный, обычная история. Дело мы как бы не возбуждаем…
— Это как это «как бы»?
— Оснований никаких нет. Вот никаких. Труп наш — человек пожилой, уважаемый, в авторитете. Культурное сообщество взбудоражено, международная общественность волнуется, пресса набежала, то, сё. На виду, значит. К нам пристальное внимание. А мы им тут — укол неизвестного происхождения.
Рыльчин замолчал, сглотнул. Почесал подбородок. «Нет, майор, еще давай аргументы! Так просто не отделаешься!» Женя безучастно смотрела на собеседника.
— Вот отчего оно всегда так, — был вынужден продолжить Рыльчин. — Как большой человек, так возле него криворукие дурни? Например, был Иван Грозный, а при нем Малюта Скуратов. Вот еще Сталина возьмите — великий лидер, мир спас, а при нем такие бездари: Берия, Ягода. Всегда помощнички дело портят. И вляпываешься ты в историю, как сволочь, хотя и не виноват совсем. Да-а-а, вот так и гибнет репутация…
— Это вы сейчас о ком? — Холодивкер изобразила вежливый интерес.
— Да вот наваляли ваши прозекторы, труп попортили, а вы, Евгения Валерьевна, теперь вынужденно их покрываете и выводы всякие притягиваете. Как мне вам помочь, дорогая Евгения Валерьевна? Я готов, да ума не приложу. А ведь раздуют! Пресса же теперь везде нос сует. Ну с чего бы укол? В квартире чистота, следов драки или ограбления не имеется. Так пишем «по естественным причинам»? Хорошо?
— Майор… как вас?
— Анатолий Сергеевич.
— Анатолий Сергеевич, я тоже очень хочу вам помочь…
— Ну и славненько! Значит, «по естественным…».
— Ага! Вы сейчас естественно встаете и естественно покидаете наше учреждение, чтобы в следующий раз прибыть сюда в строго отведенный богом срок. Искренне желаю, чтобы не скоро. А я остаюсь исполнять мои профессиональные обязанности.
Холодивкер аккуратно выложила из кармана на стол маленький диктофон, на который обычно начитывала протоколы осмотра тел.
— Или включаем?
Рыльчин поджал губы и покачал головой.
— Э-э-э, Евгения Валерьевна, не осознаёте вы! Не понимаете всей меры ответственности. Вы же не только нам — вы себе головной боли добавляете! Неизвестно, как оно вам еще выйдет, это заключение.
Холодивкер потянулась к принтеру, достала свежеотпечатанные страницы, подписала в двух местах, смачно стукнула штампом и протянула Рыльчину.
— Рада была видеть!
Рыльчин так весь и подобрался, словно его ударили по щеке. Хотел зло ответить, но сдержался с видимым усилием. Взял заключение, скомкал, как будто намереваясь выбросить, и быстро вышел, не прощаясь.
«Эх, сразу надо было включать запись!» Женя потянула из кармана пачку сигарет, но в этот момент в комнату заглянула Зинаида Петровна.
— Ты бы пообедала, Жень? С утра сидишь, головы не поднимаешь.
— Не хочу, Зинуль, вот поверишь, совсем!
Женя была вынуждена признаться себе самой, что этот тип из «Пресненского» испортил ей настроение. Страха не было — только горькое чувство, что ты работаешь зря. Что истина никому не нужна. Равнодушие — вот главный диагноз, что бы там в учебниках ни писали и ни говорили на конференциях. Она сидела за столом и смотрела прямо в стену, выкрашенную в «убедительный зеленый» — ремонт, который они с коллегами сделали сами, избавляясь от штатного синего, который в свете галогеновых ламп становился практически черным. Все-таки случались моменты, когда она жалела, что выбрала эту профессию.
Нет, здесь не равнодушие. Злой умысел, в итоге заключила она.
Майор Рыльчин за рулем машины быстро набирал на телефоне сообщение: «Нужен другой СМЭ. У этой без шансов».
Инга проснулась от холода. Поискала глазами будильник, смогла рассмотреть только часовую стрелку — одиннадцать. От боли закрыла глаза. Виски резало острыми спазмами, в животе болело и справа, и слева. Ледяной воздух с улицы вместо свежести вызывал жар.
Сколько же мы вчера приняла?
Инга откинула одеяло и увидела, что завалилась спать в штанах.
Ну и ладно, одеваться не надо. Вставай, пьянь безработная. Тебя ждут великие дела, и первое на сегодня — борьба с похмельем.
Если сейчас не позавтракать, то через час отравленный алкоголем организм почувствует недостаток серотонина, и мозг зальют отвратительное чувство стыда и депрессия. Не самое лучшее начало для новой жизни — без редакции и без работы. Она встала, прошла босая на кухню, постояла на холодных плитах, прижалась лбом к стеклу.
Сделала себе кофе.
Это не головная боль, это раненое самолюбие.
Вчера из офиса «QQ» они вышли вместе — Инга Белова и Олег Штейн — опальные журналист и фотограф, уволенные одним днем без права на обжалование. Не говоря друг другу ни слова, пошли в бар «Унесенные ветром». Долго молчали под грохот музыки, несущейся с танцпола.
— Мы не безработные, мы — фрилансеры, — сказал Олег, когда в нем уже было минимум сто пятьдесят односолодового.
— Фрилузеры мы, а не фрилансеры. Тебе теперь только в папарацци. Будешь подлавливать селебриков без трусов или под кайфом.
— Легко. Тебя первую. Под кайфом. Марьиванна может составить нам компанию. — Он постарался поймать ее взгляд. — Как ты на это смотришь?
— Фу. Я не по этой части, никаких оргий, — Инга наконец улыбнулась, впервые за этот кошмарный день. — Ты мне лучше скажи, кто материал слил? Ты же не сгонял снимки?
— Должен тебе признаться… — Штейн не смотрел на нее, хлебнул виски.
Инга похолодела.
Ты не мог! Только не ты!
— Я, когда Туми фотошопил, перебросил все на свой рабочий комп и забыл удалить. Как-то не подумал…
— Ты идиот? — Инга приблизила свое лицо к нему. — В офисе у тебя не было ничего своего! Если ты сгрузил фотки, значит, с сервера их кто угодно мог скачать! Это все равно что слить! — Она хлопнула себя по лбу. — Ты представляешь, сколько стоят эти снимки? Кто-то на нас неплохо заработал!
Инга отвернулась от него, скорбно покачала головой. Олег встал, и теперь — высокий, взлохмаченный — стоял рядом, опустив голову. Инга молча подняла стакан и вдруг широко улыбнулась ему.
— Слушай, а пошло оно все! — Она тоже встала, сунула ему виски. — Я только сейчас поняла, как мне там осточертело. Кто с кем спит и кто что носит! Элитарное издание, блядь!
— Зато бабло.
— Нуда, платили неплохо. Я ведь к ним из-за этого и пошла. — Она вздохнула. — Семь лет жизни! Господи, мне уже тридцать восемь…
— Ага, Пушкина в твои годы уже грохнули. — Он увернулся от оплеухи, было видно, как Штейна отпустило. — Вернешься в серьезную журналистику?
— Да где ты ее видишь, эту журналистику? — Инга махнула рукой. — Давай лучше выпьем.
— Не чокаясь, — кивнул Штейн.
До дома она добралась глубокой ночью, прошла на кухню, не зажигая света, натыкаясь на все углы, и выпила прохладной воды из пластиковой бутылки.
Ближе к обеду Инга позвонила Кате, но телефон дочери был недоступен, видимо, разряжен. Катька пришла из школы и, едва буркнув приветствие, слишком короткое даже для дежурного, заперлась в своей комнате.
— Кать, — примирительно позвала Инга.
— Могла бы вчера позвонить, предупредить, что ночью заявишься! Я тебе сто раз звонила! Трубку лень взять, да? — зло крикнула дочь из-за двери. — Где тебя искать, если ты к утру не явишься?
— Начинается.
— Уйду от тебя к папе жить!
— Папа у тебя образцовый, это ты правильно говоришь, — ответила Инга уже из своей комнаты.
Так и просидели до вечера, дуясь друг на друга и совершая редкие пробежки к холодильнику.
Инга задремала. Ей успел присниться поезд — метались тени, стучали колеса, какие-то люди проходили мимо, двое из них остановились над ней, и один прошептал: «Это она?» Ей хотелось вскочить, открыть глаза, но мучительная тяжесть, точно наркоз, держала ее в плену. Поезд издал длинный гудок, постепенно переходящий в звон. И она плавно поднялась из глубины сна на поверхность. Звонили в дверь. Катькины подружки, решила Инга и перевернулась на другой бок. Звонок повторился. Вместо того чтобы открыть, Катя прошлепала в ванную.
— Это к тебе. Я никого не жду, — бахнула дверью, включила воду.
За дверью стоял Олег.
— На военное положение перешла? Дверь по особому звонку открываешь? Да-а, видок у тебя, — оценил он бесформенные штаны и растянутую майку Инги. Сам же, несмотря на похмелье, был свеж, выбрит и одет как для свидания.
— Ты куда такой нарядный?
— Закатная фотосъемка. Я к тебе на минутку.
— Свадьбы, бармицвы, похороны?
Штейн по-хозяйски прошел в ее комнату.
— Я знаю, куда мы с тобой пойдем, не дрейфь. В «Вышивку и рукоделие». Обрушим репутации розовых мохеровых кофточек. Не, я серьезно — там же одни добрые женщины с пяльцами. Не выгонят же?
— Добрые? Вязаные кофточки — это отдельная субкультура. Как готы. Опутают нас, как шелкопряды…
— Как ты сказала? Шелкобля?…
— Пряды, балбес! — Инга засмеялась. — Нет, я с наймом завязала. Лучше стрингером, но независимым.
— Не возражаешь? — Олег взял ее ноут. Инга жестом показала: тебе все можно. — Покажу тебе кое-что.
Инга села рядом. На экране было открыто сразу несколько страниц.
— Можно видеоблог замутить. — Штейн листа л страницы. — Ты баба эффектная, я талантливый. Одинаково хорошо снимаю и фото, и видео, монтажную программу раз плюнуть освоить, даже тебе. Сейчас новые появились — космос! Вот, например…
Снизу всплыло рекламное окошко:
Indiwind
Подключен (-а)
задай вопрос разработчику сайтов
быстрый монтаж
спецэффекты титры для блога
внеси в вайтлист
Инга закрыла окошко. Она без интереса смотрела в компьютер.
— Давай! — Штейн хлопнул Ингу по плечу. — «Бывшая королева глянца рассказывает: дьявол больше не носит „Прада“». Представляешь, сколько козлов набежит? Рекламу пустим. И месть, и бабло в одном флаконе.
Снизу опять всплыло окошко:
Indiwind
Подключен (-a)
помогу разместить контекстную рекламу в блоге
Инга раздраженно кликнула на крестик.
— Не знаю, надо думать.
Опять тренькнул компьютер.
Indiwind
Подключен (-а)
не закрывай знаю как помочь
— Вот черт! Как будто следит за нами! — Она навела мышку, подумала и на всякий случай отправила линк в закладки.
— Это правильно! — одобрил Штейн. — Авось пригодится.
На кухне Катька врубила телевизор на полную мощность, перебрала несколько каналов, натыкаясь на рекламные ролики, остановилась на новостях.
— Тихо! — Инга нахмурилась.
— «… году жизни скончался заслуженный педагог, профессор Московского государственного университета, журналист, драматург, писатель и ведущий программы „Культурология“ Александр Витальевич Волохов. Вклад…» — Катя переключила канал.
Инга выскочила из комнаты.
— Катя, оставь новости!
— Ой, да сколько хочешь. Привет, Олег Аркадьевич, — небрежно сказала Катя, откусывая сморщенное кривое яблоко. — С ужином у нас напряг, угостить нечем, хозяйство в упадке, сами видите.
— «… вашему вниманию фрагмент последнего интервью мастера, которое он дал незадолго до своей кончины».
Инга замерла перед экраном.
Как это нелепо — узнать о смерти друга из новостей.
Сдержанно улыбаясь, на нее смотрел Александр Витальевич. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу, обыкновенно, слегка небрежно, вот улыбнулся чуть доверительнее. У Инги выступили слезы — до того это была знакомая и не предназначенная для широкой публики улыбка.
— Вы профессор, писатель, драматург, сценарист, телеведущий, киновед. А сами кем себя считаете в первую очередь? — Внизу бежала строка: «фрагмент интервью предоставлен Starjest.com».
— А это зависит от того, в какой момент вы спросите. Когда пишу эссе — писатель. Когда пьесу — драматург. И тот и другой ненавидят критиков. Но когда я пишу рецензию — я превращаюсь в того самого презренного и беспощадного критика! Словно сам с собой в шахматы играю.
Инга провалилась в картинку, пожирая глазами детали. Интервью проходило у Волохова дома. Над диваном висел любимый натюрморт Зверева, на столе — стеклянное пресс-папье работы Пола Стэнкарда с замурованными ромашками, лютиками, маками и пчелами.
— Там, в пресс-папье, будто застывшее лето, его Волохов называл CarpeDiem, — зачем-то объяснила она подошедшему Штейну.
— Вот же черт, — тихо выругался он. — А был такой живчик, несмотря на возраст. Ему ведь уже за восемьдесят перевалило?
Инга кивнула. Волохова она знала лет двадцать — со второго курса университета, где училась на журфаке. Он вел зарубежную литературу и культурологию — преподавание было его основной деятельностью вплоть до того знаменательного дня, когда Инга предложила ему вести постоянную колонку «QQ». Среди скроенных по единому шаблону райтеров глянцевых статей Александр Витальевич был единственным живым и проницательным автором. Он писал заметки о живописи, театре и кино. Почти сразу его пригласили на телевидение — требовалась «образовательная передача о культурных событиях и их историческом контексте», формат — диалог. На роль просвещенного собеседника Александр Витальевич подходил идеально. Он сам выбрал название — «Культурология», как намек на свою университетскую работу. Преподавать он продолжал, хоть и гораздо меньше.
Фрагмент интервью закончился, ведущий новостей сообщил:
— Александр Витальевич Волохов был выдающимся профессионалом, вырастил целую плеяду журналистов. Его вклад в журналистику и киноведение трудно переоценить. Прощание состоится 21 марта в 15 часов в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Раздался переливчатый звон — ожил печальный домашний телефон. Инга успела забыть, где он стоит.
— Привет, — услышала она голос Веры, однокурсницы, — ты что, мобильный совсем отрубила? Невозможно дозвониться.
Инга пожалела, что взяла трубку. Ни с кем разговаривать не хотелось. Она готова была сослаться на занятость и дать отбой, но Вера неожиданно выпалила:
— Прикинь, Софья Павловна совсем из ума выжила!
— Что еще случилось? — Сейчас Инга меньше всего хотела говорить о бывшей жене Волохова, да еще в таком тоне.
— Хороший психиатр нужен этой маразматичке, вот что.
— Вер, ты новости вообще смотрела?
— Дав курсе я.
— Она что, так тяжело переживает потерю мужа?
— Потерю имущества она переживает гораздо больше! Не жила с ним уже миллион лет — а всегда ведь держала руку на пульсе.
— Не тараторь, объясни внятно, что случилось? Я ничего не понимаю.
— Я сама не понимаю, только она утверждает, что мы Волохова обворовали! Узнала, что мы были у него недели две назад, и вот звонит мне, бьется в истерике, уголовкой угрожает. Я так и села от неожиданности. А потом она бросила трубку, я даже не успела спросить, что именно пропало. Ин, что делать будем?
Глава 3
Панихида была торжественной, каменной и душной.
Проститься с Волоховым пришли многие. Профессорские зубры старой закалки, легенды советских времен, авторы университетских учебников — говорили о масштабе личности, влиянии на поколения, об ушедшей эпохе, как будто репетировали речь для собственных похорон. Журналисты и современные звезды эфира с формально скорбными лицами — эти говорили об утрате для журналистского сообщества, об осиротевших зрителях и о невосполнимости потери. Критики и эксперты всех подвидов — о боевом духе, харизме, об энциклопедических знаниях и месте лидера, которое теперь опустело. Были и депутаты из конкурирующих партий — молчали, сокрушенно кивали и прятали глаза.
На бывших коллег из «QQ» Инга старалась не смотреть, хотя чувствовала, как их косые взгляды прожигают ее кислотой. Отдельной стайкой сбились в углу ритуального зала молодые люди — студенты, с которыми так любил общаться Александр Витальевич. Девочки плакали. Плакал и один молодой человек, темноволосый, худощавый, с тонкими нервными чертами лица. Красивый. Чтобы самой не разреветься, Инга сосредоточилась на разглядывании их ног. Туфли серые — пять пар, ботинки черные — одна пара, кеды — восемь пар. Время официальной обуви для них еще не настало.
Каменным изваянием застыла почерневшая Ханум — она стояла отдельно от всех и на попытки заговорить с ней закрывала глаза. Губы двигались, словно она шептала молитвы.
Софья Павловна стояла в первом, бесстрастном ряду скорбящих, во главе тех, кто пришел «отдать дань» и «почтить память». В безупречном макияже, с уложенными высокой горкой локонами, в элегантном черном костюме, точно выставленная в витрину ритуальной лавки. Она была лет на пятнадцать моложе покойного супруга. Время от времени Софья Павловна выразительно прикладывала к глазам кружевной платочек, дорогой аромат которого Инга болезненно чувствовала, хоть и стояла от нее далеко, по другую сторону гроба.
— Сейчас вы можете подойти и попрощаться с покойным, — хорошо выверенным тоном произнес распорядитель.
Никто не двинулся с места. Инга подумала, что совсем не знает правил церемонии, кто должен подойти первым — близкие, родственники? В воздухе разлилась электризующая неловкость. Краем глаза Инга заметила, как в кармане впереди стоящей дамы засветился прямоугольник, и с ужасом подумала, что сейчас эту мучительную тишину разорвет телефонный звонок. Но вышло еще хуже — включился навигатор.
— Вы приехали, — объявил собравшимся веселый голос комического актера.
Инга громко всхлипнула и выбежала из зала. На крыльце, под огромным каменным козырьком, она прижалась лбом к холодной колонне и поняла, что все слова о невосполнимости, тяжелой утрате, о сиротстве — все правда.
Из темного пространства на улицу понемногу выходили люди. Вдыхали весенний воздух, расправляли плечи, их лица разглаживались — мы еще живы. До Инги долетали обрывки фраз.
— Давно не виделись…
— Теперь все чаще на похоронах…
— Рад видеть. Жаль, что по такому поводу…
— Как дети? Как сам?…
— Здравствуйте, Инга! — раздалось у уха, как выстрел.
Тяжелое облако 24 Faubourg Hermes накрыло ее сетью.
Как я с духами-то угадала.
Она медленно повернулась на голос.
— Здравствуйте, Софья Павловна! Примите мои искренние…
— Спасибо, — отрезала Софья Павловна и опять взялась за кружевной платочек. Выдержала паузу. — Прогуляемся? — Она пошла вперед не оглядываясь. Инга двинулась следом. Сзади шагал водитель Софьи Павловны.
Ветер покачал голые ветки, сбросил остатки дождя на женщин. В разрывах туч показалось робкое солнце.
— Ну что за погода этой весной, ей-богу! Невозможно подстроиться под ее перепады настроения. Только вчера поманило теплом. — Софья Павловна остановилась, резким движением смахнула с плеч капли. — Вы уже нашли себе новое место работы?
— Пока нет, не тороплюсь, — Инга чуть не споткнулась.
Ну вот откуда она все знает?
— И правильно. — Софья Павловна сладко улыбнулась. — Отдых вам не помешает. Вид измученный, лицо совсем серое, я вас с трудом узнала. И можно, наконец, отказаться от каблуков и не гнаться за модой, это ли не роскошь, правда?
Инга машинально посмотрела на свои ботинки — только сегодня утром она думала о том, что надевать каблуки на похороны по крайней мере неуместно.
— Вы ведь были у Александра Витальевича совсем недавно, вместе с этой… — Софья Павловна покрутила пальцами и сделала вид, что вспоминает имя.
Хотите, чтобы я занервничала, начала подсказывать, оправдываться? И часто вы заставляете людей вам подыгрывать?
— С Верой, — наконец не выдержала Софья Павловна. — Помните? — спросила раздраженно.
— Да. Мы говорили о последнем Каннском фестивале.
— Меньше всего меня сейчас интересует тема вашей беседы. Вы в котором часу ушли?
— Довольно поздно. Не раньше двенадцати.
— Вы сидели в кабинете?
Инга остановилась. Софье Павловне, которая уже врубила шестую скорость, пришлось резко затормозить.
— Да, в кабинете, — жестко сказала Инга. В этот момент она поняла, что чувствует Катька под допросом о школьных делах.
Посмотрим, хватит ли у тебя наглости обвинить меня, как Веру.
— Вы не заметили ничего особенного в кабинете? — нашлась Софья Павловна. — Все ли на местах? Был порядок?
— Идеальный. У Александра Витальевича всегда порядок.
Инга так и видела эту картину: безутешная скорбящая вдова дрожащими руками перебирает наследство.
Наткнувшись на стену, Софья Павловна предприняла новый разведывательный маневр.
— Как я вам сочувствую. Остаться без работы, да еще в таком возрасте. — Она участливо сверлила Ингу взглядом. — Вы одна растите дочь. Наверное, нуждаетесь в средствах?
— Ну что вы, я неплохо заработала за эти годы. — Инга усмехнулась.
— А ваша подруга Вера? Чем сейчас занимается? Она вообще… порядочный человек?
— В смысле?
— Ну она… может поддаться искушению и присвоить себе что-то, ей не принадлежащее?
— Веру я знаю лет двадцать. Не замечена, не участвовала, не совершала. — Инга подумала и добавила. — Даже не привлекалась.
— Я прошу вас не ёрничать, Инга. — Софья Павловна повысила голос. — Вы должны меня понять! Это все так неожиданно… Саша, Саша… Горе нас делает слабыми. А тут удар в спину! — Тонущая в волнах лицемерия, она опять схватилась за кружевной платочек, как за спасательный круг.
Инга бесчувственно молчала, ожидая продолжения. Софья Павловна взвизгнула:
— Из дома пропала ценнейшая вещь! А вы были у Александра Витальевича незадолго до его кончины.
Инга сделала каменное лицо.
— Не надо сразу принимать такой вид, словно я вас обвиняю, голубушка. — Софья Павловна смотрела на Ингу снисходительно. — Я разобраться хочу. Я пожила на этом свете и всякое повидала. Никто не застрахован от необдуманных поступков. Допустим, вы здесь ни при чем. Но про вашу Веру я ничего не знаю.
— А что пропало? — Инга решила пропустить пассаж про Веру мимо ушей.
Они медленно пошли по аллее. Ветер утих, дождь прекратился. Софья Павловна вдруг споткнулась и чуть не навернулась с высоких каблуков. Инга подхватила ее. Еще недавно надменное лицо сморщилось от боли.
— Как же я ходить буду, ох… Кажется, ногу вывихнула…
Водитель остановился на расстоянии, не делая и шагу вперед. Софья Павловна всей тяжестью навалилась на руку Инги, и та почувствовала, как Софье Павловне тревожно и страшно. И самое печальное — она боится поверить хоть кому-нибудь, в каждом видит врага.
— Идти можете?
Софья Павловна сделала несколько робких шагов.
Инга использовала весь доступный ей арсенал дипломатических приемов, чтобы ее голос зазвучал мягко и доверительно. Она принялась говорить о том, как много значил для нее Волохов. О том, как она обожала покойного учителя — сначала с юношеским трепетом, потом, став старше, с ощущением, что ей открыт доступ к удивительному источнику знаний и мудрости. Да и не только в этом дело — Инга любила его, как отца, ну или почти как отца. Софья Павловна понемногу успокаивалась.
— Так что же все-таки пропало? — снова спросила Инга.
— Книга. Либретто «Парад» Жана Кокто.
Та самая!
— Давайте вместе подумаем, что могло с ней случиться. Кому мог понадобиться «Парад»? — Инга задумалась. — Отдать ее, даже дать кому-то на время Александр Витальевич не мог. Домработница?
Софья Павловна покачала головой:
— Она как раз на неделю к матери в Молдавию уезжала.
— Отдал на экспертизу? — гадала Инга.
Софья Павловна цепко взглянула на нее и зашипела змеей.
— Почему вы спрашиваете про экспертизу? Не отпирайтесь, я вижу. Он вам все разболтал про наброски Пикассо!
— Александр Витальевич прекрасно знал, кому и что можно рассказывать. Да, я знаю, что в этом либретто оригинальные рисунки Пикассо, и что с того? — Инга крепче взяла свою подопечную под руку. — А кто еще знал?
Софья Павловна всхлипнула.
— Он так и не сделал экспертизу. Сколько раз твердила ему — а он ни в какую! «Для меня истинная ее ценность в другом!» — некстати передразнила она Волохова.
Некоторое время брели молча.
— Лет двадцать — двадцать пять назад, — негромко продолжала Софья Павловна, — я вызывала оценщика на дом. Мы тогда еще вместе жили, это до его закидонов было. Я Саше ничего не сказала. — Софья Павловна замолчала, как бы подбирая слова.
Инга тоже молчала, боясь спугнуть — она видела, что Софья Павловна говорит правду, и ей это дается нелегко. Хотя про загадочные «закидоны» спросить очень хотелось.
— Саша мне никогда не говорил про Пикассо. Я ведь случайно все узнала, услышала его разговор с каким-то иностранцем. Тот специально приехал в Москву в надежде купить этого Жана Кокто с бесценными рисунками, был у нас в гостях, большие деньги предлагал. Но Саша ему категорически отказал. — Софья Павловна искоса посмотрела на Ингу и с нажимом сказала: — А нам тогда очень были нужны деньги.
— И что оценщик?
— Сказал, что на аукционе за нее дали бы миллиона полтора.
— Долларов? — ахнула Инга.
— Не рублей же! — Софья Павловна смерила Ингу презрительным взглядом. — Что вы как маленькая!
— А больше ничего не пропало?
Софья Павловна покачала головой.
— Сейф не вскрыт, картины на месте. Документы, деньги, всякие золотые побрякушки, вроде запонок и булавок для галстука, которые он так любил.
— Вы в полицию написали заявление?
Софья Павловна горько улыбнулась.
— Они подняли меня на смех.
— Послушайте, — сказал Инга, когда они дошли до парковки. Водитель открыл дверь темно-серого «Ягуара». — Я поеду с вами в полицию. Я свидетель. Они обязаны не только нас выслушать, но и начать расследование.
Придя домой, Инга нашла в сети Starjest.com и полную запись интервью с Волоховым.
Профессор был оживленным, рассказывал охотно, не будучи связан жестким телевизионным форматом.
— Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошлого и будущего, — говорил интервьюер. — Вы согласны, что наша страна похожа на легкомысленного ребенка? Как вы считаете, мы когда-нибудь вырастем, станем «умственным средоточием Европы»? Вы верите в это?
Ты подумай, как легко цитирует Чаадаева. Достойный собеседник! Среди коллег-журналистов таких не часто встретишь.
— Средоточием? — Волохов подался немного вперед. — Вы позволите, я начну с небольшого эпизода. Однажды мне посчастливилось быть представленным самому Жану Кокто. Это случилось в недолгий период оттепели. Наши фильмы тогда гремели на европейских фестивалях: Чухрай, Калатозов, Бондарчук. Редактор «Советского экрана» отправил меня в Канны освещать фестиваль. Хоть я и был неприлично молод, зато прилично знал английский и французский. И вот я беру интервью у Кокто, его пригласили в жюри, и приехал он буквально на пару дней. Волнуюсь, естественно. Стоим в холле, вокруг толчея. Надо признать, интервью получилось не блестящим. Вопросы я задавал примитивные, да и Кокто — не Дали. Он был скорее замкнутым человеком.
— Наверное, в подобных обстоятельствах, на бегу, да еще в толпе сложно разговорить гения?
— Безусловно. Но самое удивительное вот что. В конце, видя мое смущение, он вдруг заговорил о преемственности: «Когда-то ваш Серж Дягилев велел мне: Жан, удиви меня! Мне тогда было примерно столько же лет, сколько сейчас вам. Дягилев заставил меня умереть, чтобы я мог родиться настоящим поэтом. Вот с этого все началось». И Кокто протянул мне книжицу, очень необычную, я сначала принял ее за альбом кубистов. И добавил: «А сейчас я хочу сказать вашей стране: удивите меня!» Хотите взглянуть на эту книгу? — Волохов легко поднялся с кресла, подошел к темнокрасному книжному шкафу и — Инга точно знала, что сейчас произойдет — достал тоненькую пожелтевшую брошюру. — «Либретто к балету-пантомиме „Парад“ на музыку Эрика Сати». Вы помните этот балет? — Волохов раскрыл книгу.
— Ну конечно. Русские сезоны! Спектакль вошел в историю театра, — подхватил интервьюер. — В нем впервые заявил о себе Пикассо как театральный художник.
— Да, да, так и есть. Ну и как мне ответить теперь на ваш вопрос? Россия «заблудилась на земле», растеряв свой исторический опыт? Или Россия остается тем тайным источником, откуда Европа черпала и до сих пор черпает? При этом сама Россия как не осознавала, так и не осознает масштабов своего культурного влияния, бездумно припадая к чужим открытиям. Но, так или иначе, я понял слова Кокто вполне буквально. До сих пор стараюсь удивить его. — Волохов рассмеялся. — Однако хватит нам музыки, парящей под облаками, так, кажется, говорил Кокто? Давайте ходить по земле.
Инга сделала большой глоток чая, обжигая горло, и уже не удерживала слез. Вот так и мы останемся в истории обрывками цитат. Кому повезет, конечно.
А про рисунки Пикассо не сказал, вот хитрец!
Она вспомнила, как несколько раз держала в руках это сокровище, будто соединяла нити эпох. На пустых страницах либретто, а кое-где и на полях, были нарисованы карандашом эскизы костюмов. Их было шесть или семь: девочка-американка, похожая на школьницу, круглый китайский фокусник, акробаты, великолепная трехмерная лошадь и три фантасмагорических управителя. На тех эскизах их еще было трое, и они были похожи на людей: усатый француз, несущий на себе дом подобно улитке, ковбой-американец и чернокожий манекен во фраке и цилиндре. Это потом они эволюционируют в ужасающих и неповоротливых монстров и уже в таком виде предстанут перед зрителем.
Инга посмотрела титры: «Интервью, съемка, монтаж — Игорь Агеев». Порылась в памяти. Нет, не пересекались. В сети интервью появилось сразу после кончины Волохова. Возможно, этот Игорь Агеев был последним собеседником Александра Витальевича. Инга подумала и — чем черт не шутит — написала на сайт письмо для Агеева с просьбой о встрече.
Глава 4
— К дежурному, вы сказали?
— Да, третья дверь по коридору налево.
— Инга, не отставайте! — Софья Павловна уверенно пошла по коридору. Инга только хмыкнула: ну как скажешь, что пять минут назад она боялась войти в дверь ОВД «Пресненское»? Вот и про ногу больную забыла, страдалица.
Кабинет нашли быстро. Постучали. Не дождавшись ответа, вошли.
Двое. Один у окна, гримаса на пол-лица. Второй за шкафом, заполненным канцелярскими папками, что-то сосредоточенно изучает в компьютере, головы не поднял.
Увидев посетителей, первый стукнул кулаком по столу, на подносе жалко звякнул графин о стакан.
— Блин, задолбали уже! Вы к кому, женщина?
Софья Павловна закашлялась.
— К Рыльчину Анатолию Сергеевичу, — сказала Инга.
— К дежурному следователю, — важно добавила Софья Павловна.
— Тогда ко мне. — Первый вздохнул, показал на стул напротив.
Софья Павловна села. Второй стул Инге пришлось искать.
— Я вдова известного журналиста, телеведущего, профессора Волохова Александра Витальевича, — начала Софья Павловна веско. — Пришла, чтобы заявить о краже ценного предмета.
— Волохова, говорите? — Рыльчин откинулся на стуле.
— Он умер несколько дней назад. Вы должны знать.
— У нас тут каждый день кто-то умирает, а то, бывает, и не по одному, а целым пучком. — Он хихикнул.
Противный тип. Тонкие длинные губы, не поймешь, то ли улыбается, то ли кривляется.
Софья Павловна немного смешалась.
— Про Александра Витальевича писали все газеты, показывали документальный фильм по телевизору. Да вы сами посмотрите, это есть в Интернете.
— Я бы посмотрел, — Рыльчин проглотил матерное слово, — да только у меня компьютер с утра висит! Слышь, Кирюха, — он глянул за спины женщин, — будь другом, найди этого лося-айтишника, пусть придет, проверит комп.
Инга обернулась и натолкнулась на недобрый взгляд второго. Он смотрел мимо нее — на Рыльчина. Смотрел насмешливо, зло, словно продолжая начатый до их прихода разговор. Не сказав ни слова, второй вышел из комнаты.
— Так что, говорите, у вас пропало? — Рыльчин стал до тошноты любезен. Он порылся на заваленном бумагами столе, откопал блокнот и взял ручку.
— Книга. — Софья Павловна приосанилась.
— Книга? — Рыльчин разочарованно положил ручку.
— Очень ценная. Можно сказать, антиквариат. — Софья Павловна заторопилась. — Это уникальное издание Жана Кокто с рисунками самого Пабло Пикассо.
— Ну что ж. — Рыльчин снова взял ручку и стал делать пометки в блокноте, Инге с ее места было видно, что он рисует клетку с попугаем. — Это меняет дело. Книга, конечно же, застрахована?
Повисла пауза. Такой вариант Софье Павловне в голову не приходил.
— Нет, вы знаете, мы об этом как-то не подумали.
Рыльчин снова отложил ручку.
— Ну разве можно быть такими беспечными? — сказал почти по-отечески. — Если нет страховки, то наверняка есть экспертное заключение об оценке?
— Тоже нет. — Софья Павловна заметно расстроилась, открыла сумочку, начала в ней шарить. Ничего не найдя, захлопнула сумку с резким щелчком.
— Да вы не волнуйтесь. — Рыльчин откинулся на стуле, крутанулся вправо-влево. — Водички выпейте, — предложил он, но даже не посмотрел в сторону мутного графина.
— Так что же делать? Что вы мне посоветуете? — Софья Павловна показала жестом, что воды не хочет.
— Давайте начнем с начала. — Рыльчин наслаждался беседой. — У вас была бесценная книга. Кстати, откуда она у вас?
— Ее подарил мужу сам автор, — гордо сказала Софья Павловна.
— И автор может это подтвердить?
— Позвольте, но автор давно умер.
Замолчали.
— Печально. В таком случае, у вас имеется дарственная?
— Ну что вы, откуда? — Софья Павловна опять открыла сумочку, закрыла. — В 1958 году эту книгу с оригинальными набросками великого Пикассо Жан Кокто подарил Александру Витальевичу во время фестиваля во Франции.
— И ваш муж нелегально ввез в Советский Союз произведение высокой художественной ценности? Не задекларировав должным образом?
Инга сидела позади Софьи Павловны, ерзала на стуле и никак не могла понять, что ей делать. Вмешаться в разговор, который напоминал пьесу абсурда? Осадить этого наглого ухмыляющегося типа? Но что это даст? Рыльчин, Инга это видела, был отнюдь не идиотом и не глупцом, он владел ситуацией и получал удовольствие от издевательства над Софьей Павловной. Но формально придраться было не к чему.
— Что же получается? — Рыльчин опять взял ручку и продолжил рисовать клетку. — Ваш муж, профессор, телеведущий, пользуясь своим служебным положением, контрабандой ввез вышеозначенную книгу. Книга эта много лет хранилась у вас дома. Конечно же, в сейфе?
— Нет, — совсем расстроилась Софья Павловна.
— Ну вот видите. — Он был почти ласков. — В открытом доступе. Теперь после смерти мужа выясняется, что книга исчезла. Таким образом, это дело подпадает под статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, в действующей на сегодняшний день редакции, о краже. Или под статью 161 — грабеж. Или под статью 164, хищение предметов, имеющих особую ценность. Но проблема заключается в том, что вы не можете доказать не только то, что эта книга принадлежала вам, но даже сам факт ее существования.
— Как же так! Есть же свидетели!
— И если я, — непреклонно продолжал Рыльчин, не обращая внимания на возглас Софьи Павловны, — сейчас послушаю вас и заведу дело по одной из вышеперечисленных мною статей, а в дальнейшем выяснится, что ваш муж добровольно отдал эту книгу какому-нибудь своему другу, — он подумал, — или подруге, то… — тут он сделал многозначительную паузу, — я могу привлечь уже вас по статье 306 УК Российской Федерации за ложный донос.
Его голос то забирался вверх почти до фальцета, то резко спускался вниз. Волны сверлили мозг.
Если он не заткнется, я не справлюсь!
— Так что же мне делать? — совсем беспомощно спросила Софья Павловна.
— Вспомните лучше, кому мог отдать или дать на время эту вашу бесценную, как вы утверждаете, книгу, сам господин Волохов? У кого были ключи от квартиры? Может, кто-то бывал у вас дома в последнее время? — И вдруг резко: — Вспоминайте!
Софья Павловна в панике обернулась к Инге.
— А вы, гражданка, простите, кто будете? — Рыльчин заметил ее как будто только сейчас.
— Инга Александровна Белова. Я…
— Дочь? — бесцеремонно перебил ее следователь. — Племянница? Кем вы приходились покойному?
— Он был моим учителем, — твердо сказала Инга. — И другом.
— Другом, говорите. — Рыльчин опять откинулся на стуле и смерил ее оценивающим взглядом. — Подождите за дверью. Насколько я понимаю, это сугубо семейное дело.
— Прекратите издевательства, — тихо произнесла она, угрожающе вставая со стула. — Вы обязаны нам помочь! Эта книга существовала, в ней оригинальные эскизы Пикассо. И покойный хозяин не мог ее никому отдать. Мы требуем возбуждения уголовного дела. Вы должны заняться поисками.
— Ах, вы требуете… — протянул Рыльчин, жестко глядя на нее. — А вы знаете, что прежде всего по этому уголовному делу я буду вынужден задержать вдову покойного? Нет? По статье 33 УК РФ за необеспечение охраны культурного наследия. Книжечка ваша, насколько я понимаю из возмущенных воплей, музейная редкость?
Софья Павловна хватала ртом воздух.
— Эта книга из частной коллекции, к ней ваша статья неприменима, — гневно ответила Инга.
— Грамотные все стали, меня, юриста, учить будут. — Он не сводил с Инги глаз. — Так, давайте разбираться по-хорошему, — сдал немного назад Рыльчин. — Я понял суть проблемы. Поскольку вы не член семьи покойного, выйдите. Ваши свидетельские показания пока не требуются.
В глазах у Инги побелело. Еще немного — и она ослепнет, станет совсем беспомощной. Это редкое состояние накатывало на нее в минуты ярости и страха.
Срочно успокоиться, срочно. Почему именно сейчас, так не вовремя?
— Буду ждать вас на улице, — сказала она Софье Павловне. — Ничего не подписывайте.
Дверью хлопнуть получилось убедительно.
На улице было прохладно, но Инга этого не почувствовала. Она отошла за угол здания, прислонилась к стене, закрыла глаза. Ее накрывал белый шум. Кровь толчками била в висках, кончики пальцев онемели.
Я похожа на ведьму с бельмами вместо глаз.
Одной рукой она крепко держала сумку, другой шарила внутри — искала сигареты. Рутинное действие поможет расслабиться, знала по опыту, поэтому не бросала курить. Сунула сигарету в рот, зажигалка никак не находилась.
— Курите, — раздалось рядом вместе со щелчком. Инга поймала чью-то руку, прикурила. — А я смотрю, вы результативно поговорили с Рыльчиным, аж трясет всю.
— У вас тут все такие уроды? — спросила зло.
— Нет, есть особо выдающиеся. — Мужчина засмеялся, и Инге стало легче. Белый шум утих, напряжение спадало.
— Вы…
— Кирилл Архаров.
— Инга Белова.
Боль в висках прошла, но главное — она видела, хоть и в тумане. Тот самый второй, который сидел за шкафом и которого Рыльчин попросил сгонять за айтишником.
— Скажите, Кирилл, а Рыльчин вас тоже специально выставил из кабинета?
— Сами-то как думаете? — Кирилл прищурился то ли от дыма сигареты, то ли от избытка хитрецы.
— А вы в курсе, кто занимается Волоховым?
— Рыльчин и занимается.
— Ну не гад? А нам сказал, что о Волохове впервые слышит!
— Ага, я и говорю: особо выдающиеся.
Инга улыбнулась. Зрение восстановилось почти полностью, чувство опасной беспомощности исчезло.
— Инга, поехали! — Софья Павловна вышла на улицу, и пространство сразу уменьшилось. — Покинем навсегда это кошмарное место! — Она, не оглядываясь, направилась к машине.
— Спасибо, Кирилл. — Инга протянула ему руку.
Он серьезно ответил на рукопожатие, помедлил немного, достал телефон и — не предложил, не продиктовал, не поделился — а именно отдал приказание:
— Пишите. Мобильный: 8 903 278 63 84. Холодивкер Евгения Валерьевна. Будете звонить, скажите дословно следующее: при любом сценарии победа возможна. Записали?
— А она кто? — Инга послушно все записала, сохранила в память телефона.
— Во-первых, надежный человек. Во-вторых, судмедэксперт. Она делала вскрытие, — и, пресекая дальнейшие вопросы, рубанул: — Всего хорошего.
Она ехала домой вялая, будто изваренная в молоке. В салоне такси пахло тяжелой смесью: парфюм, пот, сигареты, кожа. Голова по-прежнему болела, но монотонно. Будто море после шторма — виски свинцовые, но пик позади. Сердце гулко билось. Софья Павловна и Рыльчин слились в двуглавое чудовище, и оба что-то визгливо выкрикивали.
Эти приступы у Инги начались давно, еще в детстве. Первый случился, когда к ним в очередной раз заявился Матвеев. Сухой и длинный, похожий на отрубленный сук, он часто приходил к ним, когда они жили в Рабате при посольстве. Инга тогда здорово вытянулась, рванула вверх сразу после тринадцатилетия, но все равно была ему примерно по грудь. Он наклонялся к ней и смотрел в упор, его глаза — мятные леденцы с горьким неприятным привкусом. И Инга обмерзала изнутри, не зная, куда себя деть, как скрыть свое отвращение, свою полную невозможность находиться рядом с ним. Выходила мама:
— Паша, садись есть, наверняка голодный, — и спасала ее.
Инга бежала в свою комнату, слыша внутри оглушительное тошнотворное сердцебиение, а снаружи — их разговоры, трехголосье споров о Брежневе, специях на рынке, низком качестве местных тканей («швы ползут после первой стирки!» — мама брала самую высокую ноту, она иглой входила в ухо), о рыбалке и короле Марокко Хасане II.
Тот приступ она приняла за отравление: скрутило железной скрепкой живот, стало дурно. Грудь превратилась в две горящие головешки, к которым невозможно прикоснуться, белье испачкалось гадким и вязким, кружилась голова.
— Обычные женские дела! Теперь так будет каждый месяц. Боль скоро пройдет! — сказала мама с какой-то неприязнью и пошла в аптеку за ватой.
За воротами посольства кончались квадратные фонтаны с резными фигурами, начиналась пыль, а в пыли едва виднелись домики, похожие на коробки из-под обуви, в пыли же лежали собаки и дети — и те и другие в одинаковых розовых корках то ли аллергии, то ли лишая.
Голова кружилась так, что невозможно было встать с кровати. Инге казалось, что она несется вдоль стен и потолка, как Емеля на печи, только с огромной скоростью, кувыркаясь. В соседней комнате Матвеев что-то бодро говорил отцу. И от его слов Ингу слепило, как от пронзительного луча настольной лампы под кроваво-коричневым абажуром, пущенного прямо в глаза. «Ложь! Нож! Врёт! Вред!» — стучало в ее висках от каждой его фразы. Она жмурилась, но луч преследовал ее, и боль, вопреки обещаниям мамы, не проходила.
Вызванный врач проверил позвоночник, шею и среднее ухо; она помнит молоточки и металлическое прикосновение к горячей коже. Потом он шушукался с родителями, пытаясь определить, какую же болячку вытащили на свет подростковые изменения в ее теле. Их шепот за стеной казался ей похожим на струю воды в умывальнике — пронзительно синюю. Инга старалась отвлечься от этого яркого цвета, рассматривая загиб скатерти на журнальном столике около кровати — красной, в мелкий турецкий огурец — она цеплялась взглядом за этот загиб, стараясь удержать его на месте, а все вокруг кружилось, будто родители купили ей билет на бесконечную карусель.
Узор скатерти напоминал дворик, который ей показал отец, — дети редко покидали оазис посольства, но папа иногда брал Ингу с собой на прогулки. Тот прямоугольный дворик, с арками, напоминающими слепки чьих-то верхних зубов, они даже не разглядывали — так, посмотрели мельком, но Инга сразу подумала: «вот бы здесь почитать», и с тех пор желание найти его и устроиться на скамейке с книжкой было постоянно с ней.
Инге исключили болезнь Меньера, шейный остеохондроз и опухоль. Исключили близорукость и мигрени. Она не могла вставать, не могла смотреть телевизор, не могла читать, не могла учиться. Ей мешали эти навязчивые цвета: они высыпались из уст говорившего, как дар феи — то нежным розовым лепестком, то золотой монетой, а то бурой жабой. Анемия навалилась на нее тяжелыми, бесконечными днями. Безысходно, как заваливает камнепад дорогу.
Папа протягивал к ней руку, чтобы проверить лоб, что-то нежно шептал, и она ощущала бирюзовую прохладу его речи. Мама справлялась о ее самочувствии — и ей казалось, что огромная фиолетовая ваза опрокидывается на ее голову. Инга пугалась, отшатывалась, думала, что сходит с ума.
Все закончилось внезапно. Будто не было этих пяти дней в разноцветном беспамятстве, от которого изредка спасал папин голос и воспоминания о заветном дворике в городе. С неделю Инга наслаждалась всем: тем, что делает шаг, теннисной ракеткой в руке, как на ветру рубашка облипает тело, страницами книг, ночными шорохами.
Но через два месяца все повторилось. Инга не могла объяснить, почему присутствие некоторых людей, а точнее, их речь либо усиливала это состояние, либо, наоборот, смягчала боль и головокружение. Она старалась переключиться, отвлечь себя на какой-нибудь ритуал. Раньше крутила пальцами волосы, грызла заусенцы, позже стало выручать курение. Родителям она ничего не стала говорить.
В тот год в Рабате Инга все-таки сбежала из посольства, заборы и запреты никогда ее не останавливали. Она взяла первый том «Анны Карениной» и пошла искать заветный дворик. Мечте, державшей ее на плаву во время болезни, пришел день исполниться.
Собаки окружили ее профессионально, так делает любая стая, вышедшая на охоту. Все — огромные, с человека на четвереньках, но облезлые и местами плешиво-розовые, как шакал Табаки. Инга не успела испугаться: она почувствовала, как земля под ногами заворачивается в песчаную воронку, зажмурилась и начала падать. Откуда-то справа взметнулась палка, воронка застонала, как плачут раненые и дети, она схватилась за очень худую, очень смуглую мальчишескую руку и ослепла. Мир превратился в засвеченный кадр: только белый цвет, как яркое солнце, как лампа в глаза. Инга цеплялась за спасшего ее мальчишку и моргала, моргала. По рыжим волосам и бледной, в веснушках, коже тот, вероятно, понял, откуда взялась на улице эта девочка, и привел ее обратно к воротам посольства. Усадил, все еще слепую, на парапет, вложил в руки поднятую из пыли книгу и удрал.
Ее опять уложили в постель. В этот раз зрение восстановилось быстрее: она увидела, как папа поправляет на ней одеяло, как цвета вокруг него сами собой сложились в озабоченность, усталость и боль. Она поймала его руку:
— Пап, Матвеев… он… с ним что-то не так. Он не любит тебя. Сильно. Он сделает тебе зло.
— Ингуш, с чего это ты вдруг?
— Я точно тебе говорю. Я знаю.
— Да он единственный, с кем тут и поговорить-то можно. Спи. Завтра все пройдет.
Назавтра действительно все прошло. Но возвращалось — в моменты стресса, опасности, переживаний. Постепенно Инга научилась с этим жить. Контролировать. Понимать значения цветов, которые видела. Что бирюзовый — это честность; белый — радость; пурпурный красный — жажда власти. В самые тяжелые моменты ей помогал отец. Ему одному она доверила свою тайну, не боялась, что он запишет ее в психи.
— Иногда я вижу слова людей! — сказала она. — Каждую фразу! Мне страшно, пап! Что со мной не так?
— Не бойся! Просто ты особенная. Есть люди, которые видят музыку. Кандинский, Скрябин обладали этим даром. А ты видишь слова! Ты у меня цветовизор!
С тех пор они так и называли эту «особенность». Со временем Инга почувствовала, что разные цвета появляются не просто так: они указывают на эмоции и истинные намерения людей — нужно только подобрать ключ к этому шифру.
Пыльный Рабат остался позади, как морок, как сон. Всплыл в их жизни лишь однажды — когда коллеги провожали отца на пенсию.
— Представляешь, — сказал он, придя из ресторана поздно вечером. Он зашел в ее комнату и сел на кровать, чего не делал уже много лет. Инга заметила, как он задумчив. — Меня сняли с должности в посольстве из-за доноса.
Кто-то утверждал, что я замешан в спекуляциях. Чушь какая! Я еле отмылся тогда. Старался не втягивать вас с мамой в эти проблемы. И только сегодня Прокофьев сказал мне, что тот донос написал Матвеев. Выходит, ты была права насчет этого мерзавца. Как ты это поняла?
— Меня от него тошнило, потому что он был плохого цвета, — без улыбки ответила Инга.
Глава 5
— Следуйте за мной!
Они пересекли холл. В нем было даже холоднее, чем на улице, почти как в промышленной морозильной камере Линде. В высоких окнах раскачивались тени вековых лип — они росли в изобилии по всему Лейпцигу, будто в напоминание о славянском происхождении города — «Липцик». «Почти что Липецк! — говорил себе по приезде Михаил Осипович. — Почти что в России!» Слова оказались пророческими: стоило ему оправиться от пережитого ужаса революции, обосноваться на новом месте и обзавестись семьей, как и Германию охватила та же безумная эпидемия истребления.
Рудольф Майер открыл потайную дверь под парадной лестницей и потянул за шнур выключателя: два газовых светильника осветили широкий пролет. Они спустились. Подвал расходился тремя галереями под массивными сводами. Михаилу Осиповичу показалось, что подземное помещение намного больше площади самого дома.
Майер повел его по коридору под флигелем. Они остановились перед тяжелой сейфовой дверью. Замок едва слышно захрустел в ответ на обороты ключа. Мелко клацали шестеренки, пока Майер крутил ручку, похожую на штурвал. За небольшим тамбуром была еще раздвижная решетка. Майер поспешно нажал на одну из декоративных розеток на боковой деревянной панели, вверху что-то щелкнуло. Михаилу
Осиповичу говорили, что в этом тамбуре устроен специальный механизм, если его вовремя не заблокировать, на непрошеных гостей обрушится тяжелая плита. Он больше не сомневался в этом. Снова тихо звякнул ключ, и Майер легко сдвинул в сторону стальные прутья.
Все засовы, ручки, ролики и запоры двигались плавно, быстро и почти бесшумно, как хищники, преданно оберегающие хранилище от посторонних. Только чрезвычайная осторожность вынудила Майера пустить кого-то в свой Сезам. Принимать еврея в доме теперь было опасно. Он не мог более доверять ни слугам, ни домашним: донести в СС мог любой. От присутствия чужого в своей заветной пещере чудес он испытывал немалое раздражение и не трудился его скрывать.
В помещении было теплее и суше, чем на первом этаже, — о своей коллекции Майер заботился куда более щедро, чем о домочадцах. За эти двадцать лет Михаил Осипович так и не привык к пропахшему плесенью холоду в бюргерских домах и с тоской вспоминал жарко натопленные комнаты московской квартиры.
Майер ускорил шаг, чтобы у Михаила Осиповича не было времени осмотреть фонд. Но тому хватило и беглого взгляда на коллекцию, чтобы поразиться ее размаху.
Левая стена увешана полотнами от пола до потолка: яркие, изломанные фигуры на контрастном фоне — буйство цветов; изможденные синие люди у синих стен — увиденные сквозь синее стекло; шершавые мазки, вытянутые линии в какой-то сферической перспективе; пейзажи с деревьями, будто сотканными из пуха; размытые силуэты балерин, вытянувшихся в арабеске.
«Неужели и правда подлинные Пикассо, Матисс, Дега?» — удивлялся Михаил Осипович, мельком оглядывая картины, мотивы и манера исполнения многих полотен казались ему знакомыми.
Справа — большой картотечный шкаф. За ним полки с книгами — сплошь запрещенными: Цвейг, Манн, Уэллс, Зегерс, Гессе. За ними — застекленные стеллажи с ювелирными украшениями, зачем-то перемежавшимися длинными женскими перчатками, сумочками и лорнетами.
В последнем отсеке хранилища помещался барочный секретер и широкий стол, покрытый сукном. Вокруг них вразнобой и без порядковых номеров располагались многочисленные, видимо, недавние пополнения: шляпные коробки, составленные в стопку у кресла, распахнутые шкатулки с кольцами и серьгами, штабели холстов, повернутые лицом к стене.
На китайской лаковой ширме, расписанной золотыми мостиками и лодочками, висело расшитое жемчугом платье — Михаил Осипович узнал его: такое же висело в шифоньере жены. Он не сразу понял, что это оригинал, в котором Элеонора Гинзбург пела на сцене Гевандхауса почти десять лет назад — ее фигура тогда будто сияла тончайшим перламутром на фоне оркестра, затянутого в черные фраки. После концерта Зинаида Моисеевна месяц терзала модистку, пока не получилась точная копия платья, разве только жемчуг заменили стеклянные бусины. Она хранила его до сих пор как напоминание о другой, прошлой жизни.
Майер включил настольную лампу, натянул перчатки и надвинул лупу на правый глаз. Ни стула, ни табурета Михаил Осипович не нашел: в хранилище не предполагалось посетителей.
— Быстрее! Что там у вас?
— Вот! — Михаил Осипович стал поспешно и стыдливо распарывать швы подкладки брюк, но ничего не получалось: рука, зажатая ремнем, не пролезала дальше запястья. Пришлось отвернуться, расстегнуть ремень, приспустить штаны. Только так он смог оторвать от подкладки конверт из носового платка. Он проклинал себя за то, что приспособил его в таком неудобном месте, и досадовал, что забыл достать конверт раньше.
— Простите! Боже мой! — лепетал он, а виски жарко стучали: «Какой позор! Какое унижение!»
Наконец он неловко, одной рукой застегнул брюки, повернулся и положил на стол сперва самое ценное: увесистый сапфировый перстень матери, свадебное ожерелье Зинаиды Моисеевны и ее рубиновые серьги, потом кольца и серьги с камнями помельче.
Майер презрительно взял в руки перстень. Держа его кончиками пальцев, он стал рассматривать его с той брезгливостью, с какой разглядывают убитую муху. Перебирая предметы по одному, он неприязненно причмокивал, будто рассасывал горький леденец от кашля.
— Грубая работа! Грубая работа! — скрежетал он сквозь зубы.
— Это семейные реликвии, им больше ста лет, — робко возразил Михаил Осипович.
— Кто купит эти никчемные сто лет? — ворчал Майер, взвешивая цепочки. — И это все?! Тут едва хватит на одного.
— Есть еще пара безделиц.
Михаил Осипович бережно достал перстень, инкрустированный перламутром, с неправильной жемчужиной в центре, торчащей из золотых зубьев, как из пасти дракона, и подвеску в виде дриады из слоновой кости, качающейся на ветке коралла. Майер смерил его ледяным взглядом, Михаил Осипович понурился и извлек из конверта эмалевую брошь с нимфой в сиреневом хитоне по эскизу Мухи, скомкал платок и запихнул его в карман плаща.
Благоговение расплылось по лицу Майера, разглаживая жесткие морщины и складки на лбу. Глаза вожделенно загорелись.
— Вот это уже лучше! Откуда у вас Жорж Фуке?! — голос его смягчился. Каждой вещью он любовался долго, едва дыша, несвойственная приветливая улыбка появилась на его тонких губах. Это благорасположение Михаил Осипович отнес и на свой счет и немного успокоился.
Майер вытащил из выдвижного ящика футляр, высыпал содержимое в одну из раскрытых шкатулок и аккуратно уложил свои сокровища на черную бархатную подушечку, затем жадно щелкнул замком.
— Показали бы эти вещицы сразу — сохранили бы свои реликвии, — засмеялся Майер, швыряя материнский перстень в шкатулку с другими кольцами. Он поднялся, достал с черной полки толстую амбарную книгу и внес в нее несколько пометок. На бланке квитанции он написал в столбик: 1. Перстень: золото, сапфир около 0,5 карат. 2. Серьги: золото, рубины. 3. Цепочка: золото, 5,91 гр.
— Поставьте имя, дату и распишитесь тут. — Он указал на строчку «Принято от…» Михаил Осипович послушно взял протянутое перо, обмакнул в чернила и заполнил графу. Майер кивнул.
— Так сколько вас всего? — спросил он строго.
— Пятеро. Моя жена и трое детей.
— Вы обошли консульства?
— Конечно, иначе не смел бы вас беспокоить. Везде получил отказ за недостаточностью средств, а продавать драгоценности невесть кому сейчас опасно. Нашего соседа недавно за это задержали.
— Ну что ж, — отрезал Майер. — Остается только побег. Маршрут у нас отработан — через Францию, а там кораблем до Америки. Вас известят. Вещей не берите — разве что смену белья. — Он поднялся, жестом показывая Михаилу Осиповичу на выход. Но тот продолжал стоять, теребя в кармане платок, увлажнившийся в его вспотевшей ладони.
— Я хотел бы попросить вас о гарантии, — решился он наконец.
Майер посмотрел на него скорее изумленно:
— Гарантии? В какой же форме вы хотите их получить? — презрительно улыбнулся он.
— Мне говорили, что вы даете расписки.
Майер снова сел в кресло, выудил лист из картонной бухгалтерской папки, быстро вывел пером несколько строк, поставил роспись и промокнул бронзовым пресс-папье.
— Благодарю вас! — Михаил Осипович спрятал бумагу под рубашку и плотнее запахнул плащ.
Обратно он прошел через Турмштрассе в сизую тень поредевшего Аувальда. Он не стал прижиматься к парковой ограде, не двигался мелкими перебежками от дерева к дереву, а шагал размашисто и уверенно. Он был умиротворен той убежденностью, что окончательно откупился от арийского истукана, вырвался из когтей грудастого железного орла, как некогда высвободился из коченеющей хватки орла двуглавого. «От медведя ушел, от волка ушел» — вспомнилось ему из любимой сказки его русской няни.
Он так осмелел, что прошел по Готтшедштрассе до Соборной синагоги, снаружи такой основательной, будто вырезанной из монолитной скалы, — внутри ажурной и торжественной. Скоро он будет далеко от этих мест, но глубокой грусти он не испытывал, скорее облегчение. Чувство дома пропало у него с тех пор, как он эмигрировал из России.
Он вернулся домой в бурные объятия и причитания Зинаиды:
— Почему так долго! Я уже столько всего себе вообразила! Едва жива! Зачем ты пугаешь меня?
— Успокойся! Скоро все кончится! — сказал Михаил Осипович вкрадчиво.
— Ничего не кончится, пойми ты! Когда-то я тоже верила, что это безумие не может длиться долго, а ты посмотри — становится только хуже! Ты же видишь: они ни перед чем не остановятся.
— Тише, Зиночка! Для нас кончится, слышишь? У нас все будет хорошо. Я договорился.
— Миша! — запротестовала она. — Как можно? С кем?
— Это надежный человек, от Готлибов.
— Я не знаю, — сказала она, растерянно опуская руки.
— Вот! — Михаил Осипович достал бумагу из-за пазухи. — Тут наши гарантии! Нас переправят во Францию, а дальше до Америки. А пока спрячем расписку в наш тайник.
Они поднялись в детскую. Проснувшийся от их голосов внизу Веня замер, едва услышав скрип опускающейся дверной ручки. Михаил Осипович подошел к кроватке Анны и осторожно потянул ее на себя, взявшись за золотые шишечки. Встал на колени у самой стены, вытащил узкую рейку плинтуса и просунул куда-то внутрь небольшой листок. Едва он поднялся, Веня зажмурился и вжался в подушку.
— Если что-то пойдет не так, по этой расписке ты добьешься справедливости! — зашептал Михаил Осипович жене, стоявшей у порога за Вениной кроватью. Но мальчик ее не видел и послушно закивал на его слова, решив, что отец обращается к нему.
Глава Б
— Дэн, не надо так сильно! Макияж должен быть такой, как будто я с ним проснулась, — естественным.
— Если бы ты с ним проснулась, ты бы ни один фейс-контроль не прошла. Доверься мне, детка! Сколько раз я тебя уже выручал? Не мешай работать! Глаз закрой.
Инга закрыла оба и попыталась расслабиться. Нервный предстоял вечерок. Встреча с бывшими коллегами — все равно что очутиться в одиночестве, без защиты в пещере с ядовитыми змеями.
Где ты, Индиана Джонс?
— Можно не кривиться? Ты мне всю картину портишь. — Дэн топнул ногой. — Работать с тобой — одно мучение. Расслабь челюсти, не морщи лоб, не хмурься. Ты чего такая дерганая?
— Постараюсь. — Инга еще плотнее сжала зубы. — Нарисуй меня красиво.
— Я по-другому не умею. Ко мне, между прочим, дамы за неделю записываются. А ты нагло пользуешься тем, что соседка и что я к тебе неравнодушен. И можешь прийти вся такая: ах, Дэн, сделай меня звездой! Ах, мне надо позарез!
А другим как будто не надо! Я у тебя как фея-крестная! — Он говорил не умолкая, виртуозно играя вокруг ее лица то карандашом, то спонжем.
Словесный поток убаюкивал Ингу, как негромкое радио в машине.
— Ты мне еще засни! — прикрикнул на нее Дэн, картинно вздохнул. — Надо менять репертуар. Один мой коллега, представь, арии поет во время стрижки. «Не счесть алмазов в каменных пещерах!» — затянул он фальцетом.
Инга не могла удержаться от смеха, и он тут же заехал ей кисточкой для румян в ухо.
— Ну вот, будешь теперь с красным ухом, — проворчал он, — скажешь, тренд. Открой-ка глаза. Ох, бледная ты, подруга, и мешки под глазами вырастила, их не замажешь.
Дэн отошел на пару шагов, придирчиво осмотрел свое творение и покачал головой. Был он маленький, костлявый, с длинной подростковой шеей и густой гривой темных волос. Инга сдружилась с ним недавно, когда он на пару с таким же стилистом-авантюристом снял соседнюю квартиру, принадлежавшую не вылезающим с Бали хипстерам. Дэн и сам тянул на хипстера — внешностью, кедами и рюкзаком — да и вкалывал по две смены в салоне, и еще принимал клиентов на дому.
— Куда лыжи-то намылила? — Он уже собирал кисточки, щеточки, тени, помады, тушь.
— Вечеринка на «Красном Октябре». С размахом. И что приятно — мой проект, последний такой масштабный в «QQ».
— Не путай меня. Ты ж вроде гордо покинула это скопище интриганов.
— Я этот проект четыре месяца готовила. Не могу не пойти. Фотовыставка «Звезды в спорте». — Инга изобразила томную барышню, манерно взмахнула руками. — Вся наша попса придет на себя посмотреть в непривычном антураже, а заодно и попеть для особо избранных.
— Меня бы позвала для разнообразия.
— Не могу, Дэнчик, прости. Сильно закрытое мероприятие. В следующий раз.
— Ага! Как будто он будет. Пользы от тебя ноль. — Дэн нахохлился.
Инга подошла к зеркалу, придирчиво осмотрела себя, прищурилась. Да, Дэн сделал всё что мог.
— Ноль, говоришь? Ничего, я еще всем им покажу. С таким мастером, как ты, разве может быть иначе? Ты лучший! — Она притянула его к себе и от души обняла.
— Ладно, не подлизывайся. — Дэну было приятно. — Вали уже домой, ко мне клиентка вот-вот должна прийти.
Инга, не торопясь, вышла из машины. Толпа на набережной волновалась и гудела вокруг модного клуба с террасой на крыше. Железные ограждения охраняли мир скороспелых любимцев фортуны. Там, внутри, били наскоро устроенные фонтаны, блистали наспех возведенные павильоны, сновали официанты, одаривая гостей шампанским и тарталетками. До публики долетали лишь овации и удары динамиков. Ожидался фейерверк.
Перед клубом происходил спонтанный парад приглашенных гостей. Они выходили из автомобилей, словно из-за кулис, и танцевали короткую партию до первого барьера охраны. Перегруженные аксессуарами женщины небрежно исполняли набор пируэтов, а мужчины шли тяжело, волоча за собой вип-статус, словно золотую гирю.
Инга невольно подумала о «Параде» — об этом гротескном шествии, где монстры затмевают людей, но здесь, перед клубом, люди и монстры составляли одно целое, и от этого меланжа в душе рождалось зыбкое ощущение обмана.
Она расправила плечи и, не глядя по сторонам, неспешно направилась к блистающему входу.
Главное, не споткнуться, не запутаться в платье, которое почти в пол.
Никогда не забуду, как упала однажды Машка — лицом в асфальт. И ведь актриса — встала, рассмеялась: «Капканов понаставили»! А потом через черный ход сразу в больницу — нос сломала. Но нервы железные — даже не разревелась. Теперь этот кошмар всегда со мной. Черт, как ноги мерзнут, что за идиотская мода — туфли на босу ногу при вечернем прикиде, терпеть не могу. Хорошо хоть, придумали такую вещь, как меховое манто. А то при такой весне и дуба дать недолго.
Инга шла. На нее смотрели, ей завидовали те, для кого этот манящий мир был неприступным. Сколько раз она бывала на мероприятиях с красной дорожкой! Пятьдесят метров ты в центре внимания, вокруг вспышки камер, надо обворожительно и уверенно улыбаться и — главное! — не грохнуться на землю от чрезмерного усердия и самолюбования. Ингу в эти мгновения раздирали два противоречивых чувства: грубое откровенное тщеславие и мучительный стыд за себя. От этого стыда просыпалась детская застенчивость, и больше всего она боялась опростоволоситься как-нибудь особенно по-дурацки.
— Инга Белова, — громко, чтобы перекричать шум толпы и бумц-бумц, несущийся из недр зала, назвалась она секьюрити.
Быстрый поиск, три листа приглашенных.
— Извините, но вас нет в списке, — равнодушно ответил охранник.
Инга, уже сделавшая шаг вперед, споткнулась об эти слова.
— Как нет? — Она улыбнулась. — Я автор проекта. Проверьте еще раз.
Охранник послушно пролистал страницы. Инга видела, что он просто вежливо тянет время. Скорей всего, уже получил четкие распоряжения на мой счет, вдруг сообразила она.
Как они быстро. Почему я не могла это предвидеть?
— Тогда у вас наверняка есть приглашение?
Думает, как лучше от меня отделаться, чтоб без скандала. Наверное, предупредили, что я истеричка.
— Приглашение на собственную вечеринку?! — Инга пыталась сдержать накативший приступ гнева.
Гул толпы сзади усилился, послышались крики «Браво, Леша!» Инга обернулась.
— Алла Федорова и Алексей Бутуев.
Чтобы пропустить эту звездную пару, ей пришлось посторониться. Она уставилась в их напряженные спины, увидела, как у Бутуева покраснела шея. Боятся, что окликну?
Сколько раз вместе пили! Неблагодарному Лешке именно я придумала выигрышную мизансцену для фотосессии — фехтовальщик хренов. Уломала фотографа, достала всю шнягу для съемок. А у этой стервы два раза брала интервью, и сейчас эта сучка даже не смотрит в мою сторону. Я пустое место! Меня стерли ластиком!
— Прошу вас. — Охранник пропустил их, даже не сверяясь со своей шпаргалкой.
Инга подошла к нему вплотную. Но передумала говорить с ним и крикнула в глубину фойе:
— Эй, как тебя, Ксения! Да, я к тебе обращаюсь. Кто отвечает за организацию мероприятия?
Ксения что-то прокричала в ответ и исчезла.
Парад продолжался, шум нарастал. Раздались аплодисменты, крики, приветствующие очередную прибывшую знаменитость. Волна звуков долетела до Инги, толкнула ее в спину. Она обернулась, увидела модную певицу, а с ней — высокого мужчину с красным лицом. На нем был дорогой костюм, а к лацкану пиджака прикреплен значок депутата Госдумы. Мужчина вскидывал голову и резко растягивал рот в улыбке. На секунду он встретился с Ингой взглядом. Ей стало жутковато от этого леденящего сочетания: злые глаза на механически улыбающемся лице.
— Вы не можете меня не пропустить, — прошипела Инга охраннику.
— Я не имею права. Освободите проход. — Охранник теперь смотрел прямо перед собой, избегая взгляда Инги. Продолжать с ним разговор было бессмысленно. Еще позовет подкрепление, и ее опять вышвырнут, как собаку. Эти могут. Ей вдруг вспомнились жалобные поскуливания Артемона после драки: «Не тащите меня за хвост, мне это унизительно».
— Чертов солдафон.
Она протиснулась сквозь толпу, цепляясь платьем за ремни, рюкзаки, куртки, отошла к каменному парапету, на ходу достала телефон.
Ага, вот, Лариса Феоктистова, как она себя называет? Бренд-менеджер, креативный директор, ивент-продюсер. Вот деръмище.
Гудки. Абонент сейчас не может ответить. Еще раз. С тем же успехом.
Гадюка!
В «QQ» только Инга позволяла себе так называть Ларису. В тучные годы, когда в редакцию сбрасывали бесплатные абонементы в модные фитнесс-клубы, они как-то после тренажерки столкнулись с Ларисой в душевой. Вернее, та сама налетела на Ингу — голая, с мокрой головой вывалилась из кабинки — как всегда: «правое плечо вперед, в обход по залу шагом-марш». А на плече татуировка — бронзовая змея с ярким ожерельем бордовых пятен от головы до хвоста. То ли по молодости, то ли на спор, а скорее всего, по пьяни Лариса набила себе эту отвратительную рептилию. Думала, наверное, что это знак мудрости, а вышло — клеймо. Да еще в самую точку — змея Лариса и есть. Она, правда, татуировки стыдилась, даже в самую жару — всегда в рубашке, рукава не выше локтя. А когда Лариса особо злобстововала, Инга как бы невзначай то заводила разговор про лазерное удаление тату, то на ютьюбе ролик про змей запускала и весь ньюз-рум созывала посмотреть. Лариса злилась, конечно — были бы у нее каналы в зубах, залила бы пол ядом.
— Слушай, будь человеком. — Инга подошла к другому охраннику, этот смотрел за тем, чтоб не своротили ограждение. — Дай телефон позвонить, у меня зарядка кончилась. Прошу тебя.
От неожиданности он не смог отказать.
— Спасибо, друг!
Набрала номер. На экране высветилось: Лариса Францевна, party-шеф.
Францевна, блядь.
— Что не так? — какой у нее все-таки противный голос.
— Все не так! — Инга насладилась замешательством бывшей коллеги. — Что за бардак тут происходит, Лариса Францевна?
— Ах, Инга, солнце мое! Ты пришла! Всегда восхищалась твоим мужеством!
«Куда же ты приперлась, сука? Нахальства тебе не занимать», — перевела про себя Инга.
— А что такое, Лариса? Считаю своим долгом посетить мероприятие, которое придумала, организовала и полностью подготовила. — Инга говорила спокойно, даже чуть лениво.
Главное — не сорваться, не сорваться, не сорваться, не доставлю ей удовольствия.
— Инга, камооон! Ты ничего не перепутала? — Лариса захохотала. — Дай-ка проверю третий список. — Это было еще одно оскорбление. По третьему списку проходили младшие сотрудники, репортеры региональных газет и просто случайные гости. — Нет, что-то не нахожу. Как твоя фамилия? А, Бадоева, Бойченко, Буратов, Бутуев. Что-то нет тебя! Подожди на улице, я постараюсь решить недоразумение.
В бессильной злобе Инга готова была выкрикнуть оскорбление, но тут внезапная мысль пришла ей в голову.
— Ларочка, постой. Ты сказала, Буратов?
— А что такое?
— Константин Буратов, режиссер фильма «Обманутая любовь»?
— Да, он.
— И он у тебя в третьем списке? Собрались посадить его на приставные стулья? Ну я тебя поздравляю! Кто у вас отвечает за пригласительные? Можешь поцеловать его в…
Инга почувствовала, что Лариса напряглась. Она оставила желчный тон и нетерпеливо спросила:
— Какое ты к этому имеешь отношение? Теперь.
Инга засмеялась и тут же перешла на жесткий стиль недовольного начальника.
— Так тебе и надо, дорогая. Я вижу, никто вас больше не снабжает информацией из первых рук. Питаетесь сплетнями сайтов — однодневок.
— Список гостей и столы давно утверждены, — начала оправдываться Лариса, видимо, забыв, что Инга теперь ей никто.
— А у тебя ума не хватает ловить свежую инфу?
— Да что такое с этим Буратовым?
— Невежество, дремучее невежество всегда было твоей сильной стороной, Ларочка. Тебе Интернет давно заменил связи и знакомства, не говоря уже про вкус и элементарное любопытство к тому, что происходит в мире кино. Константин Буратов — первый претендент на «Нику» за лучшую режиссуру. Ты его еще попроси на раздаче постоять. Это самый многообещающий гость в твоем борделе. Будь я на твоем месте… — тут Инга сделала вид, что передумала давать совет. — До свиданья, дорогая, — и дала отбой, понимая, что паника в голове Ларисы обеспечена.
Несмотря на свою отставку, Инга не утратила репутацию обладательницы свежих новостей. Лариса ей точно поверила. А то, что бедный Костя Буратов с недавних пор стал посмешищем в узком кругу отечественного кинопроизводства, Лариса узнает опытным путем.
Она вернула телефон охраннику и еще раз посмотрела на беснующуюся толпу.
Перед глазами возникла сцена из фильма «Кэрри», про который она уже лет сто как думать забыла: Кэрри стоит на сцене в вечернем платье, а на нее льются потоки алой крови.
Красная, дурно пахнущая ярость захлестывала Ингу — она оправдывала Кэрри, которая вскоре после позора сожгла всех к чертям собачьим.
Надо выбираться отсюда. Куда забиться, у кого согреться? Кто может меня забрать отсюда прямо сейчас? Господи, как же холодно! Костик.
Костик был водителем. Не безотказным, знающим себе цену, настоящим вольным бомбилой на автомобиле представительского класса, из которого он не вылезал двадцать часов в сутки. Инга пользовалась его услугами, когда ехала на важные интервью, и щедро ему платила. Они сотрудничали лет пять. Права у Инги были, но садиться за руль она не любила, зная, какие фокусы иногда выкидывает ее зрение. Машину в конце концов продала.
Гудки. Сброс. Сообщение: я не могу сейчас говорить.
Сережа? Ни за что! У бывших мужей рыдают конченые луз ерши. Штейн? Нам с ним еще работать, пусть думает, что я непробиваемая. Эдик! Старый школьный товарищ, безнадежно влюбленный с первого класса. То, что надо. Выслушает, поймет и ничего лишнего не скажет. Когда же мы встречались в последний раз?
Она набрала номер и от нетерпения, от какого-то бешено клокотавшего в ней напряжения закричала в трубку:
— Эдька! Конечно, я, кто же еще? Нет, не пьяная. Как я рада тебя слышать! Да, хочу, чтобы ты за мной приехал. Прямо сейчас, ты же недалеко от «Красного Октября»? Пятнадцать минут — прекрасно!
Инга мысленно досчитала до десяти.
Жизнь продолжается. Говенная, конечно, жизнь, зато моя!
Она забралась с ногами на продавленный диван, туфли на тонком каблуке пьяно валялись на коврике. Коврик — весь в пятнах неопределенного цвета и происхождения, похоже, местный старожил. Инга натянула повыше грубые вязаные носки, от души глотнула вина, поплотнее завернулась в необъятную шаль, которую Эдик заботливо накинул ей на плечи — ей хотелось спрятать под ней свой модный наряд, такой неуместный на этой эзотерической вечеринке, он это понял сразу.
Они сидели в старой московской квартире, чудом сохранившей щербатый дубовый паркет и витые, с бронзовыми шпингалетами оконные переплеты, уходившие под высоченные потолки с лепниной. Этот столетний дом на Остоженке увернулся от безжалостного налета московских девелоперов. В нем по-прежнему уютно пахло пересушенным деревом и бумажными обоями. Гости входили и выходили, тяжело хлопая огромными дверями на парадную и черную лестницы, скрывались ненадолго на кухне, где набивали холодильник салатами и прочей снедью, а в пузатой эмалированной мойке стояли под струей воды водочные бутылки.
В огромной гостиной, образовавшейся в ходе бесчисленных переделок еще до эпохи повального евроремонта, кто-то устроился на подоконнике, кто-то закусывал у длинного дощатого стола, кто-то тихо наигрывал советские шлягеры на старом концертном рояле. В другом конце комнаты с Машей, хозяйкой дома, негромко переговаривался о чем-то Эдик.
По дороге он начал было рассказывать Инге про своих друзей-соседей, дом которых назвал неформальным клубом врачей, неврологов и психиатров:
— Чудесные ребята! Я первое время немного боялся их компании, но потом привык…
— Вот это как раз то, что мне сейчас и надо! — перебила его Инга. — Я только что из клуба их клиентов! Требуется срочная реабилитация! — Она дала волю эмоциям, особенно досталось, конечно, Ларисе Францевне, party-шефу — давно Инга так не материлась. Эдик оставшуюся дорогу только кивал и улыбался.
Она с удовольствием затянулась — здесь можно было курить! везде! — и сквозь дымку посмотрела на своего школьного друга. Она до сих пор не могла привыкнуть к метаморфозе, которая с ним произошла. В классе Эдика считали типичным ботаником. В смешной кепочке, в очочках, с вечно шмыгающим носом, рубашка часто была застегнута криво — мимо одной пуговицы. Когда он нервничал, то безжалостно теребил конец воротника, превращая его в тряпочку. Почему-то детей это дико раздражало. Эдику и в детском саду, и в школе доставалось: никому не нравился этот тихоня. Однажды, кажется, в первом классе, Инга за него заступилась. Уж слишком безобразной была выходка одноклассников: в гардеробе Витька Филиппов наплевал на пол и насел на Эдика, заставляя его этот пол вылизывать. Эдик брыкался, Витька наваливался, и был близок тот момент, когда Эдик рухнул бы на заплеванный пол, к ликованию остальных мальчишек. Инга врезала Витьке, как учил папа, с оттяжкой, раскидала остальных, помогла подняться Эдику. И была ошарашена его взглядом: в нем не было страдания и слез, не было благодарности, а только яростное восхищение ею. Почти зависть. Они просидели за одной партой три года. Эдика оставили в покое, связываться с Ингой Градовой никто не хотел. А потом отец Инги был направлен на работу в Марокко вместе с семьей.
Эдик почувствовал ее взгляд, обернулся. Красивый, ухоженный, стильный мужчина. И очень не бедный. Кто бы тогда мог подумать, что из зачуханного ботаника вырастет выдающийся микробиолог-красавец, мечта хорошеньких женщин.
Инга попыталась себе представить, что выбрала не Сергея Белова — любимчика всех студенток из Первого Меда, а Эдика с его тогдашними комплексами, со спрятанной и крепко-накрепко запаянной мизантропией. Пара настолько не складывалась, что она энергично замотала головой. Эдик понял ее по-своему, развел руками и грустно усмехнулся.
— Я вижу, между вами давно установилась прочная связь. — Рядом с Ингой аккуратно примостился мужчина, диван минорно мяукнул старыми пружинами. — Тимофей. — Мужчина привстал, церемонно поклонился. Диван взял ноту «ми».
— Инга. — Она тоже поклонилась. — Да, мы друзья детства.
— А вот это интересно. — Тимофей наклонился к ней. — Вы знаете, что часто такие отношения становятся тюрьмой? С пожизненным заключением! И со временем могут привести к тяжелому соматическому заболеванию.
— Господи! Не пугайте меня! — Инга легко засмеялась. И на всякий случай выпила.
— Да-да! — Тимофей взял ее за руку. Этим хитрым навыком хорошо владели адепты духовных практик: невзначай подобраться к телу новичка — то по ладони погладить, то по спине. Инга отдернула кисть.
— А вы врач? — спросила с сомнением.
— Скажем так, психиатрия и нейрофизиология с некоторых пор входят в сферу моих интересов. — Он снисходительно кивнул.
— О! Это очень интересно! — Инга улыбнулась. Она решила провернуть свой коронный номер — задать вопрос, приводивший в замешательство всех нейрофизиологов, к которым она ходила на консультации. — Чем вы объясните такою способность: человек видит цвета слов или нот?
— Вы имеете в виду синестезию? Так называемый цветовой слух? — продолжил Тимофей невозмутимо дежурным тоном.
— Это заболевание? — Инга невольно придвинулась ближе к нему.
— Нет, что вы! Всего лишь особенность мозга. При восприятии звука в нем активизируется не только слуховая зона, но и зрительная. Это происходит за счет замыкания…
— Тимофей, можно тебя на минутку? — К ним подошел хозяин дома Гриша. Он весело подмигнул Инге и увел Тимофея.
На самом интересном месте!
— Ты как? Отогрелась? — Эдик устроился рядом, поправил на ней шаль.
— Да, спасибо. — Инге были неожиданно приятны его прикосновения. — Тимофей — он кто? Коллега хозяев? Тоже психиатр?
— Тимоха-то? — Эдик расхохотался. — Не, он как раз не врач. Он пациент. Биполярка. Я же тебе говорил — странная компания.
— Ой, а я к нему с вопросами…
— Да нормально. Время от времени Гриша забирает его из Кащенки, когда у него резидуальня фаза, ну тихая то есть. А в остром состоянии он чуть жену не убил.
— Да ладно? Может, было за что? — неловко пошутила Инга, слегка оторопев.
— Он чокнутый коллекционер, — Эдик наслаждался ее изумлением, — собирал наклейки от винных бутылок, из которых пил.
— Так он алкоголик?
— Совсем нет. Но у коллекционеров зависимость хуже, чем у алкоголиков. Коллекционеры — это вообще полный привет с точки зрения психопатии. Не поддаются никакому влиянию, кроме объекта своей страсти. А этот на наклейках двинулся.
— А как же он наклейки отдирал?
— Никогда в бачке от унитаза бутылки не охлаждала? Ну да, ты же из мажоров, откуда тебе знать? Наклейки там на раз отходят. Потом он их высушивал и аккуратно вклеивал в специальные альбомы. Красное сухое (Франция). Белое сухое (Италия). Полусладкое белое, ну и так далее.
— И что? Жена взбунтовалась?
— Во время переезда одна коробка свалилась с грузовика, Ксенька не заметила. Как разгрузились, Тимоха недосчитался альбомов и без объявления войны — с ножом на Ксеньку. — Эдик вздохнул. — Грустная история вообще-то. Он ведь доктор наук, умнейший мужик. Но люди, попавшие в такую аддикцию, всегда на грани. Смотри. — Эдик повернулся к Инге. — Норма — это широкая дорога, — он рубанул воздух, — от патологии ее отделяют узкие полосы, там проходит акцентуация. И поймать момент, когда человек перешел эту тонкую черту, крайне непросто, иногда невозможно.
— Мда, — протянула Инга, — интересные у тебя соседи. Ты-то хоть их различаешь — врачей и подопечных?
— Знаешь, не всегда. — Эдик хлебнул вина и потянулся за сыром. — Но случайных людей здесь не бывает. Процесс социализации пациентов должен проходить бесконфликтно. Знал, что тебе понравится.
— Не то слово! Как-то все здесь по-настоящему. В правильном цвете, хоть и с налетом шизофрении!
— У тебя не пропал твой дар? — спросил Эдик. — Так и видишь всех в спектральном разрезе?
— Ну. Недавно вернулся, причем наотмашь. Опять с приступа началось. — Инга помолчала. — А помнишь, как я дурачила училок на уроках? — они засмеялись.
— Еще бы! Ты тогда вообще была как с другой планеты — после Марокко.
— Но ты по-прежнему мне недоступен, не бойся! — Инга покосилась на него. — Ты в этом смысле единственный. Непроницаемый. Как белый шум, закрытая книга.
— Только в этом смысле — единственный? — Эдик коснулся ее плеча, легонько провел пальцем по щеке.
Нет! Только не это! Не будем портить отношения!
— Слушай, давай без оттенков серого, — тихо сказала она и, скрывая неловкость, вскочила с дивана. — Вот я балда! Мне же надо было позвонить. Я сейчас.
Эдик легко коснулся воротника, грустно проводил Ингу глазами. В длинном платье, в толстых шерстяных носках, в огромной дырявой шали, которая спадала с ее плеч, как мантия, она походила на безумную королеву, потерявшую свой трон. И в каком-то смысле ничем не отличалась от местных.
Инга нашла кухню. Здесь было относительно тихо. Достала телефон, стала бездумно листать контакты.
А ведь я и правда должна была позвонить. Господи, как же ее… Фамилия какая-то дурацкая…
— Салат в холодильнике. Маш, ты помидоры тоже достань. — Гриша открыл духовку и вынул противень, на котором фырчали две аппетитные курицы. — А я пока девушек разделаю.
Точно! Холоди… Вот! Холодивкер Евгения Валерьевна. Судмедэксперт.
— Алло! Евгения Валерьевна?
Хрен выговоришь! Испытание на трезвость.
— Здравствуйте. — Инга собралась. — Вы можете сейчас говорить?
— Висите! — повелительно раздалось на том конце. — Режь вдоль. Молодец. Теперь пилу возьми. Алло, вам кого?
Гриша достал огромный, остро наточенный нож и мастерски рассек кур посередине. Маша тем временем высушила салат и достала брусничное варенье как приправу к мясу.
— Евгения Вареньевна? Валерьевна, простите, ради бога!
— Так меня еще никто не называл! — громогласно захохотали на другом конце. — Стой, ирод! Ты куда ему пилу под ребра суешь! Сюда давай!
— Простите, я, наверное, не вовремя. — Инге не хватало воображения представить, что происходит вокруг ее собеседницы.
— Это смотря по какому вопросу. Вот, теперь правильно. Сердце доставай, нежно и аккуратно.
Инга смотрела на Гришу, он ловко отсек конечности у кур, четко сделав надрезы там, где суставы. Четыре ноги, четыре крыла.
У кошки четыре ноги.
— Я от Кирилла вам звоню, — еле слышно сказала Инга. Ее подташнивало.
— Архарова? По какому делу?
— По Волохову. Он сказал, вы можете помочь.
— Теперь печень, почки, всё в таз. От Архарова, говорите? Эй, только блевать мне не вздумай!
Двумя взмахами ножа Гриша артистически отхватил у куриц попки, положил отдельно, воткнул рядом пучок кинзы.
— Это вам, доктор, — ласково сказал курам.
Холодивкер на том конце распекала кого-то неумелого, потом вернулась к Инге:
— А больше ничего Архаров не просил передать?
— Постойте… А, это… Поражение неотвратимо? Ничья гарантирована? A-а, победа возможна при любом сценарии.
— Наоборот.
— Что наоборот? — не поняла Инга.
— При любом сценарии победа возможна. — На том конце вздохнули.
— А какая разница?
— В нашем деле каждое слово должно стоять на своем месте. Как орган в теле. Номер, с которого звоните, ваш мобильный?
— Да.
— Зовут?
— Кого?
— Вас, конечно. Как зовут нашего жмурика, я знаю. Ты, кстати, записал? — Холодивкер ругнулась. — Я тебе как зачет ставить буду, олух царя небесного?
— Инга Белова я, — сказала обреченно.
Сколько раз за вечер я сегодня представлялась?
— Кирилл меня предупредил насчет вас. Перезвоню. С этим вашим Волоховым надо разобраться. Им не только вы интересуетесь.
— А кто еще?
— Не по телефону. До встречи! — Холодивкер дала отбой.
— Курочки? — Гриша победно воткнул нож в деревянный стол и поклонился зрителям.
Глава 7
— «Беги с ними! Беги и никогда не оглядывайся!» — повторил Вениамин. — Так шептала мама, обнимая меня на прощание. Сунула мне в руки хлеб вместе с чемоданом, и я бежал. Ребенком — в Англию, юношей — в Америку. Все дальше и дальше от Германии. За всю жизнь так ни разу не оглянулся. Я даже не пытался их искать…
Голос его сорвался в скрип. Снова явилась женщина в бледно-голубом халате, поставила на столик колпачок с таблетками, по-хозяйски поправила подушку, принесла Вениамину стакан и лекарства, бесцеремонно шныряя между креслом, где сидел Майкл, и кроватью его отца, как швабра.
— И предупреждаю: вам нельзя волноваться! — сказала она сладко. — Сейчас не время для серьезных разговоров!
— Как раз сейчас самое время! — рявкнул Вениамин. Она пожала плечами, не теряя резиновой улыбки на лице, и удалилась.
— Забери меня отсюда! — попросил он Майкла. — Я хочу умереть дома!
Майкл вздохнул:
— Пап, ты дома. На Берген-стрит, в Бруклине.
— Тогда почему здесь чужие люди? Кто эта женщина?
— Лара не чужая, она сиделка, помогает ухаживать за тобой, — проговорил Майкл терпеливо.
— Кажется, я тебя уже о ней спрашивал?
Майкл промолчал. Вениамин усмехнулся:
— Наверняка спрашивал. И не раз. Я все время хотел жить настоящим. Забыть свое детство. А теперь настоящее смывается. Дни уходят. Волна за волной — без следа. А прошлое вылезает наружу. Как берег во время отлива. Только его я помню отчетливо. Это в наказание. Я не исполнил долг перед отцом.
— Не могло быть никакого долга. — Майкл переубеждал отца мягко, вкрадчиво, слегка поглаживая его по запястью, как ребенка, которому приснился кошмар. — Что ты мог сделать? Ты был еще совсем маленьким! Только в этом и состоял твой долг — спастись и жить! Дедушка не стал бы требовать от тебя ничего другого!
— Тогда — возможно, — раздраженно отмахнулся Вениамин. — Но после войны, после воссоединения Германии! Я должен был поехать в Лейпциг. Должен был разыскать наш дом.
— Что бы это дало? — спросил Майкл тем же успокаивающим тоном.
— Там спрятано что-то очень важное! Я сам видел! Отец положил это в нишу у пола, за кроваткой Анны. Он сказал мне: если с ним что-то случится, я смогу добиться справедливости… — Он закашлялся. — С помощью этой вещи! Знать бы, уцелел ли дом? Говорят, Лейпциг сильно бомбили.
— Хочешь, мы поедем туда вместе? — спросил Майкл мечтательно. — Мы найдем дом, я уверен, что он уцелел. Но сначала тебе нужно поправиться!
— Миша, не говори со мной, как с ребенком. Мы оба знаем, что этого не будет. Просто послушай — пока у меня еще есть силы говорить.
— Хорошо, — ответил Майкл серьезно. Отец называл его Мишей очень редко, во время доверительных разговоров. Он говорил, что так бабушка обращалась к деду. — Я слушаю, пап!
— Помнишь, я говорил тебе о погромах в ночь на десятое ноября? Мы прятались в подвале у Кацманов. Все, что я помню — это абсолютную тьму и соленую ладонь матери. Она зажимала нам с Анной рты, чтобы мы не шумели и нас не нашли. Но я и так не стал бы кричать: мне было любопытно. Наконец на нашей тихой улице происходило что-то необычное. Я все прислушивался. Грохот шагов, звон стекла, крики. И еще какие-то неслыханные, но, кажется, человеческие звуки. А наутро была тишина.
Он замолчал, собираясь с силами, словно не говорил, а совершал долгое мучительное восхождение, и ему иногда требовалось остановиться на привал.
— Вся улица изуродована и разграблена. А потом евреев обязали за это заплатить.
— В каком смысле — заплатить?
— Нацисты выставили штраф за ущерб… В один миллиард марок! Они стали отбирать сбережения и ценности. Но отцу удалось что-то припрятать. Мама говорила, из-за них все беды. — Речь Вениамина становилась все сбивчивей. — Отец заплатил, чтобы нам помогли. Мы сидели дома, ждали этих людей. На каждом три слоя одежды. Чемоданы брать нельзя. Штурмовики сразу заметят! И даже хорошо, топить квартиру не надо. А уже зима, холод. Я не ходил два дня в школу — евреев туда не пускали. Я был так рад!
Он виновато улыбнулся, как будто был мальчиком, который прогуливает школу.
— Не понимал, что происходит. Каждый день случалось что-то новое, как приключение! Пока не забрали отца.
Он зашелся в кашле. Майкл отвернулся к окну, где кивали на теплом ветру лиловые головы гортензий.
— Его арестовали за сокрытие ценностей, — продолжил отец. — Мама говорила, что нас сдали те самые люди… которые обещали побег. Но я так и не достал ту вещь из тайника. Не вызволил отца! Не добился правды! Через два дня пришли волонтеры. Они предложили маме отправить одного из нас в Британию: Руфину, Анну или меня. У них было только одно место. Мама почему-то выбрала меня.
Он опять остановился, новый крутой подъем дался ему слишком тяжело.
— Я оказался недостоин. Она выбрала меня. Она надеялась, что я смогу отомстить. Но я потратил жизнь впустую. Не заплатил по счетам. Долг велик, проценты выросли. Это все, что я оставляю тебе в наследство, мой сын. Прости меня! — Вениамин схватил Майкла за руку. — Запомни: дом номер четырнадцать. Пересечение Томасиус и Хельферих-штрассе, четырехэтажный с угловым эркером, внизу лавка. Наша квартира на третьем этаже, правая дверь. Тайник в большой мансардной комнате! Стена напротив двери, около трех метров от окна. Пусть ты будешь сильнее меня.
Снова подступила одышка. Майкл не стал звать Лару, сам отмерил дозу лекарства, сел поближе к отцу и приладил маску ингалятора к его лицу.
Он возник тихо, без приветствий, сразу направился к самой дальней парте — Катиной. Не выбирая, не раздумывая — прямым курсом, прошел и сел. Не сел даже, а как-то развалился на стуле, но в этой позе не ощущалось раскованности, а наоборот — напряжение. Глаза его сосредоточились на брошенном на парту рюкзаке, будто пытались оттолкнуться от него и не могли преодолеть гравитации. Новый ученик в седьмом «Б».
— Что это еще за перец? Глянь, Белка, возле тебя пристроился! — Вика подтолкнула ее плечом.
— Без понятия, — равнодушно ответила Катя.
— Новенький? — тут же вмешалась Лиза.
— Не поздновато для новенького?
— Второгодник!
— По ходу, подбросили нам экстерна — ОГЭ сдавать! — Катя была недовольна.
— Шугануть его, Кать?
— Да ладно, пусть сидит.
— А как же Апофигенов?
— Да пошел он, — усмехнулась Катя.
— Вот как?! Развод и раздел имущества? — торжествовала Вика.
Ромка Афиногенов, слишком рослый и плечистый для семиклассника, спортсмен и умник, был Катиным соседом по парте. Они неплохо ладили и даже ходили в кафе общей компанией. Регулярные их ссоры провоцировала Катя — Ромка обижался, но всегда первым искал примирения.
— Симпатичный, — проговорила Лиза мечтательно.
Новенький и правда был ничего себе. Отросшие русые кудри, немного удлиненное лицо, упрямый подбородок с ямочкой. Он был бы даже красив, но что-то в нем тревожило, внушало опасение — то ли затравленный взгляд блеклых зеленых глаз, то ли эта неестественная поза. Кате непременно захотелось его разгадать.
Ирина Сергеевна материализовалась вместе со звонком. Катя вернулась к своей парте. Новенький никак не отреагировал ни на Катю, ни на учительницу: не встал вместе с классом, по-прежнему сидел, уперев взгляд в рюкзак.
Катя быстро шепнула ему:
— Ты откуда? Как зовут? — Он не отозвался.
«Вот засада! Сидеть теперь с этим придурком до конца года! Вечно ко мне подсаживаются всякие фрики!» — Катя резко отвернулась, слегка хлестнув его по щеке хвостом своих густых рыжих волос. От этого пушистого прикосновения он словно очнулся, выпрямил спину, уложил руки на парту и снова замер, как заводная игрушка, у которой на пару оставшихся витков раскрутилась пружинка — и завод кончился.
— С сегодняшнего дня по программе инклюзивного образования в нашем классе будет учиться Дмитрий Сологуб. УДимы есть некоторые особенности, но, надеюсь, он сможет влиться в наш коллектив и справиться с нагрузкой…
Тут Ирина Сергеевна широко раскрыла глаза и едва сдержала возглас. Все обернулись, следуя за ее взглядом.
Новенький уже не сидел рядом с Катей. Он ходил кругами на небольшом свободном пятачке между книжным стеллажом и цветочной кадкой.
— Начнем урок, — спохватилась Ирина Сергеевна и раскрыла учебник.
Перелистывались страницы, переглядывались, перешептывались подростки, перекатывались злые смешки, а Дима все описывал окружность стальным циркулем на длинных и подневольных ногах.
— Итак, на прошлом уроке я просила вас найти дополнительный материал к вопросу: как имя главного героя повести «Шинель» помогает понять его характер. Кто готов?
Шелест, шуршание и хохот моментально стихли.
— Значение имени Акакий в переводе с греческого «невинный», «незлобивый». Совпадение с отчеством возводит это качество в превосходную степень, — послышался ровный металлический голос из угла класса. Никто не смог сразу связать этот странный искусственный голос с человеком, ходящим по кругу, как ослик на привязи. — Многие места в повести прямо перекликаются с житием святого Акакия…
Все прыснули. Ирина Сергеевна шикнула. Тем временем новенький продолжал монотонно воспроизводить текст:
— приведенным преподобным Иоанном Синайским в «Лествице». Впервые в науку параллель Башмачкин — святой Акакий ввел голландский ученый Дриссен. К этой параллели обращались Ван дер Энг, Шкловский, Макогоненко.
Раздались притворно восторженные возгласы, задние парты зааплодировали:
— Уау!
— Так ты теперь сидишь с живым Гуглом! Поздравляю! — подмигнул Кате Афиногенов.
— Спасибо, Сологуб! Достаточно! — громогласно объявила Ирина Сергеевна поверх всеобщего улюлюканья.
— Фамилия Акакия Акакиевича, — новенький говорил все громче, некоторые снова засмеялись, почти рефлектор-но обрадовавшись звукосочетанию, — первоначально была Тишкевич; затем Гоголь колеблется между двумя формами — Башмакевич и Башмаков, наконец останавливается на форме — Башмачкин. Переход от Тишкевича к Башмакевичу подсказан, конечно, желанием создать повод для каламбура, выбор же формы Башмачкин может быть объяснен как влечением к уменьшительным суффиксам, характерным для гоголевского стиля, так и большей артикуляционной выразительностью, мимико-произносительной силой этой формы, создающей своего рода звуковой жест.
— Я сказала, достаточно! Садись на место! — щеки Ирины Сергеевны начали покрываться неровным румянцем.
— Каламбур, построенный при помощи этой фамилии, — Дима еще повысил голос, — осложнен комическими приемами, придающими ему вид полной серьезности: «Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки».
— Дима, хватит! Спасибо! — крикнула Ирина Сергеевна и болезненно сморщилась.
Новенький облегченно выдохнул и вернулся на место. Обмяк, опустил голову на рюкзак.
— Кто добавит? — безнадежно спросила учительница. Желающих не нашлось. Ирина Сергеевна достала листок и начала рассказывать, подглядывая в распечатку.
Новенький больше не участвовал в уроке. Только изредка менял положение тела и снова застывал. После звонка Ирина Сергеевна подошла к нему с пособием в руках:
— Вот! — положила под нос брошюру «Индивидуальный план обучения по литературе. 7-й класс». — Будешь по нему заниматься! Ты слышишь меня? Сологуб!
Он смотрел на прошитые листы непонимающим взглядом.
— Сологуб! — повторила она с нажимом.
Катя почувствовала, как под твердым голосом учительницы сжался непрочный механизм Диминого самообладания, и вызвала огонь на себя:
— Ирина Сергеевна, я все стеснялась спросить при всех. А вам не кажется, что чисто фонетически имя Башмачкина вызывает скорее какие-то кишечные ассоциации?
— Белова! — Ирина Сергеевна смерила ее яростным взглядом и последовала к учительскому столу, впечатывая в линолеум тяжелый шаг.
— Чувствую, повеселимся в последней четверти! — Афиногенов с ехидством посмотрел на Катю. Вика подхватила:
— Да уж, по эксклюзивной программе!
Дима достал из кармана ядерно-желтый маркер. «ТЕЛЕФОН» — написал он крупными буквами на титульном листе пособия и подвинул его Кате. Она небрежно набросала свой номер. Сообщение от него пришло быстро. Катя была разочарована простым «привет» и серой пустотой на аватарке.
«Увлекаешься Гоголем?» — напечатала она поспешно. Он ответил: «нет» и следом: «нахожу информацию».
Кате было забавно находиться с ним рядом и вместе с тем так ощутимо далеко — переписываться с другой галактикой.
«Я Катя. Следующий урок — химия. Давай я тебя провожу».
«иди пойду за тобой».
Класс опустел. Катя сгребла сумку и медленно вышла. Она не видела, но знала, что Дима следует за ней — такое щекотное приключенческое чувство.
Едва она переступила порог кабинета химии, как ее резко потянули за руку в сторону. Она стукнулась лбом о крепкое плечо Афиногенова.
— Чего, Белка, как ты? Спасать не надо? Ты только дай знать. — Он почти прижимал ее к себе. — Давай этого говорящего робота перекинем на первую парту? Я могу, ты меня знаешь.
— Пусти, блин, чего вцепился? — Катя попыталась высвободиться и, к своему удивлению, почувствовала, что краснеет. Они стояли в дверях, загораживая проход. После большой перемены в классе пахло сигаретами.
Ромка встряхнул ее за плечи — небрежно, легко и по-деловому, словно проверял исправность механизма.
— Идем сегодня на гироскутерах? — Словно и не было у них никакой размолвки, словно и не посылала она его часто и обидно, как слишком верного и оттого опостылевшего друга.
— Холодно. Не пойду я. Да отцепись уже! — Катя дернулась еще раз, и он заржал, радуясь ее беспомощности и своей силе.
— Ну Белка, ну чо ты!
— Да у меня лабораторка не сдана и два пропуска, мне пара в четверти светит… ты же знаешь Уайта. Ну Рома. — Она посмотрела на него почти умоляюще. Это было неслыханно — покраснеть перед Афиногеновым, ныть, просить его!
Все еще смеясь, он разжал лапы, она резко отступила и вместо того, чтобы толкнуть Ромку, быстро глянула в коридор.
Она не сразу заметила его — Дима стоял у дальней стены коридора и не сводил глаз с воробья, сидящего на выступе пожарного шкафчика. Катя почувствовала совершенно мальчишескую беспокойную злость.
— Эй! Урок сейчас начнется! Хватит на воробья пялиться.
Дима не шелохнулся. «Ну и стой себе там, чучело!» — Она вернулась в класс, резко стукнула сумкой о парту. Жар со щек не проходил. Афиногенов расположился за одной партой с Викой и лениво показывал ей что-то на телефоне. Рядом топтался Аннушкин, безропотный Викин сосед, не решаясь просить освободить место и озираясь в поисках свободного.
Дима зашел вместе с Ольгой Викторовной. Кате на какой-то момент показалось, что она привела его на поводке — до того взгляд химички был неумолим, а Димы — безучастен. Седьмой «Б» встретил их молчанием: странного нелюдимого новичка и Ольгу Викторовну Войтенко — кандидата химических наук, заслуженного учителя школы и непревзойденного диктатора высочайшей квалификации. Класс заполнила такая тишина, что Катя услышала неровное, пунктирами, гудение ламп.
На протяжении десяти с лишним лет Ольге Викторовне удавалось держать в страхе не только учеников, но и весь учительский коллектив во главе с молодой амбициозной директрисой. Пара завучей старой закалки еще выдерживали ее давление, оставаясь в твердом агрегатном состоянии, но остальных педагогов, а также родителей, Ольга Викторовна обращала в инертные газы одним лишь взглядом средней тяжести. Ее появление заставляло ребят прекращать веселый хаос, вытягиваться в струны у своих мест. Узкие темные глаза оглядывали всех, безошибочно — по наклону головы, опущенным плечам, нервным пальцам — определяя жертву урока. А ей нужна была жертва — одна, две, — словно бы для удовлетворения мучительно клокотавшего в ней раствора властолюбия.
Химию в школе учили под страхом распада личности. Ольга Викторовна «находила подход» к каждому — она знала тысячи способов унижения и неутомимо синтезировала новые. Старшие классы наградили ее прозвищем Уолтер Уайт, что для семиклассников звучало устрашающе и непонятно. Но то, что она могла при желании растворить в кислоте или сжечь в щелочи неугодного, сомнений не вызывало.
У Кати застучало в висках. Сегодня надо было сдать лабораторную, которую делали на прошлом уроке, а она так ничего и не написала. Не надо было ссориться с Афиногеновым, у того с химией порядок — папа помогает.
«А моим вообще до меня дела нет, особенно маме», — обреченно подумала Катя.
— Лабораторные работы, кто еще не сдал, прошу на стол, — небрежно сказала Ольга Викторовна. Человек десять потянулись с тетрадями. Так, эти уже не будут жертвами.
«Ты сделала?» — одними губами спросила Катя, встретившись с равнодушным Викиным взглядом. Та неопределенно повела плечами, гордая вниманием Ромки, на которого еще недавно смотрела свысока.
Катя в панике открыла учебник, попутно вспоминая, что про домашние задачи она тоже забыла. Краем глаза увидела, что Дима сидит так же, как на литературе, — напряженно, но теперь он без отрыва смотрел на Ольгу Викторовну. «А ему интересно!» — зло подумала она.
Первая жертва сорвалась с крючка: Аннушкин рассказал решение домашней задачи на молярную концентрацию раствора. Следующей была Лизка — этой хитрюге всегда везло: списывала и не попадалась. Вот и сейчас оно — вечное Лиз-кино везение — заставило Катю вытащить телефон и проверить, сколько осталось до конца урока. Но она не успела даже взглянуть на экран.
— Белова, положи телефон. — Ольга Викторовна, не дослушав ответ Лизы, встала из-за стола и направилась к последней парте. — Продолжай. Как ты решила вторую задачу? Сколько граммов сульфата меди у тебя получилось?
Катя собралась с духом и выпалила:
— Ольга Викторовна, я не сделала, — и подняла глаза, пытаясь держаться твердо. Она была готова к гневу, но нет — учительница смотрела на нее с насмешливым удивлением и держала паузу — одна минута, вторая…
— Ты что же, не считаешь нужным делать домашние задания? — спросила наконец она тоном человека, глубоко оскорбленного в своих лучших чувствах.
Катя растерялась, не понимая, как загладить вину.
— Нет… я считаю нужным… я обязательно сделаю, Ольга Викторовна. Можно, я завтра принесу?
— Когда ты последний раз решала домашние задачи?
— Я всегда делаю. — Это «всегда» относилось разве что к третьей четверти.
Ольга Викторовна властно протянула руку. Катя отдала тетрадь. Учительница листала ее, улыбаясь. Жертва была найдена.
— Белова, прошу к доске. Новой темы сегодня не будет. Разберем одну из типичных задач на массовую долю вещества. Пиши условие: смешали 200 грамм раствора с массовой долей серной кислоты 15 % и 100 грамм раствора с массовой долей 7 %.
Катя шла к доске, как партизан, понимающий, что враг пока еще не знает главной военной тайны — несделанной лаборатории. Ожидание грядущей неотвратимой кары сковывало, она написала на доске условие и не могла понять, чего не хватает. Страх, внушаемый химичкой, был таков, что ему невозможно было противостоять спокойным равнодушием.
— Ольга Викторовна, первое вещество я написала, а второе не помню. 100 грамм раствора с массовой долей 7 % чего? — Катя обернулась к классу.
Ромка выразительно стучал пальцем по голове, шевеля губами, но она не понимала его. Ольга Викторовна, скрестив руки и наклонив по-боксерски голову, смотрела прямо ей в глаза.
— Какое второе вещество, Белова?
— Что? Вы же сказали… смешали… 200 грамм и 100 грамм…
— Серной кислоты! — выкрикнула химичка ей в лицо.
Быстрым шагом она прошла к доске, взяла мел из Катиных рук и перечеркнула условие.
— Все неверно. Условие простейшей задачи записать не можешь. Домашнее задание делала месяц назад. Чем ты занимаешься на уроках, Белова? — Она словно разгонялась для решающего удара. — Давай свою лабораторную, посмотрим, что у тебя там.
Катя не шелохнулась.
— Ты что, оглохла? Где работа?
Катя смотрела в пол. «Это происходит не со мной, не со мной!»
— Катя, — неожиданно тихо и вкрадчиво сказала Ольга Викторовна, — только попробуй сказать, что и лабораторную ты не сделала. Так да или нет?
Катя отрицательно мотнула головой, выбрала точку на полу и вцепилась в нее взглядом — как будто это был столбик, за который она ухватилась, чтобы не упасть.
Ольга Викторовна продолжила медленно — спокойно, доверительно, с интонациями мудрого наставника, не срываясь на крик и истерию — Кате казалось, что по ней едет разумный каток. От него было невозможно спрятаться. Каток полз по всей ее жизни, останавливаясь и утрамбовывая ее имя в асфальт. Это было излюбленное наказание Ольги Викторовны: по многу раз произносить имя виновного, закрепляя за именем стыд и позор.
— Ты, взрослый человек тринадцати лет, позволяешь себе ходить в государственную школу, занимать место, отнимать у учителя время. Точно так же ты позволяешь себе брать деньги у родителей на кино, одежду, телефоны, да, Катя? И с легкостью паразита ты собираешься так прожить всю жизнь. Ни за что не платя, ни за что не отвечая, будучи в этой жизни до старости халявщицей и безмозглой дурой, Катя. Посмотри на меня!
Катя вздрогнула и на мгновение подняла глаза, но почти сразу же их опустила, боясь расплакаться.
— Ты хоть что-то стоящее сделала в своей жизни? Что-то, что дает тебе право считать себя человеком? Чем ты занимаешься в свободное время? В хосписе помогаешь, в детдоме? Какими серьезными делами занята твоя голова, Катя? Я смотрю, на маникюр, на шопинг, на гаджеты у тебя времени хватает. На мальчиков, наверное, тоже хватает? А школа — по остаточному принципу. А теперь ответь мне, почему я, кандидат наук, написавшая диссертацию международного значения, должна тратить время на тебя вместо того, чтобы продолжать заниматься научной работой? Почему?
Ольга Викторовна, не мигая, смотрела на Катю. Класс боялся пошевелиться, каждый втайне радовался тому, что не он сейчас на эшафоте, но даже эта эгоистичная радость не мешала им чувствовать ту страшную бездонную воронку, в которую погружалась их одноклассница. Все ждали, когда обличение прекратится, но боялись вызвать огонь на себя. Новенький по-прежнему не отрывал взгляд от учительницы.
— Мне интересно, Катя, а что думает мама о твоих школьных успехах? Она тобой занимается или уже пустила в свободное плавание?
Это было то самое — вот так, шаг за шагом, методично и безгневно перебирая друзей, привязанности, привычки, отношения с родителями, мечты о будущем, страхи и желания, чувства, смешивая это все в адский коктейль, Ольга Викторовна добиралась до больного места каждого ученика.
Катя охнула, в отчаянии вскинула голову, хотела что-то крикнуть, но не смогла.
— На следующий урок, Белова, я тебя пущу только после разговора с классным руководителем. Сологуб, в чем дело? Хочешь к доске? — обернулась учительница к классу.
Катя, вырвавшись из-под ее взгляда, громко всхлипнула и выбежала вон.
Она не чувствовала холода. Пронеслась по школьному двору, по футбольному полю и остановилась только у турников. Там, прижавшись лбом к ледяной перекладине брусьев, она наконец дала волю рыданиям. И строила, строила планы мщения — один безумней другого. И опять плакала.
Когда на ступенях у главного входа появились ученики младших классов с родителями, она поняла, что урок окончен и надо возвращаться. Посмотрела на телефон и неожиданно обнаружила месседж от Димы: «надождать». Господи, о чем он? Чего еще ждать? Ненормальный какой-то…
Глава 8
Все знания Инги про морг были из ментовских сериалов начала 90-х — с темными коридорами, грязью, полупьяными мрачными врачами, да из ужастиков, где восставали мертвецы с костлявыми руками. Особенно она беспокоилась о запахах. Они привязывались к ней. Потом, хоть бы и через месяц или через год, ей достаточно было только уловить носом нечто похожее, чтобы мгновенно провалиться в атмосферу прошлого — со звуком и изображением. Она в деталях помнила гнилостно-сладкий аромат мясного отдела из «Продуктов» на Цветном, плесневелый запах пыли в старой бабушкиной квартире, химическую атаку из кладовки в их редакции, вонь раскисшей мусорки во дворе ее дома, резкость дорогого одеколона Арега. Но, к счастью, так же легко вспоминала сливочность детской Катиной макушки или карамельный дух маминого вишневого пирога.
Подходя к моргу, она радовалась, что мир по-прежнему пахнет скошенной травой, свежей листвой и выхлопами машин с дороги. Специфический запах появился только в фойе и неожиданно оказался приятным — церковный ладан, отчего в памяти быстро промелькнул высокий иконостас, ряды свечей, золотые рясы и ангельское пение. Ладаном пахло из-за двери с табличкой «Ритуальный зал».
Они с Олегом прошли мимо, к служебному входу, как и договаривались с Холодивкер. Там ей было легче провести их к себе — без лишних вопросов и чужих глаз. Они стояли в небольшом тамбуре, ожидая Женю, и перешептывались.
— А вдруг там сразу, как войдешь, вдоль стен покойники лежат? Ты готова? Они кааак накинутся?
— Ты со мной зачем пошел, а? Для острых ощущений или чтоб меня поддержать? Вот и поддерживай. Скажи: можешь на меня положиться. Давай повторяй по слогам. Можешь…
— Можешь, конечно. Вместе и рухнем. Тебе хоть помягче будет.
Он натянул до носа ворот свитера и захрипел дальше:
— Как здесь можно работать? Я сюда больше ни ногой. Только если обеими и вперед. — Он хмыкнул. — А эти? Каждый день добровольно, ты только представь!
— Привыкли, наверное. Профессиональную защиту выработали. Я, кстати, думаю, они все азартные люди — зачем еще такую работу выбирать? Чтобы загадки смерти разгадывать, больше незачем.
— Ага. Все здоровые тела похожи одно на другое, а каждое умершее тело умерло по-своему.
Из коридора вело три двери, как в сказке: прямо пойдешь — в «Танатологическое отделение» попадешь, налево — в неведомые «Секционные», направо — в «Посторонним вход воспрещен».
Штейн перебирал варианты.
— Я бы вправо пошел: Танатос пусть подождет, а Секции явно не волейбольные.
Но, вопреки его ожиданиям, открылась дверь с надписью: «Секционные». В проеме появилась грузная женская фигура. Женя сощурила глаза, привыкая к слабому свету, спросила:
— Это вы — Инга?
— Да.
— Холодивкер.
Они прошли за ней в длинный, слабо освещенный коридор. Вдоль стен, как и предрекал Штейн, действительно стояли каталки с контурами тел, закрытых простынями. Инга с любопытством оглядывалась. Холодивкер тяжелой поступью пошла в сторону дальней двери. Они переглянулись — она сама выглядела как зомби.
Она провела их в маленький чистый кабинет, тут было совсем по-домашнему. Ничего не напоминало о соседних помещениях — пара рабочих столов, шкафы с папками, обеденный стол, пузатый чайник с маками, на окне — тюлевые занавески и герань.
— Садитесь. — Женя устало опустилась на стул. — А это с тобой кто?
— Олег Штейн, коллега.
— Ясно, группа поддержки. Он в обморок не грохнется, помощник твой, смотрю, зеленеет на глазах? У мужчин нервы не то что у нас. Ты чего в свитер закутался? Холодно или аромат не тот? Это всего-навсего запах свернувшейся крови с примесью формалина, скажи спасибо, что ты не этажом ниже — там у нас подснежников вскрывают.
Холодивкер препарировала и в разговоре — каждое слово было как идеальный разрез. Смотрела прямо, чуть весело, изучая гостей. Инга продолжила разговор:
— Евгения Валерьевна, мы пришли узнать хоть что-то о Волохове. Он был моим другом.
Холодивкер внимательно рассматривала Ингу, будто взвешивая — можно ли доверить ей эту ношу? Про скорчившегося Штейна она уже все поняла.
— А тебе результаты вскрытия зачем? Куда ты с этой информацией? Допустим, что-то не так, дело, думаешь, возбудят? Кого еще, кроме тебя, это волнует?
— Знаю, знаю, надежды нет. Я со следователем уже встречалась.
— С Рыльчиным? Он мертвее моих пациентов, сердца у него точно нет, без вскрытия понятно.
В дверь постучали.
Сейчас нас выставят.
— Евгения Валерьевна, все готово, срединный разрез выполнен, органокомплекс извлечен, будете на гистологию брать? И на химию?
— Буду! — властно крикнула Холодивкер. — Начинай пока без меня.
Она встала, чтобы поставить чайник.
— Понимаете, внешне история абсолютно ничем не примечательная. В протоколе осмотра трупа — типичная смерть пенсионера. Сидел человек, сидел и тихо умер. Возраст — никто не удивился, быстро включили похоронную машину. Я так и сама поначалу думала — организм изношен, сразу видно: и давление, и панкреатит, и язва. Каждого из перечисленных заболеваний, в принципе, достаточно. Но что-то меня цепляло. А как мозг открыли — сразу и понеслось. Вы, кстати, есть хотите? — Она достала из ящика стола пачку печенья, хлеб и колбасу.
— Неет, спасибо!
Олег пнул Ингу под столом: смотри — зомби завтракает!
— И что, Евгения Валерьевна? Что? — Инга сидела как струна.
Холодивкер отрезала толстый ломоть белого хлеба, сверху водрузила шайбу вареной колбасы и с аппетитом откусила.
— Какая я тебе Валерьевна, брось. Женя. Там не сосуды были в мозге, а кровавое месиво — ни одного целого. Я двадцать лет вскрываю, а такого не встречала, чтобы в лабораторию на анализ послать было нечего — от сосудов одна слизь осталась. Ну и пошла резать ниже, на шею, я ж упертая. Думала, артерию найду поцелее. А там, под кожей, глубоко внутри, следы кровоизлияния вокруг левой позвоночной. Снаружи его не видно, понимаешь? Тогда я на кожу повнимательнее смотреть стала и увидела его.
— Кого?! — Инга с Олегом вскрикнули хором.
— След от укола! И ведь как ловко сделан — ровно по линии роста волос, рядом с родинкой, а иголка тооонкая была. Четко в артерию! И главное, место такое — ну кто туда колет? Без шансов найти. Но не повезло ему — нарвался на сумасшедшую Холодивкер.
Она с явным удовольствием откусила еще кусок бутерброда.
— Так это выходит… что? — Инга от нетерпения вскочила.
— Мне девочки из лаборатории позвонили. Я же им все срочняком на анализы отправила, в тот же день. Они и говорят: газхром показывает неизвестные пики.
Инга со Штейном переглянулись, слова Холодивкер звучали для них, как бред.
Она добила бутерброд, налила себе чаю.
— Сейчас объясню, как для блондинок. Есть такая вещь — газовый хроматограф. Это очень умное устройство для анализа сложных веществ путем их разделения на моно-компоненты. Кладут туда препарат, читай — кусочек печени, например, а он тебе выдает хроматомасс-спектрометрию. Это как график — кривая с пиками. Химики выделяют пики, а каждый пик — определенное вещество, и сличают с аналогами библиотеки. И таким манером понимают, что попало в организм.
— Более-менее понятно, — кивнула Инга. — Это как в мишленовском ресторане пытаться понять, из чего блюдо?
Женя кивнула. Гастрономическое сравнение пришлось ей по вкусу.
— Схватила суть верно. Так вот, они мне и говорят, что в блюде твоем, то есть в печени Волохова, есть приправа, о которой мы ничего не знаем. Ничего — от слова совсем ничего. Науке неизвестно! И самое смешное в этом, — она криво улыбнулась, — и печальное, что им писать нечего! Раз нет такого препарата в нашей картотеке — значит, в заключении будут пустые строчки! Поэтому причина так и осталась: «Смерть наступила от субарахноидального кровотечения». Правда, в протоколе вскрытия я написала про укол. Но все равно никаких оснований для расследования и возбуждения уголовного дела нет.
— Не понимаю.
— Рыльчин, похоже, мой протокол выкинул к херам. Про укол я Архарову рассказала, он там один нормальный.
— Так что же это может быть?
Холодивкер еще раз изучающе посмотрела на Ингу.
— Ладно, пойдем, покажу кое-что.
И не дожидаясь ответа, вышла из кабинета. Штейн взял Ингу за руку.
— Не дрейфь, парниша, — на ходу сказала Женя. — В гистологию идем, никто тебя покойниками пугать не станет. Хотя что их бояться, все беды от живых.
В синем прохладном кабинете гистологии Холодивкер достала из лабораторного шкафа предметные стеклышки с красно-голубыми кляксами, включила микроскоп, продолжая объяснять одной Инге. Олег остался стоять поодаль.
— Смотри, видишь, как здоровая артерия выглядит? Ровная, плотная, упругая. А теперь сюда посмотри.
Женя разместила новый препарат под микроскопом.
— Вот. Стенки артерии истончены, будто по ним щеткой железной прошлись или кислотой облили. Неудивительно, что они порвались мгновенно — как решето.
— А попроще можно?
— Попроще — был введен препарат, вызывающий мощное разрушение артерий мозга. Еще проще — это убийство.
— Инночка! Как ты вовремя! Иди же сюда скорее! Присоединяйся к нашему импровизированному собранию.
У подъезда кирпичной пятиэтажки под жестяным козырьком толпились несколько человек. Консьержка, соседка с нижнего этажа, двое молодых людей в рабочих комбинезонах «Оптоволокно» и в центре — хрупкая Александра Николаевна: очерченные ниточки губ, подведенные глаза, кокетливый газовый шарфик. Тонкие седые волосы уложены в прическу на манер «бабетты». Несомненно, всю эту операцию затеяла и приводила в действие именно она. Инга присела на скамейку, заинтересованная происходящим.
— Есть еще такой вариант: тянем по внешней стене дома, — хмуро сказал представитель провайдера.
— Сопли на фасаде, молодой человек, все равно что трусы поверх брюк. Исключено! — живо ответила Александра Николаевна.
— Тогда пойдем через вас. — Молодой человек обратился к соседке снизу. — Другого пути нет.
Александра Николаевна повернулась на каблуках к Ниночке, соседке снизу.
— Нинон, соглашайся! Пройдем в месте последней протечки, раз уж все равно потолок в твоей кухне безнадежно испорчен. Зато у нас будет еще одно окно в мир. Я тебе клянусь, это не телевизор, это куда интереснее! Тебе же компьютер сын подарил.
Грузная Нинон, с пучком густых волос, в старой кофте и галошах, махнула рукой.
— Вай мэ! Делайте, что хотите, — и, шаркая, ушла в темноту подъезда.
— Приступайте, молодые люди! Тяните вашу цивилизацию в одряхлевшее человечество.
Порыв ветра сорвал газовый шарфик с шеи Александры Николаевны, она беспомощно взмахнула рукой и тут же схватилась за шею. Инга знала — не только кокетство заставляет ее носить шарфики. Они прикрывали два кривых белых шрама на шее, о происхождении которых она никому не рассказывала. Ветер поднял невесомую ткань на высоту третьего этажа, надел на выступающий край балкона. Один из интернетчиков легко подпрыгнул, ухватился за ветку растущей у дома липы и полез наверх. По другой, горизонтальной ветви он на руках добрался до балкона, снял шарф и вернул его Александре Николаевне — та смотрела на него во все глаза.
— Спасибо вам. — Она протянула худую руку и прикоснулась к плечу молодого человека.
— Вы что, Интернет решили наконец провести? — спросила Инга Александру Николаевну, когда они зашли в подъезд.
— Ты будешь смеяться, Инночка, но вот из таких крошечных событий и состоит моя жизнь, — не услышав вопроса, говорила Александра Николаевна. — Ты подумай, этот молодой человек, такой серьезный, говорит сложно, так, что я понимаю в его монологах только предлоги… ну и стоимость, конечно. И вдруг, как мальчишка, на дерево! Ради меня. Ромео.
— Ромео на балконы не лазал. Скорее уж Сирано де Бержерак, — посмеялась Инга.
— А вот и нет! — Александра Николаевна победоносно обернулась к Инге. — Ты, моя девочка, забыла! И у кого из нас память плохая? На балкон лазал не Сирано, а его молодой друг… как его? Ну неважно. А я должна была целоваться с ним на балконе.
Инга знала, что в середине шестидесятых Александра Николаевна была утверждена на роль Роксаны, и были уже отсняты несколько эпизодов. Но потом случился тот кошмар, после которого она попала в больницу на полгода и вышла оттуда совсем другой. Даже ее недоброжелатели содрогнулись, узнав, что с ней произошло.
Они поднялись на третий этаж.
— Дай отдышаться, сердце сейчас выскочит. — Александра Николаевна остановилась переддверью. — На ключ, открывай.
Инга сразу прошла на кухню. Четыре больших пакета из дорогого гастронома заняли весь стол на крохотной кухне.
— Вот сосиски, как вы просили.
— Да, хочется иногда подхватить их за розовый бок — вилкой из кипяточка. Знаю, что вредно, но с пюре так вкусно.
— Вот овощи. Масло, сыр, нарезка копченой. А это вы любите, я знаю.
— Инга! — Александра Николаевна укоризненно ахнула, — красная рыба! Икра! Ну куда…
— …и профитроли, — довольно сказала Инга, вынимая последнюю упаковку из пакета, сминая его и пряча за ведро. Она знала, что Александра Николаевна ничего не выбрасывала, пакеты из магазинов использовала как мусорные. — Чай пить будем? Вы же не торопитесь?
— Куда я могу торопиться? — грустно улыбнулась Александра Николаевна, вытирая испарину на лбу. Стали видны веером расходящиеся от центра лба шрамы и еще три маленьких на левом виске.
Она поставила на газовую плиту чайник — не признавала электрические, говорила, что вода в них невкусная, но Инга подозревала, что она просто экономит. Они прошли в единственную комнату, которая служила пожилой женщине и гостиной, и спальней. Диван был сложен и накрыт гобеленовым покрывалом. Вдоль стены, под ковром, стоял раскладной полированный стол.
— Ну у нас сегодня прямо праздник! — она снова покачала головой, расставляя на столе угощение.
Над диваном висели черно-белые фотографии Александры Николаевны с кинопроб: совсем юная девушка в высокой соболиной шапке, сильно загримированная брюнетка в цыганской юбке, изысканная аристократка с высокой прической. Глубокая, цепляющая, нездешняя красота в озорных чертах девчонки. Красота досталась от матери, озорство — от отца. Тут же на стене, чуть в стороне, висела и пожелтевшая, еще довоенная, фотография ее родителей.
Невозможно было представить, что однажды на это тонкое создание поднял руку сильный мужчина — любимый муж, измученный демонической ревностью. Бил долго, в угаре, не щадя. Говорили, что его остановил только вид двух зубов в луже крови на полу — вот тогда он испугался. Не за нее — за себя. В реанимации Александра Николаевна сказала, что попала в автомобильную аварию, изверг остался безнаказанным. А она — изуродована, бездетна и профессионально непригодна. Ее высокий покровитель ничего не сделал, чтобы наказать мерзавца. Но впоследствии помог ей получить однокомнатную тридцатиметровую квартиру, что в то время было немало.
«Лучше бы он меня убил тогда», — не раз потом говорила актриса. Ее еще приглашали сниматься в эпизодах, но о главных ролях речи быть не могло.
Инга ходила к Александре Николаевне лет пять — именно ходила, так можно было назвать эту странную дружбу между популярной журналисткой и забытой киноактрисой.
— Ну? Что молчишь? — Хозяйка уже разлила чай, разложила пирожные и настроилась на новости.
Заговорили, конечно, о Волохове.
— Поставь рюмки. Помянем Шурочку. — Александра Николаевна достала из потрескавшегося серванта бутылку армянского коньяка. — Еще со старых времен завалялась. Вот и повод нашелся.
— Вас не было на панихиде, — сказала Инга.
— Давление подскочило. Испугалась, что не доеду.
— Наверное, правильно. Тяжелое это зрелище.
Помолчали. Коньяк обжег язык, но оставил во рту приятный привкус.
— Расскажи, кто там был, что говорили, как были одеты дамы? — Александра Николаевна махнула полную рюмку, в глазах появился блеск, она улыбалась, представляя себе собравшееся на панихиде общество. Инга понимала, что ей не хочется говорить о смерти.
— Было несколько экстравагантных нарядов, вам бы понравилось. Как вам такой: широкополая черная шляпа, а к ней темно-серое пальто с черным воротником?
— Дай угадаю. Зоя Сбойцева?
— Точно. — Инга разлила коньяк, но Александре Николаевне треть рюмки.
— Она еще с мхатовских времен любила такие шляпы. Давай еще!
— Хорошо. — Инга подумала. — Темные очки, в волосах бархатная черная лента, каблук на двенадцать, поверх черного костюма янтарный пояс?
Александра Николаевна помахала рукой в воздухе. Она поняла, о ком речь, но не могла вспомнить имя. Инга не помогала специально, врачи рекомендовали в таких случаях не подсказывать — надо заставлять мозг работать.
— Ну эта… твоя… Косоурова! Из журнала!
— Ладно, два ноль. Как вам такой вариант? С иголочки черный костюм, отороченный мехом, идеально уложенные локоны.
— Ну это легко. — Александра Николаевна перестала улыбаться. — Это наша змея Соня. Убедительно скорбела? Та еще актриса, мне фору даст. — Она тяжело вздохнула. — Господи, как все-таки Шурочку жалко!
Светские новости не помогали — Александра Николаевна была готова расплакаться. Они с Волоховым много лет дружили.
— Вы знаете, пришли и молодые люди, — заторопилась Инга. — Он по-прежнему собирал у себя дома студентов. Как нас тогда, двадцать лет назад.
— Молодые люди, небось, как на подбор — красавцы?
— Не скрою. — Инга улыбнулась. — Один даже меня поразил.
— Вот это ты зря, дорогая. — Александра Николаевна лукаво прищурилась. — Наверняка не по твоей части.
— В смысле? — Инга опять взяла в руки бутылку.
— Если красавец да при Шурочке, то точно не по женскому интересу.
Инга непонимающе уставилась на Александру Николаевну.
— Так, так… чего-то я в этой жизни явно не понимаю.
— А ты разве не знала? — Хозяйка открыто наслаждалась ее удивлением.
— Да быть не может. — Инга опустилась на стул. В памяти всплыл Волохов: всегда безукоризненная одежда, неизменный шейный платок, изысканный одеколон, ухоженные руки. — Но… Софья Павловна?
— А что Соня! — Александра Николаевна пожала плечами. — Сначала любовь у них случилась. Соня-то была не то что сейчас. Красавица! Только это недолго продолжалось. Вокруг Шурочки всегда вилось много молодежи, ну ты знаешь. — Александра Николаевна сделала паузу и пригубила коньяк. — Я тебе честно скажу…
— Не томите, Александра Николаевна. — Инга видела, что та ждет, что ее будут просить.
— Никто так до конца и не понял, чем жил Шура на самом деле. Кого любил, с кем заигрывал. И почему так опекал некоторых своих протеже. Он всегда умел обойти навязчивые вопросы, — кивнула Александра Николаевна. — И что поразительно — к нему не прилипали сплетни. Вот только однажды…
Она неловко поднялась, подошла к старому книжному шкафу, достала толстый кожаный альбом. Инга наблюдала за ней с болью: было заметно, как она сдала за последний год.
— Ну-ка, помоги.
Инга бережно взяла фотоальбом, положила на стол, раскрыла.
— Вот! Вот смотри! Узнаешь? — Александра Николаевна указала на фото, к которому Инга раньше особенно не присматривалась.
Это был групповой снимок, предположительно начало 70-х.
— Александр Витальевич? — переспросила нерешительно.
— Ну конечно. А рядом видишь? Подожди! — Александра Николаевна дала ей лупу. — Лучше?
Рядом с Волоховым стоял высокий парень, волосы чуть длиннее тогдашней нормы, фигура спортивная, но поза манерная, голова откинута назад, полуулыбка. Волохов не сводил с него глаз.
— Это Феликс, джазист. Их история наделала шума. — Александра Николаевна покачала головой. — Шурочка так увлекся, что совсем забыл об осторожности. Везде таскал его за собой, во все командировки, даже в отпуск! А ведь уже была Соня.
Инга обескураженно смотрела на черно-белый отпечаток чужой жизни.
— Но как же так?
— А вот так! Запах свободы сыграл с ним злую шутку. Скандал замять удалось, хотя эта тварь Соня даже в профком писала письма. Но, может, и правда хотела вернуть Шуру? Хотя… такие, как она, любить не умеют. Феликс потом пропал. Его выгнали с работы, он уехал из Москвы и, говорят, спился где-то.
— Но я же помню, они жили вместе с Софьей Павловной! — Инга задумалась. — Хотя… У нее всегда была своя квартира.
— Уговор был такой: развода не будет, все имущество отписать ей, за это Соня обещала его прикрывать. Ее за глаза Гагарой звали.
Александра Николаевна бережно закрыла альбом. Рука, скованная артритом, машинально поглаживала темную кожаную обложку.
— «Смерть в Венеции», помните? Висконти.
— Конечно, любимый фильм Шурочки.
— Точно! Александр Витальевич по нему лекцию читал. — Инга замолчала, вспоминая. — Густав фон Ашенбах любит мальчика издалека, даже подойти не решается. Только наблюдает из шезлонга, с балкона, бродит тенью, ловит его запахи, ревнует. Он стар и понимает, что надежды на сближение нет — просто смотрит на Тадзио и страдает. Ощущает несвежее старое тело, ненавидит свои морщины, очки. Этот мальчик для него — последнее дыхание, спустившийся ангел, но ангел смерти, глоток сладкого яда. И он этот яд пьет, отдает жизнь за эти секунды счастья! После такой любви — когда ни поговорить, ни прикоснуться — может быть только смерть. Другого выхода нет.
— Как жизнь иногда рифмуется с кино!
Муки писателя от тайной любви к мальчику, красивому, как греческий Антиной — и смерть!
— А в последнее время, — Инга потерла лоб, — у него никого не было, не знаете?
— Как же! Знаю! — К Александре Николаевне вернулось лукавство.
— Молодой?
— Кто, Инночка?
— Ну, — Инга замялась, — с кем Александр Витальевич встречался.
— Да! И хорош!
— Вы его видели? — У Инги загорелись глаза.
— Они приходили ко мне месяца два назад. Притащили огромный букет роз. Необыкновенных! Я их, знаешь, подрезала, почистила стебли, так они у меня почти три недели стояли. Я их еще на ночь…
— Александра Николаевна, — умоляюще заныла Инга. — А что молодой человек? Кто он? Как зовут? Где они познакомились?
Мог убить из-за книги? Альфонс? Наркотики?
— Дорогая моя, ты как полиция нравов! Давай-ка лучше пить чай. Я-то откуда знаю, кто он? Они пришли ненадолго, вручили цветы. Такие розы, ты бы видела! Я даже имени не спросила, зачем мне? — Она отхлебнула чаю. — Ох, горячий! Достань молока, пожалуйста. В молочнике. Да, спасибо. — Она капнула несколько капель молока, сделала глоток. — Вот, совсем другое дело. Там в цветах была открытка. Посмотри в верхнем ящике секретера.
— Вот эта? — Инга уже держала в руках стильную открытку с аппликацией.
— Раскрой. Видишь? Стихи. Это его. Мальчик, кажется, поэт. — Она подумала. — Или актер? — Александра Николаевна замолчала. По ее щеке, прокладывая дорожку, текла слеза. — Какое это сейчас имеет значение?
Инга прочитала, с трудом разобрав почерк:
Глава 9
После затянувшегося похолодания, когда уже стало казаться, что тепло не придет никогда, выглянуло солнце и напомнило всем, что вот-вот начнется лето и наступит размягчающая, полная блаженства жара.
Игорь Агеев молчал довольно долго и вот вчера коротко ответил на ее письмо: «Здравствуйте, Инга. Буду рад видеть вас у себя завтра в 14:00». И адрес. Она приехала на встречу раньше времени и теперь сидела на лавочке, подставив лицо теплым лучам в старом московском дворике между кирпичными пятиэтажками. С детской площадки вперемешку — взрослые окрики и детские взвизги — неслись голоса, иногда сливаясь в общий гул. Перед самым домом были разбиты цветники, в одном из них копалась пожилая женщина в платочке и фартуке. К дереву была прислонена ее палочка. На ветке чирикала какая-то птица, а с балкона долетал нежный перезвон ветряных колокольчиков, превращавших обычный городской дворик в буддистский ашрам. Инга закрыла глаза.
И снизойдет на меня благодать, прана и стопанна, и никудашеньки я не пойду, а буду сидеть здесь и дышать весной — вечно. Стану чаще бывать с Катькой, найду простую работу, буду необременительно встречаться с просветленными мужчинами, заведу лотос в горшочке. К черту — трупы, подозрения, убийц… Буду чистить карму, переводить бабушек с тросточкой через дорогу…
«Помните трость доктора Мортимера у Шеролка Холмса в „Собаке Баскервилей“?» — всплыл в голове у Инги голос ее преподавателя по анализу текста — странный такой был персонаж: долговязый и рассеянный — с улицы Бассейной. Но именно благодаря ему она подобрала ключ к своему цветовому шифру.
«Какие выводы сделал доктор Ватсон при беглом взгляде на нее? Всего лишь, что хозяин трости — пожилой сельский врач. И даже в этом немного ошибся. А сколько ценной информации смог извлечь Шерлок Холмс, изучив все детали! И подробности биографии, и характер! Каждая фраза в нашей речи подобна этой забытой трости. Если не довольствоваться только поверхностным смыслом, как Ватсон, а внимательно исследовать все особенности речи — мы сможем многое понять о нашем собеседнике: его истинные цели, его отношение к нам, его скрытые эмоции и намерения.
Какие тут могут быть улики? Их множество! Порядок слов в предложении: инверсия, постпозиция, использование эмоциональных выражений, сленга или брани. Очень важна интонация. И, наконец, ошибки: оговорки, повторы. Все это неспроста. Вглядитесь в речь, пощупайте ее! И вы сможете считывать не только верхний слой — ее семантику, но и видеть скрытое — прагматику. Например, жена говорит мужу: „Тут невыносимо душно!“ Что значат эти слова? На уровне семантики всего лишь: „Мне тяжело дышать“. Но на уровне прагматики: „Открой, наконец, окно, старый дурак! Ты совсем обо мне не заботишься!“»
Тогда Инга чуть не подпрыгнула на стуле. Она-то прекрасно видела речь, только не могла разобраться в цветных всполохах. Интуитивно она считывала эмоции, но чувствовала, что может пойти дальше. Инга анализировала синтаксис и стилистику реплик, сопоставляла результаты со своими «цветовыми» впечатлениями, рисовала диаграммы, графики. Она заметила, что видит повторения, запутанные конструкции, которые, по словам преподавателя, часто свидетельствуют о лжи, в темно-красном спектре. Именно этот цвет заставлял ее сомневаться в истинности сказанного. Она стала сравнивать свои ощущения с языковыми особенностями. Хотя строгих закономерностей не было, и какие-то впечатления и речевые характеристики можно было трактовать по-разному, Инга убеждалась, что большинство ее выводов оказываются верными. Она уже думала с головой уйти в науку, но не выдержала монотонного сидения за книгами.
Разработанный метод очень пригодился ей в журналистских расследованиях. А вот в личной жизни только мешал: она без труда видела фальшь, зависть, корысть в словах поклонников и подруг. Порой даже приходилось «отключать цветовизор», чтобы не разочароваться разом во всех. Только речь Сергея, бывшего мужа, была кристально чиста от ржавого налета — этим он ее и зацепил.
В «QQ» цветовой слух притупился от обилия буро-дерьмового оттенка, иногда она и запах ощущала весьма явственно. Но заставила себя в этом жить, и дар притупился. Как притупляется нюх сомелье от бормотухи.
Ах, черт! Как бы пригодилась эта способность теперь! Мда… переезд на Гоа пока придется отложить.
Инга открыла глаза. С нетерпением потерла ладони. Ветряной колокольчик как будто подгонял:
«Еще, еще, еще…»
Телефон зазвонил, будто подпевая.
Эдик! Совсем про него забыла!
— Что-то ты опять пропала, — сказал он вместо приветствия.
— Да. Пропала, растворилась в Сети.
— Что-то серьезное? Нужна помощь? — Инга знала, что он немедленно бросится к ней, стоит только попросить.
— Эдик, а ведь нужна!
— Слушаю тебя внимательно.
— Я тебе сейчас прочитаю стихи, а ты скажи, что думаешь об авторе, идет? Ты же со своими соседями и их уважаемыми гостями из Кащенко давно тусуешься, стал профессиональным психологом. — Она услышала, как он улыбается.
— Они психиатры, не путай. В отдельных ситуациях эта путаница может дорого тебе обойтись.
— Запугал! — Инга рассмеялась.
— Читай уже.
— И все? — спросил Эдик.
— Да, а что?
— Это отрывок. Возможно, окончание. Хочу услышать полный текст.
— А как ты понял, что это отрывок?
— Выдает слово «вместо». Если это самостоятельный кусок, то почему море не просто случается с автором, а случается с ним вместо сада? Значит, сад — основной контекст. И он был задан ранее. Вообще-то ты могла бы сама догадаться, ты же увлекаешься… — Эдик замолчал, видимо подбирая нужное определение, — …игрой в слова?
Дразнит, хочет позлить меня. Но я и правда тормоз — конечно, это отрывок!
— Та-ак, отлично. Еще догадки есть?
— Есть. Но раз уж ты записала меня в психологи, то я начну задавать вопросы, а ты, как послушный клиент, сама дойдешь до ответа. Какие у тебя ассоциации со словом сад?
— Дерево, росток, жизнь, плоды, запретный плод, искушение, рай…
— Дошла до рая? Молодец. Пригодится. Дальше идем. Сад — аллегория чего?
— Не знаю, похоже, сад — это главное дело жизни. Вишневый сад Раневской… потеря сада — потеря смысла.
— Хорошо. А еще сад — это то, что человек посадил сам. Сам! Однажды опустил в землю зерно, оно дало росток. Человек трудился — росток окреп, стал деревом, и это дерево…
— Дало плоды?
— И человеку, по идее, надо бы радоваться плодам, насыщаться ими… И вдруг он понимает, что посадил в землю не то зерно…
— Цвети, мой ад!
— Вот именно — ад. Я не знаю, какое значение придавал здесь поэт аду, но это выглядит как противопоставление райскому саду. Автор понимает, что получил наказание вместо блаженства. Но отмотать назад и переиграть уже не может. Сад вырос.
— Но сад еще цветет…
— Видимо, он чувствует — плоды будут горькими.
— Эдик, спасибо тебе. Созвонимся!
Кто же ты такой, Антиной? И где искать тебя?
Накануне Инга перерыла весь Интернет, но безуспешно: по вашему запросу ничего не найдено. Первый подозреваемый в краже либретто не оставил никаких следов, кроме этого короткого стихотворения.
Она скосила глаза на телефон. 13:48. Подумала немного и решилась: открыла ноут, подцепилась к Сети, перебрала закладки и нашла сохраненный линк загадочного Indiwind.
Написала: «Хочешь помочь, найди автора: Цвети, мой сад, мой ад, еще, еще, еще… Это тест».
Потом написала эсэмэс Штейну: «Интервью для „Маскарада“ с Подгорецким подтвердили. По деньгам норм. Жду у Красных ворот в 17:00».
Наконец встала, потянулась.
Как же приятно вернуться к нормальной работе!
Инга набрала на домофоне номер квартиры Агеева. Дверь открылась без лишних вопросов.
— Замечательный у нас дворик, правда? — Он уже стоял в проеме двери, улыбаясь одним голосом. Инга догадалась, что он наблюдал за ней из окна. — Инга, правильно? Я Игорь Дмитриевич! Прошу вас.
Она оказалась в тесной прихожей, совсем темной, похожей на пещерку.
— Спасибо, что согласились со мной встретиться, Игорь Дмитриевич. — Инга остановилась в нерешительности, не понимая, надо ли ей снимать ботинки. На светлом линолеуме не было ни пылинки.
— Проходите в комнату и не вздумайте разуваться. — Он опять улыбнулся. — У меня не так часто бывают гости, особенно такие симпатичные.
Она взглянула на него.
А в жизни он выглядит гораздо старше, чем в кадре. Магия экрана!
Чуть выше среднего роста, худощавый, волосы редкие, с сильной проседью. Он чуть наклонил голову, приветствуя ее, и она заметила обвисшие складки кожи на шее — как у человека, потерявшего вес за короткий срок. Инга протянула ему руку. У него были длинные прохладные пальцы, от рукопожатия осталось ощущение покоя и безопасности.
В комнате был накрыт журнальный столик: две белые фарфоровые чашки с нарисованной сбоку веткой сирени, такой же заварочный чайник, в хрустальной вазочке печенье и пряники. Под блюдцами лежали застиранные салфетки. Инга поблагодарила и села, расправила под собой клетчатый плед, которым был закрыт продавленный диван. Агеев сел в кресло, привычным движением вернул на место деревянный потрескавшийся подлокотник, который, видимо, давно сломался.
Дом, в котором давно не было женщины. И ремонта — в дальнем углу комнаты под потолком отклеились старомодные, с золотым тиснением обои, рамы на окнах были старые, еще с форточкой, на полу затертый паркет елочкой. Из примет века — только компьютер в углу на письменном столе.
А женщина все-таки была — одна, на черно-белой фотографии, с открытым взглядом и темным платком на плечах.
Инга чуть сдвинулась в сторону — она видела свое отражение в зеркале серванта между пожелтевшим хрусталем, и это ей мешало.
— Итак, — сказал он, наливая ей чай. — Я рад приветствовать вас в моем скромном жилище.
Голос мягкий, низкий. Инга представила, как он мог бы петь — под гитару в небольшой компании. Но Игорь Дмитриевич производил впечатление скорее замкнутого человека.
— В ваш голос можно влюбиться, — сказала она. — Вы никогда не работали на радио?
— Нет, вы знаете, после института сразу попал на телевидение. Думал, перекантуюсь недолго. А получилось — на всю жизнь. — Он посмотрел ей прямо в глаза. — Вы хотите взять у меня интервью?
Инга вежливо улыбнулась, но вместо ответа потянулась за печеньем, отломила кусочек, сунула в рот, стала медленно жевать.
Агеев сдался первым, продолжил:
— На телевидение я пришел еще студентом. Никакой работы не боялся, хватался за все подряд. И меня довольно скоро заметили. Мне и тридцати не исполнилось, а я уже снимал серьезные репортажи. В те годы, знаете ли, я был скорее исключением, чем правилом. Это сейчас среди молодых царит вызывающий непрофессионализм! Весь эфир заполонили юные создания со своими гаджетами, снимают черт-те что, черт-те как и черт-те на что! — Он поморщился. — Я-то придерживаюсь старой школы.
— Тут я бы с вами поспорила.
Она опасалась, что Игорь Дмитриевич начнет сетовать на современные нравы, но он остановился и посмотрел на нее, словно передавая ход в игре, смысл которой ему пока был неизвестен.
— И все же, чем могу служить? Должен признаться, ваша просьба удивила меня. Согласился на встречу из любопытства.
— Я понимаю, что свалилась вам на голову. — Она сделала глоток безвкусного чая, подержала в руках чашку. Агеев ждал. — Волохов Александр Витальевич. Незадолго до его смерти вы брали у него интервью.
— Да, верно.
— Интервью вы сделали блестяще. — Инга вгляделась в Агеева. Он был ей симпатичен и чем-то даже напоминал Волохова. — Никак не могу привыкнуть, что его больше нет. Вот и нашла вас, чтобы поговорить о нем. Вы не возражаете? Какой была ваша встреча?
Она изо всех сил напрягла свое внутреннее зрение.
Давай, радар, настраивайся! Ну же!
— Очень интересной. — Игорь Дмитриевич улыбнулся — принял подачу. И заговорил медленно, взвешивая каждое слово. — Вы не представляете, как долго я готовился к этому интервью! Понимал, что иду к эрудиту. Его по праву можно было назвать человеком Возрождения.
— Даже так?
— Да! И я буду настаивать на этом. Он был проводником и переводчиком культурных традиций Франции, Италии, Германии. Сейчас появилось модное слово «культурный код» — так вот, у него был прямо-таки в крови культурный код «новой волны», этого грандиозного прорыва, охватившего западноевропейскую культуру в послевоенные десятилетия.
— А он не показался вам замкнутым или расстроенным? Его смерть была такой внезапной.
Агеев задумался. Инга исподволь рассматривала его. Тонкие морщины у глаз, глубокая складка меж бровей. Но глаза, конечно, были очень хороши. Необыкновенно проницательные глаза.
— У меня сложилось о нем впечатление как о человеке одиноком, даже несчастном. Непонятом — ни близкими, ни окружающими. И он тяготился своим одиночеством. То, что он был профессионально востребованным в свои не юные уже годы — это, конечно, большая удача, но это только часть жизни.
— Вы умудрились уловить такие нюансы во время вашей беседы?
— Я слышу сомнение в вашем голосе. — Он обезоруживающе улыбнулся. — Мне показалось, что Александр Витальевич прожил внешне наполненную жизнь, но с пустотой внутри, как шар. Он жил полуправдой. — Агеев жестом остановил возражения Инги. — Я знаю, о чем я говорю. Лучше вы мне скажите, что для вас правда?
— Правда — это воздух. Которого мне сейчас так сильно не хватает. Вокруг сгустилось слишком много лжи.
— Вот вы говорите — лжи. Но ложь — это тоже путь. Не познав ложь, мы не сможем научиться отличать правду. Это своеобразная прелюдия к правде, если хотите. Как парад актеров перед представлением.
Инга затаила дыхание.
— Как парад?
Он что, читает мои мысли?
— Актеры показывают небольшие номера, зазывают публику в театр. Обещают некое действо. Но прохожий-обыватель слишком ленив — он зевает. Он проходит мимо. Он не желает заглянуть внутрь. Поэтому он никогда не узнает правды. Не узнает, что такое настоящее искусство. Люди нелюбопытны — они выбирают видеть лишь парадную сторону бытия.
Отрывистые фразы, параллельные конструкции, эмоциональная интонация — разговор о лжи его очень задел. К чему бы это? Нужен хотя бы оттенок. Ничего не вижу. Все прозрачно.
— Мы часто довольствуемся незатейливым парадом актеров, — продолжил Агеев с тем же нажимом на сказуемое. — И не хотим увидеть само представление — то, ради чего устроен парад. Разве не об этом думал Жан Кокто, когда писал либретто?
— Вы так думаете? — Инга боялась спугнуть его мысли.
Нужно дать ему высказаться. Пусть накручивает себя. Уже увлекся — сейчас дойдет и до Пикассо.
— Но вот вопрос: если бы не было костюмного, иллюзорного парада — разве мы бы узнали, что театр вообще существует? Выходит, что иллюзия — это бессменный спутник искусства.
— Похоже на то. — Инга беззаботно рассмеялась, скрывая волнение. Внутри все прыгало от предчувствия, что он вот-вот заговорит о главном.
— Кроме того, это был любопытнейший опыт авангардистов — балет «Парад». Кокто писал сюрреалистичные тексты, Сати — эксцентричную музыку, Пикассо все больше уходил в кубизм, чем разочаровывал поклонников. Дягилев и русская балетная труппа были слишком академичны для этой разнузданной компании, но Мясин был с ними на одной волне — он привнес в хореографию карикатурную и грубоватую манеру. Одни Управители чего стоят!
— Да, но балет был освистан на премьере. Французская публика, даже самая передовая ее часть, не станет аплодировать «новому искусству» только за новизну.
Речь усложнилась. Сколько сразу книжных слов: «карикатурный», «эксцентричный», «авангардисты» — будто готовил доклад.
— Безусловно. Он довольно примитивен как балет. Но за это и назван «Парадом» — это не собственно балет, а увертюра без основной части. Или обертка, если хотите.
Философское высказывание группы художников, предвосхитивших поп-арт, массовую культуру, общество потребления. И всю упаковочно-глянцевую культурную тенденцию. Вы как недавний представитель глянца должны очень хорошо это понимать.
Вот ведь старый черт!
— Я вам даже больше скажу, — как ни в чем не бывало продолжал Агеев. — «Парад» и должен был быть освистан публикой. Не могло же французское общество 1917 года разглядеть в нем сатиру на общество 60–80-х годов.
— Вы все знаете про «Парад»!
Докручивай его!
— Я много читал о том периоде. И, кстати, с покойным Александром Витальевичем мы неплохо поговорили на эту тему. Я был потрясен — сам Кокто подарил ему либретто.
— Вы держали в руках эту книгу?
Самый важный вопрос должен был прозвучать как незначительная, брошенная вскользь реплика восхищения — и это ей удалось.
— Нет.
Не прибавил форм вежливости. Но и не сказал резко, как отвечают на подозрение. Все на длинной ниспадающей ноте. В этом досада — вот он! Тонкий блик, легкая морская дымка, честность.
— Но дарственную надпись на титульном листе я заметил: размашистым почерком — Alexandre. Вот счастливчик!
Alexandre нарочито манерно и гнусаво, с грассирующим «р» — зависть искрит в его словах. Сильная зависть, но не ложь. Книга не у него.
Инга откинулась на спинку дивана. От напряжения еще стучало в висках, но главное было позади.
— Игорь Дмитриевич, а можно кофе?
— Давайте тогда продолжим разговор на кухне, если не возражаете.
На кухне было чисто и уютно. Над допотопной газовой плитой было выложено керамическое панно — потрескавшийся итальянский дворик с оливами. У стола два табурета. Агеев всыпал в турку три ложки с горкой.
— Как случилось, что вы стали снимать интервью для Starjest.com? Вы ушли с телевидения?
— Скорее меня ушли. — Агеев нахмурился. — Старая история. Но я ни о чем не жалею.
А в этом мы похожа. Из гордости не показывает обиду.
Он снял кофе с огня, аккуратно налил в керамические чашечки.
— Хотите воды? Я крепкий варю.
— Нет, крепкий отлично. Скажите. — Инга сделала обжигающий глоток. — Хороший кофе. Выделаете прекрасные интервью, как я понимаю, сами снимаете, сами монтируете и потом продаете их порталу? И нормально платят? Извините за бесцеремонность, но я как раз ищу работу.
— Платят неплохо. — Он покивал. — Я даже стал популярен на старости лет! — Игорь Дмитриевич легко рассмеялся.
— Видела, сколько у вас просмотров!
— Потому что у меня необыкновенные собеседники. — Он оживился. — К сожалению, эти люди остаются в тени так называемых «звезд» — дешевых однодневок. Мне интересен истинный талант, настоящее искусство. Всю жизнь я тащил в свою пещеру самое ценное: записи документальных фильмов, спектаклей, даже капустников и встреч со зрителями! В перестроечные времена они оказались никому не нужны, многие могли быть выброшены на свалку. А я их сохранил. У меня чего только нет!
— Вот бы взглянуть!
— Я с удовольствием вам покажу. Что вас больше всего интересует?
— Неужели вы все оцифровали? — поразилась Инга.
— Потратил на это уйму времени. — Было видно, как Агеев гордится своим архивом. — Ноя обязан был все сохранить — для потомков.
— Послушайте! — У Инги загорелись глаза. — Идея! Вам должно понравиться!
— Слушаю вас. — Он склонил голову, демонстрируя внимание.
— Вы помните Александру Цембровскую? В прошлом замечательная актриса…
— Как же, знаю! Ужасная была история.
— Об Александре Николаевне сейчас все забыли. Но так случилось, что я с ней близко знакома. Может быть, сделаете с ней интервью? Для нее это было бы так важно!
— Это интересно. — Агеев задумался. — Она из настоящих, из тех звезд, что светят нам через многие годы.
— Я пришлю вам ее номер телефона. — Инга поднялась. — Спасибо вам за встречу. Отняла у вас уйму времени.
— Вам спасибо. — Игорь Дмитриевич тоже встал и, провожая ее, протянул ей флешку. — А это подарок от меня. Небольшой сюрприз.
У подъезда Подгорецкого Ингу ждал уже порядком злой Штейн с кофром аппаратуры.
— Ну ты, мать, даешь, — Олег бросил окурок в траву, — почти двадцать минут тебя жду, между прочим. Мы на сколько договаривались? Подгорецкий человек не юный, на интервью и так еле согласился. Сейчас взбесится и пошлет. И бабосов не видать!
— Не злись. — Она нагнулась, поднимая его окурок. — Мусорить нехорошо, — ответила упреком на упрек и кинула сигарету в урну.
Они вошли в сумрачный грязный подъезд. Стали подниматься по лестнице с длинными пролетами. Лифт не работал.
— Какой этаж? — Олег тяжело дышал, таща аппаратуру.
— Шестой. Держись, старина!
— Я тут почитал про него, про Подгорецкого, пока ты шлялась неизвестно где, — ворчал он. — Талантливейший хореограф! Мэтр!
— Знаю. Ты его «Анну Каренину» помнишь? Одно из самых больших потрясений моей юности.
— He-а, не помню.
— А говоришь — почитал! Это было событие в театральной жизни! Представь, вся труппа, человек двадцать, изображала поезд. Мне на галерке было страшно, казалось, что эта громада сейчас задавит. Мощь! У него каждый балет был — прорыв и новое слово в танце. Потом он поссорился то ли с руководством Большого, то ли с кем-то из министерства — тайна, покрытая мраком, — и, как это у нас традиционно бывает, двери одна за другой позакрывались. А такому человеку остаться без работы — все равно что лишиться жизни.
Они поднялись на площадку шестого этажа.
— Жми. — Штейн аккуратно сгрузил кофр.
Они отлично слышали бодрую трель звонка за старой дерматиновой дверью. Но никаких шагов. Ни поступи хореографа, ни шарканья тапочек старика, ни тихих медленных шагов степенного пожилого человека. Звонили долго: Виктор Борисович был человеком обязательным и без предупреждения встречу отменить никак не мог.
— Трезвонят тут, чего трезвоните? — За их спиной стояла неопрятная женщина в халате в мелкий голубой цветочек. В руках она держала ведро, из которого торчали пустые коробки и какие-то банки. Инга брезгливо подумала: «А ведь она вполне может быть моей ровесницей».
— Сосед ваш, Виктор Борисович? У нас встреча с ним, — объяснил Олег.
— Встреча! — насмешливо передразнила его соседка. — Умер он вчера, ваш Виктор Борисович.
— Как умер?!? — ахнула Инга.
— Как все умирают, так и он умер. — Женщина спустилась на пол лестничного пролета. — Сердце остановилось, что ли? А там уж я не знаю — инфаркт, удар, приступ. Хрен его разберет. — Она опрокинула ведро в мусоропровод.
В тишине подъезда было слышно, как заскрежетали по трубе выброшенные консервные банки.
Глава 10
Всю дорогу Майкл проспал глубоким ночным сном, хотя день только начинался. Как только такси выехало из Франкфурта и в окне растянулись толстые зеленые бока полей, утыканные исполинскими ветряками, он отключился.
Первое, что он увидел в Лейпциге из окна гостиницы, было грубое угловатое здание из стекла и стали — новый Гевандхаус, ничего общего не имеющий со старым парадным дворцом, который описывал ему отец.
Из-за его подробных рассказов Майкл с детства боялся этого города и никогда бы не приехал сюда по собственному желанию. С семи лет его мучили кошмары, сотканные из чужих воспоминаний. Он ярко представлял себе, как днем по узким средневековым улицам рыщут колдуньи и демоны в черной форме с красной повязкой на руке, готовые растерзать любого, кто прошмыгнет в кино, купит крендель в немецком магазине, заглянет в городской парк или просто ступит на тротуар. А ночью страшные злобные тени бьют витрины, поджигают дома, избивают родителей, а детей швыряют в окна.
Потому Майкла даже разочаровала железобетонная безликость Аугустусплатца. Единственным оставшимся осколком барочной роскоши был фонтан: тритоны, морские кони, нереиды, крылатые пути — напыщенная избыточность, столь любимая немецкими буржуа. Майкл посмотрел на них с ненавистью, как кровный мститель смотрит на своего врага, сжимая рукоятку спрятанного за пазухой ножа, и отошел от окна.
Он с трудом дождался ночи. Окна повсюду погасли уже давно, в девять вечера улицы обезлюдели и померкли. Майкл прошел по бульвару, деревья которого показались ему дряхлыми, хотя едва ли были старше кленов в Центральном парке Нью-Йорка. Отец говорил ему о том, что в Америке все казалось ему новым и искусственным, а в Германии даже здания югендстиля несли на себе какую-то печать древности. Майкл вдруг ощутил, что его жизнь состоит не только из настоящего, что было и есть у нее долгое прошлое, которое незримо продолжается на улицах Лейпцига. И это прошлое шло за ним сейчас по пятам — тяжелым железным маршем штурмовиков.
Совсем рядом раздался вой сирены. Майкл вжался в стену здания: сейчас они его схватят, возьмут за шкирку, как пушного зверя, и поволокут в участок. Но полицейский патруль промчался мимо, его страшный вопль постепенно затих.
— Да что такое со мной! — Он тихо выругался.
Дошел до Готтшедштрассе. По его расчетам, совсем скоро должен был показаться громоздкий профиль синагоги. Майкл огляделся: впереди стояли только серые многоквартирные блоки, обширный квадрат свободного пространства между ними был уставлен стульями. Он принял его за концертную площадку.
Прочел надпись на невысоком столбе посреди улицы: «Мемориал на месте Синагоги, разрушенной девятого ноября 1938 года, 14 000 евреев стали жертвами фашизма в Лейпциге». В Хрустальную ночь здание синагоги подожгли, а одиннадцатого ноября разбирать по кирпичику стены, уцелевшие от пожара, заставили самих членов общины.
— Значит, теперь здесь памятник!
Деревья отбрасывали острые хищные тени на тротуар. От канала поднимался туман, запутывал ноги, утягивал в небытие. Улицы заполнились длинными безмолвными рядами прежних жителей Готтшед-штрассе. Они с одобрением смотрели на Майкла — единственного живого человека среди теней. «Отомсти за нас!» — неистово шептали они, когда он проходил сквозь ледяные толщи призраков.
Он свернул на Томасиус и пошел медленно, ожидая перекрестка с Хельферих-штрассе, но ее нигде не было, Томасиус-штрассе заканчивалась тупиком. Нестерпимое волнение охватило его, похожее на страх разочарования. Линии эмоций скакали вверх-вниз, как кривая электрокардиограммы, — раньше жизнь его тянулась мертвой прямой.
Майкл повернул обратно, дошел до перекрестка с некоей Кете-Келлвиц-штрассе — и узнал его! Четырнадцатый дом с угловым эркером на втором и третьем этажах, внизу — лавка. Все витрины были заколочены фанерой, словно молодые буйволы из гитлерюгенд разбили их всего пару дней назад. На входной двери в магазин приклеен ярко-желтый листок официального уведомления: «Дом на реконструкции. Проход запрещен»* Майкл обошел его со всех сторон, пытаясь определить окна бывшей квартиры деда.
Через дорогу был пустырь, заросший деревьями, а дальше — квартал унылой застройки семидесятых — очередная заплатка на месте бомбежек британских ВВС. Майкл уверился: то, что дом отца уцелел, не было простым везением — это рок, слугой которого он решил стать. Навесной замок на двери был хилый — в доме не осталось ничего ценного, да и сквоттеры сюда не явятся из-за ежедневных ремонтных работ. Попасть внутрь не составляло труда, главное — действовать уверенно и быстро.
Майкл сбил замок — лязг прокатился по улице. Он быстро юркнул в дверь, прикрыл ее за собой и прислушался. За стеной закричал младенец — требовательно, утробно и страшно. Скоро его крик перерос в протяжный низкий вой и закончился неприятным взвизгом. Майклу стало не по себе от этого дьявольского звука, и лишь спустя минуту, вновь услышав жуткую руладу, он понял, что это орут коты.
В подъезде было темно, оранжевый свет фонарей с улицы сюда не пробивался. Жалюзи были плотно сомкнуты, значит, он мог подсветить себе дорогу — снаружи этого никто не увидит. Он убавил мощность луча и направил его вперед. До третьего этажа вела красивая чугунная лестница, та самая, с которой однажды отец чуть не скатился в тазу, но был вовремя пойман бабушкой. Майкл присел на корточки и погладил витой узор перил.
Дверь справа, на которой когда-то висела табличка с его фамилией, оказалась не заперта. Майкл прошел по холлу. «Вот ваша столовая, — рассказывал он полушепотом незримому отцу, — там кухня, дальше лестница на мансарду — в детскую».
Деревянные ступени резко вскрипывали под его шагами, скрежещущее эхо разносилось по комнатам. Пол детской был устлан исцарапанным, ссохшимся линолеумом, кое-где в его дырах был виден старый, уложенный елочкой паркет.
Майкл с хрустом оторвал плинтус от левой стены, отсчитал три метра от окна и стал выстукивать участок над полом. Уловив гулкий отзвук, он ударил по нему острым наконечником молотка, которым только что разделался с замком. Штукатурка осыпалась. В небольшой, размером с кирпич нише лежал посеревший от пыли бисерный кошелек и желтый, сложенный вчетверо листок. Майкл аккуратно развернул его:
«Расписка
Я, Рудольф фон Майер, получил от Михаила Пельца материальные ценности в виде ювелирных украшений в счет оплаты услуг по отправке Михаила Пельца и членов его семьи в количестве четырех человек за границы Германской империи. От 18 ноября 1938 года».
Он убрал ее в карман и бережно взял в руки бисерный кошелек — наверняка он принадлежал бабушке, которую Майкл никогда не видел. Он с нетерпением открыл его: там лежало несколько старых купюр — ничего другого и быть не могло. Но Майклу так хотелось найти в нем какую-нибудь записку или фотокарточку — хоть одну маленькую весточку от женщины, растаявшей без следа в крематории Освенцима.
На бумажке в двадцать марок красивая арийская женщина прижимала к груди цветок, напоминавший остроконечную звезду Давида. Майкл разорвал ее в клочья, следом все остальные и разбросал по комнате.
— Вот вам! Вот вам ваши поганые кровавые деньги!
Он побежал прочь, не заботясь больше ни о лишнем шуме, ни о подозрительности, сжимая в руках кошелек — нитки его истлели, и бисер падал стеклянными каплями на дорогу.
— Шапки — зло! — рявкнула Катька и выскочила за дверь с непокрытой головой, скрываясь от материнского гнева.
А что, утро как утро, даже не очень поругались.
Дочь удивляла ее с каждым днем все сильнее. Позавчера они наконец-то достигли большого перемирия. Катя дала обещание не грубить в школе и не писать провокационных статусов ВКонтакте (дочь журналистки, что тут скажешь!). Инга благоразумно воздержалась от любых обещаний: времена наступали тяжелые. Новость о том, что мать осталась без работы, дочь приняла по-взрослому, спокойно. Правда, для нее лично это означало главным образом прибавление домашних обязанностей. Баб-Люся, деловитая краснодарская труженица, приводившая в порядок их квартиру в течение восьми лет, была отправлена в отставку. Катька без лишнего ворчания вспомнила, где находится пылесос и половая тряпка, и от этого почувствовала себя в доме полноправной хозяйкой. Но готовить они обе не любили и, съев последний борщ Баб-Люси, перешли на бутерброды и салаты из кулинарии.
Инга взяла чашку с кофе и села перед компьютером. Итак, вчера она познакомилась со вторым подозреваемым, который не только не скрывал своего интереса к «Параду», но даже сам первым задал вопрос Волохову про вклад Пикассо в постановку. Несомненно, с Игорем Дмитриевичем надо было продолжить знакомство.
Она воткнула флешку Агеева в компьютер. Поежилась.
Не люблю сюрпризы.
На флешке оказались старые любительские видеосъемки МГУ. Небрежные, дрожащие, с плохим светом панорамы — актовый зал университета, лектории, коридоры физического корпуса, студенты, совсем мальчишки, строят рожи в камеру, библиотека, степенные девицы за книгами, Главное здание, на сленге — «морковка». Какие-то слова говорит в камеру всемогущий ректор, чуть наклонившись над огромным, заваленным бумагами столом. И вдруг… Моховая, факультет — знакомая аудитория! Александр Витальевич! Стоит за кафедрой, еще не седой, в ярком пиджаке и вечном шейном платочке пузырем из воротника. Улыбается! Ему хлопают, двое студентов, изображая почтительность, вносят на сцену огромный, как бревно на первом субботнике, свернутый лист ватмана. Появляется гитара, все старательно и смешно поют хором, свиток ватмана оказывается стенгазетой — фотографии, рисунки, стихи. Худенькая девушка в джинсах и темной водолазке под аплодисменты дарит Волохову нереально огромный букет пионов. Бархатные раскрывшиеся бутоны осыпаются, покрывая старинный университетский паркет белыми и розовыми лепестками, кто-то бросается подбирать. Девушка целует Волохова в щеку. Он хмурит брови, но видно, что тронут и даже растроган, хотя лекция безнадежно сорвана.
Инга смотрела и не могла поверить, что этот эпизод — день рождения любимого преподавателя, зацепившийся где-то на периферии памяти, сохранился на пленке и вот таким странным образом вернулся к ней. Вернулся из юности, безденежной и беззаботной, когда собрав со всех по десятке — а это была четверть стипендии — она неслась на вокзал, чтобы скупить в трех ларьках любимые цветы Александра Витальевича.
И этот уходящий, почти забытый, вытесненный сиюминутными потрясениями мир хранил у себя дома Агеев.
Какая я тогда была сутулая, смотреть страшноI А потом мы так напились в любимом садике за факультетом…
Она вдруг явственно услышала запах весенней листвы, смешанный с гарью выхлопных газов, и шум машин на Моховой.
— Позвоню-ка лучше ментам, — сказала Инга громко. — А то ухнешь во флешбэк — весь день насмарку!
Она устроилась на кухне, закурила, взяла телефон.
— Как его там? Свиное рыло… Ага, вот. Стоп, зачем мне рыло? — При воспоминании о Рыльчине Инге стало тошно. — Сейчас еще статью пришьет. «За самовольное узнавание результатов вскрытия». Кирилл, вот кто нужен. — Она набрала номер, заговорила специальным, отработанным за многие годы «репортерским» голосом. — Здравствуйте. Это Инга Александровна Белова. Мне нужен следователь Архаров.
— Вам повезло, Архаров у аппарата.
— Кирилл! — Инга обрадовалась. — Вы мне очень нужны!
— Это вы мне уже раза два сообщили. И?
— Появилась важнейшая информация по делу Волохова.
На том конце как будто размышляли. Она ждала, покусывая от нетерпения пояс шелкового халата.
— Волохова вел майор Рыльчин. Если хотите оставить для него…
— Нет, — резко ответила Инга. — Только вы.
— Я чужими делами не занимаюсь! И по должности, и по правилам, да и сил на это нет. Почему вы считаете, что я должен с вами общаться в рабочее время? Вообще, у меня скоро второй завтрак.
— Типа, бранч? — не удержалась Инга. На другом конце трубки повисла пауза.
— Инга Александровна, не тараторьте! Вы или перебиваете, или слушаете — это раз. У нас на Патриарших в будний день это называется «птидежёнэ» — это два. Теперь три — «Дядю Стёпу» знаете?
— Милиционера?
— Кафе! Мы в другие заведения не ходим, только профильные, как велит дисциплинарный устав. — Голос Кирилла звучал абсолютно официально. — Это недалеко от нашего ОВД. Что еще я должен вам сказать?
Кирилл появился на месте первым. Он обошел аляповатую ширму и сел за любимый стол — спиной к входу, лицом к зеркалу в старинной раме. Его не видно, он видит все. Удобно.
Кафе было оформлено в ностальгическом духе. На стене, как в советской коммуналке, висел допотопный велик, на столах — вязанные крючком салфеточки, а над ними — оранжевые абажуры с бахромой. По стенам — выгоревшие фотографии, на полках неработающие радиоприемники ВЭФ, пыльные книги, был даже коврик с оленем. Кирилл в первый раз даже не удержался, погладил мягкий ворс. На даче бабушки в его детской комнате висел почти такой же: гордая рогатая башка, переливающаяся синева за зверем, чертополох по переднему краю. Когда был маленький, Кирилл боялся до него дотрагиваться, думал, колючий.
Официантка Марина, одетая в застиранный кружевной фартук — советский винтаж! — принесла ему яичницу-глазунью, огромную, с куском белого нарезного батона, и сливочное масло на блюдце. Интересно, до какого возраста здоровый мужик с пистолетом будет играть в свое детство? Кирилл пока делал это с удовольствием, тем более подглядывать некому.
В зеркале было видно входную дверь и вешалку. Дверь открылась, и на вешалку полетели синяя куртка-дутик, зеленая вязаная шапка и шарф с помпонами. Продолжая жевать, Кирилл рассматривал Ингу, пока она расправляла длинные рыжие патлы растопыренной пятерней и озиралась по сторонам. При первой встрече разодетая вдова Волохова задала стиль всей картины, и Кирилл автоматом отнес и ее, и Ингу в раздел «фифы упакованные». У него были и другие определения женских особей: «дрянь чумазая», «тля гламурная», «Джульетта», «спальная фея», «брошенная мадонна», «элгэбэтушка», «истеричка» и «курсистка». Нормальные тетки в ментовку не попадают и нам не попадаются, объяснили ему опытные товарищи несколько лет назад. По всему выходило, что так оно и есть. Но тут особый случай, подумал Кирилл. Хотя к нормальным он бы Ингу тоже не отнес. «Ну, Дарвин, напрягись, надо создать еще один подвид — худая, нескладная, колючая, умная… наверное. Или думает о себе, что умная. Без косметики, волосы кое-как, с мужем поругалась? He-а, нету нас никакого мужа! А вот дитё непослушное, сто-проц, имеется…» Что-то еще увидел Кирилл в лице Инге, что отличало ее от нормальной тетки, но вычислить не успел, потому что она его заметила. Он поднял руку — сюда!
— Мне то же самое, пожалуйста, — сказала Инга официантке. — Вы здесь всем отделением завтракаете? — уже Кириллу, усаживаясь.
— Я пошутил — наши сюда не ходят. Как раз из-за названия. Поговорим без помех. Только сначала еда. Холодная яичница — это отрава.
— Почему вы решили со мной встретиться?
— Разве это я решил с вами встретиться? — Кирилл хитро сощурился. — Я только сказал, где люблю завтракать в рабочее время. Бранч — это, кстати, только в воскресенье и только в полдень. К вашему сведению, если я в воскресенье в полдень на работе, чаще всего это означает, что не будет ни бранча, ни обеда, ни ужина. — Он отломил кусок белого хлеба и тщательно вытер им тарелку.
Подошла официантка, поставила перед Ингой яичницу с беконом, хлеб, масло.
— Я была у Жени в морге, — болтала она с набитым ртом. — Обожаю эту еду!
— И как вам Холодильник?
— Высокий класс. Знаток своего дела.
— Лучшая, — довольно кивнул Кирилл.
— Холодивкер уверена, что это убийство. И к ней приходил ваш Рыльчин, требовал переписать заключение, а это уже вообще ни в какие ворота.
— То есть склонял ее на темную сторону силы? Ну-ну. — Кирилл мрачно покивал. — И это все ваши новости? Вы кто по профессии?
— Журналист. — Она отхватила огромный кусок яичницы.
— В вашем цехе, конечно, полно наивных дурочек. Но это вроде не ваш случай. Так что прежде чем вы полезете на рожон, я вот что скажу: Рыльчин совершенно не заинтересован в том, чтобы вскрылась настоящая причина смерти Волохова и дело было предано огласке. Я не знаю, от кого именно он получил указание, но действует он не по своей инициативе. Инициатива — это вообще не про него. Кто-то хочет все поскорее замять.
— Замять? — Инга чуть не поперхнулась возмущением и едой. — Но кому это надо?
— Кому-то, у кого серьезный ресурс. В частном порядке вы, конечно, можете покопаться в грязном белье. Это ж ваша работа, вам и карты в руки. Типа делаете материал, находите очевидцев, берете у них интервью. Только мой вам совет — не лезьте вы в это дело. Оно уже выглядит опасным.
— Я еще даже и не начинала!
— Да нет, уже начали. Поехали к Холодивкер. Вопросы задаете. — Кирилл изучающе смотрел на нее. — Меня вот вызвонили.
— Опасаетесь за свою репутацию?
— Моя репутация дорогого стоит, — неожиданно веско сказал он. — Ну, мое дело предупредить. Спасать не прибегу, но помочь в вашем журналистском, — произнес Кирилл с нажимом, — расследовании, может, и смогу.
— Вам-то какой интерес? Боюсь, вы мне не по карману.
— Это-то наверняка! Дороговат буду. Поэтому помогу бесплатно, то есть даром. — Он помедлил. — В мои интересы вам вникать не обязательно. А теперь прошу меня извинить — служба зовет. Какие планы на будущее?
— Что-то я вас не понимаю. Спасать меня не обещаете, за репутацию свою дрожите, а любопытство вас, похоже, разбирает. Сами же меня к Холодивкер послали, как в разведку. Или вы счеты с Рыльчиным таким образом сводите?
— Не скажу… И я вас угощаю. Это чтобы, так сказать, завершить разрыв шаблона. — Кирилл взял счет и поднялся.
«Да, точно, другой подвид! Ищейка». Инга действительно напоминала взявшую след гончую — ноздри чуть вздрагивали, а в глазах была готовность сорваться и нестись за добычей.
Глава 11
По дороге домой Инга зашла в магазин и набрала в тележку сдобных булок, пельменей, докторской колбасы, майонеза, маринованных огурцов, плошку оливье. Потом — уже около кассы — добавила коробку мороженого. И орешки. Азарт расследования разбудил в ней зверский аппетит. По опыту Инга знала, что не угомонится, пока не накормит этот свой скрытый порок. А это значит, придется принести жертву ненасытному богу Жору.
Так бывало всегда во время самых сложных проектов, когда горели синим пламенем все дедлайны. Тогда Инга запиралась дома — писала и ела, ела и писала. Свидетелем ее позорного пристрастия был только верный друг-ноутбук. Потом, конечно, приходилось садиться на адскую диету, истязать себя в тренажерном зале и показательно ужасаться на редакционной кухне: боже мой! Масло! Как вы можете есть эту гадость?
Но сейчас, сняв гламурные кандалы, она больше не должна поддерживать безукоризненную форму. И вообще никому ничего не должна. Сладкая развращающая свобода!
Она сварила пельмени, посыпала их укропом, кинула кусок сливочного масла в середину, оно мягко оплавилось и юркнуло на дно тарелки. На другое блюдце Инга выложила тонко нарезанные кольца краснодарского лука, рядом с бело-фиолетовыми кругами разложила маринованные огурцы, разрезанные пополам овалы докторской колбасы. На четвертушки любимого «Бородинского» выдавила по полоске майонеза. Аккуратно собрала со стола в ладонь опавшие с хлеба семечки. Подумала и добавила кружки зеленого огурца с темной окантовкой, ломти красного сочного помидора и горку полосок оранжевого хрустящего перца.
— Вы мои сладенькие! — Инга нежно посмотрела на еду. — А теперь я вас всех сожру!
Она открыла ноут, вооружилась ложкой и отправилась на охоту в Интернет. В углу выплыло окошко.
Indiwind
Подключен(а)
тестовое задание
туманов Владислав Константинович 27 лет родилсяновокузнецк
мать Туманова ирина степановнадиспетчер троллейбусного парка
отец туманов константинниколаевичбез определенного рода деятельности
образование новокузнецкийпедагогическийинститут русский язык и литература незаконченное
актерское отделение театрального института именищукина незаконченное
в годы учебы в школе состоял на учете у психиатра
попытка самоубийства
в москве проживает 4 года
постоянная занятость отсутствует
круг общения артисты литераторы
пишет стихи
Inga
Подключен(а)
Проверяю достоверность
Жди
Инга быстро нашла профиль Владислава Туманова на Facebook.
Бог ты мой, тот самый красавец, который не скрывал своих слез на панихиде! Загадочный Антиной. Ни хрена себе, оперативность!
Inga
Отличная работа
Сотрудничаем?
Indiwind
реквизиты для оплаты в почтовом ящике
Окошко пропало.
Разве я давала ему свою почту? Вот влипла — связалась с хакером. Отступать поздно — он теперь от меня не отвяжется. Ну и ладно, поживем — увидим. Миллионных счетов у меня нет и шантажировать меня нечем. А польза от него уже есть. Н все же… Кто он, этот «разработчик сайтов»? Управление «К» ФСБ? Или это МВД? В ФСБ вроде Восемнадцатый центр… Черт ногу сломит разбираться! «Большой брат», короче. Но я им зачем? Что у них есть? Бездонная база данных? Кармическая полиция, следящая за каждым нашим шагом? Karmapolice… This is what you get, this is what you get when you mess with us…
Инга прикончила пельмени, принялась за колбасу, тихонько напевая Radiohead. На экране компьютера красовалась фотография Туманова: обнаженные плечи, байронический поворот головы, длинные темные волосы разметались по плечам, взгляд к горизонту.
Альбомы: туманное поле, пустынный скалистый пляж, Влад и полуобнаженная андрогинная девушка, бритая наголо. Вот они, завернутые в черный плащ, вот они в круглых дождевых каплях. Черно-белые крупняки: лицо Туманова с графичной тенью от длинных листьев, изогнутая женская рука на голом плече, позвоночник с выпирающими по-детски косточками, острая ключица, рука с бокалом вина на фоне заката.
Здорово снято. Немного претенциозно, но профессионально. Инга посмотрела друзей: больше тысячи. Как правило, длинная френд-лента говорит об одиночестве в реале. Ничего себе — четырнадцать общих! Кликнула: нуда, в основном из старой жизни. Пара начинающих и уже забытых звезд, довольно известный и достойный поэт, три литературных критика, несколько журналистов, о! — даже Бубнов, как, откуда? Неисповедимы пути Facebook.
Инга почитала посты. Депрессивные размышления о смысле жизни. Но ничего личного. Никаких имен или мест. Конечно, ни слова о Волохове. А что она ожидала найти?
Теперь афиши.
А вот это интересно! «15 апреля. Литературные чтения в Королёве. Музей Серебряного века. Вход свободный. Начало в 19 часов».
В ближайшую субботу. Познакомимся поближе, красавчик! Инга с удовольствием потерла руки и захрустела овощами. Надо сообщить Штейну.
— Привет! Ты где?
— На халтурку еду. Это ты у нас в свободном полете, а мне надо в поте лица, дабы обрести хлеб насущный.
— Что сегодня?
— Предсвадебная фотосессия. Тяжелые рублевские пассажиры, заказчик — свекровь, у меня после разговора голова уже от ее понтов пухнет. Так что придется поработать, деток только жалко…
— Фотошоп тебе в помощь, психолог. Когда ко мне сможешь подвалить? Мысли есть.
— Как режим уйдет, я у тебя.
Инга встала, прошлась по кухне, разминая суставы. Остановилась перед холодильником. Постояла в нерешительности.
А, пошло оно все напрочь!
Достала миску с оливье, бухнула сверху еще майонезу «для цветовой гаммы» и вернулась к ноутбуку. Снова открыла профиль Владика. Появился новый пост.
«Я не люблю смотреть в окно, когда идет снег. Даже если это утро, я его чувствую как вечер, потому что сумерки начинаются в такие дни на рассвете. Снег мечется в фонарях, окутывает воздух, покрывает землю, и моя память тускнеет, густо закутывается в паутину, и только черные пятна ворон, как кляксы…»
На экране компьютера всплыло окошко.
Indiwind
Подключен(а)
проверяла почту?
Inga
Подключен(а)
Не успела
Есть еще задание. Готов?
Агеев Игорь Дмитриевич, журналист, нужны личные данные
Indiwind
принято
см дополнительную инфу о Туманове в
ыслана ссылка
счет в приложении
В письме была только ссылка, без пояснений. Инге уже нравился экстремально лапидарный стиль ее нового помощника. Да и счета пока радовали — суммы были необременительные.
По ссылке открылась статья пятнадцатилетней давности. Газета «Зорька», город Новокузнецк, Кемеровская область.
«Девчонки с нашего двора»
Во дворе на ул. Красноармейской жители регулярно видели компанию девочек-подростков, что сидели без дела, громко переговаривались, смеялись, улюлюкали, матерились и выпивали.
11-летний учащийся, назовем его Анатолий, знал этих девочек около трех последних лет. Все они были из его двора. Однажды девочки позвали Толю поиграть с ними в прятки. Все они были старше его на четыре и больше лет. Девочки увели Толю на частное подворье, где стали его дразнить и задирать. Он начал с ними спорить, после чего одна из заводил сказала: «Кто спорит, тот штаны… снимает». После этого три девочки схватили Толю за плечи, а четвертая сняла с него брюки и начала заниматься с ним оральным сексом. Две других стояли в стороне и подбадривали своих подруг.
После этого одна из девочек сказала, что сделает из Толи настоящего мужчину. Его повалили на землю. Он плакал и сопротивлялся, но девочек это не остановило.
Мальчик сломался. По его словам, непотребство продолжалось около тридцати минут. Затем одна из девочек, наблюдавшая за изнасилованием, испугалась, что безобразную сцену могут увидеть взрослые.
Подростки повели Толю в безлюдное место. По дороге он плакал и вырывался, но девочки оказались сильнее.
Местом для продолжения издевательств стал задний двор общеобразовательной школы. Именно там, возле здания тира, девочки продолжили издеваться над ребенком.
Как заявили в зале суда участники изнасилования, их «игры», а фактически — издевательства, длились больше часа. Толю почти совсем раздели, притом что температура воздуха в тот день была -5 градусов. Затем они его бросили во дворе, а сами разошлись по домам.
Для расследования этого резонансного преступления была создана отдельная следственная группа.
Толя назвал всех четверых девочек, через несколько дней к ним пришли сотрудники милиции. Они полностью признали свою вину. По решению суда они были водворены в следственные изоляторы до судебного заседания.
В отношении Марии Д. и Ольги С. было возбуждено уголовное дело по статье «Насильное удовлетворение половой страсти в отношении малолетнего». По данной статье Уголовного Кодекса задержанным грозило лишение свободы до пяти лет. Двое участниц проходили по делу как свидетели. Ведь они просто стояли в стороне — за что ж их под суд?
Имена участников этой истории изменены по этическим соображениям.
Некоторое время Инга сидела как оглушенная.
Она снова открыла фотографии на странице Владика, посмотрела на его тонкое красивое лицо, на заломленные руки, поняла, кого он ей напоминает: подбитую птицу. Нашла недочитанный пост.
«…как кляксы, как отвратительные пятна Роршаха не дают забыть, а только нагнетают воспоминания. Они истаптывают крестиками белый снег. И я молю их: поставьте крест и на мне, пусть будет так».
Инга открыла диалоговое окно.
Inga
Подключен(а)
Ты думаешь, это Туманов?
Indiwind
Подключен(а)
знаю
Инга набрала Штейна:
— Не приходи пока, я тебе сейчас кое-что пришлю… чтение на ночь. Прости. Под именем Толя — Туманов. Сведения достоверные. Все намного хуже, чем мы думали.
Конечно, они со Штейном опоздали к началу. Конечно, во всем была виновата Инга. Сначала ждали Катю из школы: «Я должна убедиться, что она дома!» Потом Инга красилась. Потом, когда они были на полпути к Ярославке, Олег объявил, что ему надо сделать крюк и заехать на Гастелло.
— Пока мы в этом районе, я на минуту заскочу. Денег мне там должны, вот что, — ответил он на возмущенный взгляд Инги. — И не делай вид, что деньги тебе неинтересны.
Они подъехали к серой блочной пятиэтажке. Олег исчез в темном подъезде и отсутствовал минут пятнадцать. Вышел злой, с силой хлопнул дверью.
Денег нет, время потеряла.
Потом, конечно, встали в пробку на Ярославке. В дороге поругались. И только когда они бросили машину — у старого, поросшего мхом забора, над которым нависали косые елки и черные стволы еще голых лип, когда после смрада Ярославки в нос ударил запах мокрой земли с неуловимой горчинкой от просыпающихся после зимы деревьев, только тогда Инга почувствовала, что ее отпускает. Олег толкнул калитку — было открыто — и они очутились на стародачном участке, где когда-то рос сад, а до этого — лес, и старые деревья оказались сильнее рук и планов садовода, а может, и нескольких поколений обитателей этого места. И вот теперь лес наступал на запущенные грядки и клумбы, затенял кривые дорожки и ажурные деревянные окна дома и террасы. Все как было когда-то, между войнами и революциями, смертью стариков и рождением детей, в крохотные отрезки мирной жизни, которые тонкой пенкой бурлили по краям огромного города. Инге показалось, что она уже бывала в этом доме однажды, много-много лет назад.
Штейн насупленно молчал.
— Олежек! Смотри! Березовый сок!
— Если ты будешь тут газелью скакать по саду, мы всю съемку провтыкаем, — проворчал Штейн. — Заметь, я не назвал тебя козой!
Но Инга его не слышала. Она, запрокинув голову, смотрела куда-то вверх — на огромную покосившуюся березу.
— Ну кто так сок собирает! Надо же банку к стволу привязывать, а не тазик на землю ставить.
Инга встала на цыпочки, попыталась дотянуться до надреза на березе, но не достала. Тогда она открыла рот и стала ждать, когда очередная капля сока сама туда попадет. Рана на березе была большая, рваная. Как будто дерево задел бортом грузовик. Сок струился по стволу, по нижним веткам, потом каплями срывался вниз. Очередная такая капля пролетела мимо ее открытого рта. Штейн оживился, мигом расчехлил фотоаппарат и начал щелкать Ингу, которая застыла в ожидании новой березовой слезы.
— Не, ну точно с тобой козленочком станешь! — пробухтел он, щелкая затвором.
— Молодые люди! — окликнули их от входа. — Вы поэты?
— Поэты, — не моргнув глазом соврала Инга.
— Тогда поторопитесь. Наверху уже читают.
В прихожей им выдали бахилы, и они тихонько, стараясь не скрипеть половицами, поднялись на второй этаж, в небольшой зал. Дверь была открыта, стояла гробовая тишина. Штейн плечом задел шкаф, на него шикнули.
Все сидели на стульях. В дальнем конце комнаты под голой лампочкой замерла хрупкая девушка, было видно, как она волнуется, а потом зазвучал ее неожиданно низкий и красивый голос.
Вокруг захлопали. Штейн снимал. Инга искала среди собравшихся Владика.
Он сидел впереди, в двух рядах от нее, вполоборота. Тонкий точеный нос, крупный подбородок, темные глаза.
Прекрасен!
В этот момент он откинул со лба волосы — неожиданным женственным движением. Он сочетал в себе оба начала, и мужское, и женское, как древнегреческий андрогин.
— Владислав Туманов, — объявил ведущий вечера. — Актер, поэт и огромный талант.
По комнате пронесся вздох. Он был здесь всеобщий любимец. Инга со Штейном переглянулись. Олег поднял камеру, занял выгодную позицию.
Туманов читал здорово, и стихи его были хороши. Нет, талантливы! Ему аплодировали, он, не смущаясь, читал еще и еще. Инга не хлопала — слушала его голос.
Немного резкий, монотонный, дразнящий. Нервная манера чтения, иногда даже слишком. Но экзальтированная подача не мешала ей воспринимать стихи. Вслушивалась в слова: адресат непонятен. Что еще? Мотив покинутого дома, разбитого стекла, утраты, нехоженой опасной дороги. Она зацепилась за опасность. В нем определенно было что-то, притягивающее ненастье. Что-то неумолимое, безнадежное, как ведущая в болото тропа. Криминальный пазл, заочно выстроенный Ингой, понемногу рассыпался. Книга, Волохов, шприц, синий свет в морге.
Зачем Туманову книга? Если он наркоман, то умеет управляться со шприцем. Глаза больные, запавшие. Одежда наглухо скрывает руки и шею. Надо потом пересмотреть, что снял Олег.
Чтения закончились, все повалили на веранду, там наливали вино.
— В твоих стихах есть движение воздуха, пульс, — услышала Инга голос Елены Вельгр, заслуженной поэтессы. — Вы слышали, — обратилась она к собранию, — гладкий текст, и вдруг строчка как будто протягивает к нам свою руку. И одним жестом разрывает бумагу. — Все одобрительно загудели. — И мне нравится, как ты, Туманов, работаешь телом в тексте. Все-таки чему-то я тебя научила.
Влад угрюмо молчал. Вельгр весьма изощренно разобрала его стихи и переключилась на другого автора. В этот момент Инга изловчилась и профессиональной хваткой вытащила Туманова из толпы поэтов.
— Владислав. — Они спустились в сад. Инга закурила, предложила Туманову, но он отказался. — Я пишу большой материал о современной поэзии для журнала «QQ». Вы нам интересны.
— Мне показалось, что вам не понравились мои стихи. Ловко же вы прикидывались. — Влад улыбнулся. — Дылда с фотоаппаратом ваш?
Голос дребезжит. Читает он гораздо увереннее, чем говорит.
— Мой. — Инга кивнула. — Материал будет посвящен не только молодым поэтам и литераторам, но и старой гвардии — тем, без кого немыслим сегодняшний культурный пласт. — Инга нагромождала слова, чтобы расслабить собеседника, притопить его внимание в потоке. — Вы, безусловно, флагман молодой поэтической волны, никто с этим спорить не станет. Насколько мне известно, одним из ваших учителей был Волохов Александр Витальевич…
Туманов перестал улыбаться. Только что расслабленное лицо вдруг стало острым и злым.
— Вы же были знакомы? — спросила она доверительно.
Он молчал. Инга запахнулась поплотнее в широкий шарф, становилось холодно, стемнело.
— Были, да, — наконец сказал Туманов и отвернулся. — Большая утрата. Но ведь он был уже очень старым. И больным. Старики умирают, вы не знали?
Детская интонация: «Оно само. Я не виноват!» И, как ребенок, он не использует политкорректных выражений: «пожилой человек», «в преклонных летах», «со слабым здоровьем», говорит прямо: «старый, больной» и снова однокоренное — «старик». Будто хочет меня в чем-то убедить. Ближе к концу, вот, его слова и — тонкая кровяная струйка беспокойства.
Он замолчал.
— Вы можете мне помочь в одном деликатном деле, — сказала Инга с нажимом. — Это касается последних дней Александра Витальевича.
— Я? — Влад посмотрел на Ингу. В глазах сверкал страх.
— Я знаю, вы у него часто бывали, и он дорожил вашей дружбой. — Инга почувствовала вдохновение, подобное тому, что чувствует поездной мошенник, рассказывая случайным попутчикам свою сложносочиненную биографию. — Он вас считал гениальным поэтом, не то что вся эта комариная стайка во главе с Вельгр. Он хотел обеспечить ваше будущее и говорил со мной о том, чтобы напечатать вас в одном из летних номеров. А вы думаете, откуда я вас знаю? От него, конечно. Я и приехала сюда за тем, чтобы лично убедиться, послушать ваши стихи.
Он опустил голову в чернильную тьму.
— Я по нему скучаю. Он стал для меня родным. Только он у меня и был.
Он вдруг стал на удивление косноязычным, слова — каменные валуны, ему хватает сил только на короткую простую фразу. И этих слов в его распоряжении осталось совсем немного. Трижды повторил одно и то же, без синонимов. Лицо скрыто густой тенью, как и слова — под черной пеленой скорби. Но красная жилка тревоги все сильнее. Искренне переживает смерть Волохов а.
— Влад! — Через перила веранды перегнулась неутомимая Елена Вельгр. — Почтите уже нас вашим вниманием!
— Я хочу поговорить о нем. — Туманов решительно повернулся к Инге. — Только попозже. Не думаю, что сильно вас задержу. Поэты — народ, конечно, крепкий, но для такой погоды маловато принесли. Вы на машине? Подвезете меня до Москвы?
— Мы подождем вас за калиткой, погуляем пока.
— Хорошо. — Туманов смотрел на Ингу не мигая, словно испытывал взглядом. И вдруг изогнулся дугой, как цирковой артист, наклонился к ней и продекламировал:
Щелкнул пальцами и ушел на веранду.
— Трудно с ним будет, — сказала Инга Штейну, когда тот вышел из дома.
— Облом?
— Нет, но… Сложно отличить правду от его фантазий. Одной ногой он в реальном мире, а другой — в своих глюках. В общем, мы везем его в город. Разговорю в дороге.
— Как бы он от твоих вопросов на ходу не выпрыгнул.
— А он может. Поэтому двери заблокируешь.
Они вышли за калитку и теперь брели по темной дороге к машине. Обочин не было, припаркованные кое-где и кое-как редкие машины темнели у заборов.
— Ну-ка замри! — Штейн поднял фотоаппарат. — Отличный контровой! В студии захочешь, так не сделаешь. — Он поставил Ингу под фонарь и начал снимать. — Голову поверни! Влево. Много. Назад. Стой.
Свет от фонаря кругом падал на Ингу, отсекал от остального мира. Голые ветви чертили паутину на асфальте.
— Олег, уймись. — Инге надоело позировать. Недалеко хлопнула калитка. — Смотри! Туманов не соврал, все-таки сбежал от выпивших поэтесс.
Влад их тоже заметил, помахал Инге рукой и быстро двинулся навстречу. Попал в фонарный круг, распахнутое черное пальто летело за его стремительными движениями.
В этот момент из-под дерева метрах в ста от Туманова, рыкнув мотором, выскочила машина. Черное пятно, как зрачок в темноте, мгновенно расширилось, поглотив свет фар и фонарей. Штейн схватил Ингу за руку и дернул в сторону. Влад успел обернуться на звук. От удара о капот он взлетел в воздух, как птица, рухнул на землю и, потянув руки под себя, попытался встать. Машина резко затормозила, сдала назади, отвратительно переваливаясь, переехала тело в черном плаще.
Глава 12
В два он уже был в аукционном зале: двери открывали за сорок пять минут. Занял место у прохода, трость прислонил к подлокотнику стула: отсюда открывался отличный обзор и на аукционную стену, и на кафедру, за которой скоро будет стоять молодой человек — наверняка высокий, стройный, в темном костюме с бабочкой, они все тут как на подбор, будто выпечены в одной и той же булочной, — распорядитель. К тому же в проход можно было вытянуть ноги — удобно, так не болели колени.
Все должно было начаться только через полчаса, сейчас по залу лениво, как потерявшиеся дети, бродили агенты коллекционеров, выбирали места. Отто достал очки из футляра, протер их мягкой замшевой тряпочкой, убрал обратно. Зрение у него по-прежнему было прекрасным, но очки нужно иметь — на всякий случай. Такой случай.
Он представил себя затаившимся хищником и улыбнулся: настроение было прекрасным. Нужно залечь в кусты и оттуда тихо, не поворачивая головы, осмотреть окрестность, где скоро появится дичь: слева от трибуны черная штора, гофрированная, как юбка от DianeVonFurstenberg у Клары, — оттуда будут выносить картины. Справа от стены с тонкими ниточками и еле заметными крючками — той самой, с которой они потом будут уходить к полоумным японским бизнесменам, американским миллиардерам и русским олигархам — тяжелая дубовая стойка: резные балясины, длинный стол, похожий на парту в католической школе, закрытые серые прямоугольники ноутбуков — здесь скоро рассядутся представители тех, кто будет играть удаленно.
Каталог аукциона с округлыми буквами «Шелди’с» на обложке и стикером «Для мистера Майера» немного скользил по брюкам — серый кашемир, один из двенадцати лучших его костюмов (оказались слегка велики в поясе с утра — он снова сбросил вес, даже не заметив). Отто с неприязнью глянул на свои руки, в которых держал каталог и табличку с номером 132. Пигментные пятна, узловатые, как корни деревьев, вены. Возраст не доставлял ему таких проблем, как его сверстникам, но все же раздражающе напоминал о себе.
Белый пластмассовый кружок на ручке с номером был дивной ретроградной традицией, которая гораздо милее всех этих электронных торгов, программ и каталогов, нигде не отпечатанных, а висящих в воздухе, во всемирной паутине, в небытии. Электронные реестры, конечно, были многим удобны, но при этом безжизненны и блеклы.
Без пятнадцати два Отто начал оглядываться на дверь: Клара с утра ушла за покупками в Harrods, но потом планировала завезти пакеты в гостиницу и присоединиться к нему. Зал шумел приливами мужчин в темных костюмах, среди которых Отто выделялся светло-серым островом; все они были намного моложе его, многие будто бы нарочно растрепаны. Женщин было мало. Отто увидел Ксавье, агента Директовича, на заднем ряду мелькнула подстриженная по последней европейской моде (выбритые виски, хохолок) голова Чи, того самого китайца, что в прошлом году купил «Крестьянина с шаром солнца на затылке» Ван Гога. На стульях через проход выделялась Катрина Дещлов: ярко-красный брючный костюм, губы сморщенным лепестком розы на лице гарпии. Длинными бордовыми когтями она постукивала по своему номеру 88. Старая стерва всегда резервировала себе этот номер, считала удачным. Катрина почувствовала на себе взгляд Отто, повернула голову, чуть кивнула. Она, конечно, тоже заинтересована в «Бессоннице», но — Отто был уверен — далеко не так сильно, как он.
«Я ждал этого момента много лет», — подумал Отто, чувствуя учащенное сердцебиение от этой простой и пафосной мысли. В проходе от дверей шла Клара. Темно-синее строгое платье чуть ниже колен, шелковый платок цвета пионов, мальчишеская белая головка: элегантна, как всегда. Она кивала знакомым (на удивление и волнение Отто, многие коллекционеры приехали в этот раз лично), поравнялась с ним и, улыбнувшись, села на стул, сиденье которого он нагрел левой рукой.
Она посмотрела ему в глаза, достала из сумочки бутылку воды и два перламутровых шарика. Отто послушно проглотил таблетки: сердце в последнее время пошаливало, а он действительно разволновался.
— Старая ведьма, вижу, уже тут, — сказала Клара и тоном ниже: — На улице потемнело, собирается дождь.
Словно в подтверждение ее слов, раздался приглушенный раскат грома. Вслед за ним, как если бы гром был третьим звонком, засуетились, забегали вокруг кафедры клонированные приемщики ставок, помощники, появился аукционист — седой и молодой, похожий на Венсана Касселя. Приемщики распределились по периметру — перед рядами, возле дверей, в проходах, «Кассель» поприветствовал публику, стукнул ритуальным деревянным молотком по маленькой тарелочке и объявил аукцион «Шелди’с» открытым.
В его доме для «Бессонницы» давно приготовлено место. Сбоку от окна, которое смотрит в сад, чтобы не падали прямые солнечные лучи. Эта весна во Франкфурте теплая, даже жаркая, но защитное стекло уже куплено у Цейса за баснословные полторы тысячи евро. Отто все правильно повесит, все защитит. Глядя на этот пустой уголок стены, Отто давно видел на ней серую тень от картины, которую он так искал, так долго ждал, когда наследники Сары Бернар разберутся в суде с правами собственности на предметы искусств. Он надеялся, что именно она достанется младшему Карлу, дурню, наркоману, радовался, когда именно так и вышло, и олух Карл полностью оправдал его надежды: через два года после вступления в права владения выставил ее на «Шелди’с».
Слева от его фантомной «Бессонницы» висели два полотна, его любовь и гордость — «Ночной кошмар» и «Пробуждение».
Альфонс Муха много писал Бернар — у них был семилетний театральный контракт и роман, который никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. В основном это были афиши. Уже тогда коллекционеры срезали «Жисмонду» по ночам с круглых рекламных тумб. Что говорить о картинах — сама по себе «Бессонница», где Сара изображена изможденной, с серой кожей и тусклыми волосами, с выглядывающими из-за ее спины черными полупрозрачными детскими фигурками — образ, очень похожий на афишу «Медеи», — была уникальна, редка, желанна многими.
Но мало кто знал, что она — часть триптиха «Ночь», который Муха писал уже в Америке, после расставания с Бернар. Отто наткнулся на это случайно, в архивах, куда они с Кларой ездили лет восемь назад, после того, как ему удалось купить «Пробуждение» у старухи Фринцбурген. Эксперты подтвердили подлинность этой никому не известной картины Мухи, и Отто поехал в Прагу, чтобы почитать его воспоминания, в слабой надежде наткнуться на след «Пробуждения». И ему повезло.
«Она была рыжим пламенем моей жизни, — писал Муха, — когда мы познакомились, мне было тридцать четыре, ей — пятьдесят, в жизни — худая как щепка женщина, которая сонно двигалась по комнате, — но как преображалась она в свете софитов! И сегодня, на берегу Гудзона, я ношу ее у себя внутри, спящую, уставшую, но иногда мне кажется, что она просит меня разбудить ее. И тогда я сажусь к холсту». В примечаниях мелким шрифтом следовали краткие сведения: триптих «Ночь». 1. «Ночной кошмар», зак. 1907 г., март, 23-е; 2. «Пробуждение», зак. 1909 г., февраль, 25-е; 3. «Бессонница», зак. 1910 г., апрель, 1-е.
Самым прекрасным полотном из триптиха, был, конечно, «Ночной кошмар», за которым Отто гонялся долго, уговаривал, подкупал, плел косы интриг и, наконец, через своих агентов в США добился, чтобы картина была выставлена в нью-йоркском отделении «Шелди’с». Купить ее было делом техники. Рядом с «Пробуждением» она смотрелась волшебно. Приехав из Америки, Отто тогда повесил их рядом и надолго застыл. Цвет перетекал от одной картины к другой волнами, рождался из полной тьмы, достигал слепящего солнечного золота. Линии, единая композиция, цветы на голове Сары — в «Ночном кошмаре» увядшие, даже как будто сгоревшие, в «Пробуждении» — только что срезанные, свежие — все сочеталось между собой, являло глубоко продуманный замысел. И замыслу этому не хватало третьей, финальной главы, в которой цвета вновь тускнели, кожа бледнела, а из-за спины вместо волн света глядели маленькие призраки прошлого.
Вынесли флагманский лот: Иван Шишкин, «Опушка леса». Аукционист «Кассель» объявил стартовую цену: 700 000 долларов и шаг аукциона — 10 000. В воздухе замелькали таблички. Отто для проформы поднял одну ставку, которую тут же перебили.
— После скандала с этим голландцем все жаждут подлинного Шишкина, — сказала Клара очевидное. Отто только кивнул. — Когда он был? Лет десять назад?
— В 2004-м, — ответил Отто. Тогда флагманский лот на «Шелди’с» — Шишкин, оцененный в 1 300 000 долларов, — оказался слегка подрихтованным пейзажем Маринуса Куккука, красная цена которому была 20 000. Скандал был затяжным и разрушительным для репутации аукциона.
— Господи, как летит время. — Клара слегка прикоснулась к своему виску.
Отто не интересовался Шишкиным. Его медовый свет, прозрачная листва, однообразие пейзажей — салонный вкус, все равно что собирать одинаковые десертные ложки в набор. Отто составлял свои коллекции, складывал пазлы истории, открывал неизвестные пласты. У него висел бесценный цикл Густава Климта о взрослении, последняя картина которого «Три возраста женщины» была всемирно известной, об этих же, «тренировочных», не знал почти никто. А они были прекрасны: дитя в желтом крепдешиновом цвету, кудрявая девочка, плывущая в кувшинках, девушка-подросток в золотой светящейся накидке из рыб, юная женщина с цветущими ветками вместо рук, старуха, корнями вросшая в землю.
— Продано! — ликующе растягивая звуки, «Кассель» опустил молоточек на блюдце, — господину с номером 113–950 000 долларов.
Господин с номером 113 тряхнул кудрями, Клара повернулась, чтобы посмотреть на него с равнодушным любопытством.
— Новенький, — констатировала она. — По виду итальянец.
Картину осторожно сняли со стены продаж и сразу же перепеленали серой тряпкой, похожей на мешок. Если бы факт, что «Бессонница» является частью триптиха Мухи, стал общеизвестным, флагманским лотом была бы именно она. Но она шла лишь третьим номером со стартовой ценой в 500 000 долларов. Все складывалось как нельзя лучше. Отто глянул на Катрину: та копалась в телефоне.
— Роберт Мэпплторп, «Портрет Патти Смит», стартовая цена 650 000 долларов, — объявил аукционист. — В подарок к этому лоту идет коллекционное издание книги Патти Смит «Просто дети» с фотографиями Мэпплторпа.
Помощники принесли картину: хрупкое создание на балконе, то ли юноша (грубый подбородок, широкие плечи), то ли девушка (длинные волосы, тонкая талия) в белой мужской рубашке, вокруг — яркий многоцветный коллаж вывернутых внутренностей хиппи-реальности: Джим Моррисон, знак Greenpeace, Вьетнам, пестрые ленточки. На этот раз оживились люди за стойкой с ноутбуками.
Отто скучал. Какой интерес работать в одной области: собирать только картины или только книги, как делали многие. Его тонким, тайным удовольствием были театральные коллекции! Костюм, расшитый бисерной сыпью, тут же оригинал его эскиза, программка с премьеры, партитура, пуанты — у Отто было несколько таких бесценных наборов. У него был объем, воздух, жизнь и ветер — каждая комната являла собой отдельную вселенную, в которой даже пахло так, как тогда в зале, в то мгновение, когда постепенно гас свет, а кулисы, тяжелые, красные, как вино, открывались в первый раз.
В аукционный зал вошли двое мужчин. Дверь вырвалась у одного из них из рук, как живое существо, и оглушительно хлопнула. Отто оглянулся: мужчины занимали места, на их волосах блестели крупные капли воды. Он посмотрел в окна: узкие и маленькие, они находились под потолком зала. Стекла были залиты водой: за окном бушевала гроза. По залу понеслось слово — ураган.
Чи вяло поднимал ставки на Мэпплторпа, пару раз их перебила Катрин. Когда стоимость перевалила за 700 000, в схватку вступил Ксавье. Цена бежала вверх, тут все выходило гораздо интереснее, чем с Шишкиным. Отто знал, что Директович является горячим поклонником Патти Смит — он даже устраивал ее квартирник в Москве, на который та приезжала со старшим сыном.
— Продано! — Ведущий был чрезмерно рад результату этих торгов. — Один миллион триста тысяч! Господин с номером 95!
Ксавье опустил глаза, набивал на планшете текст — наверняка сообщал своему хозяину, что задание с блеском выполнено. Даже по тому, как ему на лоб спадала челка, было заметно, что он очень доволен.
В зале стало еще темнее.
Помощники вынесли ее. Повесили на аукционную стену. Распорядитель сделал паузу и сам взглянул на картину. Залюбовался.
— Лот номер три. Альфонс Муха, «Бессонница», 1910 год. Стартовая цена — 500 000, шаг тот же — десять тысяч.
Начали. Отто боялся дышать. Он понимал, что сейчас нужно. Держать себя в руках. Спокойствие и рассудительность. Пусть Чи с Катрин пободаются. Посталкиваются лбами. Он вступит в игру после восьмисот тысяч. Но интерес к картине проявили не только они. Ставки поднимали около семи человек, в том числе один из тех мужчин, которые пришли позже. Отто не знал их. На семистах шестидесяти тысячах он не выдержал и тоже поднял свою табличку.
Распорядитель «Шелди’с» стоял за своей кафедрой, выкидывая руку то в одну сторону, то в другую, мгновенно считывая знаки от своих помощников, но Отто казалось, что тот танцует ритуальный шаманский танец, крутится как дервиш, вводит в транс:
— 132!
— 95!
— 88!
— 17!
— 105!
— 132!
— 88!
Цифры плыли перед его глазами. Цена перевалила за миллион. Клара застыла рядом как памятник, но неподвижность выдавала сильное волнение. Таблички взлетали в воздух, будто бесшумно играл напряженный струнный оркестр. На полутора миллионах аукционист отметил, что цена выросла втрое по сравнению с первоначальной. Отто понял, что Катрин заинтересована в «Бессоннице» гораздо больше, чем он рассчитывал. Знать, что эта картина — лишь часть целого, она, конечно, не могла — Отто позаботился о том, чтобы архивы были уничтожены, а выдержку из дневника Мухи с описанием триптиха хранил у себя в сейфе. Но, вероятно, ее интерес был обоснован чем-то другим. И очень крепко финансово обоснован. Отто выделил себе под «Бессонницу» высшую планку в три миллиона, запас еще был, но он уже начинал дергаться. Мысленно он поблагодарил Клару за то, что она заранее позаботилась о сердечных таблетках.
Он заставил себя успокоиться и отметил, что после полутора миллионов количество желающих сократилось. Полностью затихла электронная стойка. Задние ряды. Сдался Чи. Ксавье, получивший свою победу с Мэпплторпом, отстраненно наблюдал. После миллиона шестисот они с Катрин остались вдвоем. Но Отто уже знал, что это последние большие волны перед победой. Это чувство всегда приходило к нему на аукционах заранее: начинало покалывать пальцы, по голове ползли мурашки. Так, наверное, чувствует себя олимпийский бегун, когда понимает, что он один на один с красной линией, осталось только ее перелететь. Еще чуть-чуть пометались ставки:
— 132!
— 88!
— 132!
— 88!
— 132!
Распорядитель начал считать. Сердце ударяло большим молотом. Черные призрачные дети радостно, как на хозяина, смотрели на него из-за спины Сары Бернар.
— Продано! — долгожданный сладкий стук молотка, — один миллион семьсот десять тысяч! Господин с номером 132!
За окнами громыхнуло угрожающе близко.
Клара спокойно перегнулась через Отто и почти нежно глянула на Катрин.
Неожиданно в зале полностью погас свет, остались зиять только прямоугольные окна ноутбуков. Без искусственного освещения зал мгновенно стал похож на подвал. Темнота непогоды за узкими окнами стала выпуклой и зловещей. Несколько человек ахнули, и их голоса сложились в громкий театральный выдох. Как ночные мыши, зашуршали в темноте помощники аукциониста. Отто почивал на своем счастье. Третья часть триптиха. Да пусть хоть весь Лондон снесет ураганом, ему и дела нет.
Аккуратно перебирая руками спинки стульев в полумраке и шепча извинения направо и налево, к нему пробирался распорядитель.
— Господин Майер, — сказал он совсем другим, тихим голосом, — я приношу свои глубочайшие извинения, но отключение электроэнергии сбило все наши программы, и сведения о вашей покупке не прошли у нас в реестре. Последние торги аукциона теперь будут признаны недействительными, так как они были не закончены.
В этот момент включили свет. Распорядитель прошел к кафедре:
— Господа, нам дали аварийное питание. К сожалению, потребуется много времени на восстановление программ. Я вынужден объявить аукцион прерванным. Он будет продолжен через два дня — девятнадцатого апреля в 15.00. Всех вас оповестят дополнительно. Еще раз приносим наши извинения.
Каким-то образом прошли, протянулись эти два дня. Ураган вырвал из земли деревья, перевернул автобусные остановки, сорвал с домов куски крыш, которые лезвием срезали цветы с клумб в Гайд-парке. Хаос природы, казалось, поселился и в душе Отто. Он не находил себе места.
У Полли, внучатой племянницы Клары, которая жила в Лондоне, была свадьба — они не могли не пойти. Ветер еще не утихомирился, в новостях говорили о десятках погибших, на столах, расставленных на зеленом газоне поместья, метались скатерти, прибитые тяжелыми вазами с цветами, гости в легких нарядах кутались в пледы, прятались в оранжерее.
Отто сидел на веранде, смотрел на плещущееся на ветру платье невесты и не мог унять тревогу. Один раз он был близок к тому, чтобы закурить — вспомнить привычку, к которой не возвращался вот уже пятнадцать лет.
Это было неслыханно — отменить результаты аукциона. Он не желал сдаваться. Он дошел до владельца «Шелди’с». Но ничего не смог добиться — формально не было нарушено ни одно правило, у них оказался четкий кодекс действий на случай стихийного бедствия. Единственное, что они ему пообещали, — начать торги с «его» лота, а Катрин, по слухам, не будет — улетела на открытие какого-то фестиваля то ли в Бразилию, то ли на Кубу. Что ж, значит, будет второй раунд. «Бессонница» все равно будет его. Может быть, в отсутствие Катрин даже по лучшей цене. В каждом минусе есть плюс.
Два дня спустя он снова был в том же зале — на этот раз пришел около часу дня и ходил кругами, как прикормленная собака, пока его не пустили внутрь.
— Дамы и господа, лот номер один нашего сегодняшнего аукциона! Сергей Судейкин, «Чаепитие», 1946 год, стартовая цена — 50 000 долларов, шаг —2000.
Отто дрожащими руками стал открывать каталог — он заметил, что за два дня они отпечатали их заново, и даже оценил их оперативность, но не заглянул, не проверил, на месте ли его «Бессонница».
Ее не было. Он пролистал три раза. Медленно встал. Пошел прямо к кафедре мимо взлетающих вверх табличек. Один из помощников аукциониста кинулся к нему. Он слышал движение сзади: Клара шла следом.
— Почему в каталоге нет «Бессонницы» Альфонса Мухи? — перебивая ход торгов, спросил он громко. Громче, чем надо было.
— Эта картина не входит в список торгуемых полотен, — бесстрастно ответил ему распорядитель, уже другой, с короткой стрижкой ежиком, с табличкой «Норман Джонс» на груди.
— Но она была заявлена позавчера! — Отто чувствовал, что теряет самообладание, чувствовал, что все бесполезно — картина ушла.
— Господин Майер, позавчера был другой аукцион, а теперь прошу меня извинить, вы срываете торги.
Отто осел на ковер, в руки Клары.
Призраки насмехались над ним. Он лежал в просторной больничной палате с прямоугольными лампами. Вот и Мила, смотрит исподлобья. Она ушла от него так же, как «Бессонница», — в потемневший от дождя проем двери, собрав обширный сарафан в кулак.
«Что ты хочешь от меня?»
Пятый год семейной жизни с Кларой, и эта рыжая девочка — вдруг. Он гладил ее по волосам — долго, пока она не повернулась к нему лицом, и вся прелюдия длилась долго, он почти ее раздел, а потом — «что ты хочешь от меня?». Громыхнуло над головой. Он перестал целовать ее в желобок между грудей, поднял голову, посмотрел в лицо. Она выбралась из-под него, встала, смяла в руках юбку, будто прямо сейчас собиралась стирать ее в тазу, и ушла.
«Что ты хочешь от меня?» — повторила за ней Сара Бернар, вонзив длинную иглу ему в грудь. Ураган слизывал внизу дома, словно брикеты сливочного масла. Черные прозрачные детские фигурки ходили по земле, закручиваясь книзу в змеиный хвост.
— Телефон…
— Лежи-лежи, я сама. Доктор сказал — лежать.
— Что там?
— Микроинфаркт, две недели полного покоя после выписки.
— Я про телефон. — Отто приподнялся на локте, но тут же снова лег: грудь как будто разломили пополам. Поплыли перед глазами вытянутые огни больничных ламп.
— Ах, это, — спокойно сказала Клара. — Сообщение. Очень странное. И номер неизвестный.
— Так что там? — чуть раздраженно повторил Отто.
— «Парад вас ждет в Москве».
Глава 13
Инга проснулась раньше семи. Впервые после зимы натянула спортивные брюки, куртку и побежала в парк. Неслась как угорелая, забыв о дыхании, доводя сердце до исступления. Дома горячий, до иголочек по всему телу, душ. Отогнать от себя тяжелый звук падающего на асфальт тела. И второй, страшный: звук шин, переезжающих мягкое. Туманов не кричал. Они с Олегом бежали к нему, понимая — это уже труп. И если была какая-то надежда — она пропала после того, как машина перекатилась через его тело.
А потом темнота заполнилась миганием огней автомобилей, и полицейский, большой и вальяжный, как таежный медведь — Инга запомнила: сержант Павел Купленов, — долго допрашивал Штейна и Ингу, записывал их слова в бесконечные формуляры.
Купленов снимал с них показания, как мерки, а из дома-музея высыпали растерянные, с блуждающими глазами поэты, и кто-то ухал, как ночная сова. До Инги доносилось: «такой талантливый…», «гений», «он мог бы стать…». У ели стояла молоденькая девушка, читавшая два часа назад стихотворение про кладбище, и скулила, как брошенная собака.
— Вы уверены, что это был наезд? — Купленов снова и снова задавал один и тот же вопрос, пока Штейна не прорвало.
— Я фотограф, а не слепой музыкант! Машина сорвалась с места, а до этого она стояла и ждала его! Да, я уверен! — кричал Штейн. — Пишите!
— Марку автомобиля, номер успели разглядеть?
Нет, не успели. Темная, седан, больше ничего. Уехали они из Королева в одиннадцатом часу вечера, всю дорогу домой молчали.
После душа Инга заставила себя поесть. Она стояла над туркой с кофе, когда в кухню вошла Катька.
— Ты почему дома? — спросила она дочь, не поворачивая головы.
Катя двинула бровями.
— Воскресенье вообще-то.
Инга услышала в этом все: и «ну ты, мать, даешь», и «тебе на меня наплевать», и «что-нибудь случилось?».
— Ты погладила мне синюю кофту, я просила?
— Я пожарила гренки. — Инга свалила хлебцы со сковородки на тарелку, поставила перед Катей нарезанный сыр.
— Ничего себе, — удивилась Катя. — Ты думала, что меня нет дома, и поэтому пожарила мне гренки? Ты просто гений последовательности.
Инга не обратила внимания на Катин выпад.
— Как дела в школе?
— Да какие там дела… Нечего рассказывать. Хотя нет! У нас новенький. Дима зовут. — Катя намазывала на гренку сливочное масло, оно быстро таяло, пропитывая корочку. — Ты, кстати, знала, что наша школа стала инклюзивной? Он будет у нас учиться по какой-то своей отдельной программе, представляешь? Вскочил на литературе, говорил монотонно так, как робот. А сам весь какой-то тонкокожий, как будто вообще без защиты. Хочется даже как-то… прикрыть его, что ли… А ты знала, что имя Акакий значит «незлой»? А нашито все ржут, как трехлетки. Как будто фамилия Афиногенов чем-то лучше.
Кофе получился слишком крепкий, гуща не оседала на дно, чувствовалась на губах. Инге было сложно сконцентрироваться на Катиной болтовне. Она как будто бы до сих пор слышала этот тошнотворный звук. И каждый раз, когда моргала, видела подброшенное капотом в воздух тело Туманова.
— …а фамилия у Акакия Акакиевича должна была быть изначально Тишкевич, или Тышкевич, как-то так, я не запомнила, — трещала Катя, — вообще, этот Дима так интересно рассказывал.
— Какие планы на день? — перебила Инга. И тут же пожалела: вопрос прозвучал так, будто она хочет избавиться от присутствия дочери. Ей стало стыдно, потому что отчасти именно так и было.
Катька замолчала. Доела гренку, запила чаем и сказала уже совсем другим тоном:
— Доставать тебя не буду, не беспокойся. Мы с папой хотели в кино сходить. У него сегодня нет дежурства. Потом зайду к нему, повидаюсь с Кефиром, соскучилась по его шерстяной морде.
Инга и Сергей развелись, когда дочка ходила в подготовительную группу в детском саду. Сергей был идеален. Куда ни плюнь — одни достоинства. Спокойный, умный, добрый, к тому же талантливый хирург. Он хотел, чтобы Инга сидела дома, готовила обеды и писала иногда статьи для «Вестника культуры».
«Что это за работа — обозреватель светской жизни?» Нет, конечно, он так прямо не говорил. Просто показывал всем своим видом: он спасает людей, а она занимается тряпично-каблучным легкомыслием.
— Что за фильм? — сдерживая раздражение, поинтересовалась Инга.
— «Иллюзия обмана-3». — Катька встала, чтобы убрать масло. — Очень, между прочим, вкусно, спасибо. Ну не закатывай глаза, ты же знаешь, что папа такие любит. — Ее ехидная мордочка высунулась из-за двери холодильника. — Первая часть была вообще офигенной! Я пять минут с открытым ртом сидела, когда этот Дилан Родс, который агент ФБР, оказался главным гадом! То есть он и есть бэд гай и разыскивает сам себя! Идеальное прикрытие!
Инга улыбнулась.
— Со второй частью они напортачили, конечно. — Закрыв холодильник, Катька села обратно к столу. — Там все как-то мутно, да еще и Гарри Поттер совсем ни к месту. Ну актер, который его играл, — пояснила она, увидев изумленные глаза Инги.
— Бедняга, теперь на всю жизнь застрял в Хогвартсе.
— Ну. А теперь надо обязательно посмотреть третий фильм, понимаешь? Скорее всего, совсем отстой, но вдруг?
В дверь позвонили.
Семейная жизнь дает течь примерно в одном и том же месте: частые ссоры, редкий секс. Но у них была и еще одна пробоина: самолюбие Инги. В тот вечер, семь лет назад, они договорились: Катю из сада забирает Сергей. Инга тогда только устроилась в QQ, ей дали задание: день рождения Агу-пиной в «Метелице». Она должна была в лепешку расшибиться, но сделать хороший репортаж. Часов в пять вечера Сергей позвонил. Инга не подошла к телефону. Он написал: «Забери Катю. У меня форс-мажор на работе». Этот приказной тон, краткость фраз. Инга прочитала между строк: «твоя карьера неважна, а моя — важна». Ответила также сухо: «НЕТ».
В полдесятого ей позвонила Ольга Петровна, Катина воспитательница. Садик закрывался, за ребенком никто не пришел. Они встретились с Сергеем у ворот детского сада: оба примчались к ним практически одновременно. Катя сидела в будке охранника: Ольга Петровна ушла домой, ей с утра опять на смену. Охранник поил Катю чаем с сушками, а Инга прямо у ограды орала во всю глотку на Сергея, что он безответственный, что так невозможно жить, что ему наплевать на семью, что эсэмэсками о ребенке не заботятся, что он рушит ее карьеру, сорвал ей важный репортаж, ненавидит ее работу и мечтает, чтобы ее уволили. Сергей молча выслушал ее, а потом сказал:
— Днем в школе 1267 случился пожар. К нам поступило двадцать восемь детей с тяжелыми ожогами. Двенадцатилетний мальчик, на которого упал горящий шкаф, скончался у меня на столе.
Никогда до этой минуты Инга не думала, что самоотверженность близкого человека может ранить больнее, чем козни недоброжелателей. Она почувствовала себя настолько паршиво, словно он навсегда отнял у нее остатки самоуважения. Она, всегда бесстрашная и даже безрассудная, когда дело касалось простых вещей — преодолеть, доказать, победить, пойти напролом, впервые в жизни была раздавлена стыдом и бессилием. Он обыграл ее на каком-то важнейшем поле человеческих смыслов, и она не понимала, как с этим жить дальше. Он жил — а она играла роли, и сознавать это было совершенно непереносимо.
Сергей собрал вещи в тот же вечер. Инга молча его проводила. Кефир, безродная дворняга, которую так любила Катька, увязался за ним.
В первые месяцы после развода было трудно создавать видимость хороших отношений. Да и вообще — было трудно. Они старались ради дочери. Возможно, она бы сдалась, если бы он вернулся сам. Но он не вернулся. Через пару лет стало легче. Боль притупилась. А может быть, Инга стала спокойнее.
Сейчас они общались ровно, почти тепло, как дальние родственники, давно пережившие все обиды. Ну или почти пережившие.
— Привет! — За эти годы Сергей стал только интереснее: в густых волосах ни сединки, легкая щетина подчеркивала впалые щеки. Аккуратный свитер, джинсы: Инге казалось, что и в повседневной жизни он выглядит как хирург. Не просто чистый. Стерильный.
— Мы с Катькой идем в кино, она сказала тебе?
— Привет, — ответила Инга, — гренку с сыром хочешь?
— Давай! — Сергей схватил с тарелки хлеб.
Ей всегда нравились его руки. Они жили своей жизнью: тонкие пальцы, у которых нервных окончаний было в разы больше, чем у простого человека. Настоящие руки хирурга.
…как он проводил пальцами по моей шее, медленно опускаясь по позвоночнику…
— Кофе будешь? — Она резко шагнула к плите.
— Не, мы поскакали. Сеанс через двадцать минут. Можно, она заночует у меня?
— Мы вроде об этом не договаривались. — Инга недовольно посмотрела на него.
— Вечером созвонимся, ладно?
— Ладно, но не позже одиннадцати привези ее домой.
— Хорошо, — хмуро пробурчал Сергей.
Завибрировал Whatsapp.
Штейн: «Посмотри».
И три фотографии. Вернее, это была одна и та же фотография со вчерашнего вечера, но с каждым разом увеличенная все больше. Тот самый снимок, ради которого он заставил ее позировать под фонарем. На первой фотографии за спиной Инги (она отметила, что получилась действительно хорошо, свет создавал ореол вокруг волос) было обведено красным овалом какое-то темное пятно. На второй фотографии обведенный участок снимка был значительно приближен, в темноте различимы очертания стоящей на обочине машины. Третий снимок был хорошо осветленным и увеличенным вторым, красным контуром уже была обведена часть номера: «…37AP177rus», а под ним, почти нечитаемо: «…ота-центр Москва».
— Мам, мы пошли! — крикнула Катька из коридора.
— Подожди, поцелую тебя. — Инга вышла в коридор, обняла дочь. Она не смогла бы определить точно, сделала она это из личного порыва, для Катьки или из-за Сергея. Хотелось дать ему понять: мы вдвоем и у нас все хорошо.
— О, опять глаза внутрь головы повернула, — проворчала Катя, глядя на отца.
— Что случилось? — спросил Сергей.
— Ничего, — Инга постаралась улыбнуться, — идите. Хорошо вам посмотреть вашу глупую киношку.
— Мам!
— Пока!
Закрыв дверь, она сразу схватила телефон и написала сообщение Катьке: «Не говори отцу, что я без работы». Получила в ответ хитрый смайлик.
Потом набрала Штейна.
— Ты уверен? — спросила без всякого приветствия.
— Уверен. Это та самая машина. Я видел, как она через несколько секунд после нашей «фотосессии» сорвалась с места.
— Олег, у нас есть след убийцы! Мы должны сообщить этому, Купленову. Он оставлял тебе вчера свои контакты?
— Я уже позвонил ему.
— И что?
— Надо ехать к нему в участок для дополнительной дачи показаний. Такой приусадебный, знаешь, участок, на нем одни показания растут, а посередине — дача. Дача показаний.
— Господи, Штейн, сейчас не до твоих шуток!
— Короче, он ждет нас во второй половине дня. Напяль что-нибудь попроще. Не к поэтам едем. Катька дома? Хотел притащить ей новый номер «Фотодоков».
— С Сережей в кино пошла.
— Родительский день. Ясно.
— Да что тебе ясно? Ладно… Штейн!
— Ну?
— Ты молодец, что поставил меня вчера под тот фонарь.
Инга мерила кухню шагами и репетировала про себя разговор с Купленовым.
Но что сделает этот мишка косолапый? Сонно запишет информацию в сотый формуляр? Да ни в жизнь он не станет выяснять, какой у машины был полный номер, кому она принадлежит.
Инга вспомнила водянистые глаза сержанта. Не человек — вынутый из воды покойник. Набрала другой номер:
— Кирилл? Доброе утро, это Инга Белова. Я насчет Волохова.
— Инга? Здравствуйте. — Голос у Архарова был сонным. Инга быстро глянула на часы: десять тридцать — не рано вроде.
— Извините, если разбудила. Но вы сказали, что готовы помочь в расследовании. Я все-таки ввязалась. И я только вам могу доверять! Дело в том, что убит еще один человек, имеющий отношение к Волохову, — Туманов. И это случилось прямо на наших глазах.
— Как и где?
— ДТП. В Королёве. Вернее, в доме-музее рядом с Королёвом. И это не совсем ДТП, то есть совсем не…
— Еще раз: как зовут?
— Владислав Туманов. Звали…
— Перезвоню! — Кирилл отключился.
Кирилл чистил зубы и свободной рукой листал страницы в телефоне. По сводкам он быстро нашел: пострадавший Туманов, городской округ Королёв, наезд со смертельным исходом, дознаватель — Купленов. Отложил телефон.
Ему почему-то нравилось, как бесцеремонно влезает в его жизнь эта дерганая Инга Белова. Взъерошенная, напряженная, как тетива. Занятная… Он даже представил себе один раз, как они утром вместе готовят завтрак у него на кухне. Вот он разбивает яйцо о край сковородки, вот Инга — в его рубашке — смотрит на него. Кирилл быстро себя осадил. Не то чтобы у него не было случайных женщин, еще как было, но это — совершенно другая история. Она была из одержимых, увлекающихся и решительных натур. В первый год службы Кирилл и сам был такой. Но когда его пару раз обсмеяли и поставили на место, он сообразил, что увлеченность свою показывать на работе не надо. Старательность — это да, начальство слушать разинув рот — два раза «да». Энтузиазм полагалось держать при себе. А вот Инга ничего не боялась, ну, видно, не огребала еще ни разу.
Кирилл вышел из-под душа и принялся растираться полотенцем. Почему ей так везет на трупы? Как она умудряется оказаться там, где что-то происходит? Смерть Волохова, задавленный машиной Туманов. В дорогущую книгу Кирилл, само собой, не верил — видел в этом только предлог, чтобы влезть в расследование. В чем интерес этой Инги? Может, она играет с ним? Почувствовала, что можно сесть на шею, вот и пользуется. Она журналистка, могла пронюхать про их раскосец с Рыльчиным, решила, что сможет крутить им, Кириллом? Что, не было таких историй? Да сколько угодно. Бабы, одно слово. И еще это — «я только вам могу доверять!»
Кирилл оделся. Его ментовский стаж, если вдуматься, всего ничего, а он уже готов подозревать кого угодно в чем угодно. Вот она, профессиональная деформация! А с другой стороны… береженого бог бережет. Кирилл выдохнул, «надо держать себя в руках», набрал номер.
— Ну, рассказывайте. Где и что, уже знаю. Теперь меня интересует, как и почему. Только телеграфно.
— Да, это не лишено определенного смысла. — Архаров молчал и словно бы раздумывал в ответ на страстные призывы Инги к действию.
Он не дал ей от ворот поворот сразу, не сказал, что пробивать номера непонятных машин вне его компетенции, не назвал ее сумасшедшей, что очень воодушевляло. Инга ждала.
— Давайте поступим так, — наконец сказал он. — Вы мне сейчас присылаете ваши фотографии. Это раз. Я посмотрел по карте: отделение полиции Королёва недалеко от моей дачи. Это два. Не рассусоливайте, не грузите Купленова своими соображениями. Потом ко мне. Это три. Адрес пришлю эсэмэской.
— Кирилл, я так вам признательна! — У Инги отлегло от сердца. Похоже, Кирилл со всей этой работой в ментовке не оброс формализмом, не утратил профессионального любопытства.
А колючий какой! Подозревает меня, что ли? Это раз, это два! Тоже мне — Фандорин местного разлива.
Телефон в руке завибрировал. Инга взглянула на экран: Софья Павловна.
— Инга, дорогая, рада вас слышать. Вы долго не подходили.
— Я тоже вам рада. Как у вас дела? Как нога?
— Дела отлично. Я перед отъездом хотела узнать, нет ли новостей о книге? Что-нибудь удалось выяснить? — Софья Павловна взяла ревизионный тон.
— По книге ничего нового. — Инга помедлила немного. — Но есть подозрение, что Александра Витальевича убили.
Интересно, что сейчас будет — слезы или концерт? Хотя у Софьи Павловны это одно и то же.
Телефон молчал.
— Софья Павловна? — Инга решила, что связь пропала.
— Вот как? — наконец откликнулась Софья Павловна. — Это тебе в полиции сказали?
— Нет. — Инга замялась.
— То есть дело не возбуждено? Тогда зачем ты мне это говоришь? — Голос взлетел на несколько нот.
— Потому что вчера был убит еще один человек, — Инга тоже повысила голос и сказала со значением, — близкий друг Александра Витальевича.
— Тебе что, — зашипела Софья Павловна, — нравится ворошить грязное белье? Ты думаешь, я мало нахлебалась этих похабных историй? А я тебе скажу! Ложкой! Столовой! С горкой!
Какие эпитеты! Последнее предложение просто изрубила на отдельные слова. Похоже, задела ее за живое. Неужели до сих пор ревнует бывшего, да еще покойного мужа?
— Вы сказали, что уезжаете куда-то? — нарочито спокойным голосом спросила Инга.
— Я сказала? Ах, нуда…
Будто спохватилась. Забыла, куда уезжает?
— В Швейцарию. «Дом кинематографии» проводит ретроспективу фильмов Антона Шандунова, пригласили меня как вдову Александра Витальевича — почетным гостем.
Темп речи ускорился. Тон ровный. Предложение как строка из афиши. Хочет замять ссору или что-то скрывает?
Софья Павловна тяжело вздохнула.
— А тут ты со своими неприятными разговорами. Все настроение испортила! И с чего ты так интересуешься? Звонишь, расспрашиваешь!
Вот тебе на! Забыла, что сама мне позвонила? И вообще — все началось с нее? Опять страх пульсирует красным в каждом слове. Что-то часто я стала его замечать. Может, просто устала?
— Саша и Антон дружили, если ты не знала, — продолжала Софья Павловна. — Александр Витальевич поддерживал Антона в самые тяжелые минуты, когда все общественное мнение отвернулось.
Инга одной рукой уже вбила в поисковик и «ретроспективу Шандунова», и «Швейцарский Дом кинематографии». С нулевым, конечно, результатом.
— Желаю вам удачно съездить, отдохнуть и хорошо развеяться. — Инга ядовито улыбнулась. — Если что-то узнаю, тут же вам сообщу.
— Спасибо тебе, дорогая. Пиши мне, если будут новости по книге, — сказала с нажимом на последнее слово.
Закончив разговаривать с Софьей Павловной, Инга с минуту сидела в тишине.
А что, если наша вдова — Дилан Родс из «Иллюзии обмана», о котором говорила Катька? Главный обвинитель, он же преступник. Вор, который громче всех кричит о пропаже. А не могло ли так быть, что книга никуда не исчезала, а просто Софье Павловне зачем-то нужна эта шумиха? Заявиться в полицию, прикинуться жертвой. Но зачем? Она же единственная наследница Волохова. Если только она сама не захотела приблизить момент вступления в наследство. Могла ли она убить? Как там Катька сказала — идеальное прикрытие?
Inga
Подключен(а)
Нужна справка
Софья Павловна Волохова, вдова Волохова А. В., имела ли отношение к медицине, где работала, где училась, с кем общается
Indiwind
Подключен(а)
принято
по предыдущему запросу
агеевигорьдмитриевич 1960 ростов
8 лет умерла мать воспитывался отцом детская комната милиции 3 раза
армия вгик операторский курс
жена надеждагригорьевнабыкова умерла в 1998
работа 1986–1991 московский канал тв
1991–2010 в системе вгтрк
настоящее время видеоблогер
болен лимфогранулематоз рецидив
по какимпунктам конкретизация
— О господи. — Инга откинулась на спинку стула.
Inga
Лимфогранулематоз, что это такое, насколько излечимо?
Indiwind
лимфомаходжкина особый тип
поражен костный мозгдругие органы селезенка печень легкие кишечник
лечение химиотерапия и облучение
в случае отсутствия ответа на стандартную терапию или рецидива показан препарат адцетрис экспериментальный курс клинических испытаний не окончен ждет одобрения минздрава
Inga
Как давно у него рецидив?
Indiwind
4 месяца
отказ от облучения лечение не полноценно
Inga
Уточни: он что, умирает?
Indiwind
без лечения несколько месяцев
Inga
Я правильно понимаю, что единственное лекарство для него сейчас — это адцетрис?
Indiwind
нестандартный протокол linktoradiotherapyandoncology нет квот дорого
Inga
Где твоя любовь к точным данным? Сколько?
Indiwind
250 000 рублей штука пять на курс
Inga
И что теперь, по-твоему, руки опускать?
Indiwind
решение агеева
фонд фандрайзинг
времени мало
в рфс адцетрисом работают в клинике современной медицины checklink
Inga
Поможешь с фандрайзингом?
Indiwind
счет в почте
Вот тебе и уходящая натура в прямом смысле этого слова! Какого черта люди так безответственно к себе относятся? А интервью с Александрой Николаевной как же? Обещал ведь! Может быть, все не так плохо? Она вспомнила спокойную и полную внутреннего достоинства улыбку Игоря Дмитриевича. А что, если он знал тайну «Парада» и выкрал книгу, чтобы получить деньги на лечение?
Инга поняла, что злится.
Ноги принесли к холодильнику. Обнаружила у себя в руках батон докторской, свежий огурец и головку лука.
— Мне так лучше думается! — сказала сердито вслух, орудуя кухонным ножом и вытирая слезы предплечьем.
Вернулась к компьютеру, сооружая высоченный бутерброд, почитала про работу фондов, поняла, что это долго и не сегодня, отправила в закладки. Подумала, разделила бутерброд на две части, принялась есть.
Инга просмотрела интервью, взятые Агеевым. Кликала наугад — Анастасия Власенко, маленькая старушка в тени своей гигантской золоченой арфы, Альбина Земцова, «вечная» звезда телевидения, диктор и любимица — а говорили, что и не только — генсека Брежнева. Посмотрела кусок из беседы с писателем-деревенщиком Безродным, стало скучно, промотала. Следующим было интервью с физиком Иогане-сяном. Артур Суренович оказался удивительно остроумным. Инга и не заметила, как посмотрела запись целиком, а тут и бутерброд закончился.
Достойнейшие персонажи. Кто сейчас вспоминает этих замечательных людей? Только Агеев. Но скоро он сам превратится в пыль и исчезнет.
Хрена-с-два!
Инга опять открыла почту, нашла адрес Агеева. Руки были липкие от колбасного жира и пахли луком, не дело. Она вымыла их, тщательно вытерла каждый палец полотенцем, собирая в предложения разбросанные мысли. Зажгла сигарету, положила на край пепельницы.
«Игорь Дмитриевич! Совершенно случайно я узнала про ваше тяжелое заболевание. Хочу предложить вам помощь. В России появилось новейшее лекарство „Адцетрис“. Нужно пять флаконов для курса терапии. Лекарство дорогое, квоты на него пока не распространяются. А ждать, насколько я понимаю, нельзя. Поэтому предлагаю следующий план действий.
Я создам интернет-страницу, посвященную вам. В корректной форме опишу ситуацию, в которой вы оказались, и укажу причину, по которой обращаюсь за финансовой помощью к людям. На этой страничке я размешу ролик — сделаю подборку фрагментов ваших замечательных интервью. Если вы сочтете нужным, можно разместить и фотографии из вашего личного архива. На этом же сайте дадим ссылку на ваши работы — их знают и любят сотни тысяч людей, я в том числе. Также я буду регулярно публиковать отчеты по сбору средств, вплоть до сканированных чеков, и новости о вашем лечении.
Я готова написать текст и после согласования его с вами вывесить вместе с роликом во всех крупных социальных сетях. У меня довольно много подписчиков.
Я использую все свои контакты и разошлю персональные письма с просьбой о финансовой поддержке.
Уверена, у нас все получится, мне удастся собрать необходимую сумму в кратчайшие сроки. Нужно только ваше согласие.
Искренне ваша, Инга Белова»
Отправлено.
Снизу уже сигналил Штейн.
Глава 14
Отделению полиции был отдан первый этаж многоэтажки в Королёве. Все здесь было новое: плитка, мебель, окна-двери, талончики, регулирующие очередь к участковому. Старым было только выражение лиц сотрудников. И хлам: наваленные на столы папки, урна, забитая скомканными упаковками из-под дешевых обедов, грязь в туалете. При этом в отделении творилось нечто странное. Люди в форме и в цивильном заносили в здание коробки, забегали в кабинет дежурного и через несколько секунд выбегали оттуда с загадочными лицами.
Инга с Олегом долго сидели в коридоре. Наконец, появился сержант Купленов, огромный, весь мокрый и грязный, как будто пять человек его долго валяли в луже, причем в розовой. Он, отдуваясь, прошел мимо Инги и Штейна в дежурку, откуда немедленно раздался хохот и страшный мат. В открытую дверь полетели совсем неожиданные для полиции предметы: «киндер-сюрпризы», «чупа-чупсы», пакетики с мишками Гамми и прочий детский фастфуд.
Какой-то лейтенант спрятался от града сладостей за Штейна.
— Что вы тут курили? — выдавил из себя Олег, пытаясь высвободиться из объятий незнакомого мента.
— Да тут у нас… — Лейтенант похрюкивал, пытаясь сдержать хохот. — Один наш клиент, ну бандит мытищинский, решил остепениться, поиграть в заботливого папу и подарил своей дочке пони. Пони, твою мать, ты представляешь! А куда поню эту девать? Он ее разместил под лестницей в подъезде, сена подогнал, воды ведро, все дела… Пони живет, сено жует, ну и это самое… гадит, натурально, и отчего-то не бабочками. Короче, топот, запах, соседи по квартирам тихо сидят, сделать ничего не могут — бандит же, кто с ним спорить будет? А тут дочка его решила, что пони должен быть обязательно розовым, развела в ведре акварельных красок и покрасила животину. Пони обиделось и сбежало! Ну бандит к нам — помогайте, дите плачет, мне расстройство, заявление написал по всей форме. И вот наш Купленов, как был дежурный, так на машине с мигалкой, вокруг братки на джипах… Мэр звонит, напрягается, что там у вас за гонки? Так это, говорим, наша орава по всему городу ловит розового пони.
— Поймали?
— А то! Когда полиция вместе с народом — нам любая задача по плечу! Мэр распорядился наградить героя, ну а как? Вот мы ему все «чупа-чупсы» в городе скупили… братки, понятно, тоже бабками вошли.
— Суки вы! — донеслось из дежурки. — Сами в следующий раз будете этого коня мелкого ловить!
Купленов, в грязных штанах, но уже в чистой форменной рубашке, едва сходящейся на животе, появился в коридоре.
— Заходите. Сладкое будете? — Он вдруг оказался большим и добродушным дядькой, совсем не таким, каким помнила его Инга по ночному происшествию. — Давайте ваши новые сведения, — сказал он, когда они сели в кабинете. Сержант даже расщедрился на чай. Штейн выложил на стол три распечатанные фотографии.
— Вот эта машина. — Штейн ткнул пальцем. — Надо пробить.
— Не стоит говорить мне, что нужно, а что не нужно, сами видите, чем тут приходится заниматься. — Павел взял фотографию, где лучше всего была видна часть номера. Лицо его вдруг приобрело обиженное выражение. — Судя по фотографии, вы стоите к машине спиной. У вас есть на затылке глаза? — Купленов серьезно посмотрел на Ингу. — С чего вы уверены, что это именно та самая машина?
— Трагедия произошла несколько секунд спустя, я успела обернуться, — ответила она вежливо. — А про глаза на затылке — это грубо.
— Знаю. Но в нашем деле главное — дотошность. — Он взял другую фотографию. — На дороге было темно, я тут вижу несколько машин на обочине, вы оба на сто процентов уверены, что это — автомобиль преступника?
— Да, — твердо сказал Олег. — Давайте мы напишем протокол свидетельских показаний, приложим к нему снимки, а вы будете искать владельца.
— Пишите, черт с вами. — Купленов выдвинул верхний ящик, сгреб туда «чупа-чупсы» и достал два листа бумаги. —
Проверка машины по номеру может занять около двадцати дней. А у вас вообще номер неполный! Это непонятный срок, конечно.
Сержант укоризненно покачал головой, будто хотел добавить: правильно надо было автомобиль убийцы фотографировать, чтобы протоколу соответствовало.
Заполнив бумаги, Инга и Штейн покинули полицейский участок.
Дача Архарова действительно находилась недалеко. Десять минут — и они свернули на посыпанные прошлогодней листвой дорожки уютного СНТ. Остановившись перед зелеными воротами, Инга напечатала: «мы тут». Ворота отползли в сторону. Участок был небольшим, ухоженным. В песочнице горкой лежали забытые детские игрушки, маленький велосипед прислонился к крыльцу.
Щемящее детское чувство: телогрейка, старый гамак, французский детектив с полки — первый попавшийся, переплет за зиму немного сгнил, ну ничего, просушить на перилах веранды.
— Как у вас тут хорошо! — искренне сказала Инга.
— Спасибо, — Кирилл достал сигареты, — воздух совсем другой. Мои к родне уехали, вот кукую один. Если к вечеру не пойдет дождь, сделаю мясо на решетке. Оставайтесь. А вы, как я понимаю, тот самый фотограф?
— Штейн. Олег. Вместе работаем. — Он кивнул на Ингу.
Архаров вытер руки о старые спортивные штаны — он красил известкой стволы деревьев, поздоровался со Штейном. Закурили.
— Ну что я хочу сказать: с вас по-любому коньяк! — Архаров выпустил художественное облако дыма, прищурился, рассматривая Олега.
— Это само собой! — уверил Штейн. — А за что?
— На самом деле даже не мне. Я ваши фотографии двоим знакомым в ДПС отослал — у них же базы, там полный номер проверить раз плюнуть — за 5 минут, — объяснил Кирилл. — Но вы, Инга, прислали мне только часть номера. Я думал, они долго копаться будут. Наберут два листа машин с такими цифрами-буквами, ищи потом по всему этому списку. Но там под номером подсказка оказалась — «… ота-центр Москва». «Тойота»! Отослали эту фотографию на станцию дилера в официальный сервис. Так вот представляете, там паренек местный, он запчастями занимается, опознал марку по форме фар! Сказал, что это «Тойота Камри» — 99 %. Потом уже было дело техники: марка машины плюс часть номера плюс цвет (они вводили и черный, и антрацит, и фиолетовый) — и через полчаса мы имеем номер. Сейчас, подождите, скажу, — Кирилл разблокировал телефон, пролистал заметки. — Вот: Е137АР177. А принадлежит она… Вы, кстати, присядьте… Хозяйственному управлению Государственного Академического Большого театра Российской Федерации. Вот такое па-де-де, пани-маишь…
Глава 15
Заднее сиденье служебной машины Купленова было довольно замызганным, и пахло неприятно — спрессованный запах множества людей. Инга тихонечко открыла окно и вдохнула. Купленов явно был не восторге от того, что Кирилл влез в расследование — предоставил ему информацию о машине и сам поехал с ним в Большой, да еще и надавил, чтобы они взяли с собой Ингу.
Атмосфера в машине была напряженной. Инга не знала иерархии и взаимоотношений столичной и подмосковной полиции, но почти физически чувствовала желание Купленова развернуться к Кириллу и дать ему своей большой когтистой лапой по уху.
— Закройте окно, по ушам бьет, — ворчливо попросил Павел, и Инга нажала на кнопку подъемника.
— Есть еще какие-либо новости по делу Туманова? — спросил Кирилл, когда молчание стало совсем уж тягостным.
Купленов ответил нехотя:
— Да не особо. Нашли при нем мобильник, само собой. Расшифровали звонки-эсэмэски.
— И что там? Есть что-либо интересное? — оживился Кирилл.
Павел задвигал желваками, будто хотел сплюнуть:
— Гомосятина одна. — Он откинулся назад и принялся возить правой рукой по заднему сиденью рядом с Ингой в поисках своего портфеля.
— Вот, — он подцепил пальцем черную кожаную ручку, сунул портфель Кириллу, — в зеленой папке. Изучай. Может, что и понравится.
Кирилл издевку пропустил мимо ушей. Он листал страницы распечатанной переписки Туманова.
— Тут простые эсэмэс — интернет-заказы да пицца, — добавил Купленов без энтузиазма. — WhatsApp и мессенджер — вот там кое-что поинтересней. Но не факт, что по нашему делу. Если только его не убил ревнивый любовник. Эту версию мы тоже покрутим, конечно.
— Да-a, и правда богатая личная жизнь, — подтвердил Кирилл.
— А можно мне? — неуверенно спросила Инга.
Кирилл даже не посмотрел на Купленова, продолжая читать. Наконец шумно захлопнул папку и поднял вверх: «твой материал, Купленов, тебе и решать».
— Валяй! — Павел отвернулся и уставился на дорогу.
Архаров, не оборачиваясь, передал папку Инге. Несколько десятков страниц, скрепленных степлером. Сначала она просмотрела список всех абонентов Туманова: ничего похожего на «Волохов», или «Волох», или «Александр Витальевич» не было. Либо Волохов был у него как-то сложно зашифрован, либо переписка с ним уже была стерта. Туманов действительно много с кем переписывался. Судя по сообщениям, он мог иметь несколько любовников. «Я не видел тебя сотни лет. Смотрю на наши совместные фотографии», — писал некто MarkN. «Стихи — редкая гадость. Приедешь сегодня?» — спрашивал V/Vinogradov. «Вчера было слишком жестко, ты был не на высоте, Кукленок такого не ожидал», — упрекал ~Vel.Zhuzh~. Она начала искать среди его адресатов артистов балета, певцов, кого-то, кто мог работать в Большом театре. Ничего похожего. И в сообщениях не было ни слова про представления или репетиции. Только в одном месте мелькнуло слово «дефиле», но вряд ли это имело отношение к Большому театру.
Туманова действительно могли убить из ревности, а вовсе не из-за книги. Если в Большом театре будет тупик, придется трясти всех этих персонажей. Интересно, какие у них аватарки?
— Можно я эти распечатки себе оставлю? — спросила Инга.
— Да хоть наизусть выучите, — разрешил Купленов, — мне эта гейская муть про сладенькие члены даром не нужна.
В ответ на это она не смогла даже сказать «спасибо». Кивнула и убрала папку в свою сумку. Купленов припарковался около знака: «Парковка только для сотрудников ГАБТ»#
Они прошли мимо главного входа и вошли в отдельное небольшое здание кассы. За единственным открытым окошком скучала пожилая женщина с высокой прической и накладными ресницами. Кирилл кивнул Купленову: действуй, я только на подхвате.
Тот развернул корочку и наклонился к окну:
— Добрый день! — Приветствие прозвучало как угроза. — Полиция. Нам нужно поговорить с вашим администратором или начальником хозуправления. Кто у вас там за машины отвечает.
— Минуту, — невозмутимо ответила женщина, поднимая трубку каким-то чудом сохранившегося здесь белого дискового телефона. — Что, уже и к нам с обыском пожаловали?
— Нет, мы по другому делу, — сказал Павел таким тоном, будто произносил форменную грубость. — Звоните!
— Звоню, вы же видите, — женщина сделала бровями на трубку, — я же не могу торопить гудки.
Через некоторое время она сбросила звонок и начала набирать другой номер.
— Попробуем так. — Под ее пальцами повизгивал крутящийся диск. — А я уж было подумала, что вы сейчас конфискуете тут у нас все и арестуете директора с главным режиссером. Не арестуете? Режиссера сейчас лучше не трогайте, подождите до премьеры.
Из утробы Павла послышался звук, похожий на рычание, но женщина подняла изящный палец с аккуратным маникюром:
— Николай Васильевич? Да-да, это я. Тут к вам подошли. Из полиции. Да. Нет, вроде не обыски. Но вы все же спуститесь.
Она положила трубку и ласково улыбнулась Купленову:
— Вам повезло. Сейчас подойдет нужный вам человек. Точно арестовывать не собираетесь? А то мне неудобно будет.
Николай Васильевич Поддонов оказался человеком узкоплечим и впалогрудым. Представившись, он посмотрел по очереди на троих визитеров, определяя главного. Наконец обратил вопросительный взгляд к Архарову, и тот вежливо спросил про машину.
— Черная «Тойота Камри» E137AP177rus? Она иногда возит наших гостей — не первой важности, конечно, встречает-провожает в аэропорт, очень редко — по мелкой, так сказать, хозяйственной нужде. Ни за каким сотрудником театра не закреплена, это разгонная машина, второй категории. Первую категорию мы берем у «ПЭКа» — это наша транспортная компания, по договору аренды. Пройдемте в мой кабинет, я попрошу Карину поднять маршрутные листы.
Излишне подробен, услужлив. Он нас побаивается. Впрочем, я его понимаю — не самые приятные гости.
Николай Васильевич вел их через улицу к вспомогательному корпусу бледно-салатового цвета, похожему на фисташковый торт.
— Когда историческая сцена была действительно исторической, а не новоделом, в здание театра все его сотрудники проходили либо через первый, либо через пятнадцатый подъезды, — объяснял он по дороге, — теперь мы все входим в театр через пятый подъезд, он вот, на углу. До реконструкции тут сидел Внешторгбанк. Прошу!
Они миновали гардероб на нулевом, на лифте поднялись на третий этаж и по застекленной галерее перешли в историческое здание. Солнце играло бликами на стеклах, из напольных белых ваз торчали острые темно-зеленые листья растений, похожих на гигантское алоэ.
— Как я тебе бесплатную экскурсию по закулисью Большого устроил, а? — шепнул Кирилл, и Инга с улыбкой кивнула: всю жизнь мечтала!
У лифта исторического здания на розовой стене висел подробный указатель: 3-й этаж — мужские артистические; 5-й — переход во вспомогательный корпус; 7-й — большой балетный репетиционный зал, женские артистические, 2-я рабочая галерея.
— Канцелярия у нас на седьмом, рядом с большим репетиционным. — Николай Васильевич нажимал на кнопку.
Бесконечные коридоры были все одинаковы: линолеум, местами — паркет, на полу — указатели для гостей и новичков: «основная сцена» в красной жирной стрелке; «новая сцена» на розовом отпечатке голой ноги. Серые стены с фотографиями и афишами разных лет. «Москва, 1921 год, — прочитала Инга, — Большой зал Музо, в среду, 22-го июня в честь 3-го Конгресса Коминтерна Симфонический концерт под управлением А. Б. Хессина».
Она заглядывала во все открытые двери. Кое-где попадались гримерки: заваленные одеждой диваны, столы с шеренгами баночек, круглые лампы под невысокими потолками. В одной комнате, которую она увидела мельком, на вешалке висела простая спортивная худи, с вышитой блестками надписью «DanceDance». Такая обыкновенная, такая человеческая в этом мире сказочников и небожителей. Инге захотелось прикоснуться к ней, провести пальцами по блесткам, натянуть на себя.
Поддонов заметил ее любопытство, старался подыгрывать, избрав тактику услужливого гида.
— Вот здесь, на столе, у нас расписной лист, в котором артисты отмечаются при явке на спектакль, — елейно говорил он, — а это — расписание на неделю. Сегодня свеженькое повесили.
Он дошел до белой двери с надписью «Канцелярия», выведенной старославянским шрифтом.
— Проходите.
Дверь в большой репетиционный зал была открыта, оттуда доносилась музыка.
— Идите, а я посмотрю, можно? — попросила Инга, и Кирилл кивнул.
Зал был огромным. В дальнем его углу располагалась ниша, сейчас пустая — она предназначалась для репетиций с оркестром. Слева стена была полностью зеркальной, вдоль нее тянулась длинная деревянная лавка, на которой, вытянув ноги и скрестив на груди руки, сидел полный пожилой человек в белых брюках и голубом свитере. Он смотрел на своих подопечных, танцевавших в середине зала. Взгляд его не выражал ни удовлетворения от их работы, ни досады, ни внимания — глаза смотрели куда-то далеко-далеко, за сцену и даже за стену, рядом с которой завитая улиткой лестница с резными деревянными балясинами вела на внутренний балкон.
Репетирующих было трое: девушка и два молодых человека. Инге показалось, что одеты они в какую-то рванину: шальвары поверх фиолетовых лосин, сильно изношенные балетные туфли, несколько накрученных одна поверх другой кофт. Музыка тоже была рваной: кларнеты играли тему в унисон на фоне то скачущего, то ковыляющего аккомпанемента. Сразу же вспомнились уроки сольфеджио с Антониной Андреевной, в голове всплыло название: «Петрушка».
Крепкий юноша вскочил с пола, схватил картонную саблю и начал колошматить ею в воздухе; потом опустился на колени в позе поклонения божеству.
— Стоп! С четвертой! — крикнул мужчина с лавочки. — Руки, руки не работают! Не слышишь темп, считай — раз-два, раз-два. Следи за рисунком!
Музыка стала еще более карикатурной: зазвучал боевой барабан и корнет, все вместе это напоминало развалившийся посередине ученический этюд. Девушка начала свой неровный танец. Второй молодой человек пока просто разминался у станка.
— Стравинский говорил, что когда сочинял эту музыку, то представлял игрушечного плясуна, который своими каскадами выводит из терпения оркестр. Получается схватка, которая, дойдя до высшей степени возбуждения, заканчивается жалобным изнеможением танцора, — сказал подошедший к ней сзади Николай Васильевич.
— Мой любимый композитор, — не оборачиваясь, проговорила Инга.
— Замечательная музыка! — подхватил Поддонов.
— Судя по маршрутному листу, «Камри» с номером E137AP177rus 15 апреля, в день убийства Туманова, была в пользовании у Сатьянова А. П. В течение всего дня. — Голос Кирилла вернул их на землю.
— Андрей Петрович, наш водитель, — кивнул Николай Васильевич, — я уже ему позвонил. Он сейчас в нижней столовой. Я вас провожу, а то в наших катакомбах немудрено и заблудиться.
Андрей Петрович действительно обедал: на столике «под мрамор», шатко балансирующем на одной ножке, стояла пиала с бульоном, в котором плавала половинка вареного яйца. Инга оглянулась вокруг: и столовая, и меню, и даже дисковый телефон на входе — все было будто из другого времени.
— Андрей Петрович? — Купленов снова раскрыл свою корочку. — Полиция. У нас к вам несколько вопросов.
Сатьянов поднял на Павла небольшие веселые глаза.
— Вот те раз. И каких? — прищурился он. — Отобедать не хотите?
Купленов явно был голоден. Он с тоской посмотрел на пузатые, с серебристым отливом прилавки, поставленные буквой «Г», в которых за стеклом были выставлены салаты и компоты.
— Спасибо, при исполнении. — Кирилл сел за столик к Сатьянову. Инга опустилась на стул рядом. Купленову ничего не оставалось, как тащить себе стул от соседнего стола.
— Если я вам не нужен, я пойду, — сказал Николай Васильевич и остался стоять. Никто не обратил на него внимания.
— Согласно маршрутному листу автомобиль «Тойота Камри» с государственным номером E137AP177rus в минувшую субботу, 15 апреля, находился полностью в вашем распоряжении, — начал Купленов официально, — это так?
— Я вообще обычно на ней езжу, — подтвердил Сатьянов, — а что не так-то?
— Андрей Петрович, где сейчас находится машина? — спросил Архаров.
— На парковке стоит у театра. А что случилось-то? С чего сыр-бор?
— Ключи у вас? — не отвечая на вопрос водителя, продолжал спрашивать Кирилл. — Мы можем на нее взглянуть?
— Взглянуть?
— А что, вам есть что скрывать? — спросил Купленов.
— Ну почему сразу скрывать? — ощетинился Сатьянов. — Автомобиль казенный, мне, может, начальство не велит.
Он говорит медленно и ровно. Гласные раскатывает одинаково глубоко, ставит равные интервалы между словами. Тон спокойный. Отчего же так явно проступает цвет свернувшейся крови — на границе страха и лжи. Как сложно разобраться в присутствии полиции. Совершенно неясно — Сатьянов боится и врет, потому что ему есть что скрывать, или из-за купленовской корочки.
— Андрей Петрович, — вмешался Николай Васильевич, — давайте поможем сотрудникам правоохранительных органов. Окажем содействие, откроем машину. С ней же все в порядке? И все-таки позволю себе поинтересоваться, что же произошло?
— Пройдем к автомобилю, — Кирилл встал, — осмотрим его, а там видно будет.
Черная «Тойота Камри» стояла на парковке театра в ряду казенных машин. Отдраенная до блеска, она сверкала капотом и стеклами на неожиданно жарком апрельском солнце. Инга сняла пиджак, повесила его на сумку, вытащила из футляра темные очки. Она купила их на неделе распродаж в Милане еще в феврале (так недавно, но уже «в прошлой жизни»). Лучи приятно припекали кожу.
— Ну вот, пожалуйста, стоит моя ласточка, — махнул Андрей рукой, — поесть не дали рабочему человеку.
— Салон покажите, — приказал Павел.
Сатьянов послушно открыл двери, Купленов наклонился, осмотрел сиденья и руль. Кирилл провел рукой по капоту машины, присел, рассматривая фары и передний номер.
— Это точно она, — сказал он, обращаясь к Инге. — В автосервисе давно была машина? — повернулся он к водителю.
— Сейчас скажу, — тот стал демонстративно загибать пальцы, — месяцев семь.
— Да нет, не семь. — Кирилл смотрел на него в упор. — Инга, пощупай тут. — Он приложил ее руку к капоту возле лобового стекла. — Чувствуешь?
— Да, — уверенно кивнула Инга. Она ощущала под рукой что-то типа шва — как будто железо сначала выгнули в одну, а потом в другую сторону.
— Это вмятины вытягивали, — сказал Кирилл. — Причем совсем недавно. Тогда же и покрасили. Отсюда глянь. Сейчас свет прямой, видно отчетливо.
Инга наклонилась вбок вслед за Архаровым. По краю капота шла еле видная полоса, отделявшая «новый черный» от «старого черного». Она никогда сама бы не заметила этого, но на ярком солнце и если знать, куда смотреть…
— Теперь присядь, — приказал он ей. Бледный Николай Васильевич и вылезший из салона Купленов наблюдали за их действиями. — Видишь? Номер немного вмят, с цифры семь краска чуть-чуть содрана.
— Вижу.
— Господа, я все-таки прошу прощения, — снова начал Поддонов, — я уже хотел бы настаивать, чтобы вы потрудились объяснить мне ситуацию.
— Эта машина была в ДТП 15 апреля сего года, — Кирилл смотрел в глаза Андрею Сатьянову, — в десять часов вечера в городе Королёве на ней был совершен умышленный наезд на человека. Пострадавший скончался на месте. Машину удалось сфотографировать. На снимке, среди прочего, виден номер. Желаете ознакомиться?
Николай Васильевич беззвучно охнул.
— Да я в десять уже дома спал, как младенец. — Сатья-нов больше не улыбался.
— Погибший имеет отношение к Большому театру? — дрожащим голосом спросил Николай Васильевич.
— Владислав Туманов, — сказал Купленов, — без определенных занятий.
— Не знаю такого, — облегченно выдохнул Поддонов и даже театрально вытер лоб.
— На основании снимка, сделанного на месте аварии, и маршрутного листа, который предоставил нам Николай Васильевич, — Кирилл кивнул на Поддонова, — мы можем задержать вас по подозрению в убийстве, гражданин Сатьянов.
— Да какое, на хрен, убийство? Кто вообще этот Туманов? — Андрей побледнел, отступил назад, посмотрел на начальника, но тут же понял, что тот ему не подмога. Поддонов сдал бы его с потрохами, лишь бы тень не упала на репутацию театра. — У меня алиби есть. Жена! Трое пацанов! Сосед Миханя заходил на футбол! Я с восьми дома точно был, зуб дам.
— Андрей Петрович, — тихо сказала Инга, — кому вы дали машину вчера вечером?
— Да у дома она была… — бормотал он, — да никому я…
— Где вы живете?
— Вторая Владимирская улица, дом три.
— То есть вы утверждаете, что 15-го оставили этот автомобиль у своего дома на Второй Владимирской около восьми часов вечера, после чего неведомый злоумышленник угнал его, проехал пол-Москвы, выехал в область, насмерть сбил гражданина Туманова, затем доставил машину той же ночью с помятым капотом в автосервис, где все мгновенно выправили и покрасили, потом вернул ее вам под окна, ровно на то же место. И с утра вы ничего не заметили, так? — почти нежно спросил Кирилл.
— Утром шестнадцатого на автомобиле были следы взлома? — вдруг рявкнул Купленов.
Сатьянов молчал.
— Андрей Петрович, вы понимаете, что это не только должностное, но и уголовное преступление? — пренеприятнейшим тоном спросил Поддонов. — Вот я смотрю, тут маршрутный лист: согласно этому листу, в 18.30 вы поставили автомобиль на третье парковочное место возле Большого театра, и с тех пор им не пользовались. Теперь вы говорите: у дома.
— А, в жопу! — презрительно сплюнул Андрей Петрович. — Закурить можно? Хрена мне его прикрывать, честное слово! Ну дал я ее Жужлеву на два дня. Тот сказал, ему на дачу что-то там отвезти надо. Старый телевизор, что ли. Выходные же, кому она в театре сдалась. Вмятину на номере я сразу заметил, но спрашивать ничего не стал: мало ли, бордюр, булыжник в траве там, всякое бывает. А капот вообще не заметил. Вы правы, — он хмуро кивнул в сторону Архарова, — перекрашивали его.
— Жужлев? — Кирилл смотрел на Николая Васильевича.
— Знакомая фамилия. — Тот начал суетиться. — Кто-то из рабочих сцены, да? Понимаете, я больше по артистам и педагогам, да и коллектив у нас большой, около двух тысяч.
— Реставраторский цех, — буркнул Сатьянов, затягиваясь. — Художник он, Гена. По декорациям. Неплохой мужик. Хваткий. Закладывает за воротник только много.
Николай Васильевич и тут оказался очень услужлив — предоставил им все данные по Жужлеву, какие только мог: рабочую характеристику, трудовую книжку, домашний адрес, даже копию паспорта с фотографией и информацию о том, что сегодня у него отгул.
Москва к середине дня встала. По переулкам вокруг Большого театра безрезультатно тыр-пырились сотни машин. По Тверской было легче проехать на самокате. Инга жарилась на заднем сиденье вонючей купленовской машины. Она старалась не дергаться, но ничего не могла с собой поделать. Ей казалось, что, пока они теряют время, еле передвигая колеса в этом транспортном коллапсе, Жужлев — единственная ниточка, у которой все шансы оказаться толстым канатом, — прямо в эту минуту собирает чемоданы и уматывает в глушь, в далекие края, в Сибирь, в Австралию, на Марс, туда, где они его никогда не найдут.
Вырвавшись наконец из запруженного машинами центра, они доехали до квартиры реставратора в Черемушках, где им открыла его жена и, недружелюбно оглядев уставшую, но уже притершуюся друг к другу троицу, сквозь зубы процедила, что «Гены нет дома, он тут только ночует, а в это время обычно бухает в мастерской». Они снова уселись в машину, на жаре превратившуюся в духовку, и помчали по адресу мастерской — уже без всякой надежды застать Жужлева там. Инга чувствовала удушье — то ли от жары, то ли от паники.
Все! Ушел!
Но им повезло. Он открыл сам — едкий взгляд за сильными очками, сомкнутые в струну губы. Полиции, казалось, не удивился.
Он абсолютно трезв, несмотря на уверения водителя и жены. Либо они сильно преувеличивают, либо сегодня у Геннадия Викторовича особенный день.
— Чем могу быть полезен? — сухо спросил Жужлев. — Прошу прощения за беспорядок: весь в работе.
Инга огляделась по сторонам. Это было большое мансардное помещение с очень высокими потолками, захламленное и пыльное. Справа — нечто вроде цеха: рубанок, рабочий стол, инструменты на стене. Один к другому стояли холсты, лежали краски, кисти, клей, банки с растворителем, лаком, спиртом, мешки с грунтовкой.
На самом освещенном месте, под велюксовским окном — часть макета: яркая раскрашенная стена с огромной бутафорской баранкой посередине. Инге сразу представилась сцена городской ярмарки в «Петрушке». Рядом до потолка возвышались стеллажи, на которых лежали костюмы, книги, стояли бюсты.
Купленов с Кириллом сели на диван, Жужлев — на стул чуть поодаль, Инга осталась стоять.
Купленов начал с того же вопроса, который он задавал Сатьянову:
— Геннадий Викторович, что вы делали вечером 15 апреля?
Тот пожал плечами:
— Я веду однообразную жизнь. Все время либо на работе, либо дома, либо здесь.
Павел расстегнул портфель, достал из папки фотографию Туманова.
— Вы знакомы с этим человеком?
Жужлев быстро и брезгливо глянул на снимок:
— Нет.
Слишком быстро и с нажимом.
— Ладно, спрошу по-другому, — нудным голосом сказал Купленов, — брали ли вы 15 апреля у водителя Сатьянова служебную машину?
На этот раз Жужлев сделал небольшую, но выдавшую его с головой паузу. Его колебание никак не отразилось на лице, но Инга отчетливо уловила это колебание как сигнал тревоги. Ей показалось, что даже пылинки в густом луче, падавшем из окна, закружились быстрее от напряжения хозяина мастерской. Геннадий Викторович открыл рот, чтобы ответить, а она уже знала, что прозвучит ложь:
— Да, я брал у него машину. «Тойоту», вы про нее? Мы приятельствуем с Андреем. Мне надо было отвезти кое-какие вещи на дачу.
— Странно. Николай Васильевич Поддонов, заведующий хозблоком Большого театра, сообщил нам, что у вас имеется пропуск на служебную парковку для вашего личного автомобиля — «АудиА5».
— Хороший какой автомобиль, — недружественно улыбнулся Купленов, — а для скромного реставратора — так просто отличный!
— Я беру частные заказы, — холодно парировал Жужлев. — Да, своя машина действительно есть. Да, хорошая. И мне жалко использовать ее для перевозки барахла на дачу. Что-то не так?
— Геннадий Викторович, — Кирилл тоже сделал паузу, но его пауза была уверенная и емкая. — Эта «Тойота» вечером 15 апреля насмерть сбила человека в городе Королеве. Владислава Туманова, которого вы видели на фотографии.
— Не может быть. — Жужлев и бровью не повел. — Вы что-то путаете, — он сделал движение, словно собираясь встать со стула, но тут же удержал себя и остался сидеть. — Я был на даче. Машина стояла в гараже.
— Кто-нибудь может это подтвердить?
— Я был один.
— Это очень плохо. — Кирилл покачал головой, притворно расстраиваясь. Купленов улыбался. — Потому что мы свои слова подтвердить можем. Люди, выходившие из дома-музея, сделали фотографию, на которую попала машина, ее номер и вы, Геннадий Викторович, за рулем. Снимок был сделан за несколько секунд до наезда.
Инге страшно захотелось повернуться и посмотреть, как выглядит лицо блефующего сотрудника полиции. Но она сдержалась и затаила дыхание, тем более что Купленов по-медвежьи ухнул и зашебуршал на диване, безбожно выдавая их всех. Однако Геннадий Викторович ничего этого не заметил.
Он встал и зашагал по свободному пятачку мастерской.
— Могу я посмотреть на фотографию? — поинтересовался он.
— Можете. В отделении, куда мы сейчас и проследуем, — сказал Архаров.
Жужлев остановился у окна и стал внимательно изучать пятно краски на давно не мытом стекле.
— Я… в общем, я был немного нетрезв. И эта дорога… там парк, что ли, она очень темная, практически нет фонарей. Кто-то выскочил мне под колеса. Я думал, это большая собака, не стал останавливаться.
— Вы утверждаете, что спутали собаку с человеком? — скептически уточнил Кирилл.
— Да я вообще не видел, что там попалось, — возмутился Жужлев, — утром только глянул: капот помят. Ну съездил в сервис, покрасил его, чтобы Сатьянову не влетело.
Острая внезапная боль пронзила ее, словно в висок вошла игла, дотронулась до мозга.
Опять!
Оглушающий шум, глаза заволокло багряной пеленой. Тяжесть абсолютной беспомощности. Сквозь пелену она слышала монотонный бубнеж Купленова:
— …ввиду обстоятельств…выяснившихся фактов… вы проследуете сейчас с нами для дальнейших…
Она встала, но от резкого движения вверх потеряла равновесие. Крепко схватилась за стеллаж.
Только бы не упасть!
Нащупала корешок какой-то книги, еле заметно погладила его пальцем.
— Все в порядке? — услышала она голос Архарова позади себя.
— Сейчас пройдет. — Она смотрела в сторону невидящими глазами, и оттого ее натужная улыбка выглядела нелепой. — Выйдем покурить.
Какой сильный страх исходит от Жужлева! Он ослепляет, будто я сама его испытываю!
— По крайней мере, не зря парились в купленовской душегубке. В Большой опять же сходили, прикоснулись к высокому, а потом ррраз — и раскрыли смертельное ДТП. — Они топталсь на лестничной клетке. — Пусть теперь Купленов закрепляет непредумышленное. Эй, ты чего?
— Кирилл, — Инга схватила Кирилла за рукав и начала трясти его — с каждым словом все сильнее. — Все не так! Совсем не так! Я уверена!
— Ты мне сейчас руку оторвешь!
— Это предумышленно. У него был мотив. Надо добыть ордер на обыск в мастерской. Я чувствую — «Парад» должен быть тут.
Глава 16
Карлу снилось, будто бы его глаз — это разбитое яйцо. Оно шкворчит и жарится в глазнице, потому что голова — огромная сковорода, вок, раскаленный до предела. Даже во сне он хотел есть.
Он застонал, чуть приоткрыв веки. Солнце кувалдой било в лицо из незашторенных окон. Карл сел, дотянулся до телефона, нажал на его единственную круглую кнопку, глянул одним глазом: 14:27.
Сколько раз он говорил друзьям, что слезет. Сколько раз обещал себе не ночевать в мастерской. Он глотнул из стоявшей на полу чашки жижу вчерашнего кофе и скривился. Во рту было противно ровно настолько, насколько он был противен сам себе. Здесь не было даже душа — только унитаз да раковина в углу — а в окна резала нещадная жара. Карл чувствовал себя липким и жирным, в волосах застряли комья грязи — а может, это был гон? Он попробовал их потрогать, но брезгливо отдернул руки, вытер их о простыню. Где эта синяя тощая морда, которую ему все обещали, когда он подсел на мет? Наркотики не помогли ему даже похудеть — двадцать лишних килограмм как были при нем, так и остались. Впрочем, он не помнил, когда взвешивался в последний раз, — может быть, уже и все двадцать пять.
Жрать хотелось сильнее, чем мыться, но он заставил себя собрать стаканчики, бутылки, пустые коробки от пиццы и китайской лапши в огромный пластиковый пакет. Раз оказался здесь с утра, так почему не убраться? — бодро думал он. Это ведь мысли человека с правилами, человека, который заботится о себе, правда?
Под паркетиной в углу была заначка: четыре дозы; но иногда ему хотелось делать вид хотя бы перед самим собой, что он сидит некрепко, что метамфетамин — это типа курева. «Сегодня не буду!» — решил Карл и остановился с пакетом в руках возле холста. Он, как это часто с ним бывало, совершенно не помнил, что писал накануне. Рыжая девушка — голова, руки и ноги отдельно от тела, как недособранная кукла, — была распята на поверхности воды. Волосы заполняли ее, как свет, в левом зрачке была начата и не дописана миниатюра: пустые водоросли растений, чьи-то руки, младенческая пятка. Карл стоял не двигаясь, слушая, как внутри, будто ежедневный реквием, включается головная боль, заполнявшая его существование тоскливым, невыносимым, привычным омерзением. Заложенные картонкой паркетины в углу стали выпуклыми, манили обещанием сладостного освобождения.
В дверь постучали.
Карла ударило яростью. Кипя, он прошагал к двери, приготовившись орать: «Если ты от матери, то…» На пороге оказался седовласый господин в темно-синем деловом костюме. Если и было на свете существо, полностью, в каждой детали противоположное Карлу, то оно стояло в этот момент перед ним.
— Мистер Карл Лурье? — невозмутимо спросил мужчина. Карл кивнул.
— Герхард Дигель, адвокат. — Мужчина протянул Карлу визитную карточку с золотым тиснением и шагнул внутрь.
Мастерская стала еще незавиднее с его приходом. Карл смотрел на свое обиталище безнадежно трезвыми чужими глазами: исчерченный резиновой обувью когда-то белый пол, замызганные стены — они были грязными до половины, будто помещение мастерской было сначала огромной раковиной, в которой долго стояла мыльная вода, а потом потихоньку ушла. Пустота — только краски да холсты. Тряпье в углу, под ним даже не видно матраса. Одинокая табуретка в брызгах и пятнах — она тоже когда-то была белой.
— Зеебург — престижный район Амстердама, — гость прошелся через всю мастерскую к окну, — не каждый может себе позволить снимать здесь помещение. Прекрасный вид.
Карл давно не смотрел в окна. Вид действительно был прекрасным: вода, ряд невысоких современных домов — будто накиданные гигантским ребенком кубики. Он и выбрал эту мастерскую в свое время из-за вида, но очень быстро про него забыл.
— У меня нет недостатка в средствах, — буркнул он, разглядывая разводы грязи на стекле.
— Выставляетесь? — не оборачиваясь, спросил Герхард. — Прекрасный холст.
— Что вам нужно? — Ярость, сбитая внезапным появлением незнакомца, снова набирала градусы.
Дигель оторвал взгляд от семейства уток, совершавшего дневной променад по каналу.
— С другой стороны, райончик-то на отшибе, — он взглянул на Карла, — уединенность прекрасна для художника, но в то же время и опасна — вдруг что-то случится? Внезапное нападение, взлом? Тут кричи не кричи — асфальт да бетон. Страховка, надеюсь, у вас есть?
Карл молчал. Он был голоден уже почти до обморока и не мог сообразить — этот расфуфыренный селезень что, угрожает ему?
— Я представляю интересы господина Отто фон Майера, — сказал Дигель и, не обращая внимания на блуждающий взгляд Карла, продолжал: — 19 апреля вы сняли картину, принадлежащую вам, с аукциона «Шелди’с» в Лондоне, заплатив существенную неустойку.
— Слушайте, как вас там, — вяло ответил Карл, — я голоден, я паршиво провел ночь, я хочу выспаться и привести себя в порядок, а вам пора выметаться из моей мастерской и перестать мурыжить меня своими идиотскими вопросами.
— Понимаете, в чем дело, — Герхард легко пересек помещение, чтобы закрыть входную дверь, — мой клиент уже купил вашу картину на аукционе 17 апреля, но лондонский ураган вывел из строя системы обеспечения «Шелди’с», и торги были признаны недействительными. Господин Майер очень заинтересован в вашей «Бессоннице» и готов выкупить ее у вас напрямую, покрыв неустойку, которую вы уплатили аукциону. 450 000 долларов плюс 20 000 — сумма вполне приличная.
Карл знал, что, если сейчас рассмеется, мигрень превратится в жужжащий рой металлических пчел, которые облепят голову и будут изуверски жрать его, требуя только одного — спасительной дозы мета. Но он не смог сдержаться: горло с непривычки издало скрипучие звуки, будто ветер качнул заржавевшие качели, — Карл Лурье давно не смеялся.
— Вы считаете меня полным ослом, да? — зажмурившись от боли, спросил он. — У нее стартовая цена была $500 000. Уходите из моего дома, я никогда и не собирался ее продавать. Ну?
Он готов был оттолкнуть этого идеально вычищенного, закупоренного в дорогой парфюм господина, но тот сам отстранился, опасаясь запачкаться. Поэтому Карл ограничился тем, что на манер фрисби запустил в него его же визиткой и вышел из мастерской.
На улице солнце придавило Карла к тротуару. «Я как муравей, попавший под ноготь», — подумал Лурье и зашаркал к центральной станции. В заднем кармане джинсов были кредитки — он перекусит кебабом или сэндвичем, отправится домой. Там примет лошадиную дозу обезболивающих и проспит дня два.
Дигель без труда догнал его.
— Вы не закрыли мастерскую, — сказал он, протягивая Карлу ключ. — Он был в двери, так что я сделал это за вас.
Карл засунул ключ в карман, машинально буркнув благодарность.
— Мистер Лурье, посмотрите на себя, — укоризненно продолжал Герхард, — вам всего тридцать шесть, а вы еле передвигаете ноги. Средства, которые предлагает мой клиент…
Карл хотел прибавить шагу, что было непросто: болела каждая клеточка тела. Голова, этот вечно трезвонящий колокол, будто заражала своим болезненным ядом руки, ноги, спину и живот. От голода и быстрого движения начинало тошнить.
— …мы можем поднять цену, мой клиент человек очень состоятельный, назовите сумму, ради которой вы готовы расстаться с «Бессонницей»…
Солнце как будто бы пищало: «пиииииии» — мерзкий звук стоматологического аппарата; воздух был плотным, как желе, идти сквозь него было трудно, дышать — нечем.
— …я, конечно, слышал, что художник Карл Лурье имеет целый букет вредных привычек, но должен вам сказать, что слухи…
Карл вошел в здание главного вокзала. Какофония звуков обрушилась на его истерзанные уши: стук маленьких противных колесиков сотен чемоданов, каблуки, фырканье кофе-машин, гомон, гвалт, позвякивание и рокот.
— Кофе и сэндвич с ветчиной, кетчуп и майонез, побольше. — Он сунул карточку кассиру первого попавшегося фастфуда.
Герхард кружил над ним гигантским темно-синим оводом и не собирался отставать:
— …ваша мать была бы очень довольна, если бы такие средства…
— Вы мне еще прабабку вспомните! — Первый глоток горячего кофе, первый кусок хлеба, пропитанного вонючим химическим соусом, — жизнь налаживалась.
— Мистер Отто фон Майер является большим поклонником Сары Бернар, — улыбнулся адвокат, — «Бессонница» крайне важна для его коллекции…
Карл прожевал бутерброд, смял целлофановую обертку и щелчком пульнул ее Дигелю в грудь:
— Слушай сюда, продажная синяя мышь. Знаю я все про твоего клиента-шваба и его коллекцию. Сару Бернар он любит! Да дармовщинку он любит и всякие махинации. Я уже сказал тебе, повторю еще: «Бессонницу» я не продам. Передумал. Понял? У меня сегодня дерьмовый день, но ты сделал его в сотни раз дерьмовее. Короче, так и передай своему высокородному фон-клиенту: уплыла от него картина. Пусть больше ко мне своих крыс не подсылает.
Приезжая в Амстердам, Дигель всегда селился в Риверенбуурте — ему нравился этот тихий район, сочетавший в себе остроугольные высотки и пожилые, обросшие плющом кирпичные домики с узкими квартирами, окна которых выходили во внутренние дворы размером с лифтовую шахту.
Он знал, что Риверенбуурт был построен в те годы, когда в Голландию стали прибывать немецкие евреи, спасающиеся от нацистов. Они селились именно здесь — впрочем, задержаться надолго им было не суждено. Именно здесь жила семья Анны Франк до того, как обстоятельства вынудили их спрятаться в помещении отцовской фирмы — знаменитом доме на Принсенграхт.
Дигель любил Амстердам за многолюдность, за воду, за велосипеды, за дух свободы — от предрассудков, дресс-кодов, диет и распорядка дня. И даже паршивец Карл Лурье, испачкавший в первый день его костюм майонезом с кетчупом, ему нравился.
Небольшие апартаменты, снятые Герхардом, освещались с улицы мягким светом желтого фонаря. Они были двухъярусными: снизу располагалась гостиная и кухня — белые чехлы на мебели, некрашеное дерево, наверх вела лестница — там была спальня.
Он мог бы поужинать в городе, за маленьким столиком прямо на берегу канала — смотреть на разноцветную воду, на лодки, снующие под мостами-перекрестками, на фасады домов, становившихся совсем игрушечными в темноте, слушать, о чем ссорятся туристы за соседними столиками. Но ему нужно было позвонить Майеру, а это всегда требовало определенного напряжения.
Он знал, что Майер будет наступать со всех сторон, и заранее обложился аргументами: да, предлагал повысить цену, угрожал, встречался с друзьями и матерью, пытался действовать через знакомых. Сегодня утром родственники Лурье поместили художника в рехаб, тем самым поставив крест на попытках Дигеля переговорить с Карлом еще раз.
Но об одной вещи Дигель был намерен молчать. Карл Лурье, наркоман со стажем более десяти лет, невменяемый и готовый продать родную мать за дозу мета, действовал не сам по себе, а был орудием в чужих руках, исполнителем чьего-то непредсказуемого плана. И появление «Бессонницы» на аукционе «Шелди’с», а затем ее внезапное исчезновение с торгов — это тоже была часть плана неведомого и зловещего гения, руководившего всеми поступками Лурье.
В окна затарабанил дождь, сбивая дневную жару. Сложно было представить, что кто-то задумал и тщательно подготовил такую изощренную месть Майеру. Хотя… Если бы сейчас, подумал Дигель, он встретил этого человека, то, наверное, пожал бы ему руку.
Майеры были клиентами его отца с 30-х годов и приносили основной доход адвокатской конторе «Дигель и партнеры» во Франкфурте. Незадолго до смерти отец передал Герхарду юридическую практику, вместе с ней ему достался и Отто. Тот тоже продолжал семейное дело — хранил собрание произведений искусства, редких книг и драгоценностей. Откуда возникла эта коллекция, Герхарду задумываться было недосуг, в его обязанности такое не входило. По прошествии времени Отто решил, что пора пополнять фонд. Он стал чаще обращаться за помощью к адвокату. Поначалу все было строго в пределах правил — Герхард следил за тем, чтобы соблюдались законы. Но когда интересы Отто перешагнули границы Германии, Дигель впервые забеспокоился. Отто зачитывал ему фрагменты писем из России — впрочем, никогда целиком, несколько раз просил заверить переводы. И когда Герхард как-то раз сказал, что ему не нравится, как ведут дела эти неведомые люди в Москве, Отто сухо отрезал:
— Это не наши проблемы. Мы не должны нарушать законы своей страны. И вы обязаны следить за этим. Только за этим.
С этого момента работа на Майера-младшего стала для Дигеля тяжкой повинностью, и только обязательства, опрометчиво данные его отцом, удерживали сына от того, чтобы разорвать отношения с Отто раз и навсегда. Поговаривали, что людьми, которым было за что мстить Майерам, можно было бы без труда набить «Титаник». Да, это были слухи, истоки которых уходили в 30-е и 40-е годы XX века. Если бы Дигеля спросили под присягой, что он знает об этом, он ответил бы «ничего». Но если бы спросили, верит ли он в то, что Майеры — благопристойная и законопослушная семья… ответ был бы совсем другой. Но его никто не спрашивал.
Недавно до Герхарда стали доходить нехорошие слухи о прошлых темных делах Рудольфа фон Майера, очень темных. Они выходили далеко за границы махинаций с предметами искусства, вообще за границы всех нравственных норм. И хотя прямых доказательств у него не было, для Дигеля это стало последней каплей. Дело касалось самого чувствительного вопроса для него и людей его поколения — вопроса совести и исторической ответственности.
Дигель принял решение уйти от Майера. Он понимал, что это грозит ему большими убытками. Знал наверняка, что Отто этого так не оставит и сделает все, чтобы нанести непоправимый урон репутации его конторы — делу его жизни, его семьи. Но Герхард не мог поступить иначе.
— Делай, что должен. И будь что будет! — сказал он вслух, будто поставив точку в важном документе. И вдруг ощутил легкость невероятной свободы.
Поговорив с Герхардом, Отто долго сидел на скамейке в саду, наблюдая, как удлиняются и становятся хищными в темноте тени от деревьев. Отто знал, что Герхард был дотошным юристом, и если ему не удалось уговорить Лурье продать «Бессонницу» — значит, не удастся никому. Придурок Карл внезапно изменил решение, как это может сделать только настоящий сумасшедший или судьба. Почему-то Отто не был удивлен. Вернувшись домой после лондонской больницы, он первым делом выяснил, почему на торгах 19 апреля случилась эта чудовищная накладка. Карл Лурье, наследник Бернар и собственник картины, снял ее с аукциона 18 апреля, уплатив неустойку в 20 000 долларов. Это как сильно надо было передумать, чтобы, будучи нищим художником-неудачником, выложить двадцать тысяч за каприз! Но к черту мистику, рациональный ум подсказывал, что у Лурье появились другие планы на «Бессонницу». Несомненно, покупатель, предложивший более высокую цену, чем тот мог выручить на «Шелди’с». Кто он? Все тот же безжалостный аналитический ум говорил ему: кто бы он ни был, этот человек, несомненно, знает о триптихе.
— Ты почему не идешь в дом? — К нему по траве неслышно подошла Клара. В руках она держала плед.
Отто не повернул головы:
— Я еще побуду здесь. Тут так хорошо.
Клара проницательно сузила глаза:
— Ты говорил с Герхардом? Плохие новости?
Он еле заметно кивнул. Клара вздохнула: это дело с самого начала казалось ей не таким простым, каким видел его муж. Она молча укрыла колени Отто пледом и ушла в дом.
Да. Герхард не справился, Карл уперся так же, как этот русский Профессор. Надо думать, что делать дальше.
Глава 17
Каждый раз, подходя к дому Александры Николаевны, Инга чувствовала тревогу. Объяснимую, понятную, но от того не менее жестокую.
Что я буду делать, если она однажды не откроет мне дверь?
Страх не желал утихать, несмотря на то что перед каждым своим приездом Инга звонила. И так же, с нарастающей тревогой, слушала длинные гудки сначала стационарного телефона, потом мобильного. Сегодня пришлось звонить несколько раз.
— Да, да, конечно, приезжай, милая, я у Нинон. Ох, лучше бы не проводили этот Интернет. Мы сейчас с ней читали дневники Сатликова, ну ты знаешь его, артист. Так у меня чуть сердце не выскочило от возмущения. Что он пишет про Любу, про Гришу, про Сашу. А было не так, категорически не так. Приезжай.
Ну вот, они там светские сплетни обсуждают, а я тут с ума схожу.
Александра Николаевна была необычайно оживлена. Дом преобразился: сияли стекла и зеркала, на столе появилась новая скатерть. Инга так и ахнула.
— Вы мыли окна? С вашими руками, да еще в такой холод?
— Что ты, деточка, это мне Нинон помогла. А по дому я еще сама могу, ты меня не списывай раньше времени. Вот только… — Александра Николаевна покачала головой и показала взглядом на хрустальную люстру, подвески которой были покрыты плотным слоем пыли.
— Ясно, — кивнула Инга.
Хожу в гости уже лет пять, а люстру помыть не догадалась. Дальше своего носа не вижу.
Инга вооружилась тряпкой, моющими средствами, набрала ведерко воды. Подтащила стол под люстру, сложила новую скатерть, залезла. Стол шатался, а ведерко осталось стоять на полу. Пришлось спуститься.
— Дубль два. — Александра Николаевна изобразила хлопушку.
— Александра Николаевна! — с верхотуры позвала Инга. — Дайте, пожалуйста, бумажные полотенца… Апчхи!
— Будь здорова!
— Спасибо! — Инга начала протирать подвески. — А чего это вы затеяли красоту наводить? Просто так? Ой, черт!
— Что случилось, Инночка?
— Порезалась о какую-то железяку. У вас пластырь найдется? — Инга сунула палец в рот.
— Сейчас посмотрю в аптечке, где-то был. — Александра Николаевна заторопилась в ванную. — Держи, — протянула Инге серый, с налипшими пылинками моток лейкопластыря. — Вот ножницы, отрежь сколько надо.
Капец маникюру.
— Давненько я люстры-то не мыла. — Инга справилась с пластырем. — Апчхи!
— Будь здорова! Ты не простыла?
— Это от пыли. Я в порядке.
— Мне, Инночка, звонил один молодой человек. — Она замялась.
— Молодой человек? — удивилась Инга. — Ай! — На ковер упала подвеска. — Не разбилась?
— Целая! — Александра Николаевна подала ей отмытое стеклянное перышко. — Ну это для меня он молодой, а для тебя, небось, старик, — рассмеялась. — Хочет взять у меня интервью. Можешь представить? Некто Агеев Игорь Дмитриевич, не знаешь такого?
Молодец Агеев! Не подвел!
— Это же здорово! Вы согласились?
— Не смогла ему отказать, ты знаешь, он был такой обходительный!
Александра Николаевна подошла к секретеру, машинально погладила его медные ручки, словно пытаясь что-то припомнить. Она подняла глаза к потолку, губы сложились в полуулыбку. В этот момент она была строга и красива, черты лица ее смягчились, и она стала похожа на флорентийскую гипсовую статуэтку.
— Вы как будто чем-то расстроены. — Инга, кряхтя, слезла со стола. — У вас лампочки запасные есть?
— Да, посмотри в прихожей, на полке.
— Эти?
— Наверное, я не разбираюсь в лампочках, милая. Понимаешь, согласиться-то я согласилась, а вот теперь думаю, может, зря?
— Почему же? — Инга ввернула новые лампочки, повернула выключатель. — Ну-ка!
Из-под потолка фонтаном брызнули кристально-чистые потоки света. Комната приобрела совершенно другой вид — даже потертая полировка засверкала как новая.
— Версаль. Просто Версаль, — довольно протянула Александра Николаевна. — Ну о чем я буду ему рассказывать?
— О себе. О профессии. О вашей жизни. Сейчас столько вранья вокруг, что это просто ваш долг — рассказать правду. Агеева я знаю. Работает на новостной портал, я вам потом покажу, Интернет, слава богу, теперь у вас есть. Толковый талантливый журналист. Очень популярен в Сети.
— Думаешь, стоит? — Александра Николаевна все еще сомневалась.
— Конечно! — Инга обняла старушку. — А я принесу вам жемчужное ожерелье, будете неотразимы! Вам совершенно не о чем беспокоиться.
Этот невыносимый звук! Инга с трудом подняла голову, телефон лягушкой выскользнул из рук, свалился на пол. Голова упала на подушку. Но телефон снова ожил — его трели впивались в мозг и крутили внутри спирали.
— Ну, блин! — Инга нашарила его на полу, увидела время на дисплее — 8:25, простонала в трубку: — Ну кто?
— Ия рада тебя слышать, — бодрый голос Холодивкер. — Спишь, что ли?
— Нет, черт возьми, хулахуп кручу!
— А, это ты молодец, у меня силы воли не хватает, вот и таскаю на себе пару лишних килограмм.
— Пару? — отомстила Инга.
— Ха. — Женя была неуязвима. — Пару десятков. Когда сможешь приехать?
— Случилось что? — Инга села в постели. В такую рань Холодивкер звонила не просто так.
— Соскучилась. — Было слышно, как Женя затянулась сигаретой. — Подваливай, как сможешь. Тут у нас клиент интересный нарисовался. Тебе понравится.
Контрастный душ, пара чашек крепчайшего кофе, джинсы, майка, куртка. В шкафу рядом с кроссовками стояли скучающие лаковые туфли телесного цвета на высоченном каблуке. Инга с удовольствием пнула их. Туфли завалились, бесстыдно обнажив красное исподнее.
У подъезда стоял Костик, ждал Ингу.
— Спасибо, что нашел для меня окошко.
— Заказов не было в такую рань. — Костик зевнул. — Аты, Инга Александровна, кардинально имидж-то поменяла. Едва признал.
— Привыкай. — Инга села в машину. — Давай ты сегодня на меня поработаешь, а? Подозреваю, дел будет по горло.
— Мне-то что, — проворчал Костик. — Для тебя хоть в кредит по старой дружбе.
— Не переживай. — Инга хлопнула его по плечу. — Жизнь бьет ключом. Поехали. Для начала — в морг.
— Куда!!?
Женя стояла на крыльце, курила. Она и сейчас, в нежном свете утра, выглядела мрачновато. Инга поймала себя на том, что рада ее видеть.
— Слушай, — вместо приветствия сказала она Холодивкер. — У меня такое впечатление, что мы с тобой не только лет сто знакомы, но, по крайней мере, последние лет пятьдесят — лучшие подруги. Любого другого за звонок в 8:25 я б убила.
— Та же фигня, — кивнула Женя. — Закуривай.
— Надо как-нибудь встретиться в более приятном месте. Что думаешь? Закажем охлажденного белого, устриц, — сказала Инга мечтательно.
— И пожирая их, мы будем вылитые морж и плотник из «Алисы», — Холодивкер захохотала. — И скажи еще, что я не угадала твои мысли.
— Угадала! — засмеялась Инга. — Ты чего меня подняла-то ни свет ни заря?
— Волохов Александр Витальевич, — Женя щелкнула окурком в урну и сразу стала серьезной, как по щелчку, — погиб от смертельной инъекции, помнишь? — она поежилась. — Пойдем внутрь, холодно.
Они прошли к Жене в кабинет.
— Кофе будешь? — Холодивкер плеснула в две чашки коричневой жижи. — Без корицы, конечно, зато горячий.
Она махнула кофе, покопалась в столе, достала лист бумаги.
— А теперь послушай. «Подгорецкий Виктор Борисович, 1931 года рождения…»
— О господи! А с ним что не так?
— Ты и его знала, что ли?
Инга вырвала бумагу из рук удивленной Жени, стала читать:
— «…31 года рождения. Кости свода черепа…»
— Сюда смотри. — Женя ткнула пальцем в бумагу.
— «На затылочной части головы обнаружен след от инъекции…» — Инга подняла на Женю глаза. — Это что значит?
— Судя по всему, препарат тот же. — Женя забрала у Инги заключение. — Я чего и полезла шею смотреть. Если бы не случай с Волоховым, ни за что бы не догадалась. А тут меня как торкнуло! Взяла фонарик и давай каждый миллиметр изучать. И бинго! Практически на том же месте.
— То есть и Волохова, — Инга уставилась на Женю, — и его…
— Почерк, орудие убийства — те же. — Холодивкер подняла одну бровь. — Осталась совсем фигня — найти этого исполнителя-виртуоза и спросить, на хрена он это делает.
В комнату заглянул Боря.
— Жень, тебя там всадница без головы на столе дожидается, забыла, что ли? — бодро сообщил он.
— Иду. — Холодивкер поднялась. — Проводишь? Договорим по дороге. Кстати, тоже любопытная история. — Она притормозила у открытой двери в прозекторскую, автоматическим движением заправляя волосы в шапочку. — Пробы на большую химию по Подгорецкому сдала. Но сюрпризов не жду.
— У меня с ним интервью… — Инга осеклась.
На металлическом столе лежала женщина, прикрытая по грудь простыней. Ткань у края стола чуть сползла, обнажив до плеча тонкую восковую руку с аккуратным маникюром, от чего все тело казалось бесстыдно голым. Зрение сжалось в тесный тоннель, как будто глаза смотрели в глубину голубоватого прозекторского зала через окошечко объектива, пытаясь навести фокус на лицо трупа. Лица не было. Только неровное красное пятно, белые шары глазных яблок и широкая кривая полоса зубов, там, где должен быть рот.
— Что это? — прошептала Инга.
— Сегодня ночью привезли. Нашли на помойке в каких-то лохмотьях, типа, бомж. Ау нее одних зубов на пол-лимона. Ни документов, ни водительских прав, ни мобильника, ничего. Кто, что, вообще без понятия. — Женя увлеклась и не замечала, как посерела Инга. — Это-то ладно. Тут, видишь, другая фишка. Ей лицо срезали. Бритвой. А в пищеводе нашли маленький игральный кубик, на нем почти все грани сточены, видимо напильником, а… Эй, что с тобой? — Холодивкер подхватила Ингу. — Ох ты ж боже мой, давай не отъезжай так сразу! — ив сторону: — Боря! Нашатырь тащи!
— Рука. — Инга показала на труп.
На восковом предплечье, свернувшись в причудливый узел-узор, застыла готовая к броску желто-коричневая, с ожерельем бордовых пятен змея.
— Нуда, характерная татушка, если повезет, то это наш, то есть ее паспорт.
— Не надо паспорт. — Инга подняла глаза на Женю. — Это Лариса Францевна Феоктистова. Мы вместе в журнале работали.
Глава 18
Кирилл раскачивался на стуле, листая тонкую канцелярскую папку. Они с Ингой сидели вдвоем в служебном кабинете лейтенанта.
— Неужели ничего нельзя сделать? — Инга не хотела верить, что уперлась в очередной тупик.
— Пока Рыльчин вылизывает начальство, я тебе кое-что покажу, — сказал он, Инга вместе со стулом придвинулась ближе. — Все равно ты по уши в этом деле.
Она кивнула. Он протянул ей папку.
— Полюбуйся. Купленов наработал. Вот и помогай после этого людям. — Кирилл вынул два листка. — Это заявление Жужлева, читай. А потом — еще вот это.
На стене тихо щелкали круглые часы, передвигая секундную стрелку. Пока Инга читала, Кирилл включил лампу, она, треща и мигая, залила казенное пространство мертвым светом. Было всего три часа дня, но с самого утра лил дождь, по дорогам текли мутные ручьи, деревья опустили ветки к самой земле, и казалось, что ни солнце, ни тепло больше никогда не вернутся в этот город.
— Кирилл, — окликнула Инга. — Но как же так? Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте?
— А вот так. Завтра Жужлева выпускают. А что? — Он начал загибать пальцы. — Явился с повинной, вину признал, со следствием сотрудничает. Доказать умышленный наезд невозможно, а родственники потерпевшего не имеют претензий.
— Ни хрена себе не имеют! — Инга взорвалась. — Его убили!
— Не ори, ради бога, Рыльчина накличешь, тогда конец нашим беседам. — Кирилл встал, потянулся, выглянул в коридор, плотно закрыл дверь, сел. — Мотива нет, характеристика с места работы — просто ангел и, прости господи, ударник художественного труда. Ну пьет… значит, переживает о несовершенстве мира. Да и кто теперь не пьет? Это скорее ему в плюс. А у вас что? Дело было ночью, а вы, поди, еще и сами за ворот заложили.
— Да при чем тут заложили, не заложили? Мы, когда у этого Жужлева были, я почувствовала… — Инга запнулась. — Во-первых, тебе не показалось странным, что он как-то слишком быстро во всем признался? А во-вторых, он врал и боялся, страшно боялся, причем не вас — не полиции. Доказать я этого не могу, но знаю наверняка.
— Во-первых, — в тон ей сказал Кирилл, — да, показалось. Как будто это была заготовка. А во-вторых, открою тебе главную тайну. В уголовно-процессуальном кодексе понятия «озарение свыше» нету! Или ты предлагаешь с этим твоим «знаю наверняка» ехать в ОВД Королёва?
— А родители Туманова! Они что, позволят спустить убийство сына на тормозах?
— Ты их видела?
Инга помотала головой. Кирилл продолжал:
— А я видел. Приезжала мать из Новокузнецка. С трудом достала денег на билет до Москвы в одну сторону. У нее на лице такое выражение, знаешь, как у смертельно замученного человека — лишь бы это все поскорее кончилось. Подписала примирение сторон, видимо, ей заплатили. Сколько — даже не важно, она сына потеряла, что тут деньги считать. А вот кто — этого мы, боюсь, не узнаем.
— Ты нарочно выводишь меня из себя? — Инга вскочила со стула и встала напротив Кирилла. — У нас три трупа, если помнишь! И все связаны между собой. Подгорецкий, Волохов и Туманов…
— И все три — не криминальные, заметь! Официально, по крайней мере!
От бессилия Инга стукнула кулаками по столу.
— Ты-то хоть мне веришь?
— Да верю я тебе, успокойся. И Холодильнику верю. Ей больше, чем тебе, понятное дело, извини. Только вот сделать ничего не могу. — Кирилл включил электрический чайник. — Будешь? — показал на банку растворимого кофе.
— И что? — прошипела Инга. — Теперь кофе, сигарета — и ауфвидерзеен? Вот мужики…
— Нет, еще потанцуем. — Кирилл прищурился, но, увидев выражение лица Инги, тут же посуровел, начал злиться. — Может, мне с одиночным пикетом перед отделением в Королёве постоять? Парадку надеть? «Нет произволу и коррупции в правоохранительных органах!»
— Не, это просто цирк! У вас в КПЗ годами ни за что сидят. А тут! — Инга вскочила с места. — Единственный подозреваемый!
— Ты пойми, — Кирилл пытался ее утихомирить. — Окончательное решение принимает суд по совокупности обстоятельств. В сторону смягчения работает явка с повинной, отсутствие криминального прошлого, примирение сторон, выплата компенсации, — все это делается до начала суда. Да, скрылся с места ДТП. Но наезд был, как записано в деле, непредумышленный. Совершен в темноте, на дороге, где нет обочины для пешеходов…
— Ну и сиди здесь! — Инга схватила плащ. — Я тогда сама!
— Что сама? — Кирилл встал спиной к входной двери, загораживая ей проход.
— Сама во всем разберусь. Дай пройти!
— Ну и куда ты собралась? — Кирилл примирительно вздохнул.
— Для начала попробую попасть в мастерскую. Будешь потом локти грызть, когда я сама серийного убийцу поймаю.
— Граждане взломщики, вас приветствует Статья 139 УК Российской Федерации! — прогнусавил Кирилл. — Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.
— Главное, что лицо сидит в кутузке, и «в жилище» его точно не будет. Ну? Пройти дашь?
— О господи! Вот свалилась на мою голову! Ты чем дверь собралась открывать, громила с Нижнего Тагила?
Чертыхнувшись, Кирилл надел куртку, прошел к столу и открыл сейф. Вытащил старый чехол и сунул его во внутренний карман. Все это время Инга нетерпеливо топталась У двери.
— И нечего улыбаться, — буркнул Кирилл. — Толкаешь меня на должностное преступление.
Открыть мастерскую оказалось непросто. Прошло минут двадцать, а Кирилл все возился с дверью. Отмычки, что он достал из чехла, были хороши, но и засовы подбирал не халтурщик.
Внизу лязгнул лифт. Инга вздрогнула, Кирилл замер, затем медленно потянул свои хитрые железки из личинки замка. Этажом ниже что-то звонко брякнулось на пол, раздалось приглушенное «твою мать», скрежет ключа в замке, хлопок — входная дверь закрылась. Опять стало тихо.
— Ну скоро уже? — прошептала Инга.
— Как будто не мастерская, а банковское хранилище. — Кирилл подтолкнул крючочком невидимые сувальды в замке, аккуратно дернул, раздался щелчок. — Один-ноль.
Дверь распахнулась.
— Первый уровень прошли. — Инга так резко рванула вперед, что Кирилл вынужден был схватить ее за пояс брюк.
— Значит, так. — Он держал ее как нашкодившего щенка. — Главное: не наследить. Поняла? — Он протянул ей тонкие резиновые перчатки. — Теперь заходим.
С их последнего визита в мастерской ничего не изменилось. Бардак тот же. Только запахи усилились — краска, клей, ацетон, перегар — помещение никто не проветривал. Начали планомерно обходить комнату.
— Давай условимся, — нарушил молчание Кирилл. — Ничего не находим — ты бросаешь это дело.
Еще чего!
Она сосредоточенно осматривала каждый предмет, боясь упустить какую-нибудь ключевую деталь, важный знак, пустяк, который подскажет, куда двигаться дальше. Она почти умоляла этих неодушевленных свидетелей: скажи мне, скажи, предай своего хозяина!
Книг совсем немного, в основном профессиональные. Кроме нескольких: толстенные воспоминания Бенуа, куби-стический «Полутороглазый стрелец» Лившица, «Против течения» Фокина с летящей балериной и Конан Дойл, «Записки о Шерлоке Холмсе», том 1. Инга повертела головой, но других томов не обнаружила. Этот же был зачитан до дыр. Она не удержалась, открыла наугад любимую с детства книгу:
— «…Холмс перестал хлестать и начал пристально разглядывать вентилятор, — стала читать она вслух, — как вдруг тишину ночи прорезал такой ужасный крик, какого я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдание, страх и ярость, становился все громче и громче…»
— У нас что, радиопостановка «Хорор в мастерской художника»?
Инга хихикнула:
— Ага. «Мент Холмс и миссис Уотсон». Слушай дальше: «Вокруг его головы обвилась какая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента… „Болотная гадюка!“ — вскричал Холмс…»
— Чем, ты говоришь, он хлестал вентилятор? — Кирилл угрожающе поднял кисть на длинной деревянной ручке.
— Не любишь конкурентов? Так бы сразу и сказал.
Она с сожалением положила книгу на место и продолжила осмотр.
Эскизы и макеты декораций были выполнены необыкновенно искусно. Стало понятно, почему Жужлева, несмотря на периодические запои, терпели в театре — он был мастером своего дела.
— Ух ты! Смотри! — Инга подняла над столом акварельный лист. — Подписано: «Бакст». Неужто подлинник?
— Даже если и подлинник, к нам это какое имеет отношение? — Кирилл не повернул в ее сторону голову. Склонился над низким столиком, заляпанным краской.
— Нашел что? — Инга подошла ближе.
— Пока не знаю. — Кирилл листал страницы. — Белиберда какая-то.
Это была обычная ученическая тонкая тетрадка. Ровным аккуратным почерком в нее были вписаны столбцы цифр.
— Не врубаюсь. Странные какие-то сочетания. 95–12–6, 427–34–8, 20–5^3. Идеи есть? — Инга перевернула тетрадь и посмотрела на заднюю обложку, как будто там, как в школьном задачнике, мог быть ответ.
— Не знаю. — Кирилл пожал плечами. — Номера красок?
— А вдруг это код? И с чего это товарищ шифруется? — Инга оживилась. — Смотри, на даты похоже.
— Послушай, мы сюда вломились, чтобы найти след к убийствам. Я тебя правильно понял? Вооот. А здесь ничего нет. Ни твоей этой чертовой книги, ни шприцев, ни намека, ничего.
— А вдруг мы пропустили тайник? — не унималась Инга.
— Окстись! — Кирилл опять начал злиться. — Мы с тобой в этом скворечнике два часа проползали — пусто! Все! Валим.
— Подожди. — Инга взяла у него тетрадь. — Дай я хоть сфотографирую эту абракадабру на всякий случай.
— Снимай. Один — один. Пока ничья.
Машины еле ползли, самый час пик. Инга сидела на заднем сиденье такси и листала фотографии тетрадных страниц. Цифры — вот единственное, что есть на сегодняшний день. Не густо, конечно.
16–31–772–43, 2693–67–82–3. А в обратную сторону? А без тире? А столбиком?
Что-то смутно знакомое маячило в некоторых сочетаниях. А потом опять — ничего.
Задумавшись, она уставилась в окно. Глаз продолжал читать все цифры вокруг: номера машин: А 108 ВО, П 728 КА. Не то, не то. Крути дальше.
«Газель»: Доставка продуктов в любую точку земного шара 903–786–55–66. Маршрутка: Услуги такси по безналичному расчету 985–2–206–206. Ближе, ближе… Билл-борд: коттеджный поселок комфорт-класса «Веселая жизнь» 916–644–88–64.
— Девушка! А девушка? Золотая моя, купи себе золотой номер!
Прямо в окно заднего сиденья вставилась хитрая морда с трехдневной щетиной. Инга с перепугу отъехала за спину водителя. Тот, не говоря ни слова, хлопнул по кнопке блокировки замков. Но уличный торговец надежды не терял. Пока машина стояла на светофоре, он радостно листал перед носом испуганной Инги листы с красивыми номерами: 91777–88–99–2, 91–61–51–41–31, 999–0909–999.
Тебя еще не хватало в этой математике!
Инга махнула рукой — сгинь! — и отвернулась. Мокрый автобус поравнялся с такси и закрыл весь обзор. «С нашего дивана вы бы не пересели в этот автобус, — прочитала Инга очередную рекламу, которая буквально влезла к ней в салон. — Наш телефон 9–66–777–888–9».
— Вот оно! — вскрикнула Инга.
— Что, простите? — удивился водитель и, не дождавшись ответа, сделал радио погромче. В тесное пространство машины ворвался капризный голосок:
«Дай мне любовь! Я в этом клубе вновь.
Нам будет жарко всем. Ты подойди сюда…»
В другое время Инга бы взорвалась от этих звуков, но сейчас она ничего не слышала. Она смотрела на сочетания чисел:
03–97–284–58
16–39–265–38
85–66–283–57
Таких было несколько столбцов. И Инга, наконец, поняла, за что зацепился ее глаз. 85, 03, 26, 63, 16, опять 03 и 85, 19 и снова 85 — в начале каждого числа. Если приставить 9, то получатся коды московских сотовых операторов! А если разбить эти числа по-другому, как это любят в рекламе красивых номеров, то действительно не сразу и поймешь!
— Первый класс, вторая четверть! — Инга опять не заметила, что говорит вслух. — Ну что, Кирюша, два — один. Сделайте потише, пожалуйста, — она уже звонила Архарову.
«Абонент сейчас не может ответить. Перезвоните позже».
Ну хорошо. Телефоны он пробьет. А что, если…
Инга опять начала всматриваться в столбцы. Она вырвала листок из блокнота, выбрала наугад комбинацию чисел и написала ее в обычном телефонном порядке.
Этот номер — откуда я могу его знать? Рискну.
Она очень медленно, словно боясь спугнуть дичь, нажимала на кружочки с цифрами.
8–903–280–65–04. Вызов. И чуть не выронила телефон — на экране высветился абонент.
Софья Павловна
— Нет! — Инга судорожно скинула набор, отбросив телефон на сиденье, как будто это была ядовитая змея. — Нет, нет, нет!
Водитель молча покосился на нервную пассажирку.
— Приехали. — Кажется, он был рад, что поездка закончилась.
От кофе уже саднило горло, глаза слезились — то ли от напряжения, то ли от сигарет.
— Мам! Ты совсем? — На кухню вошла сонная Катя. — Четыре утра. Фу! — она замахала руками, разгоняя дым. — Окно хоть открой, дышать нечем. Накурила!
— Ничёсе, неужели уже четыре? — сказала Инга, не поднимая головы. — А ты чего шатаешься?
Ответом ей был шум спускаемой воды в туалете. Катька, жмурясь, зашла на кухню.
— Там Баб-Люся суп сварила. И котлет накрутила. Не могу, говорит, видеть, как вы тут голодаете. Скучает по нам.
— Да? — машинально спросила Инга, не вдумываясь в слова дочери.
— Ты даже в холодильник не заглянула, как пришла? Мама, что с тобой? — Катька подошла вплотную. — Ну заметь уже меня!
— Ни хрена не понимаю! — Инга зло раздавила очередной окурок в чайном блюдце и наконец подняла глаза на дочь, встала со стула и обняла ее. Катька фыркнула, пошлепала к себе.
Инга засела за тетрадку сразу, как только пришла домой. Потеряла счет времени, забыла поужинать, не слышала, как пришла Катя.
Всего в тетрадке было четыре столбца. Азарт от удачи с телефонными номерами постепенно проходил. Разгадать всю тетрадку Жужлева надо было обязательно и быстро. А вот это не получалось. Дальше того, что 02–05–14 — это может быть 2 мая 2014 года, она не продвинулась.
Кириллу пока не звонила. Просто не знала, что сказать про Софью Павловну. И надо ли вообще что-то говорить? Софья Павловна сейчас не пойми где, наврала ей с три короба.
— Все, алее! — она встала, размяла суставы, покрутила шеей. Подумала немного, снова села за компьютер.
Inga
Подключен(а)
Indiwind, не спишь?
Indiwind
Подключен(а)
на связи
Inga
Ты вообще спишь когда-нибудь?
Indiwind
не относится к делу
готов принять запрос
Inga
высылаю шифрованные записи, посмотри, что можно сделать?
Indiwind
принято
Глава 19
За четыре с половиной года до описываемых событий
Утром Майкл поехал в Еврейский центр Лейпцига, на встречу, имевшую совершенно неожиданный результат.
Главный архивариус центра Эрика Готлиб — сухощавая, подвижная старушка в очках — встретила его невероятно радушно:
— Очень мало потомков лейпцигских евреев приезжают сюда, — щебетала она на беглом английском. — Я сама вернулась из Сакраменто больше двадцати лет назад, как только пала стена. Непростое решение. Я ведь была совсем крошкой, когда мы бежали из Германии, считала Америку своей родиной, к тому же рассказы родителей…
Она опустила голову, цепочка очков, звякнув, полилась на ее острые ключицы.
— Но мне хотелось посмотреть на город, где я родилась. Увидеть все своими глазами.
— Ив результате вы остались? Почему? — спросил Майкл с удивлением.
— На тот момент в Лейпциге было всего около сотни евреев! Представьте себе! До Гитлера их было больше пятнадцати тысяч! А кто будет ухаживать за могилами, оставленными на еврейских кладбищах? Кто будет хранить память об огромной общине, которая так много сделала для города? Вот поэтому я и переехала. К тому же здесь просто ощущаешь такой глубокий культурный слой! Вы знаете, что Лейпциг находился на пересечении двух главных торговых дорог средне — вековья — Вия Реджиа и Вия Империи. Тут была первая крупная ярмарка европейского значения. А вспомните историю книгопечатания! А сколько музыкальных имен связано с этим городом: Бах, Мендельсон, Шуман!
Она осеклась, увидев, что Майкл не так горячо разделяет ее восторг.
— В общем, я стала заниматься историей общины. Потом приехало много эмигрантов из России, по еврейской программе и программе репатриации. Я работала над образовательными проектами по интеграции и изучению еврейского вопроса. Мы были очень рады новым членам, но хотелось, чтобы вернулись и те, чьи предки жили здесь до войны.
Она вздохнула, потом улыбнулась и похлопала Майкла по плечу:
— Как же я рада, что вы приехали! Ваш помощник сказал мне, что вас интересует некоторая информация из нашего архива, но, к сожалению, не уточнил, по какому вопросу. Поэтому я не смогла заранее подготовиться, простите!
Она провела его к картотекам:
— Вот тут у нас списки лиц, проживавших в городе с конца девятнадцатого века до 1945 года, здесь указаны их адреса, даты отъезда, ареста или выбытия по невыясненным причинам. Тут статистика: год, название лагеря, количество сосланных евреев. Я уже объяснила вашему помощнику, что мы, к сожалению, не располагаем полным поименным списком лиц по лагерям. За этим вопросом вам следует обратиться в Международную службу розыска. У них есть все материалы дел, по которым был произведен арест.
— Да, спасибо, я знаю! Я давно работаю с ними. Завтра выезжаю в их главный офис в Бад Арользене.
— Как? Уже? Разве вы не останетесь и не отпразднуете с нами Песах? — разочарованно спросила она.
— К сожалению, я очень занят, мне жаль. Я хотел бы спросить у вас вот о чем: вам известно имя Рудольфа фон Майера?
Лицо ее просияло:
— Как же! Конечно! Ему я обязана своей жизнью! Он помог нашей семье бежать. Здесь у нас есть даже целая папка, посвященная его самоотверженному подвигу. За время Холокоста он организовал побег около ста пятидесяти человек со всей Саксонии! Это где-то тридцать семей!
Майкл смотрел на нее в полном замешательстве.
— Да-да, — парировала она. — Не думайте, что все немцы были такими кровожадными убийцами! Многие помогали нам ценой собственной жизни. Сколько активистов Сопротивления погибло вместе с евреями в лагерях смерти!
— А что стало с Майером?
— Слава богу, он не был схвачен нацистами. Когда советские войска стали наступать, он переехал во Франкфурт. Умер в 1967-м. Но я знакома с его сыном. Отто фон Майер — великодушный, тонкий человек. Искусствовед, большой знаток живописи начала двадцатого века, заядлый театрал. Он лично передал мне списки евреев, спасенных его отцом. Потомков некоторых из них мне удалось разыскать, мы переписываемся. А откуда вам о нем известно?
— Он пытался организовать побег семьи моего отца, но, видимо, не успел. Моего деда арестовали.
Эрика старомодно всплеснула руками:
— Мой бог! Какая трагедия! Если вас интересует этот вопрос, я могу познакомить вас с Отто.
— Нет-нет, — покачал головой Майкл. — Не думаю, что это нужно. Зачем расстраивать человека мрачной историей неудавшегося побега. Да и я не хотел бы ни с кем ее обсуждать. Это личное горе.
— Да, я понимаю. — Она кивнула, сняла очки и провела пальцами по усталым глазам. — Но я все же сделаю для вас копии материалов по Майеру. Вдруг вам потом захочется взглянуть.
Майкл шел к гостинице с кипой бумаг, еще теплых от луча копировальной машины, и не понимал, кому верить: воспоминаниям отца или документам, копии которых он держал в руках. Возможно, он зря проделал весь этот путь. Трагедия его семьи — это не предательство одного человека, а общее безумие, беспощадные жернова истории.
К обеду следующего дня он приехал в Бад Арользен в офис Международной службы розыска по национал-социалистическим преследованиям. Его уже ждал Гюнтер, с которым они работали по проекту оцифровывания архива и созданию платформы для его размещения, — в эту дверь Майкл задумал зайти с черного хода: для своих всегда найдется больше информации, чем через официальный запрос.
— Рад тебя видеть, Майкл! — Гюнтер звучно грассировал и расставлял английские фразы причудливым квадратом. — Добро пожаловать к нам снова! Мы подготовили все документы, которые ты просил.
Он провел Майкла в хранилище. Все уже давно работали с цифровым архивом, но Майклу хотелось подержать в руках анкеты и протоколы по делу деда, и для него, как он и рассчитывал, сделали исключение.
Майкл натянул тонкие белые перчатки и принял из рук Гюнтера листок с надписью: «КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ БУХЕНВАЛЬД» в верхнем колонтитуле. И справа две фотографии бритого налысо мужчины — с тяжелыми мешками под глазами, угрюмо сомкнутыми густыми бровями, черным опустошенным взглядом — одна в очках, другая — без очков. «Михаил Израиль Пельц, рожденный 18.06.1895, умер 15.02.1939 от тифа».
Потом еще:
«КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ОСВЕНЦИМ-БИРКЕНАУ». Женщина-гравюра: тонкие черные линии на белом — высокий, лысый лоб, упрямые черные губы, гордые черные брови и при этом большие, мертвые глаза. Три фотографии: профиль, фас, полуоборот. «Зинаида Сара Пельц, рожденная 26.03.1903, умерла 01.07.1943».
Ничего не осталось от смеющегося лица с его частой шутливо-капризной гримасой, густого каскада волос, воспоминание о которых не давало его отцу покоя.
Третья анкета:
«КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ОСВЕНЦИМ-БИРКЕНАУ». Осунувшееся, старое детское лицо, исполненное мольбы. Три фотографии: профиль, фас, полуоборот. «Руфина Сара Пельц, рожденная 03.01.1927, поступила 02.01.1943», приписка карандашом: «судьба неизвестна».
На младшую сестру отца — Анну Сару Пельц — было две анкеты. Первая из Терезиенштадта за датой поступления 04.02.1943 — и здесь она еще кудрявая, с удивленной полуулыбкой — рождественский ангелок с открытки. Вторая из Освенцим-Марке — бритая наголо, посеревшая, с глубокими поперечными морщинами на лбу и широким ошеломленным взглядом — за месяц до того, как пятилетняя Анна оказалась в газовой камере.
Наконец, Майкл оторвал взгляд от пяти старых, охристых листов и посмотрел время — прошло больше часа. Гюнтера уже не было в зале. На правом углу стола лежала оставленная им папка с материалами дела Михаила Осиповича: ордер на арест, протоколы допроса, распоряжение об отправке в концлагерь, список ценностей, за сокрытие которых его взяли: 1. Перстень: золото, сапфир около 0,5 карат, 2. Серьги: золото, рубины, 3. Цепочка: золото, 5,91 гр.
Майкл снова пересмотрел документы, и вдруг взгляд его задержался на уже виденных, с уклоном влево рядах букв: копия анонимного доноса. Майкл достал из своей сумки расписку Рудольфа фон Майера и сравнил два документа — тот же самый почерк.
— Кроме тебя, конечно, больше некого было тащить на опознание, — проворчал Штейн, выключая зажигание.
— Несколько дней назад, когда случайно ее там увидела, чуть в обморок не грохнулась, представляешь? — Она покачала головой. — Черт, как вспомню!
— Вы с ней вроде не сильно того… ладили.
— Я терпеть не могла Францевну, здесь ты прав, но такого никогда бы ей не пожелала.
— Что-нибудь известно уже о ее смерти, не в курсе?
— Да, знаешь, — Инга оживилась, — в этот раз менты сработали очень четко. В подвале, рядом с помойкой, где ее нашли, накрыли наркоманов. Там обнаружили ее вещи, сумочку, документы, в общем, все. И двое все время говорили о женщине без лица, бредили просто.
— Они вообще вменяемые были?
— По-моему, не очень. — Инга пожала плечами. — Какая теперь разница? Ладно, пойду. Катька уже из школы, небось, вернулась.
В квартире неожиданно вкусно пахло.
— Кать! — позвала удивленная Инга.
— Мы на кухне!
На столе стояло блюдо с отбивными, вокруг которых лежала в изобилии жареная картошка.
— Маме тарелку достань, — сказал Сергей. — Был недалеко, решил заглянуть.
— Угу. — Инга села за стол. — Баб-Люся, похоже, всерьез благотворительностью занялась?
— Мам, не начинай, а? — Катя поставила перед Ингой тарелку, положила приборы. Сказала с нажимом: — Приятного аппетита!
— Ну и что на это твой новый друг? — Сергей дернул Катю за рукав.
— А он опять, как по энциклопедии начал шпарить, так у нашей мымры глаза на лоб, — с воодушевлением затараторила Катя. — Он вообще типа гений, по-моему…
Мясо оказалось сочным и ароматным.
— Вкусно-то как! — Инга прикончила отбивную, потянулась за картошкой.
— Ты откуда такая оголодавшая? — спросил Сергей.
— Из морга, — проговорила Инга с набитым ртом.
— А там что же, не покормили? — не моргнув глазом, поинтересовался он. Катя прыснула.
— У них только холодные блюда, — парировала Инга.
— Мам, ты поаккуратней. А то Жор не дремлет, — страшным голосом протянула Катя последние слова.
— А что? — поинтересовался Сергей. — Он все еще обитает в доме или просто иногда наведывается?
— Недавно заходил, — подмигнула отцу Катя. — Хорошо, мама на треники перешла, теперь нет этого: ой, мне все мало, мне нечего надеть! — Она очень похоже передразнила мать.
— Ты моешь посуду! — Инга встала из-за стола.
— Почему опять я? — От несправедливости у Кати округлились глаза.
— Я работать.
— Работа на дому? Это что-то новенькое. — Сергей тоже встал и теперь помогал Кате.
Инга задержалась в дверях, наблюдая за ними: Катя с отцом слаженно убирали со стола. На Ингу вдруг навалилась тоска. Имитация семьи, безжалостно сказала она себе, имитация работы, имитация расследования. Она молча развернулась и ушла к себе в комнату.
Inga
Подключен (-а)
Что с шифровкой? Удалось разгадать?
Indiwind
Подключен (-а)
вид кодирования книжный шифр энея
возможноквадрат полибия
нужна дополнительная информация
Inga
не поняла: ты справился?
Indiwind
невозможно завершить без кодовой книги
текстключ вычислю
нужна книга
Inga
я понятия не имею, о какой книге может идти речь
Indiwind
задание невыполнимо
Окошко пропало. Да что же это такое! Инга забарабанила по столу. Что еще за мифы Древней Греции? Полибий, если я правильно помню, древнегреческий ученый. Инга ввела в поисковик «Полибий»,
— Ну вот, — вслух сказала она. — Память еще со мной. «Всеобщая история» в 40 томах. Пипец, познавательно! К нему прилагался Эней, из царского рода дарданов…
Она сузила поиск.
«Книжный шифр Энея, — начала читать Инга, — передача информации с помощью малозаметных пометок в тексте книги или документа, например, игольных дырок, проставленных рядом с буквами, которые в сумме образуют исходный текст секретного сообщения. Для этого можно использовать линейку, реализующую шифр замены с отверстиями по числу букв алфавита, с катушкой и прорезью».
Инга постаралась вспомнить, не было ли чего-то подобного в мастерской Жужлева. Но там столько валялось всякого хлама, дощечек с прорезями и без, не говоря уже про катушки, — от бессилия она застонала.
Набрала «Квадрат Полибия».
«…оригинальный код простой замены, одна из древнейших систем кодирования, чтобы зашифровать текст квадратом Полибия, нужно сделать несколько шагов… составляется таблица шифрования с одинаковым количеством пронумерованных строк и столбцов…»
— Мам, чай будешь? — В комнату заглянула Катя.
— Лучше кофе. — Инга пролистнула страничку вниз.
«…расшифровывается путем нахождения буквы, стоящей на пересечении строки и столбца. Для этого нужен ключ».
Черт! Черт! Черт!
Инга зашагала по комнате. Замерла. Схватила телефон.
— Кирилл, ты? — Она нервно отстукивала карандашом. — Говорить можешь?
— Выкладывай.
— Мы должны вернуться в мастерскую Жужлева.
— Спятила? — Инга услышала, как заскрежетал стул, потом хлопнула дверь. Видимо, Кирилл вышел из комнаты. — Даже не думай! Он наверняка сидит там и бухает на радостях, что из КПЗ вышел!
— Я разгадала его шифр из тетрадки! Ну ладно, почти… Мне не хватает одной детали! — Подумала и добавила: — Или двух.
— Мозгов тебе не хватает. Теперь послушай меня. — Кирилл хоть и говорил вполголоса, но Инге показалось, что он на нее орет. — Рыльчин смотрит на меня волком и что-то подозревает. Он, конечно, сволочь, но не дурак. Если вскроется, что мы с тобой самовольно…
— Но никто не узнает!
— Вот почему я в этом не уверен?
Они замолчали.
— Неужели ты вот так возьмешь и бросишь это дело? — с нахрапом спросила Инга.
— По вашей с Холодивкер милости, — прошипел Кирилл, и то, что он назвал Женю по фамилии, не предвещало ничего хорошего, — мне это не грозит.
— Вместе у нас все получится! — крикнула Инга, но Кирилл уже отключился.
Инга растерла изо всех сил уши, вцепилась себе в волосы.
— Думай, думай!
— Мам? Ты в порядке? — Катя поставила чашку на стол, укоризненно посмотрела на мать и, не дождавшись ответа, тихо вышла.
Инга невидящими глазами уставилась на чашку. Начала последовательно по памяти воспроизводить мастерскую. Вот они вошли, надели перчатки, она повернула вправо…
Зазвонил телефон. Кого еще несет? На экране высветилось: Софья Павловна.
— Инга, здравствуй, как ты?
— Добрый день! Вы вернулись?
— Буквально только что. Там была чудная погода!
— Как прошла ретроспектива? — иезуитски поинтересовалась Инга.
— Безукоризненно! — проворковала Софья Павловна. — Жаль, что ты не смогла поехать.
— Меня, насколько я помню, никто не приглашал! — Инга слегка обалдела от такого нахальства.
— Ты мне звонила туда некоторое время назад. — Софья Павловна не обратила внимания на последнюю реплику. — И потом быстро сбросила звонок. Что-то случилось?
— Да. — Инга решила идти напролом. — Я могу к вам подъехать? Прямо сейчас!
И, не дав возможности и времени Софье Павловне придумать вежливый отказ, Инга дала отбой.
Бывшая супруга Волохова жила в трехкомнатной квартире на Мясницкой, за Бульварным кольцом. По дороге Инга спрашивала себя, на какие средства существует Софья Павловна. Насколько она знала, та не проработала в своей жизни ни дня. Невозможно поверить, что Александр Витальевич оплачивал все ее капризы после их расставания.
В квартире был полумрак. Не полная темнота — жалюзи не опущены, но шторы наполовину задернуты. И хоть жидкий весенний свет проникал в окна, сумерки опутывали предметы, затеняли углы.
Как будто перед глазами опустили серое непрозрачное полотно.
Инга зажмурилась, потерла глаза. Но вместо ясности ворвался сноп искр. На мгновение она увидела себя откуда-то сверху: она стоит посреди комнаты, а из всех углов на нее ползут ядовитые змеи.
— Не зажигай, — раздался голос Софьи Павловны.
— Мне неуютно в сумерках. — Инга шарила по стене в поисках выключателя. — В детстве думала, что в это время рождаются монстры.
Она попыталась взять шутливый тон, чтобы разрядить обстановку, но Софья Павловна ее не поддержала.
— Присаживайся. — Она показала Инге на стул за кухонным столом. — Угостить тебя мне нечем. Я на жесткой диете.
Софья Павловна достала из холодильника баночку с зеленым пюре, переложила в блюдце.
— Приятного аппетита, — вежливо сказала Инга.
— Ничего приятного, — отрезала Софья Павловна. — Ты сегодня как тайфун налетела. Что стряслось?
Инга видела, что за всеми этими действиями, за словами неумело прячется желание выведать чужое и скрыть свое. Инга вгляделась в ее лицо. Софья Павловна села спиной к окну, и вся ее фигура словно тонула в вязкой тени. У нее была необычная прическа, наполовину скрывавшая лоб и щеки. Лицо, лицо. Что-то с ним было не так.
— Вы знали Подгорецкого Виктора Борисовича? — спросила Инга.
— Не припоминаю, — отрезала Софья Павловна. — Зачем тебе?
— Представьте, его тоже убили.
— Да что ты говоришь! — Софья Павловна откинулась на спинку стула. — Ты у нас теперь «Дежурная часть»?
— Тем же способом, что и Александра Витальевича. — Инга решила не обращать внимания на язвительный тон.
Софья Павловна продолжала есть свою зеленоватую кашицу, не проявляя интереса. Инга встала, прошла в угол, делая вид, что разглядывает пожелтевшие листья фикуса. Искоса взглянула на лицо хозяйки — с этого ракурса оно напоминало неровный мешок, только торчал закругленный кончик носа. Она мощно двигала челюстями, и от этого казалось, что в мешке шевелится кто-то связанный и страдающий.
Как всегда в таких случаях, Инга действовала не раздумывая. Она закашлялась, сделала вид, что задыхается, подбежала к окну, отдернула шторы и рванула на себя створку окна. Потом резко обернулась и посмотрела в испуганное лицо Софьи Павловны, не успевшей спрятаться. Глаза ее были полны возмущения от самоуправства Инги, а лицо…
Все в синяках!
Они уже потеряли свой первоначальный фиолетовый оттенок, перешли в желтую фазу, но еще выглядели отталкивающе. Вздувшиеся бугры на щеках, на скулах, на лбу, глаза сделались маленькими щелочками. Бесформенное, оплывшее лицо, мгновенно напомнившее ей спившихся вокзальных побирушек и бомжей без пола и возраста, спящих в метро.
Ее били! Пытали!
С кем вы связались, Софья Павловна?
— Да у тебя астма, Инга! — гневно взвизгнула она. — До чего ты себя довела! Не надо устраивать мне здесь жуткий сквозняк.
Инга медленно закрыла окно. Голос Софьи Павловны, такой капризный, манерный и благополучный, вернул ее к реальности, и она выдохнула с облегчением.
Господи, что я себе вообразила? Это же следы пластики!
Такими обычно возвращались из клиник пластической хирургии пожилые актрисы, немолодые звезды и топ-сотрудники журнала «QQ». Вот оно, значит, что: вместо киноретроспективы — отчаянный бросок в погоню за былой красотой, операция по омоложению. Инга лихорадочно соображала. Судя по объему поражения, хирурги поработали основательно. Это же стоит целое состояние! Откуда у нее деньги? — опять задала она себе проклятый вопрос.
— Сядь уже, пожалуйста, не мельтеши. — Софья Павловна поморщилась. — Пойми меня правильно. Я ничего больше не хочу знать об Александре Витальевиче. Ни о нем, ни о его дружках. В моей судьбе начинается новый виток.
— Даже о «Параде» не хотите знать? — съязвила Инга.
— А что, он нашелся? — оживилась Софья Павловна.
— Пока нет. Но полиция идет по следу.
— Не надо тут передо мной козырять полицией. — Софья Павловна злорадно посмотрела на Ингу.
А ведь ей было неприятно услышать про полицию.
— Тогда последний вопрос.
— Хорошо. Последний, — милостиво разрешила Софья Павловна, плотно сжав губы.
— Когда вы последний раз встречались с Жужлевым Геннадием Викторовичем?
— С кем? Понятия не имею, о ком ты!
Врет.
— Вы уверены? — осторожно спросила Инга. — Может, просто забыли…
— Ничего я не забыла! — Софья Павловна встала, надменно откинула голову, отчего ее лицо выплыло из-под шапки волос как размякший желтоватый пельмень. — Я еще дружу с головой, не надо тут намекать на мой возраст.
Надо же! Похоже на веселые времена в «QQ». С кем ни поговоришь — слова выпачканы в гнусном оттенке обмана. Почему все замешанные в этой истории так часто врут? И боятся? Тот же тревожный красный огонек был в речи у Туманова, а у Жужлева красный застилал глаза. Что так пугает Софью Павловну? Чем вызван животный страх Жужлева?
— Дай мне мой ежедневник, будь любезна! — Софья Павловна указала на полку. — Там! Видишь?
Инга поднялась. На полке лежал бордовый кожаный блокнот, обложку обвивала рифленная змея, голова служила защелкой.
Что вам от меня надо, чертовы гадюки! Сгиньте уже! Ваша хозяйка мертва!
Она схватила блокнот, на полке осталось прямоугольное пятно. Инга машинально провела пальцем пыльную дорожку.
Где-то недавно я видела точно такой же след на пыльной полке.
— Ну вот, — Софья Павловна притворно вздохнула, листая ежедневник, — ко мне сейчас придут.
Этот прямоугольник на пыльной поверхности… у Катьки в комнате?
Инга натянула плащ, взяла зонт.
— До свидания!
— Будь здорова! Извини, что не провожаю, — крикнула из кухни Софья Павловна.
Дверь с легким щелчком захлопнулась. Точно такой же звук был тогда, этажом ниже… В мастерской у Жужлева!
«Под книгой, зачитанной до дыр, — вот где я видела этот след! „Пестрая лента“! Конан Дойл!»
Inga
Подключен (-а)
Нашла книгу-ключ для расшифровки
Конан Дойл. Том 1. Черная обложка. Красный шрифт. Золотое тиснение. Издание предположительно 70-е годы
Indiwind
Подключен (-а)
работаю
справка по запросу два
софья павловна волохова 1951 Саратов
медучилище 1969 Саратов
артюхов арнольдстепанович 1973 Ярославль
фото в приложении
Инга открыла приложение с фотографиями. Всего было шесть снимков. Улыбающаяся, счастливая, даже сияющая Софья Павловна и рядом моложавый стройный красавец, который, приобняв, ведет ее за руку сквозь толпу на какой-то тусовке. Фото в группе, фото с каким-то хрычом в смокинге, галантно целующим Софье Павловне руку, фото у отеля под платаном — Франция? Италия? Да, Франция, Канны. И везде этот моложавый красавчик…
Ай да Софья Павловна!
Глава 20
Отто еще раз медленно и внимательно перечитал письмо — любезно-официальный тон, «с сожалением сообщаем, что со следующего квартала сего года мы более не сможем осуществлять юридическое сопровождение… в соответствии с пунктом 16-Прим вы имеете право… руководствуясь Гражданским процессуальным положением Германии…..»
Так. Майер был внутренне готов к такому повороту событий. Все по закону, наверняка у Герхарда в конторе такие письма прописаны с максимальной скрупулезностью. Сколько десятилетий они были вместе — сначала их отцы, потом он с Дигелем-младшим! Отто безразлично прикинул количество дней, а может, и недель, что уйдет на передачу документов и архивов: нужно все принять по описи, потом та же процедура, только наоборот, — с новыми юристами. Что ж, таков порядок, он не первый и не последний. У него на примете уже было нескольких кандидатов из приличных адвокатских контор. Обидно, что придется потратить уйму времени на бюрократические тонкости и штудирование новых договоров. Еще одна потеря времени — придется проверить последние действия «Дигель и партнеры». Убедиться, что они работали не в ущерб. Конечно, формально такое невозможного — Отто поморщился — качество юридических услуг с этими открытыми границами Евросоюза заметно упало, он то и дело слышал, что новые клиенты с Ближнего Востока и Центральной Европы ни во что не ставят адвокатскую этику, думают, что деньги решают все. Кто знает, может, и Герхард подцепил эту бациллу?
Как он вел дела в Амстердаме? Правда ли уговаривал Карла Лурье и его мать продать «Бессонницу»? Насколько можно верить документам о недееспособности этого наркомана? Что на самом деле происходит с «Бессонницей»? Как проверить, не выписался ли придурок Лурье из рехаба раньше времени, не продал ли картину кому-нибудь другому? Может, спрятал ее в банке, пожертвовал на благотворительность, подарил обкуренной подружке? Все это должен был сделать Герхард! А теперь он уходит.
Отто снял верхушку со сваренного всмятку яйца, машинально сунул ее в рот: белок показался ему безвкусным, как бумага. Пальцы правой руки вдруг свело судорогой, он глянул на них, начал разминать: костяшки побелели. Он переложил письмо Дигеля в лоток для прочитанной корреспонденции в левом углу стола и взял справа следующее письмо. Оно было в большом конверте с надписями на русском и иврите. Тонким серебряными ножом Отто разрезал бумагу по верхнему краю.
Господин Отто фон Майер!
«Национальный Центр „Наследие“» имеет честь пригласить Вас и Вашу супругу на торжественное открытие выставки, посвященной жизни и деятельности Вашего отца Рудольфа фон Майера во время Второй мировой войны. Выставка «Спасающий жизни» пройдет с 10 июня по 2 июля в Москве по адресу: г. Москва, ул. Загорянского, д. 3, стр. 5. В случае Вашего любезного согласия мы готовы взять на себя расходы на перелет и размещение в гостинице («Ритц Карлтон»). Мы были бы очень признательны, если бы Вы смогли бы выступить на торжественном открытии выставки «Спасающий жизни» 10.06 в 17:00.
Просим подтвердить Ваше присутствие на мероприятии.
Заранее благодарны,
С уважением,
Директор Национального Центра «Наследие»…
Фамилия ему была незнакома. «Вот это хорошая новость! Молодец Петрушка! Этот человек держит свои обещания…»
В столовую стремительно вошла Клара, резким движением открыла шторы. Отто раздраженно зажмурился: он никого не хотел видеть, даже ее. Особенно ее.
— Это правда, что «Дигель и партнеры» больше не будут работать с нами? — спросила она. Клара очень старалась говорить спокойно, но Отто заметил, что она на взводе. Он почувствовал, как раздражение заливает его изнутри. Несколько секунд они зло смотрели друг на друга — как две старые собаки, прожившие всю жизнь в одной конуре, каждый словно рычал и щерился.
— Они вели мое дело с Гэлахерами, — Клара говорила холодно, но ее тонкие ноздри раздувались, — что мне прикажешь теперь делать? Речь идет о десятках тысяч евро! Они были моими законными представителями на протяжении…
— За-мол-чи. — Отто мысленно представил, что дает ей сладкую, звонкую оплеуху — наотмашь, чтобы дернулась голова, чтобы растрепалась безупречная прическа.
Клара отпрянула, будто пощечина была реальной. В следующую секунду она стремительно развернулась на каблуках и направилась к двери.
— Они больше не соответствуют уровню нашего достатка, — сказал Отто мягче, в ее напряженную спину. — За дело Гэлахеров не переживай. Им на следующей неделе займется наш новый адвокат. И у меня новости. В Москве планируется выставка в память об отце. Ты же поедешь со мной?
Клара на секунду замерла. Обида все еще клокотала в ней, но аргумент, связанный с Рудольфом фон Майером, подействовал безотказно. Отто знал о безмерном уважении Клары к его отцу — герою, который под страхом смерти не принял «причастие буйвола» и, рискуя жизнью, спас столько людей. Клара смягчилась:
— Я очень рада. Конечно, поеду.
Не оборачиваясь, она вышла из комнаты, аккуратно прикрыв дверь. Скандал был исчерпан.
Отто вернулся к тексту письма. Итак, Петрушка не подвел: как и обещал, организовал выставку, посвященную отцу. Если таким образом удастся привлечь внимание московской еврейской диаспоры — так и до «Праведника мира» недалеко. И вот тогда… Отто подошел к окну. Стояла необычная для мая жара — улица плавилась, шла волнами. В прохладе кондиционера сложно было себе представить, что стоит шагнуть за дверь — окажешься во влажной предгрозовой бане и вся одежда мгновенно прилипнет к телу, а дышать будет совершенно нечем. Здесь, в полумраке, за тяжелой шторой, день за окном казался просто солнечным, и все.
Дверь под парадной лестницей закрывалась на простой ключ. Отто спустился, прошел по одной из трех подземных галерей — той, что вела под флигель дома, повернул ручку еще одной, на этот раз сейфовой двери, открыл решетку. Под землей было прохладно и сухо. Тихо. Отто оперся о шкаф, в котором стояли раритетные книги, посмотрел на левую стену: Пикассо, Дега, Матисс. Дальше — витрина с ювелирными украшениями. Коллекция отца.
Сколько лет он искал пути узаконить ее — безрезультатно. И вот появилась новая возможность — это почетное звание «Праведник мира». Израиль присуждает его всем, кто спасал евреев во время Второй мировой войны. В честь этих самых праведников сажают деревья, дают им гражданство, выплачивают ежемесячное денежное вознаграждение. Конечно, ничего из этого Отто не интересовало. «Праведник мира» давал неизмеримо большее — неприкосновенность, в первую очередь моральную. И ему, и его отцу, и его семье. Много раз Отто пытался сделать следующий шаг, подняться на новую ступень — превратиться из владельца предметов искусства в уважаемого коллекционера, войти в мир художественной элиты. Часто он, приходя в крупнейшие музеи мира — Прадо, Тейт, Орсе, — подолгу стоял перед шедеврами, делая вид, что рассматривает полотна. А на самом деле представляя на их месте картины своей коллекции. И рядом с ними на стене — маленькую табличку «Из частного собрания семьи Майер». Но каждый раз, когда он задумывался о том, чтобы обнародовать свои сокровища, просыпался страх — что начнут копать, задавать несуразные вопросы и в конце концов отберут. Коллекцию, собранную отцом с таким трудом и риском! Нет, сначала надо подняться на высоту, куда не проникает праздное любопытство любителей порассуждать о возмездии.
Некоторое время назад он поручил Дигелю выяснить все юридические детали о премии. Тот исполнил все быстро и педантично. Но именно тогда между ними — впервые за столько лет — возникло отчуждение. Герхард вдруг стал заговаривать к месту и не к месту об «искажении общечеловеческих ценностей». Зря он это делал. Их семьи уже два поколения были рядом. Если отца Отто можно было в чем-то обвинить, то что тогда говорить о преуспевающем юристе времен Третьего рейха? До поры до времени и Отто, и Герхард молча соглашались не ворошить прошлое. Но, похоже, этим письмом Герхард расторгал и этот негласный договор. Что ж, если он пойдет дальше, то простой неустойкой «Дигель и партнеры» не отделаются, Герхард должен это понимать. Для него будут закрыты двери всех богатых домов Франкфурта. Он больше не получит серьезной практики и закончит свою карьеру «юристом-разведенкой», решающим имущественные споры в богадельне — о праве собственности на рассохшуюся тумбочку. Правила и порядок должны быть во всем.
Отто выключил свет, аккуратно запечатал тяжелую дверь и пошел по коридору к пятну света, проникавшему в подвал через лестничный проем.
С «Праведником» он справился бы и без Дигеля — нужные связи в Москве, контакты в Израиле, пара вовремя подаренных картин, правильные слова об отце — спасителе преследуемых и угнетенных. Скоро его, Отто, сыновний долг будет выполнен.
К тому же поездка в Россию в любом случае будет очень кстати — он заберет у Петрушки «Парад».
Сто, нет, тысячу раз Майкл представлял себе этот момент — и оказался абсолютно не готов. Он месяцами разглядывал фотографии и карты, пытался представить себя на этих улицах. И вот он здесь, и все не так, и знакомое никак не становилось даже чуточку родным. Да и не могло — никто из его семьи никогда не жил и даже не бывал в Москве. Кроме тети, к которой он шел, чтобы увидеть ее в первый раз. Его мысли метались — между огромной и чужой Россией и многострадальной, раскиданной по свету семьей Пельц, которая представлялась ему теперь маленькой сжавшейся точкой на фоне безразличного грозного мира.
Он заселился в небольшой апарт-отель в Раменках. Ему понравилось название — «Ломоносов». По карте выходило, что это совсем недалеко от улицы Пудовкина, где жила его неведомая родственница. Он ошибся. Нет, отель, занимавший несколько этажей в огромном красном жилом доме, оказался вполне удобным и с хорошим Интернетом, это ему как раз было очень кстати. А вот идти оказалось далеко. Майкл первым делом заблудился, проплутал около часа в садах и стройках, проскочил поворот и оказался на высоком берегу Москвы-реки. Под ним широкой полосой вдоль набережной тянулся почти дикий лес. Внизу блестела вода, огибая гигантский стадион, а за ним раскинулась Москва — с куполами церквей, островками небоскребов, словно наугад и в разные годы выхваченных из центра Миннеаполиса или его родного Манхэттена. Как будто небрежный садовник без видимого замысла укоренил их здесь, среди невысоких разномастных домов, простиравшихся полем до самого горизонта.
Рядом на смотровой площадке шумела и пуляла в небо шампанским свадьба, трещали моторами одетые в неизменную кожу байкеры, под обрывом на реке, рисуя длинные пенные дуги по воде, разворачивались прогулочные теплоходы. «Дни уходят — волна за волной, без следа. Зато прошлое вылезает наружу, как берег во время отлива. Только его я помню отчетливо. Это в наказание. Я не исполнил долг перед отцом». Так говорил его отец. «Теперь мой черед», — думал Майкл.
Он нашел нужный дом в тихом зеленом дворе со смешными деревянными лавочками у подъездов, из которых пахло прелой картошкой и свежей масляной краской. Мимо Майкла прошли две очень пожилые женщины, закутанные в платки, с клетчатыми сумками на колесиках — ему на секунду стало страшно, вдруг его тетя окажется одной из них? Но нет.
Ему открыла дверь торжественно одетая — бежевый костюм с кружевным воротником, — строго причесанная и ухоженная благообразная дама, какие в Штатах собираются по воскресеньям в пригородной церкви поиграть в бинго. Или раз в год, подсобрав деньжат, выбираются со сверстницами в Атлантик-Сити. Майкл улыбнулся этому неожиданному сравнению, дама что-то сказала ему по-русски, а он вдруг забыл все слова, растерялся, запаниковал, пробормотал приветствие на смеси иврита и английского.
— Я Майкл.
— Я знаю.
Он прошел в единственную комнату, неловко задел макушкой блестящие подвески люстры и показался сам себе неприлично огромным в этом крошечном пространстве. Комната была заставлена однообразной и убогой коричневой мебелью, по центру лежал потертый ковер, от которого в косых полосках света поднимались к потолку, словно танцуя, искристые пылинки.
Она что-то тихо говорила ему, но Майкл, завороженный, не отрываясь, разглядывал фотографии на стене: юная девушка в высокой соболиной шапке, сильно загримированная брюнетка в цыганской юбке, дама в корсете и платье до пола с высокой прической… Он обернулся — тетя стояла у стола, закусив губу и перебирая узловатыми пальцами бахрому скатерти.
— Тетя Саша, — прошептал он, постепенно вспоминая русский язык. И она заплакала и обняла его, от ее волос шел запах пудры.
«Я сделал это. Я здесь, папа!» — Майклу вдруг стало тепло и легко. Как дома.
— …приготовила оливье, русский салат с французским названием. Вы же знаете такой? А потом будем пить чай, у меня прекрасный торт, очень свежий.
Майкл очнулся как раз на середине фразы. Он уже сидел на скрипучем диване, тетя — напротив, смотрела на него во все глаза. На тарелках с цветочками лежало угощение.
— Я знаю название. Это всегда в русских магазинах и ресторанах — борщ, пироги, блины. Все говорят «блИны», но я знаю, это неправильно. И еще, как это называется? — Он нащупывал слово, перебирая пальцами в воздухе. — Рыба в меховом пальто?
— Как это в пальто? Не пойму.
Тетя на миг задумалась и вдруг рассмеялась совершенно по-детски.
— О господи, Майкл, и правда, до чего же это смешно, если перевести. Селедка под шубой! Под шубой! — От радости, что разгадала загадку, тетя захлопала в ладоши. — Хочешь, прямо сейчас сделаю? У меня есть свекла…
Тетя порывалась встать, но Майкл удержал ее. Он долго готовил эту речь, проговаривал про себя русские фразы, но сейчас они падали, как тяжеловесные кирпичи в воду — неуклюже и излишне шумно.
— Александра Николаевна, — осторожно проговорил он. — Я очень рад вас видеть здесь в Москве. Мой отец, Вениамин, ваш двоюродный брат, — Майкл тщательно произносил длинные слова, — он очень хотел сделать это сам — приехать в Россию, увидеть вас, воссоединить семью. Но это не случилось. Он тяжело заболел, и я обещал ему сделать это. Я выполняю свой долг, я делаю это за него.
— Дорогой мой Майкл, я все понимаю. Бедный, бедный твой отец… Для него вся Европа — один большой след войны, боль, кровь и потери. Наше поколение, знаешь ли, не любит вспоминать прошлое, не хочет тревожить. Те, кто выжил, закрыли в себе эту часть жизни навсегда, похоронили, чтобы не оглядываться.
Тетя поднялась, вышла на кухню. В проем двери Майкл видел, как тетя собирала фарфоровые чашки, потом замерла, аккуратно промокнула щеки салфеткой, порезала хрустящий торт, вернулась в комнату. Майкл чувствовал, что эмоции захлестывают ее, взялся разливать чай, зазвенел блюдцами, долго рассматривал молочник и, наконец, заговорил:
— Мне хочется знать, как прошла ваша жизнь. И рассказать, как жили мы. И у меня еще маленький презент для вас.
— Как это приятно. Я живу одиноко, все больше воспоминаниями.
Она обвела комнату грациозным сценическим жестом.
— Вот здесь вся моя жизнь — фотографии, книги и канал «Культура» по телевидению. Там часто показывают старые фильмы, театральные постановки. Знакомые уходят один за другим, а детей у меня нет, так сложилось.
Она грустно смотрела на него, и Майкл понял, что таким, наверное, ей виделся ее собственный сын — красивый и статный, похожий на всех мужчин семейства Пельц — волнистые черные волосы, крупный нос и спокойный, немного печальный взгляд.
— Да что это я? — Она махнула рукой, отгоняя мысли. — У меня отличные соседи, болею я редко, и гости бывают. Вот и сегодня, я пригласила одну очень интересную девушку, — она улыбнулась, сделала паузу, чтобы он слушал внимательнее, — красавицу и модную журналистку. Она меня опекает, а главное, снабжает новостями из артистической среды. Это же моя жизнь! А на свою судьбу я не ропщу, не подумай, Мишенька.
Тетя встряхнула головой и улыбнулась.
— Ропщу — это не очень понятно. Мой русский недостаточно хорош…
— Твой русский отличный, сразу видно, что Веня был хорошим отцом, раз выучил тебя родному языку. А «роптать» значит жаловаться на судьбу. Это и правда редкое слово. — Она посмотрела на его сумку. — Знаешь, я скоро сгорю от любопытства, выкладывай скорее, что там у тебя за презент?
Он передал ей толстый фотоальбом.
— Здесь я собрал все фотографии, связанные с жизнью семьи Пельц после войны, которые мне удалось найти.
Она всплеснула руками.
— Боже мой, неужели это возможно! Ты мой ангел, Миша.
Александра Николаевна держала альбом в руках, как сокровище, робея открыть, потом осторожно перевернула первую страницу. Фотографии были разложены по годам, подписаны печатными буквами, где-то по-русски, где-то по-английски.
— Это дом Михаила Пельца в Лейпциге, здесь довоенное фото из архива. А это он же сейчас, я был там недавно. Дом все еще там, но нужен… «реконстракшн». Все окна забили. Невозможно войти.
Александра Николаевна касалась фотографий кончиками пальцев.
— Я столько раз себе его представляла, думала, что дом попал под бомбежки и не уцелел. А он вот… стоит, только штукатурка осыпалась…
На следующей странице еврейский юноша в тщательно застегнутом, но коротковатом твидовом пальто держит Тору в руках.
— Это ваш двоюродный брат, мой отец Вениамин. Фотография 50-х годов, он уже в Америке с дядей Аароном в Бруклине. Там большая еврейская община, мы жили в Вильямсбурге, это сразу за Бруклин Бридж. После Второй мировой войны туда приехало много евреев. Район небогатый, но они были счастливы. Отец говорил, там все были счастливы, потому что живы!
На отдельной странице было фото сухощавой женщины в платье с мелкими пуговицами и небольшой шляпке.
— Это твоя мама?
— Да. Отец женился в 65-м году. Ее звали Ханна, она из Польши. Мама умерла, когда мне было семь.
— Это все война, Миша, такие раны не у всех заживают. Вы так дальше и жили вдвоем с отцом?
Александра Николаевна перелистнула страницу. Начались цветные фото.
— Он больше не женился, работал в магазине, любил гулять один. Много читал. А это мы с папой на Пятой авеню, Манхэттен, это уже 80-е.
Он показывал ей одну за другой фотографии их жизни с отцом: путешествие в Большой каньон, Ниагарский водопад, дощатая набережная на Брайтон Бич, статуя Свободы. Центральный Парк.
— Да, видно, Веня стал настоящим американцем, — сказала Александра Николаевна, — Я так рада, что он нашел свой дом, пусть и далеко от родины. Но, знаешь, Миша… — она запнулась на минуту. Майкл тоже молчал. — Я, наверное, не должна тебе это говорить, тем более в такой день, но мне страшно смотреть на эти снимки. Твой отец — он всегда один, вокруг жизнь, и рядом должны быть его родные, вся семья. А их нету. Как будто их стерли с этих фотографий…
— Я думаю, что понимаю вас.
— Давай-ка сделаем перерыв, Мишенька, я устала. — Александра Николаевна положила неспокойные ладони на обе страницы, будто закрываясь от боли и воспоминаний. — Это так приятно, что ты собрал для меня целый альбом вашей жизни. Но слишком много впечатлений.
Они сидели в тишине с открытым альбомом на коленях.
В прихожей скрипнул замок, раздались шаги, шорох пластиковых пакетов, и женский голос встревоженно позвал:
— Александра Николаевна, вы здесь? Ау!
В дверях показалась стройная, немного угловатая молодая женщина — рыжие волосы собраны в растрепанный хвост, в руках большие пакеты, через плечо — сумка с компьютером. Тетя поднялась ей навстречу.
— Инга, здравствуй, дорогая! Все со мной в порядке. Даже очень! Смотри, кто здесь…
— Добрый день, меня зовут Инга. А вы?
— Да, очень приятно! Майкл. Я должен взять у вас сумки? — Майкл привстал с дивана.
— Да, должны, разумеется. Но черт с вами, вы тут гость, я сама… — и скрылась в кухне. Через несколько секунд она появилась в гостиной, по-хозяйски прошла к серванту и положила за стекло синюю картонную коробочку, заговорщицки подмигнув Александре Николаевне. — Ожерелье обещала, помните?
Майкл неуверенно покосился на тетю: «Все в порядке? Что я должен делать?» Тетя счастливо улыбалась.
— Инночка, иди сюда… Это мой племянник. Сын Вени. Из Америки.
Рыжеволосая женщина от неожиданности закашлялась.
— Ничего себе у вас сюрпризы! А вы, кстати, похожи! Александра Николаевна, как я рада! И вы молчали!
Она схватила руку Майкла и с силой тряхнула. Потом обняла тетю. Квартира сразу пришла в движение.
Тетя вцепилась в руку Майкла.
— Мишенька, посиди со мной. Инуся, ты же знаешь там, что где. Спасибо тебе, мое солнышко, за заботу. — Она быстро перевела взгляд на Майкла. — Она мне все время что-нибудь вкусненькое приносит, а мне уж и нельзя, но я по чуть-чуть, — подумала и добавила: — Нет, ты все же иди, помоги ей. Давай-давай, я отдохну пока.
Александра Николаевна закрыла глаза, вздохнула и улыбнулась.
Когда Майкл вошел на кухню, Инга вынимала еду из пакетов и раскладывала по полкам. Увидев подмогу, она сунула ему в руки пластиковые лотки с рыбой и нарезанной колбасой, огляделась, забрала обратно, убрала в холодильник, чуть не задев его локтем.
— Обалдеть можно! Какие события, — продолжала тараторить Инга. — Вы один приехали? Да? А семья? В Америке осталась?
Ответить он не успел — она впихнула ему в руки пачку чая и пакет с макаронами, залезла на табуретку, оттуда наклонилась к Майклу.
— Надолго к нам? Сейчас я что-нибудь соображу на стол. — Она взяла у него продукты и стала укладывать их в верхний ящик.
Табуретка под ее ногами поехала, Инга качнулась и чуть не упала. Майкл успел подхватить ее за талию, нечаянно задрал майку и уперся носом в ее голый живот.
— Упс, сорри. Я вам точно здесь помогал? — Он почувствовал, что краснеет.
— It’s OK, you’ll get used to it, in a day or two. Those kitchens, they are so freaking small, even for one… — Инга, похоже, ничуть не смутилась и бойко перешла на английский.
— Yeap, so true! But, if I may… Ah, am I allowed to say something too?[4] Мы можем говорить по-русски? Мне надо улучшить язык. Там, где я живу, никто не говорит со мной по-русски.
— Без проблем. Молоко! — Майкл передал Инге пакет. Они расправились со второй сумкой.
— Дети! — раздалось из комнаты. — Что там за шум? Вы не ссоритесь? Идите сюда!
Александра Николаевна стояла в проеме двери.
— Инуся, достань, солнышко, с антресолей коробку. Ты поймешь, она там такая одна.
Инга опять полезла наверх, Майкл предусмотрительно встал рядом — для подстраховки. Он принял из рук Инги большую канцелярскую коробку из потемневшего картона и аккуратно поставил на стол, придерживая крышку.
— Может, это и много сразу, но сегодня такой день… — Александра Николаевна опустилась на диван. — Ох уж эта привычка молчать! Вторая натура для нашего поколения. Но теперь тут только свои, расскажу, пока меня деменция не хватила. — Майкл и Инга устроились по бокам. — Мама моя, Анна Михайловна, царствие ей небесное, была родом не просто из еврейской семьи, а из семьи обеспеченной, да к тому же покинувшей Россию. Она мало что мне тогда рассказывала — сами понимаете, времена были такие, что с такой родословной можно было получить десять лет без права переписки. При рождении ее назвали Рина, так она даже имя поменяла на Анну. Впрочем, молчание ее не спасло. Она была костюмершей в московском ГОСЕТе, арестовали маму в 49-м, через год после смерти Михоэлса. Бедного Соломона Михайловича раздавили грузовиками по заказу спецслужб в 48-м. Иночка, прости, ты, наверное, столько раз слышала эту историю? Но Миша не знает…
— Александра Николаевна рассказывала мне про Соломона Михоэлса, — пояснила для Майкла Инга, — он был благодетелем ее мамы и большим другом. Когда Александре Николаевне было 14 лет, ее спасли родственники отца, с которым ее мама к тому времени была уже в разводе. Маму она больше ни разу не видела. Через семь лет после ее ареста пришло извещение: «В заключении скоропостижно скончалась от болезни», и все.
— И все? — переспросил Майкл.
— Реабилитирована посмертно в 87-м, — закончила Инга.
Александра Николаевна тем временем достала небольшой альбом, перевязанный бечевкой. Попыталась развязать узлы сама; тесемки начинали поддаваться — под ее пальцами появилась небольшая петля. Она словно исполняла одной ей ведомый обряд.
— Вот, — бормотала она, перебирая снимки. — Я же помню, она здесь.
Шуршали страницы старого альбома, трепетала тонкая бумага, шелестели под пальцами пожилой актрисы конверты и фотографии. Майкл подумал — голоса.
Александра Николаевна развернула к нему альбом: на фотографии на фоне большого каменного дома стояла группа людей.
— Слева направо: Осип, дед мой, и его сыновья: Аарон, Михаил и Натан. А вот эта маленькая кучерявая девчушка — моя мама, здесь она еще Рина. От мамы знаю только, что жили они зажиточно, у них дома были и в России, и на Украине, и в Германии, дело держали большое, пушное, что ли. Аарон после революции перебрался в Америку, Михаил осел в Лейпциге, а Натан — он стал коммунистом и остался тут, занимал сначала высокие посты, а потом был расстрелян. Но он успел познакомить моих родителей. Николай, отец мой, был ярым сторонником советской власти. Тоже умер в лагере… Ох, я не об этом же хотела! Мама успела выйти за него замуж, сменила имя, родила меня. Но очень тосковала по своей семье. Я помню, она мне рассказывала сказки о трех богатырях. В них всегда было три старших брата, которые приходили ей на помощь в час беды. А она варила им варенье и пела песни… Много лет спустя я увидела эту фотографию и сразу узнала героев сказки. Вот они, три богатыря, вот твой дед, Миша.
Майкл не отрывал глаз от фотографии. Тетя то приходила в волнение — он видел, как дрожали ее пальцы, — то успокаивалась.
— А теперь то, что я еще никому не показывала.
Александра Николаевна достала со дна коробки связку старых конвертов, желтых и мятых, исписанных одним почерком. От неосторожного движения они рассыпались по столу. Но Александра Николаевна даже не стала их собирать.
— Это было в конце 80-х — начале 90-х, сейчас точно не помню, да и не важно. Я была одна дома. В дверь позвонили, я открыла, а там — Андрей Ермоленко, наш секретарь Союза кинематографистов. «Александра Николаевна, — и говорит так официально, хотя мы с ним сто лет на ты. — Времена поменялись, я принес то, что принадлежит вам». И дает эту коробку. А в ней письма. У них в Союзе разогнали всех кагэбэшников, повыкидывали их к чертовой матери из кабинетов, вскрыли архивы и спецхраны — а там… Твой отец, Миша, все эти годы писал мне, пытался со мной связаться, передать весточку. Я помню, в Варне, на кинофестивале, ко мне подошел неизвестный человек и тихо так говорит: «Вам поклон от Вениамина!» Как я испугалась! Какой Вениамин? Вдруг услышит кто? В делегации-то на одного киношника по два кагэбэшника… Ну и просидела до конца фестиваля в номере, только бы не видеть этого дядьку. Даже за призом не пошла.
Инга и Майкл слушали, не говоря ни слова. Майкл изредка косился на Ингу — как это могло быть? Прошлое страны, прошлое хозяйки дома, словно черный ворон, кружило над ними.
— Все письма твоего отца они перехватывали и прятали. Я два дня читала и плакала, плакала и читала — всю вашу историю… мою историю. Как они жили, мои родные, как умирали на чужбине. Вот, возьми, это должно быть у тебя.
Александра Николаевна протянула Майклу черно-белую фотографию, всю в заломах: мужчина и женщина на фоне величественного Бруклинского моста, женщина держит на руках маленького мальчика. На обратной стороне коричневыми от времени чернилами аккуратно выведено: «Любимой сестричке от Вениамина, Ханны и маленького Миши. Даст Б-г, свидимся».
— Вот и свиделись. — Александра Николаевна махнула рукой, не в силах больше говорить.
Через полчаса, когда Инга перемыла всю посуду, на кухню зашел Майкл. Он встал в двери во весь свой немалый рост и молча смотрел в пол.
— Вы как? — спросила она мягко.
— Я думаю, что не могу никогда понять, как можно жить в страхе столько лет. — Майкл помолчал. — Это ужасно!
— Это наша история. Мы так ее учим. — Инга из всех сил терла уже сухую чашку. — Ну и она нас…
— Скажите… это ничего, если я спрошу вас что-то? Вы не знаете меня, я не знаю вас… Но, правда, я никого здесь не знаю. Вы можете помочь мне в одном деле? — Майкл поднял глаза. — Пока я здесь, в Москве?
Инга кивнула.
Телефон Кати опять не отвечал. Зато квартира была обклеена розовыми стикерами, словно ценниками.
На холодильнике: извини доела последнюю котлету На зеркале: взяла твои сережки ты же не против На письменном столе: я у Соньки уроки сделала буду непоздно
На двери туалета: где моя зарядка не знаешь Инга открыла ноутбук. И тут ее ждал сюрприз.
Indiwind
Подключен (-а)
шифр взломан
проверь почту
в приложении счет за работу
Счет за работу! Счет за работу! Скоро я на тебя все свои запасы спущу.
Оттягивая момент истины, Инга открыла счет. И опять он ее удивил и даже немного испугал. Цифра была не круглая и какая-то смешная — 746 рублей. Что это за хакер, который берет так мало за сложную работу? В животе неприятно шевельнулся холодок страха, кончики пальцев похолодели.
Ну точно, я на крючке! Ведь я для него абсолютно открытая книга! Не было причин для шантажа — значит, будут. Сама же ему на блюдечке и подношу. А он сидит, как терпиливый рыбак, ждет, когда проглочу наживку вместе с крюком, а потом кааак предъявит настоящий счет, тут мне и кирдык!
Инга зябко повела плечами, встала, прошлась по комнате, хрустнула суставами. Села к компьютеру. В другом приложении оказался короткий экселевский файл.
Всего в таблице было более двадцати пунктов. Что это? И кто все эти странные буравчики и петрушки? Гагара — это что же, получается, Софья Павловна?!
Не давая себе времени на раздумья, Инга вернулась в почту, кликнула на адрес Кирилла и метнула список ему с коротким комментарием: «Расшифрованная тетрадьЖужлева. Похоже на хищения. Разберись с этим! Инга»*
Глава 21
Агеев не отвечал ни на сообщения в Facebook, ни на письма — и вообще не выходил в Сеть. Для видеоблогера это было странно. Инга пожалела, что они не обменялись номерами мобильных, легкомысленно положившись на Интернет.
На третий день она уже чувствовала покалывающую тревогу. Ей пришло в голову найти его домашний телефон по адресу; на каком-то допотопном справочном сайте она ввела в поисковую строку улицу и дом.
Абонент Агеева Надежда Григорьевна. И семь цифр, без кода.
Она набирала номер несколько раз и безнадежно слушала длинные гудки, представляя, как по квартире Игоря Дмитриевича разносится звонок, похожий на школьный. Гнать от себя дурные мысли не получалось. Ей представлялось, что события последних дней застряли в прялке старухи Морты тяжелыми спутавшимися нитями, и она, кривая и хохочущая, уже наклоняется, чтобы перерезать одну из них. И пока Инга держит трубку и набирает номер, старуха еще смеется и медлит, но стоит ей дать отбой…
— Алло. — Она не сразу узнала далекий голос.
— Игорь Дмитриевич?
— Да. Кто это?
— Инга Белова. Я была у вас в гостях недавно.
Он что-то ответил еле слышно и положил трубку. Спустя два часа написал в мессенджер: «Извините, не мог говорить. Чем могу быть полезен?» Она быстро отослала ответ: «Хотела зайти, отдать флешку, извините, что побеспокоила». «В пятницу после трех».
Открыв ей дверь, он вновь попытался взять тон радушного хозяина.
— Здравствуйте, Инга. Рад вас видеть. Ну что вы, не стоило беспокоиться из-за… — Он скороговоркой произнес еще пару любезных фраз.
Предложения не заканчивает, замирает на полуслове. Не может собраться с мыслями. Плохое самочувствие? Занят чем-то важным? Я не вовремя.
Опасаясь, как бы хозяин дома не выдворил ее под благовидным предлогом, Инга быстро прошла в гостиную. Здесь пахло горьким и совсем не домашним.
— Игорь Дмитриевич, я пришла поблагодарить вас за неожиданный подарок. Эта запись, кажется, 97-го года? Откуда она у вас? Сами снимали? Такой шок — увидеть себя двадцатилетнюю. Вся группа наша в сборе, волосы длинные у всех, не то что сейчас, многие облысели. А одного уже и нет в жи… — она осеклась.
Он стоял в проеме двери и смотрел на нее расфокусированным блуждающим взглядом, уголки глаз и неожиданно обострившиеся уголки тонких губ были опущены книзу. Подбородок едва заметно подрагивал. Все его лицо стало острее и как-то темнее, чем в ту их первую встречу, плечи сгорбились, и Инге на мгновение показалось, что перед ней двойник Агеева. Она в замешательстве оглядела его с головы до ног и выхватила взглядом в прорехе клетчатой рубашки махровый край бинта. На уровне локтя. Захотела тут же уйти, раствориться в подъездной пыли, но заставила себя стоять на месте.
— Извините, — наконец сказал Игорь Дмитриевич, — я неважно чувствовал себя последние дни. Совсем не мог работать. Вот… медсестра приходила, капельницу ставила.
— Насколько все плохо? — тихо спросила Инга.
Он не ответил, передернул плечами, как от сквозняка. На лице его появилось чуть брезгливое выражение: не спрашивайте меня об этих глупостях.
— Вы были в больнице? — снова спросила она, постепенно утверждаясь в своем праве задавать ему личные вопросы.
Он мельком взглянул на нее.
— Д-да, недавно. Ну регулярное обследование, что тут… Да и бог с ним. Что вы в самом деле… — сделал нетерпеливый жест.
Агеев прошел мимо нее к своему любимому креслу. Тяжело сел, почти упал. Подлокотник слетел, но он не стал его поправлять. Он больше не смотрел на нее. Пальцы машинально застегнули несколько верхних пуговиц рубашки. Инга села напротив. Наконец он улыбнулся и довольно ехидно спросил:
— Что это вы допрашивать меня вздумали? Вы так в себе уверены… пришли тут… как царица Савская, — и засмеялся бессильным старческим смехом.
— Вы прочитали мое письмо?
— Какое именно? Напомните.
Ему совсем не любопытно. Голос выдает тяжелейшую усталость и равнодушие ко всему. Хочет, чтобы я ушла и оставила его в покое. Надо постараться не произносить слово «помощь».
Агеев закрыл глаза. Она заставила себя продолжать.
— Понимаю, вы устали, а тут я свалилась вам на голову. Я сейчас уйду, но сначала позвольте высказаться.
Буду дожимать.
— Давайте посмотрим на вещи рационально. Я знаю, что вам нужно лечение и медлить нельзя. И в вашем случае стоит попробовать новый препарат «Адцетрис», если не помог стандартный протокол. Я пришла просить у вас разрешения на сбор средств. Прямо сейчас. Это реально. Я все сделаю сама. Люди откликнутся, поверьте. Нам нельзя упускать эту возможность. Если вы говорите «да», то я начинаю действовать.
На фразе о сборе средств Игорь Дмитриевич открыл глаза и теперь неприязненно смотрел на нее.
— Нам нельзя упускать возможность! — передразнил он ее. — Какого черта вы лезете в мою жизнь? Выбросьте из головы глупую благотворительность, занимайтесь собой.
Инга секунду помедлила. Перевела дух. Представила себя… на свидании с мужчиной. Расслабилась, смягчилась.
— Мне нравятся ваши работы, — сказала медленно, как бы прорывая пленку отчуждения признанием. — Я посмотрела ваши интервью. То, что выделаете, нужно всем. Зачем сдаваться, если можно победить?
Агеев опять закрыл глаза. Она заметила, что его подбородок дрожит все сильнее, а руки сжаты в кулаки.
— В конце концов, на то мы люди, чтобы держаться вместе. Я не призываю вас верить в чудо…
— Прекратите изъясняться лозунгами.
Инга встала и сделала несколько шагов по комнате. Остановилась у окна. Оно выходило на узкий незастекленный балкон, к которому вплотную подступали липы. Должно быть, летом здесь уютно. Она услышала за спиной его неприятный смех.
— А в том, что вы говорите, действительно есть доля рациональности. Я мог бы неплохо поднабрать себе подписчиков… на слухах о болезни. Как ваша несчастная Туми. Хотите и меня так же опозорить?
Укол в свежую рану. Ну спасибо вам, Игорь Дмитриевич.
Она резко обернулась.
— Вы мне не доверяете? Думаете, я буду писать о немощи и давить на жалость, да еще и наживаться на вас? Подайте Христа ради? Ничуть. Я пришлю вам на утверждение текст поста о сборе средств и ролик с вашими работами. И кстати, — она набрала в грудь воздуху, — в истории с Туми моей вины нет.
Агеев опять молчал. Послышалось, как этажом выше разбилось что-то стеклянное, донеслись глухие голоса.
Все равно не верит, говорить сейчас бесполезно. Надо сменить тему.
Инга украдкой взглянула на черно-белый портрет на стене, словно испрашивая одобрения у безмолвной обитательницы этого дома.
Это вы, Надежда Григорьевна?
— Это Надя, моя жена.
— Красивая.
— Она умерла почти двадцать лет назад.
— Простите. Но портрет так хорош, что я не могу оторвать взгляд.
— Вот и я не могу. — Агеев подошел к портрету. Лицо его смягчилось. — Знаете, иной раз сяду и смотрю, смотрю на нее. Вижу, как веки ее дрожат, как она губами шевелит. У меня сохранилось немного ее фотографий, в основном глупые групповые снимки, в гостях, на пикнике, на курорте. Раньше ведь не было этой привычки постоянно фотографироваться, как сейчас. А это студийный портрет, начало 80-х, мы тогда только-только поженились.
Как много он говорит! Либо боль отпустила, либо воспоминания действуют как анестезия.
— Она выглядит счастливой и спокойной.
— Она была счастлива со мной. Мы познакомились, когда я снимал очерк для «Кинопанорамы». Надя работала помощником второго режиссера на картине. Боже, какая она была юная! Я ее выбрал сразу. На всю жизнь. И она мне доверилась с первой встречи. Знаете, как много понимаешь о женщине, когда берешь ее за руку? Я сейчас так жалею, что нет ни одной фотографии, где были бы видны ее руки. Я их пытаюсь представить себе, но память подводит… а ощущение от них помню… Знать бы тогда, о каких мелочах будешь впоследствии сожалеть.
Через некоторое время он поднялся — прежний Игорь Дмитриевич, ироничный, сдержанный, вполне владеющий собой.
— Спасибо вам за беспокойство, Инга. Не думал, право же, что вы проявите такую… прыть. — Он даже засмеялся. — Шучу. Дотошность. Хорошо, уговорили. Делайте, что считаете нужным.
— Наш Уолтер Уайт безвременно скончался! — Афиногенов уселся на парту перед носом у Кати.
Она не заметила, как он подошел — они с Лизкой низко склонились над фенечкой, Катя завязывала ей на запястье узелок.
— Фу, дурак, что пугаешь? — Лиза дернулась, и конец нитки остался в Катиных руках.
— …как выдающийся химик! — широко и беспечно улыбался Ромка.
— Да что ты из себя вечно идиота корчишь? — Катя замахнулась кулаком, но он по-спортивному быстро перегруппировался и соскочил с парты.
— Ты, Белова, что-то совсем зазналась. Все у тебя идиоты или недоумки. Кроме твоего ненаглядного Губошлепа. Ой, прости, Сологуба.
— Что ты там про химию?
— Не скажу! — крикнул Афиногенов уже из коридора. — Идите сами смотреть кино на второй этаж!
Катя с Лизой переглянулись. После того ужасного урока, который закончился для Кати на площадке с турниками, прошло чуть меньше месяца. В следующий раз она встретилась с Ольгой Викторовной вместе с Ириной Сергеевной, классным руководителем — в кабинете с лиловыми шторами и квадратными рамочками на стенах, в которых были намертво закреплены нюансы методического мастерства. Избегая взгляда химички, Катя на протяжении всего разговора изучала цитаты знаменитых педагогов. Она вышла из кабинета на подгибающихся ногах, повторяя про себя как в бреду: урок — оригинальное педагогическое произведение, кропотливый труд, творческий акт…
— Пошли, — прошептала Катя, и с Лизой они вышли из класса.
В школе было до странности тихо, словно все — и учителя, и ученики — собрались в одном месте для важного мероприятия. Девочки спустились на второй этаж, почти никого не встретив.
Дверь в учительскую была полуоткрыта, оттуда доносились голоса, но из обрывков фраз сложно было что-то понять. «Это еще надо доказать!» — неожиданно громко воскликнула завуч Наталья Николаевна. «Потом будете разбираться с доказательствами! Где Сергей Павлович, кто сегодня отвечает за монитор? Срочно его сюда!» — перебили ее. Катя напрягла слух, но дверь резко захлопнули. Они побежали дальше, в центральный холл, где на стене висел широкий плазменный экран — информационное табло школы. Обычно экран хвастался достижениями, поздравлял заслуженных, объявлял конкурсы, зазывал на концерты и соревнования. Но сегодня он, видимо, транслировал что-то из ряда вон выходящее, потому что перед ним собралась плотная толпа старшеклассников. Все молчали.
— Что там, что там? — шептала Лизка, которая из-за своего роста ничего не видела.
Экран был разделен на две половины, в каждой шел текст, по-видимому, одинаковый, мелькали химические формулы и расчеты. Кто-то за невидимым компьютером обновлял страницы, и на экране возникали графики, картинки, потом снова текст. Вверху экрана была неподвижная надпись крупным шрифтом: «Войтенко Ольга Викторовна, „Синтез новых биологически активных производных фосфорных кислот“, диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. Дата защиты, научный руководитель, официальные оппоненты…»
Текст в обеих колонках вдруг стал крупнее и больше не менялся. Стоявший рядом с Катей десятиклассник щелкнул языком.
— Один к одному! Полностью списано.
— Да что происходит? — Катя поискала глазами Афиногенова — тот стоял в углу с парнями и что-то горячо им объяснял.
Народу прибывало, теперь уже весь холл был заполнен школьниками, при этом учителей видно не было. Гул нарастал, послышались смешки. Прозвенел звонок, но на него не обратили внимания. Экран несколько раз мигнул, погас на несколько секунд, но снова включился. Трансляция продолжилась. Она вдруг увидела Диму — он некоторое время безучастно подпирал стену, поковырялся в телефоне, развернулся и пошел в сторону главной лестницы.
На экране высветился новый текст: «Комментарий эксперта. Обнаружены масштабные, до 90 % заимствования из оригинального исследования доктора наук Майгаловича И. Д. и из докторской диссертации Майгаловича И. Д., защита которой прошла в 2009 году на кафедре химии в Государственном Университете города…». Экран погас, теперь уже окончательно. Толпа возмущенно загудела, кто-то свистнул.
— Давай еще! Что там дальше?
— Что теперь будет-то? Чьи это шутки? Может, подстава? — шептались вокруг.
Катя с Лизой прорвались к Афиногенову.
— И что это было? Что за кино такое?
— Ты что, маленькая? Не понимаешь? Кто-то не поленился, раскопал инфу по диссеру Уайта. Теперь ей конец. Не видела, что ль, она все исследования скопипастила у какого-то дядьки! А где она сама, кстати? Чего-то не видать!
В холл вышла Наталья Николаевна. К тишине призывать не пришлось. Все словно ее и ждали — услышать официальное подтверждение или опровержение.
— Прошу всех разойтись по классам. В нашей школе произошло ЧП. Впервые за двадцать пять лет ее существования. Затронута честь всей школы, не только педагогов. Виновные будут найдены и наказаны. А если у кого-то есть вопросы к администрации, тех я жду в своем кабинете.
— Ну вот, грядут репрессии, — прошептал Ромка Кате, тихонько беря ее за руку.
В этот момент у Кати тренькнула эсэмэска. Она вырвала руку и достала телефон. Сообщение от Димки!
«химичка больше неопасна
на связи»
— Пошли в класс. — Ромка потянул Катю за рукав.
— Отстань. — Она резко крутанулась и понеслась по главной лестнице вниз, надеясь догнать Димку.
Он быстро шел к школьным воротам, уже одетый, с сумкой, как будто и не собирался возвращаться в школу.
— Дима, стой! Куда ты? — Она перескочила через две ступени и, уже понимая, что не остановит его, тем не менее снова закричала: — Стой!
И он вдруг остановился, правда, не в ответ на ее крик, а словно вспомнив что-то важное. Открыл сумку, вытащил
несколько листов и, разорвав их на четыре части, выбросил в урну. Потом вышел за ворота и сел в темно-серую машину. Порыв ветра подхватил бумагу, прибил обрывок к ногам Кати. «Индиви…», — прочитала она.
Это было все, что осталось от «Индивидуального плана обучения» учащегося 7-го «Б» класса Сологуба Д.
Глава 22
Инга дописывала статью для «Ведомостей», когда проснулся телефон. От звонка вздрогнула.
— Да, привет, Кирилл. Тьфу, стала бояться телефонных звонков.
— На тебя не похоже. А теперь слушай и решай, бояться тебе или нет. Зря мы в домушников сыграли. Я только что в лоб получил. Со всей силы.
Говорит тихо, но тон угрожающий. Слова жгут раскаленной яростью.
— Из-за меня?
— Хотел бы сказать, что нет. Но — да. Все, что прилетело, поймал всей рожей и туловищем. Дурак был, что не остановил тебя тогда, а надо было.
Кажется, он с удовольствием бы сдавил мое горло, попадись я ему сейчас.
— Да что случилось?
— Сухой остаток. Ты мне список переслала, помнишь? Я его оформил как запрос, в порядке статьи 4–21 УПК РФ. У начальства подписал — все-таки Большой театр, к ним президент ходит, они и послать могут. А Хрущ, полковник наш, аккуратный, иначе б в своем стуле не сидел. Он мне: «Тебе это нужно? Основания железобетонные?» Ну как жопой чуял.
Продолжает возить меня носом по подробностям. Ну почему, чуть что не так — так сразу тон хозяина, который злится на свою непутевую псину?
— Кира, не томи, что не так?
— Да все. Они даже мурыжить наш запрос не стали, в два дня подняли все — и документы, и описи. Так вот: рисуночки, про которые ты думала, что украли, лежат ровненько в положенных папочках на своих законных местах. И все у них в ажуре: документ, фондовый номер, артикул-шмарти-кул. А нам на бланке с конями ответ — идите на фиг всем отделением, у вас там, похоже, слишком буйная фантазия разыгралась и мания подозрительности. И ведь не мне, а полковнику нашему ответили. А уж он мне все объяснил — и кто я после этого, и куда поеду нести патрульную службу.
Ага. Проглотил ругательство, аж поперхнулся.
— Получается, я тебя подставила?
— Получается. Очень даже получается. А что мне на тебя злиться, сам по кругу виноват. Жужлев — тихий алкоголик с руками откуда надо. Работает в театре, подрабатывает в мастерской. Привлечь его можно только за неуплату налогов с трудовой деятельности.
— А убийства как же?
— Все связи, похоже, случайные. Даже если бы Жужлев весь театр вынес, нас бы это к Волохову с Подгорецким не приблизило, поняла?
— И ничего тебе не кажется странным?
— Мне кажется странным, что я тебя еще слушаю. Вот точно говорят — свяжешься с бабой, останешься без порток, а в моем печальном случае — еще и без погон.
Гудки.
Инга распахнула окно. Шел дождь, теплый, незлой, безветренный. Шуршала вода в листве, капли звонко отбивали чечетку на железном отливе. Пахло свежестью, мокрым асфальтом, влажной землей. Внизу плавно перемещались разноцветные круги зонтов, шваркали водопадами воды о тротуар машины. В облаках показались синие просветы. Инга выдавила улыбку: будет солнце, будет нормальная жизнь, все наладится.
Она набрала Штейна.
— Олежек, надо смотаться к Жужлеву. Ты сейчас где?
— Очень надо? — Штейн тяжело вздохнул.
— Необходимо.
— Смогу быть у тебя через полчаса, — мрачно сказал Штейн.
Инга соскочила с подоконника и помчалась в ванную. Прохладный душ всегда помогал ей сосредоточиться. Она заканчивала одеваться, когда снизу просигналил Штейн.
Что за идиотская привычка!
— Да иду уже. — Инга на ходу накинула плащ, схватила зонт и понеслась по лестнице.
Дождь почти перестал, но на улицах было полно воды.
— Опять затопило, как Камбоджу какую-то. Ну точно в джунглях живем. И когда у нас наконец будет мэр-коммунальщик? — Олег вышел из машины и тут же угодил в лужу. Чертыхнулся. Потряс ногой в воздухе.
— Ты как собака! — рассмеялась Инга.
— Зонт сюда. — Он открыл багажник, несколько капель тут же скатились ему за шиворот. — Блин! У меня аппаратура в салоне. Ты на какое время договорилась?
— Мы без звонка. — Инга улыбнулась. — Чтобы он точно был у себя в мастерской.
Штейн недовольно покачал головой:
— Ага, и чтобы сам нам дверь открыл!
Доехали в молчании. Олег дулся. Инга пыталась выстроить в голове предстоящий разговор. Небо опять заволокло, начался заунывный мелкий дождик.
Штейн затормозил у знакомого подъезда.
— Может, все-таки скажешь что-нибудь? Что ты хочешь от Жужлева?
— Он совершенно точно замешан в кражах и убийствах. Олег. — Инга посмотрела на него как на бестолкового ребенка. — У нас три убийства. Три! — потрясла тремя пальцами в воздухе. — Ия убеждена, что кто-то прикрывает его задницу. Хочу понять кто!
— Он что, всех троих грохнул, по-твоему? Я его, конечно, не видел, наверное, у него вместо пальцев лезвия а-ля Фредди Крюггер…
— Я рада, что развеселила тебя, — насупилась Инга.
— Ладно, пойдем, выведем нашу жужелицу на чистую воду, раз уж приехали. — Штейн вышел из машины и тут же опять угодил ногой в лужу. — Блин! Короче, солируй!
Они долго звонили в дверь мастерской. Никто не открывал.
— Без звонка, эффект неожиданности, — ворчал Штейн.
— Он точно здесь. «Ауди» у подъезда видел? Это его.
— А вдруг его тоже укокошили? — Штейн резанул рукой по шее, сделал страшное лицо и подмигнул Инге.
— Тихо, — шикнула она, приложила ухо к двери. — Он там, — прошептала. — Я слышу, — и громко: — Геннадий Викторович, откройте! Мы не полиция! — Для убедительности Инга подкрепила призыв ударами кулака по двери.
Дверь распахнулась. Инга так и застыла с занесенным кулаком для очередного удара.
— Чего барабаните! — прикрикнул на нихЖужлев. — Соседей переполошите! Может, я в туалете сижу. Зачем приперлись? — Он попытался захлопнуть дверь перед их носом.
Но не вышло: Олег молниеносно вставил в щель ногу и навалился на дверь всем телом. Жужлев отступил, и Штейн с Ингой ввалились в мастерскую.
Сплюнув, Жужлев пошел в глубь мастерской. Инга со Штейном переглянулись и шагнули за ним.
— По-моему, он нам рад, — шепнул Олег.
— Ага, ты тоже заметил?
В мастерской все было перевернуто вверх ногами. Только на диване вещи были сложены аккуратной горкой. Инга даже усмотрела в них некоторую систему.
Геннадий, словно забыв о посетителях, метался по комнате, бормоча под нос:
— Подрамники положил, шпатели, стеки… рубанок. — Он поискал глазами. — А, к черту, не понадобится!
— Геннадий Викторович! — позвала его Инга. — Переезжаете?
— Не вашего ума, — огрызнулся Жужлев.
Агрессивно-красная волна — по глазам. И как ему живется в этом постоянном страхе?
— О! — Штейн поднял с пола непочатую бутылку водки. — Забыли упаковать-то!
— Завязал, — отрезал Жужлев и начал торопливо складывать кисточки в раскладной кожаный футляр.
— Далеко намылились-то? — Инга задумчиво взяла Конан Дойла с дивана, начала листать. — Вы же вроде под подпиской.
— Уже нет! — Он зло вырвал книгу у нее из рук и кинул в черную сумку, которая стояла с разинутой пастью у стены. — Дело-то закрыли за отсутствием состава преступления… или события, как там у них. Не-сча-стный случай! Гуляйте отсюда, мальчики и девочки!
Тяжело рядом с ним. Паника зашкаливает. Не сорваться бы. Но рискнем…
— А это мы сейчас проверим, если не возражаете. — Инга достала телефон и начала листать записную книжку. — Где это у меня…
— Что вы ко мне привязались? — Жужлев неожиданно остановился прямо рядом с Ингой, тяжело дыша ей в лицо.
Завязал, говоришь? Ну прямо…
Она инстинктивно выставила вперед руки.
— Вы не только замешаны в крупных махинациях, но и убили человека, — раздельно произнесла она. Штейн встал рядом и теперь нависал надЖужлевым.
— И что? — Если бы не Олег, Жужлев точно врезал бы ей, не посмотрел, что женщина. — Вы что, самые умные? Вам больше всех надо?
— А мне начхать! — Инга не сводила с него глаз. — Одно дело закрыли — второе откроют. Я докажу, что вы умышленно сбили насмерть молодого поэта…
— Молодой поэт! Пидор, блин! Вы на меня еще Профессора повесьте! — Жужлев вдруг захохотал. — И с Гагарой у вас ничего не выйдет, помяните мое слово. Не на ту птицу напали. — Он начал складывать краски, футляры, разноцветные баночки. — Докажу, докажу, — проворчал. — Да кто вам даст-то? Сыщики херовы! Катились бы лучше отсюда. Опомниться не успеете, как Петр Иванович разберется с вами! Не поняли еще?
Тон притворно горделивый. Мстительный. На понт берет! Даже нотки торжествующего веселья. Врешь! Боишься! Тонешь и радуешься, что нас за собой утянешь!
— Какой еще Петр Иванович? — Инга решила ему подыграть.
— Какой, какой! Уксусов! Вот какой! Послушайте, — он стал серьезен, — не лезьте вы в это дело. Мой вам совет. — Он с усилием застегнул сумку и злобно выкрикнул: — А ну, дай пройти!
Страх и тоскливая обреченность. Даже жалко его.
— Куда вы все-таки? — тихо спросила Инга.
— Как можно дальше, — не оборачиваясь, ответил он.
— Уксусов, Уксусов, что-то очень знакомое… Ну что опять со связью!
— Сейчас отъедем немного из этой дыры. — Штейн завел машину. — Интересно, про какого такого Петра Иваныча он болтал? И кто такая птица Гагара? Не в курсе?
— Софья Павловна, — не поднимая головы, бесстрастно ответила Инга. — На уголовном арго это женщины, которые с геями живут. У них с Жужлевым, по ходу, бизнес был.
— Шутишь! — ахнул Штейн.
— Есть! Поймал, LTE! Сейчас загрузится. — Инга замолчала.
— Ну что там? Что? — торопил ее Штейн. — А то я за тобой не поспеваю.
— Это что, розыгрыш такой? — Инга тупо смотрела в телефон.
— Читай давай, а то из машины высажу!
— Уксусов Петр Иванович — прозвище балаганной куклы, русского шута, остряка в красной рубахе, прозванного Петрушкой.
— Фигня, погугли еще. — Олег выруливал на проспект.
— Ну конечно! Как я сразу не вспомнила! У Образцова Петрушка как раз Уксусов. Народный любимец. — Инга продолжила читать. — Внешность не русская. Миндалевидные глаза, нос с горбинкой, голос громкий и писклявый…
— Русский национальный герой, говоришь? Мало того что еврей, так еще и…
— Не перебивай!
— Погоди! Не перебивай! — опять передразнил Штейн Ингу. — Ты мне лучше скажи, откуда Жужлев знал, что Туманов гей, если он вообще думал, что это собака!
— Точно! — Инга на секунду замерла. — А я тебе говорила!
— Ладно, дальше читай!
— «Многие ошибочно считают, что широко раскрытый рот Петрушки — улыбка, однако это не так. Петрушка постоянно растягивает губы в злобном оскале. На руках у него по четыре пальца, возможный символ того, что Петрушка — не человек, а некий персонаж из другого мира…»
— Я понял! — вскричал Штейн. Инга от неожиданности вздрогнула. — Это инопланетянин-маньяк. Он высасывает мозги через шейный позвонок! Где моя шапочка из фольги?!
— Дурак! — Инга пихнула его в бок. — Слушай дальше, неуч! Вот несколько сюжетов про Петрушку, так… — Инга пролистнула страничку вниз, начала читать скороговоркой. — «Решает купить лошадь, долго торгуется с цыганом. Потом Петрушке надоедает торг, и вместо денег он долго бьет цыгана по спине».
— Это по-нашему, — одобрил Штейн.
— «… приходит доктор и расспрашивает Петрушку о его болезнях. — Инга решила не обращать внимания на реплики Олега. — Выясняется, что у того все болит. Между Доктором и Петрушкой происходит драка, в конце которой Петрушка сильно бьет врага дубинкой по голове. Появляется квартальный. „Ты зачем убил доктора?“ Он отвечает: „Затем, что плохо свою науку знает“. После допроса Петрушка бьет дубиной квартального по голове и убивает его».
— Инга, это точно наш маньяк, — серьезно сказал Штейн. — Три трупа уже есть.
Она выключила телефон и не мигая смотрела на черный экран.
— Я вспомнила… — Она повернулась к Олегу.
— Ты в курсе, что у тебя вид, как будто ты привидение увидела. Я всерьез о тебе беспокоюсь! Если что, там в барадчке феназепам и валерьянка…
— Олег, Туманов перед смертью говорил о Петрушке!
Оказалось, что она отлично — слово в слово — помнит последний короткий стишок Туманова, который поначалу приняла за его эксцентричный бред. Стихотворение было построено так, что каждая последующая строка цеплялась за предыдущую, словно нить накручивалась на прялку, и рифмы были абсолютно гладкими, как в детской считалке.
— Мда… — протянул Штейн. — Зловещий прогноз в реальном времени.
— Смотри. Под колесами машины погиб Влад. А дальше «каждому согласно чину» — что-то еще должно произойти!
— А сам Петрушка? Кто это может быть? — Оба помолчали. — Невидимка, но знаменитый.
— Серый кардинал какой-нибудь? — предположила Инга.
— Причем с ужимками.
Где я последний раз слышала про ужимки? «Какие у нее ужимки и прыжки, я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа». Мишка-медведь, мартышка и зеркало.
— «Что Климыч на руку нечист, все это знают, про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра», — процитировала Инга Крылова. — Слушай, Олег, может быть, Петрушка — какой-нибудь высокопоставленный чиновник?
— Кажется, всё. — Жужлев оглядел мастерскую.
Он присел на край дивана, сложил руки на коленях. Подумал о дурацкой традиции «посидеть на дорожку». Когда-то жена объяснила ему, что раньше люди в эти минуты произносили про себя молитвы о благополучном пути. Но он не знал ни одной молитвы.
Он встал, хрустнул пальцами, повесил свой любимый походный мольберт на плечо, поднял с пола сумки.
Черт же дернул сказать вчера Петрушке про компромат! Нашел кого пугать шантажом, идиот! Права Райка, сука, если и был ум, то весь на хрен пропил! Ну ничего. Нас голыми руками не возьмешь. Деньги есть, схорониться есть где, а там, глядишь, страсти улягутся. Еще раз окинул взглядом комнату, понимая — больше он никогда сюда не вернется.
Жужлев вышел из мастерской, запер дверь, подумал немного, вспомнил про бутылку водки, сделал шаг назад, но передумал возвращаться — дороги не будет.
Остаток вещей закидал в салон, багажник был уже под завязку.
Сел, погладил руль, завел машину. Он уезжал с тяжелым сердцем. И дело было даже не в семье. С Райкой последние годы они не сильно ладили. Сын его от первого брака, слава богу, теперь живет отдельно, три года назад Жужлев сделал широкий жест: купил ему на свадьбу квартиру. Однокомнатную, конечно, и не в центре, но для Райки это стало последний каплей. Она ведь не представляла, сколько он на самом деле зашибал. А как объяснишь ей, дуре, что не в деньгах счастье, как оказалось. Поздно только он сам это понял. Слишком поздно. Хотя — Геннадий криво усмехнулся — деньги не нужны только тогда, когда их много.
Жужлев выехал на МКАД, теперь до съезда на Щелковское, а там каких-то пятьсот с гаком. К ночи будет на месте.
Дороги были не забиты, «Ауди» шла отлично. Гена вспомнил, как радовался первой машине. «Форд Фокус» — предел мечтаний. Райка была на седьмом небе. Казалось, огромная счастливая жизнь впереди. Ездили за грибами, даже в лес с ночевкой. Лешка был маленький, они раскладывали сиденье, и он, как лягушонок, нырял между ними. Райка тогда к нему еще благоволила. Комары только, сволочи, окно откроешь — и все, сожрали.
Гена понял, что улыбается, удивился сам себе — и чуть не проскочил съезд. Подрезал какую-то «Ниву», ему даже не посигналили. Есть все-таки понятие дорожной иерархии, приятно, конечно, хоть и противно.
Эту последнюю машину — «AudiA5» — он выбрал быстро. Срубил за последний заказ пару лимонов, поехал в салон и купил, как будто молоко в гастрономе. В салоне уже ждали, обслужили по высшему разряду. Петрушка позаботился, даже номер блатной подогнал: аж три бесконечности, обещание вечной жизни. Тогда еще отметил: радости, сука, никакой. А машина-то классная. Как идет! Супер-GPS, контроль дистанции и полосы, электроники столько, что никаких мозгов не хватит, четыре месяца ездит, а до сих пор про некоторые фичи не в курсах. Не нужно столько нормальному человеку, не нужно…
Когда приехал Москву покорять, даже мечтать о таком не мог. Перебивался еле-еле. По электричкам ходил, книжки да обложки для паспортов продавал. Зато драйв был! Какой драйв!
Жужлев вспомнил, как вместе с Яшкой продавали картины на улице, народ подходил, смотрел и шел себе дальше. Яшка тогда и говорит, а давай как Шагал с Леже, я буду играть на губной гармошке, а ты жалостливые песни петь. У обоих был неплохой слух. Талантами вообще бог не обидел. Недаром их с Яшкой считали самыми талантливыми на потоке.
Эх, если бы можно было все повернуть! Не влезать в ипотеку, не брать тот первый заказ, послать Петрушку на хрен сразу и бесповоротно. Понимал же, что заглатывает крючок. Яшка молодец, отскочил, а я польстился.
Жужлев кинул взгляд в зеркало заднего вида. Показалось? На МКАД за ним хвостом шел «Опель». Этот или другой? На всякий случай запомнил номер и вжал педаль газа. Оторвался вроде. Теперь его от «Опеля» отделял пяток машин.
После седьмой подделки начал вести тетрадь. Сразу придумал шифр, в детстве увлекался этими глупостями. Даже во вкус вошел. Заказов стало много. Сначала Петрушка подбрасывал — этому в основном были нужны работы начала XX века. Легкотня! В театре учета никакого, оригинал взял, копию вернул — никто ничего не замечал. Потом и сам оброс знакомствами. Гагара помогала, конечно. Сама несколько работ у него взяла и клиентов постоянно подгоняла. Но процент драла! Вот тоже любительница легкого бабла, просто родственная душа. Почувствовал себя самым умным, изворотливым, всесильным, любовницу даже завел, типа, так положено по статусу. Козел, блин! Но даже это еще терпимо — не мокруха же. И вот дождался — как нас этот пацан подставил с Профессором! Надо, надо было сразу драпать, когда он принес эту чертову книгу. Так нет же, сидел, идиот… Теперь вот пятки горят.
Жужлев увидел, как «Опель» сворачивает на проселок между подступившими прямо к трассе домами. Выдохнул. Расправил плечи, поерзал вспотевшей спиной по кожаному сиденью. «Следующую машину возьму с алькантарой, говорят, от замши жопа не так потеет. — Он покивал, соглашаясь с собственной мыслью. — Хотя… пусть это будет самая главная твоя проблема, Гена!»
В ста километрах от стремительно улетающей назад развилки, в офисе системы спутниковой безопасности «Альтаир-авто» замигал и проснулся экран компьютера. На синем поле с логотипом фирмы высветился баннер «Код 200, профиль О 888 ОХ 197, протокол — emergency engineblock, для сброса режима дистанционной остановки транспортного средства нажмите любую клавишу в течение 20… 19… 18…»
«Все-таки школьные друзья — это здорово! Сидел бы ты, полковник в отставке, гвардии Матвеич всея Руси, с внуками на даче… А так — прям офисный планктон!» — Сергей Матвеич отодвинул подальше от себя клавиатуру, выключил чайник, залил в кружку кипяток. Достал чайный пакетик, опустил в еще пузырящуюся воду. Чай пить на пульте, конечно, не разрешали, но небольшие отступления от правил Матвеич себе позволял.
Когда его выперли на военную пенсию, друг детства, Володька, здорово поднявшийся на автомобильных системах безопасности, предложил ему эту работу. Если на экране появлялось слово Error, Матвеич должен был позвонить по телефону лохматым мальчишкам из техподдержки. И ждать команды от Володьки. «А чего, они сами не видят этот Error?», — спросил как-то Матвеич. «Им, старик, то, что ты видишь, знать не надо. Айтишники — это перекати-поле, сегодня здесь, а завтра неизвестно где. Не верю я им, — пояснил Володька. — Тебе верю, как себе!» Матвеич млел и гордился собой. А что там друг делает на самом деле, какие заказы выполняет, с кем контачит и вообще как работает эта мудрёная спутниковая система для дорогих иномарок — Матвеичу и не важно. Друзья ж детства! А вот и чаёк заварился! Ладно, незнакомый «О 888 ОХ 197», делай, что велит тебе умная техника! 9…8…7… Матвеич подмигнул в сторону большой стеклянной перегородки, за которой его школьный дружочек Володька что-то беззвучно говорил в телефон.
— Приемная Петряева, слушаю вас… Нет, он на внешней встрече… Да, соединяю…
Валерий Николаевич в сотый раз обматерил сам себя. Все-таки надо отдавать все телефоны охране, а кому приспичит позвонить — перетопчутся! В сигарной комнате ресторана «Белгород» — самом модном месте этого лета — не пристало отвечать по мобильным. Вот и сидишь, как идиот, слушаешь болтовню вице-премьера про какие-то замороченные черноморские вина, а в заднем кармане брюк, да что там, прям в заднице, как у пидора последнего, жужжит и дрыгается чертов айфон! Ну кого там несет?
— Николай Дмитрии, прости любезно! Это, поди, из аппапрата Председателя домогаются. Должен ответить!
— Дела, Валерий Николаич, прежде всего! Отвечай, дорогой! Я-то, грешным делом, подумал, геморрой депутатский тебя замучил. Все ерзаешь. А мы пожуем пока, что тут нам Исакыч наш Рахмилович наготовил.
«Уел, ну уел! Прямо при всех… ладно, терпи, Петряев».
— Да, давай, соединяй. — Он сел вполоборота, прикрыл трубку рукой. — Володя, привет, без деталей, я на встрече. И что спутник? Ну, молодцы!.. Все-все, не надо мне подробностей, я тебя услышал, — повторил Петряев. — Главное, я же говорю — спасибо, ценю! Я и не сомневался. Подтверждение сам получу. Так что ты говоришь, Николай Дмитрии, — он снова повернулся к собеседникам, — сможешь подогнать ящичек этого вина? У меня тут повод скоро, семейное торжество, так сказать. Я тебе приглашеньице через приемную подошлю, лады?
— Обязательно присылай. Будет окошко перед Госсоветом, я тут же у тебя. Отдыхать тоже надо когда-нибудь. Ты-то, я смотрю, просто горишь на работе. Спутниками занялся? Тоже правильно.
— Да куда же без этого теперь? Спутники, Джи-Пи-Эсы всякие, искусственный интеллект, дистанционные методы. Дело перспективное. Давай, Николай Дмитрии, выпьем твоего винца за научно-технический прогресс на службе, так сказать, родине!
— Родина нас не забудет, это точно! Бывай здоров, Валерий Николаевич!
Впереди был прямой участок дороги. Жужлев поддал газу, пошел на обгон грузовика. Он не сразу понял, что произошло. Сначала закусило руль, а потом стало тихо. Страшно тихо. Руль со свернутыми колесами стал чугунным. Машину несло в сторону. Он ударил по педали тормоза, она не сдвинулась с места, а тело пронзило от ступни до макушки острой болью. Бесполезная ручка коробки скоростей, кнопка ручного тормоза, шайба бортового компьютера, усилители руля и тормозов, все стрелки и экраны умерли в одну секунду вместе с мотором. Тишину разорвал долгий пронзительный сигнал. Навстречу огромной черной массой на него неслась решетка фуры-дальнобойщика. Буквы Scania были последним, что увидел Жужлев.
Глава 23
Она стоит на подиуме в холодном мерцании софитов. В зале раздаются свист и крики.
— Вон отсюда, тебе здесь не место!
Луч выхватывает одно за другим смеющиеся обезумевшие лица — Арег, Бубнов, Рыльчин. Свет попадает на Катю, она отвернулась от нее, ей стыдно. Инга пытается сделать шаг, но тело не слушается, от нее осталась только оболочка, она — тряпичная кукла. Ею руководит невидимая жесткая рука. Палец поднимется вверх, и рука Инги послушно тянется туда же. Опускается. Следом другая.
— Раз, двааа!
Ватные ноги безжизненно болтаются внизу.
— Вверх, вниз, поверни голову, руки вверх, аплодируй, кривляйся, плачь, кричи, умри.
Смех, плевки, крики. Ладонь высоко поднимает ее, так, что перехватывает горло, и бросает с силой на подиум. Тот вдруг становится вязким и зловонным, затягивает ее в себя, как в болото. Она карабкается, но ее тянет на дно, грязная жижа все выше, смех все громче, тошнота подкатывает к горлу, она тонет.
— Спишь? — без каких-либо вступлений сказала Холодивкер.
Инга еще слышит крики, пытается удержаться за стену. Игрушечные пальцы не гнутся, скользят.
— Сплю, но с кошмарами.
— Это нормально. Хотела интересной жизни — получи. Добро пожаловать в клуб!
— Ты звонишь пожелать мне доброго утра? Как приятно с твоей стороны. — Инга поставила ноги на утренний холодный пол, чтобы скорее очнуться.
— Конечно, ага. Зови меня голубкой, даже Паломой можешь! Только прилетать я буду не с оливковой веткой, а с результатами вскрытия в клюве, хорошо?
Инга подошла к окну. Небо тоже не обещало ничего хорошего.
— Я правильно понимаю, что никакого мира не предвидится?
— Правильно, миром и не пахнет — химики подтвердили. Спектрометрия опять показывает пики, а эталонов у них нет. Неизвестная синтетика. Подгорецкий отдал концы, вероятно, от того же препарата, что и Волохов. У нас серийный убийца, поздравляю тебя, дорогая редакция.
Ноги увязли в скользком зловонном болоте, рукам было не за что ухватиться.
— Ты уверена? — спросила Инга. И тут же сама ответила: — Конечно, что я спрашиваю.
— Уверенность у меня всегда в процентах выражается. В этом конкретном случае я на 90 процентов могу утверждать, что этих двоих отправили на тот свет одним и тем же способом. Ладно, пойду. Жмурики зовут! Созвонимся!
В трубке остались только гудки. Ингу бил озноб, ломало все тело.
Во что я вляпалась?
По городу ходит убийца с небольшим шприцем. Он появляется у одиноких людей дома, они сами ему открывают дверь, он делает укол тонкой иглой, и наступает смерть. Убийца не оставляет следов, действует бесшумно, будто бы с их согласия. Может, это способ покончить с жизнью? Оказание услуг эвтаназии? Может быть, все эти люди просто нашли исполнителя? Он делает все аккуратно и дает им возможность безболезненно уйти из жизни. Сделает свое дело и исчезает.
Черный человек.
Волохов, Подгорецкий, кто следующий? Что между ними общего? Они оба — из мира искусства, правда, Волохов был личностью известной, а Подгорецкий, несмотря на свои великие балеты, жил в полном одиночестве, всеми забытый.
Что, что же между нами общего?
Кофе возвращал к жизни. Катя еще спала, скоро ее будить, а пока можно было не спеша прийти в себя.
Инга открыла компьютер, сделала запрос.
«Волохов Подгорецкий»
Ничего.
«Волохов Подгорецкий болезнь»
«Волохов Подгорецкий культура»
«Подгорецкий хореография Волохов»
Ничего, разве что Волохов упоминает великолепие постановки «Анны Карениной». Но это не зацепка, а общее место.
Инга услышала будильник в Катькиной комнате. Сделала новый запрос:
«Подгорецкий книги»
Ничего. Если ценных книг у него не было, тогда, может быть, он собирал что-то другое?
«Подгорецкий коллекция»
В коротком списке появилась небольшая статья о выставке в Музее декоративно-прикладного искусства «Советский агитационный фарфор из личных коллекций».
«После революции 1917 года работа царских фарфоровых мануфактур была остановлена. Предстояло решить, что делать с национализированным изящным промыслом, дабы он не ассоциировался с прошлой буржуазной культурой. И к началу 20-х годов появились новые, пролетарские примеры фарфорового искусства, Императорский фарфоровый завод, переименованный в ЛФЗ, заработал на советскую идеологию. Знаменитые гарднеровские мануфактуры (Вербилки) были переименованы в Дмитровский фарфоровый завод.
Агитационный фарфор воздействовал на народное сознание вместе с лозунгами и плакатами. Впоследствии он стал и экспортной продукцией, прославлявшей молодую страну. Он, будто летопись, отражал вехи истории Союза Советских республик: индустриализация (1927), коллективизация (1929) и культурная революция (1929–1930).
В экспозиции выставки представлены работы коллекционеров Станкевич Е. К., Кац Ф. Р., Доценко А. А. и Подгорецкого В. Б. Особо ценными экземплярами выставки можно назвать:
Блюдо „Путь к социализму“, ЛФЗ им. М. В. Ломоносова, 1927 год.
Блюдо к пятилетию Октябрьской революции. Роспись художника М. В. Лебедева, 1922 год.
Тарелка „Динамическая композиция“. Автор рисунка Казимир Малевич, 1926 год».
Вот она — зацепка! Значит, у Подгорецкого были предметы агитационного фарфора! И сколько — пока неизвестно. Наивные тарелочки с тракторами и революционными лозунгами, с дородными работницами, супрематическими крестьянами — в советское время оценить их могли единицы, тогда предпочитали имперскую классику.
Инга набрала Эдика и без вступления выпалила:
— Привет! Можно вопрос?
— Тебе все можно, ты же знаешь. — Голос у Эдика, когда он говорил с Ингой, становился бархатным.
— «Все» пока не требуется, — осадила она. — У меня вопрос по коллекционерам. Помнишь там, на встрече у твоих соседей был один, ну тот, что наклейки от бутылок собирал?
— Тимоха. А что? Тебе он зачем? Я должен волноваться?
— Да нет, все в порядке, просто у меня никого в этом мире. Они какие, коллекционеры? Про аддикцию помню, детали давай. Им что важно?
— Причины разные, кому — деньги вложить, типа инвестиция, кто-то славы жаждет, а кому-то как раз наоборот — тихо владеть. Это для них интим. У меня есть пара таких знакомых, хочешь…
— Значит, обладать и никому не показывать, ага. — Инга неслась через три ступеньки. — А если на выставке указано «Из частного собрания» — и все?
— Значит, владелец не хочет публичности.
— А если его фамилия появилась позже, в буклете или в статье?
— Тогда это ляп, нарушение конфиденциальности. Ну слушай, Градова… ой, прости, ты ж теперь Белова! — Эдик сделал вид, что оговорился случайно. — Если упоминание имени коллекционера не было согласовано, то скандал. Как это у вас, журналистов, бывает: писали в спешке, не утвердили, отправили в печать, ну ты знаешь.
— Притормози, ради бога! — Она уже не слушала. — Позвоню тебе на днях!
Подгорецкий мог и не знать об этой публикации. Больше в связи с фарфором его имя нигде не упоминалось, так что славы как коллекционер он точно не жаждал. Неужели какая-то статья могла стоить ему жизни?
Итак. Общее у них с Волоховым было. Жертвы были собирателями. Инга разволновалась — ей казалось, что прямо сейчас где-то в тишине одинокой квартиры рука с ядовитым шприцем приближается к новой жертве. Впереди еще одно кровоизлияние в мозг, тихие похороны и пропавшая уникальная вещица.
Старость, одиночество, коллекция, укол в шейную артерию — его стиль. Или ее? Редкие злодеи в погоне за редкими коллекциями! Неужели Гагара с реставратором Жужлевым? Она делает укол — он сбывает предметы искусства? Софья Павловна вращается в нужных кругах, у кого только она не бывает в гостях — может быть в курсе, где и чем можно поживиться. А Туманова убрали из-за того, что был случайным свидетелем? Стоп! Что-то чересчур! А молодой любовник? А пластическая операция? Нет, не может быть. И кто такой Петрушка? Боже! Архив Агеева! Это тоже единственная в своем роде коллекция! Он в опасности! Или у меня паранойя?
Она зашла в Катину комнату. Дочь лежала, зарывшись в одеяло.
— Катька! Будильник был двадцать минут назад! Вставай!
Из-под одеяла замычали. Инга вернулась на кухню, быстро нарубила бутербродов, налила чай в любимую Катину кружку с надписью «World’s best dad» — Сергей забыл при переезде, а дочь себе присвоила. Инга услышала, как она сонно протопала в ванную.
Inga
Подключен(а):
Indiwind, ты здесь?
Он всегда отвечал мгновенно, будто никогда не спал.
Indiwind
Подключен(а):
здесь
Inga
Нужна информация по всем умершим от инсульта или кровоизлияния в мозг пенсионерам, у которых были частные коллекции. Это возможно?
Indiwind
да год рождения
Inga
Возьми с 1920 по 1940
Indiwind
принято
— Восемь пятнадцать уже! — Катя вылетела из ванной, уперев в Ингу взгляд-упрек.
— Что ты на меня так смотришь? — спокойно спросила Инга. — Это же не я коконом из одеяла после будильника валялась. Садись, поешь.
— Некогда. — Катька схватила бутерброд. — У нас сегодня первая алгебра, Валерьяновна тех, кто опаздывает, убивает и ест. Хруп-хруп! Прямо в классе!
Но чаю все-таки глотнула. Потом чмокнула Ингу и еще минут десять — как раз до звонка — шебуршала, собираясь, в прихожей. Наконец стукнула дверь.
Инга взяла Катькину чашку, допила за ней чай. В голове вертелось: Волохов-Подгорецкий. Книга-фарфор. Чего-то недоставало. Телефон выдернул ее из размышлений.
— Инга, здравствуй, это Майкл. Ты что-то занята сегодня днем?
Я что-то всегда теперь занята, и с каждым днем все больше. Но как хорошо, что ты позвонил!
— Немного.
— Жаль. Я должен спросить твоего совета для важного дела.
— Вообще-то я занята тем, что думаю, с какой стороны тебе лучше показать Москву.
— О, это правда очень интересно. — Она услышала, как он улыбается. — Я готов. А ты готова на весь день?
— Там разберемся.
— Что будем разбирать?
Даже в мелочах он был классный. Договорились встретиться на Китай-городе.
Узкие брюки, большой горчичный свитер, клетчатый шарф — она знала, что ей все это к лицу. Майкл стоял у выхода из метро. Она сразу увидела его. Рыжая, яркая, солнечная — он улыбнулся ей.
— Добрый день, Инга! Я рад тебя видеть! Спасибо, что ты согласна встретиться со мной. Это важно.
Он действительно рад. Но еще — озабочен и напряжен. У него ко мне дело, и он не знает, как начать. У него дело, а у меня — первое свидание. И я хочу показать ему Москву, хочу просто и легко болтать о пустяках, хочу смотреть на его профиль и слушать его обаятельно исковерканный русский.
День был прекрасен, но экскурсия по центру Москвы началась со стройки. Выйдя на Варварку, они оказались перед нескончаемыми рядами полосатых зеленых заборов. В воздухе висела бетонная пыль, делая его практически невдыхабельным. Тем не менее Инга решительно начала:
— Смотри, Варварка сохранилась почти нетронутой. Кусочек Москвы XIX века. Слева — Храмы Варвары Великомученицы, Георгия Победоносца, палаты приближенных к царю бояр Романовых, справа — Гостиный двор, а вон там, впереди, виднеется храм Василия Блаженного и Кремль.
Он рассеянно улыбнулся, спросил:
— А внутрь палат Романовых можно зайти?
— Нет, санитарный день. Мы с тобой в районе Зарядье. Этот район был единственным местом, где в XIX веке разрешали жить евреям. Евреи селились в границах района. Здесь стояли небольшие домики с вывесками «Часовщик Анцелович», «Булочник Дроздонс», «Фабрика гарусной тесьмы Э. Бенньямисона». Были две синагоги. Потом, после революции, почти весь район снесли, осталась только эта улочка. Собирались выстроить гигантский небоскреб с названием Наркомтяжпром. Это уже наш конструктивизм, слышал, наверное?
— Да, это были интересные архитекторы, ваш авангард, я читал о них. Хочу посмотреть их дома. А что это нар-тяж — пром-ком? — медленно выговорил он.
Интонация дежурной вежливости. Это из-за акцента или тебя занимает что-то совсем другое? Еще как! Не я — к сожалению, не я и не Москва. Ни одного золотисто-желтого лучика с глубоким малиновым отливом, какие красивые были слова Сережи когда-то! А здесь? Ровный серо-синий: внимателен, настроен на дело.
Инга рассказывала и рассказывала. Но настроение упало. Она видела, что Майкл ее почти не слушает. Хотя ему явно нравилось смотреть на нее, наблюдать за мимикой, слышать голос, и неважно было, о чем она говорила — конструктивизм, индустриализация, весенняя умытая Москва — он невольно любовался ею. Но будто заставлял себя сосредоточиться на другом — важном и, по-видимому, не очень приятном. Морщинка беспокойства то и дело прорезала лоб над переносицей.
А ведь ты прилетел сюда совсем не для того, чтобы повидаться с Александрой Николаевной…
От Китай-города они дошли до Красной площади. Из ГУМа лился говорливый поток китайцев, обвешанных пластиковыми пакетами.
— Я проголодалась, — улыбнулась Инга.
— О! Извини. Я должен тебя угостить. У нас же свидание, да? — Он посмотрел на нее.
— Пойдем внутрь, там есть несколько неплохих кафе. — Инга показала на ГУМ, довольная, что Майкл произнес это слово. Все-таки свидание. Отлично.
Они нашли «Кофемафию» на втором этаже — прямо над фонтаном.
— Тут вкусные десерты, — сказала она, делая вид, что читает белую картонку меню. Есть совсем не хотелось. Майкл смотрел сквозь перила вниз — на водный купол фонтана, на мороженщицу с лотком вафельных стаканчиков, к которой выстроилась очередь.
Официант принес бутылку минеральной воды, разлил по бокалам. Майкл сделал небольшой глоток.
Широкие ладони и узкие кисти.
Инге нравились его руки.
— Я сказал тебе, что у меня есть важное дело. Ты готова выслушать? — решился он, будто прыгнул с балкона в фонтан.
Она кивнула.
— Я приехал в Москву не только чтобы увидеть тетю. Я должен завершить одно дело. Это дело моей жизни уже пять лет. Это касаться моей семьи. Того, как они погибли: дедушка и бабушка, две сестры отца.
— Хочешь, говори по-английски!
— Нет, я должен… пробовать свой русский. Мой дед арестован… был арестован через две недели после «Кристал Нахт». Ты знаешь об этом?
— Да, «Хрустальная ночь», это немецкий 37-й год.
— Нет, не так. Это было в 38-м году — были аресты евреев, только евреев. Знаешь, есть второе название — Novemberpogrome.
Им принесли заказ: страчателлу в томатном соусе, салат с креветками, авокадо с икрой летучей рыбы. Порции были небольшими, в тарелках с толстым белым дном. Эта изысканная еда совершенно не вязалась с последним словом, которое он произнес.
— Мой дед, Михаил Пельц, отдал все наши сбережения и драгоценности одному человеку. Его звали Рудольф фон Майер. Тот обещал их вывезти, сказал, что их не тронут. А утром пришли штурмовики и взяли деда. Им сказали, что они прятали ценности. — Майкл говорил все увереннее.
— Получается, что этот человек не успел…
— Я знаю теперь — он не собирался. Он брал список драгоценностей от евреев и сдавал в полицию как документ. Донос и список. СС не надо было ничего делать, только арестовывать. Очень удобно! Я смотрел дело, файл в архиве, там все вещи моего деда написаны, нет, не так — описаны точно — кольцо из сапфира, серьги — рубин. В архиве ITS я нашел еще около трех тысяч доносов, как с моим дедом, и почерк везде был такой, как в расписке деда — почерк Майера. Он знал, что расписки никто ему не… о боже, как это? — claim…
— …предъявят.
— Да! Никто не предъявят, потому что все погибли. Осталась одна расписка у меня. Я заказал тест почерка: абсолютный совпадение. Я давно знал, как погибла моя семья, но я не знал, что таких семей были сотни. Три года назад я нашел не только подтверждение в том, что это был такой… конвейер, но и имя того, кто был виновен… в смерти их всех.
— Но почему Майеру доверяли? Если к людям, сдавшим ему драгоценности, приходили СС с ордером на арест? — Инге стало холодно.
Майкл взмахнул обеими руками перед собой, чуть растопырив пальцы — странное американское движение, которого нет больше ни в одном языке жестов.
— В этом и трюк! Смотри, первые 150 человек он переправил из Германии, точно как обещал. СС знали все и ждали. Это была система, чтобы кон-фис-ко-вы-вать. — Майкл по слогам, но справился с этим словом. — Отнимать богатства, которые прятали. Это не известно почти, но был закон в Германии, что евреи должны переписать свои счета и вещи в пользу правительства. Такой штраф, за погромы в «Кристал Нахт». И тогда могли дать паспорт на выезд, если сумма достаточно. Но дальше как жить? Люди прятали что-то, что могли. И тут входит Майер — он обещает выезд и отнимает последнее. Часто самое лучшее и дорогое.
— Значит, все ради денег?
— Не только! Он считал себя коллектором, нет, опять не то слово.
— Коллекционером, — подсказала Инга.
— Да, спасибо. Он знал живопись, ювелирное дело XIX и XX века. Он оставлял себе лучшее. И опять очень умно: «Шутцштаффель» — СС — считали, что это плохое искусство, искусство дегенератов, не арийское, не нужное Райху. Им — евреи, Майеру — объекты искусства. Такой дил. И никто не знает это, даже сейчас. Майер — герой в Лейпциге.
— Дед попал в концлагерь?
— Да, сначала евреев из Лейпцига направляли в Бухенвальд. Он умер там в 39-м году.
— Его убили?
— Нет-нет, от эпидемии тифа. Я не знаю теперь, что было хуже.
— А папа?
— Была операция «Киндертранспорт» — волонтеры «Всемирного еврейского центра помощи» вывозили еврейских детей в Англию. Сначала в Голландию, на поезде, потом из порта Хук-ван-Холланд — это Роттердам, и оттуда — корабль. Они хотели вывезти всех, был специальный план. Но этого не случилось. Семье деда было дано одно место. Бабушка, трое детей — и одно место! — Майкл запнулся. — Слушай, ты уверена, что хочешь это знать?
— Майкл, я теперь должна дослушать! Ты сам-то в порядке?
— Нет. — Он опять замолчал, посмотрел на так и не тронутую еду на столе. — В тот день отец нес хлеб для семьи, нашел loaf, как это?
— Буханку.
— …буханку. Бабушка его встретила на пороге. Она отломила половину хлеба, другую половину дала обратно отцу. Его чемодан был уже собран, его даже не пустили на минуту в дом. Бабушка сказала: «Беги! Не смотри назад!». Только один раз обняла.
Майкл замолчал.
— Вот. — Майкл достал из своего рюкзака и протянул ей потускневший, с прорехами, бисерный кошелек. — Все, что от них осталось. Бабушку и сестер папы выслали на границу Польши, потом отправили в гетто, оттуда в концлагерь. Бабушка и Руфина были отправлены в женский лагерь Освенцим-Биркенау, Анна, ей было пять лет тогда, — в Терезиенштадт. Ты слышала когда-нибудь про сказку Карафиата «Светлячки»?
— Нет, ни разу.
— У протестантов она очень популярна. Грустная история о смирении, любви и хрупкой жизни.
— Почему ты вспомнил о ней?
— Не в этом дело. Терезиенштадт был очень специальным лагерем, комиссии Красного Креста туда приезжали: им показывали, как хорошо евреи живут в концлагерях. Там была больница, школа, кафе и даже библиотека, у них там все было. И театр, где ставили спектакль по этой христианской книжке. Дети в костюмах с крыльями — как светлячки, они танцевали по сцене, а взрослые читали текст. Почему так? Дети просто не успевали запомнить слова: они успевали играть в этом спектакле не больше одного раза. Их убивали либо в самом Терезине, либо в Освенциме — в газовых камерах. Заключенных было слишком много — там не было места для всех. Я думаю, Анна точно однажды надела костюм светлячка — туда отбирали самых симпатичных детей. Я видел ее фотографии в архиве: она была очень красива.
Они попросили счет. Удивленный официант унес их заказ обратно на кухню. Когда они вышли из ГУМа, было уже около четырех часов дня. Облака заволокли небо, стало пасмурно и почти тихо. Майкл и Инга повернули в Александровский сад, молча постояли у Вечного огня и теперь медленно брели в тишине вдоль мемориальной аллеи городов-героев. У стелы Киеву Майкл остановился и вновь заговорил:
— Семья Пельц началась здесь. И в этом мире у них нет могилы.
Он склонился в поклоне и совсем по-американски, как будто не у стен Кремля, а у памятника погибшим во Вьетнамской войне, приложил руку к граниту. Инга тихо встала рядом — ей так хотелось обнять его за плечи, но она не успела: язвительный окрик полоснул ее нагайкой:
— А ну отойдите! Руками трогать нельзя! Молодой человек, слышите? — Сзади стояла пожилая женщина в вязаном берете и сером плаще, ее маслянистые глаза из-под тонко выщипанных бровей злобно щурились на Майкла.
Он не понял, к кому относится этот шум, и продолжал стоять, не отнимая руки от камня.
— Не надо кричать. Идите мимо, — холодно осадила ее Инга, но та от этого только раззадорилась.
— Скажи своему мужику-то! Пусть руки-то уберет! А то я сейчас милицию вызову!
Майкл повернулся.
— Как я могу помочь вам? — обратился он к женщине. Та злобно зыркнула на него и зашагала прочь.
Своим острым голосом женщина будто что-то порвала у Инги внутри. Печаль и ужас, которые никак не вписывались в мирную картинку московской весны, навалились на нее тяжелой могильной плитой. Инга заплакала, поплыл тщательно наведенный макияж, поплыл в черных разводах туши Александровский сад, поплыли рыже-красные башни Кремля, пляшущий язык Вечного огня.
— Инга! Что ты?! — Майкл испуганно обнял ее.
— Это ужасно! За что нам… тебе все это?
Инге хотелось повернуть лицо и уткнуться в него носом, но она побоялась испачкать ему свитер своей косметикой. Она вытянула руки, которые прижимала к груди, и обняла его в ответ — намного слабее, чем держал ее он.
— Отец хотел знать, что именно произошло, всю жизнь хотел, но боялся. Как тетя, — тихо говорил Майкл поверх ее макушки. — Он ничего не знал про Майера: не мог себе простить, что выжил один.
Когда Майкл отстранился, ей захотелось взять его за руку, но она не смогла. Он хмуро зашагал вперед, и она поняла, что это еще не конец истории.
Они шли по Большой Никитской, мимо Консерватории, когда Майкл глухо сказал:
— Рудольф фон Майер умер в 1967 году. Но есть сын. Я нашел его — Отто фон Майер. Он известен коллекционер. Интересуется предметами для театра — афиши, костюмы, программы, эскизы декораций. Делает покупки на аукционах, только самое лучшее.
Стал часто ошибаться: переставляет слова, путает фразы, усилился акцент — очень волнуется. Попросить перейти на английский? Нет, не стоит. Перебивать нельзя. Крайне серьезен, цвет стал глубже, насыщеннее — как перед битвой — военно-морской navyblue.
— Инга, он подонок, такой же, как его отец. Лет четыре тому назад я cracked… открыл его имэйл. Если у него не получается легально взять то, что хочет, он ищет… loopholes. Я не знаю по-русски это слово, но он оставляет hands clean. На него работают лучшие юристы и агенты, официально и нет. Я точно знаю, что у него связь с чиновниками в России, и они помогают ему искать предметы. У этого чиновника есть контакт с Большим театром. Они используют шифр в письмах и в мессенджерах. И мне кажется, и он может быть involved… вмешен? В убийство человека за предмет в Москве недавно. Мне нужно было наказать эту семью за то, что она сделала с моей семьей и еще с другими, понимаешь?
Не находит русских слов. Появился неуверенный тон. Сомневается, стоит ли мне доверять.
Недавно убили человека. Предмет искусства. Театр.
Инге стало очень холодно.
Она горячо кивнула. Майкл облегченно кивнул в ответ. Решился.
— Мне очень помогла гроза, — он говорил как человек, довольный своей работой, — в день аукциона в Лондон случилась буря, и они подумали, что их системы обрушились из-за непогоды. А это был я.
— Я видела сюжеты про ураган в Лондоне в новостях, — нерешительно поддержала Инга, пока не понимая, о чем он.
— Я следил за ним. Видел его покупки. Он купил две картины Альфонса Мухи в течение три лет. На обоих — Сара Бернар. Когда Майер собрался в Лондон на «Шелди’с», я посмотрел выставленный каталог. Там была еще одна картина Мухи, и тоже с Бернар. «Insomnia». «Бессонница». Я загрузил изображения трех в Adobe и понял, что они все вместе. Там были общие линии, общие герои и свет. Что это — как сказать? Не знаю русский аналог.
— Серия картин?
— Нет. Когда три вместе? Как иконы?
— Триптих?
— Да! Triptych! — Он резко повернулся к ней, вытянув указательные пальцы вперед. Потом сразу же снизил тон. — Это был триптих, который почти никто не знал. Я выяснил — Отто ездил в Прагу в архивы и узнал. Вместе картины были намного дороже. Я знал, что Майер охотник. Ему нужна была эта «Бессонница». И тогда я придумал план. Первую его часть. Я нашел владельца картины. Им был Карл Лурье, он потомок Бернар. Живет в Амстердам. Я поехал к нему говорить. Очень повезло, что он еврей.
Майкл остановился у скамейки. На миг Инге показалось, что он забыл о ее существовании. Он сел на лавку, продолжая что-то обдумывать. Инга опустилась рядом. Ей хотелось, чтобы он положил руку на ее плечо, но она понимала, что ему сейчас не до этого.
— Прости, — Майкл очнулся от своей задумчивости, — я думаю просто, как лучше тебе сказать, что я хотел.
— Ты хотел сделать Майеру больно. И ты нашел его уязвимое место — коллекцию.
— Да. Но не просто больно. Сильно больно. Лурье оказался drug addicted. Наркотики. И ему действительно были нужны деньги. Он хотел продать картину. Но я ему рассказал все. Про отца. Про Анну. Я заплатил ему, много заплатил. А также — оплатил penalty «Шелди’с» за то, что Карл снял «Бессонницу». В тот момент, который мне был нужен. Я хотел, чтобы Отто считал, что купил картину. Что она у него в руках. А потом — чтобы она ушла. Я устроил хакерскую атаку на аукцион в момент торгов. Гроза мне помогла. Я решил: хороший знак, природа мне помогает. Аукцион перенесли на два дня, и в этот период Карл снял свой лот.
Инга молчала.
— Я страшный человек? — спросил Майкл. — Ты считаешь?
— Я считаю, что ты очень здорово продумал свою месть, — осторожно ответила Инга. — И что это слишком мягкое наказание за то, что сделали Майеры с твоей семьей.
— Я считаю так тоже, — серьезно согласился Майкл. — Конечно, Отто не сдался. Подослал к Лурье своего юриста. Я предупреждал Карла. Но он был готов. Он уже тоже был согласен мстить. Он оказался хороший человек. Карл спрятался в рехаб. Но еще раньше — продал картину мне. Мы оформили сделку in secret. Сейчас пока надо, чтобы Майер еще охотился за ней. Мы договорились объявить, что картина моя, после второй части плана. Я хочу, чтобы Майер узнал, кто ему это сделал. И за что.
Майкл сделал паузу. Он ждал вопроса Инги. И она его задала:
— Второй части плана?
— Да. Через два дня Майер приезжает в Москву на выставку, которая открывается в вашем Национальном Центре «Наследие». Она посвящена его отцу — какой он герой-спаситель. Отто пригласили как почетного гостя. Я готовлю ему небольшой сюрприз.
Мимо скамейки проходила молодая пара с коляской. Девочка в коляске, пухлая и кудрявая, ела эскимо. Мороженое вперемешку с шоколадом текло на ее яркую курточку с крупными принтами божьих коровок. Майкл задумчиво проводил ее взглядом.
— Мне кажется, Анна была похожа на эту девочку, — сказал он и сразу же сменил тему. — Майер никак не может сделать легальной коллекцию отца. Ту, отобранную у евреев. Она у него в подвале. Спрятана. Он хочет получить звание «Праведник мира» — его Израиль присуждает людям, спасавшим евреев во время Второй мировой на свой риск, «Праведник мира» дает много бонусов. Обладатели immunity. Если Майеру удастся получить это для отца посмертно, он решит вопрос с коллекцией. Но ему не удастся. Я долго работал и собрал документы. Пять лет я носиться по миру. Я нашел доносы в СС. Отто приедет в Москву, думая, что это светлый его день, а он будет черный. Я надеюсь. И тут я хочу тебя просить: ты сможешь позвонить знакомым журналистам, пожалуйста? Мне будет нужна пресса. Ничего не говори им, но обещай сенсацию.
— Открытие выставки в «Наследии» само по себе привлечет только журналистов специальных изданий, — сказала Инга, — новостники и телевизионщики вряд ли появятся на таком событии. Но, если намекнуть на сенсацию и эксклюзивное интервью — может и сработать. Я подумаю.
— Интервью можно, — согласился Майкл, — мне есть что сказать им.
В сумке давно вибрировал телефон. Инга не доставала его, чтобы не перебивать Майкла. Теперь, когда тот облегченно откинулся на спинку скамейки, она решила посмотреть, кто ей так настойчиво названивает.
— Ты почему не берешь трубку? — сердито спросил Архаров.
— У меня был важный разговор. Что-то случилось?
— Вокруг тебя постоянно что-то случается, — хмуро подтвердил он.
— Кирилл, говори яснее, — устало попросила Инга.
— Ночью погиб Геннадий Жужлев. Автомобильная авария. Какая-то неисправность в машине.
— Вот бл… — Инга спохватилась. — У нас труп за трупом! А правда его дело закрыли?
— Да, это вообще черт-те что, но если коротко, то правда… Дело с наездом закрыли, но он, видимо, все равно подался в бега, только вот далеко не уехал. Ты все-таки была права — он боялся кого-то больше полиции, — сказал Кирилл. — Теперь можешь материться.
Инга растерянно посмотрела вокруг. Темнело. Мирный гомон проходивших мимо людей говорил об одном: у нас все хорошо, впереди настоящее лето и отдых.
Вот тебе и свидание. Вместо жгучей радости — обморожение и боль от его истории; вместо поцелуя — смерть Жужлева.
— Что-то случилось? — спросил Майкл, когда Инга нажала «отбой».
— Майкл, у меня к тебе два вопроса. Ты сказал, что у Отто фон Майера есть связь с неизвестным чиновником, который знает кого-то из Большого театра. Ты знаешь — кого?
— Фамилия не была написана. — Майкл говорил медленно, тщательно обдумывая каждое слово. — Какой-то человек. У него есть доступ к рисункам костюмов, декораций. Думаю, этот человек рисует копию и кладет в театр. Он художник, реставратор. В переписке они зовут его или ее… сейчас вспомню. Сложно так. А! Кажется, Джу-джа.
— Жужлев! — Инга не заметила, как схватила Майкла за руку. Она вскочила с лавки, ей хотелось куда-то идти, двигаться. — Мне только что позвонил знакомый из полиции и сказал, что этот человек погиб! Майкл, они убирают свидетелей…
Инга быстро пошла вперед, но внезапно остановилась. Майкл, почти бежавший за ней, еле успел затормозить, чтобы не врезаться в нее. Она смотрела ему в глаза тревожно и испуганно, в ужасе от собственной догадки:
— Ты еще сказал, что недавно они убили человека из-за предмета искусства. Что это был за предмет, не знаешь?
— Знаю, — тихо сказал Майкл. Он видел, что и Инга уже знает то, что он сейчас скажет. — Это была книга. Я был занят «Бессонницей» и сбором документов, за этой историей не очень следил. Они называли ее демонстрация, или поход, как-то так.
— «Парад», — сказала Инга. — Они называли ее «Парад».
Глава 24
Дрянь. Какая же она дрянь!
Инга быстро шагала по Верхней Радищевской. Злость мешала сосредоточиться. Перед мостом, на Яузской, она задумалась и шагнула на красный — застоявшиеся на светофоре машины возмущенно загудели, трогаясь с места, но она не остановилась.
Плана не было. При одном воспоминании о тщательно уложенных локонах Софьи Павловны Инга чувствовала опасное приближение головной боли.
Задушить ее, что ли?
Она прошла Солянку, протиснулась сквозь строительные заграждения, чтобы попасть на Большой Спасоглинищевский. По узкой кромке раздолбанного асфальта обошла яму, на дне которой копошились оранжевые «археологи».
Напротив синагоги тоже шло масштабное строительство. Раньше тут был пустырь, где они с друзьями собирались по вечерам, курили первые сигареты «Мальборо», пили первое баночное пиво и строили планы проехать автостопом по открытому миру. Из-за столбов строительной пыли проглядывал бледно-зеленый цилиндр общежития с выбитыми окнами — его еще не коснулся ремонт.
Она постепенно дошла до Мясницкой, прокручивая в голове варианты воздействия на Софью Павловну. Будь что будет, решила она в конце концов и взялась за массивную дверную ручку квартиры. Стальная дверь оказалась открытой, и Инга без церемоний прошла внутрь.
В этот раз в квартире было светло и даже празднично. Ни пылинки, свежие цветы. Сильно пахло мускусом, а из кухни отчетливо — жареным мясом. Стараясь не производить шума, Инга
как вор
прошла в гостиную.
Безутешная вдова, в полупрозрачной блузке и кружевной юбке сидела на узком диванчике и завязывала бант на объемной подарочной упаковке. В изумлении и гневе она вытаращила на Ингу глаза.
— Да как ты… — она так и задохнулась.
— Дверь была открыта, — невозмутимо произнесла Инга, подходя ближе. Софья Павловна инстинктивно прижала к груди упакованный подарок. От недавних синяков на ее лице не осталось и следа, гладкие щеки отливали перламутром. Взбитые в белесый венчик локоны довершали впечатление — кукла!
— Все молодеете, я вижу? А я к вам по делу.
— Сейчас же выйди! Как ты смеешь ко мне врываться?
— Смею. Дело государственной важности. И вы, уважаемая Софья Павловна, скоро будете проходить по нему главным свидетелем, — Инга подумала и мстительно добавила, — если не обвиняемой, — и прежде чем хозяйка дома успела опомниться, она выхватила у нее из рук упаковку.
— Что ты себе позволяешь? — взвизгнула Софья Павловна.
Но Инга уже разорвала цветную бумагу. Под ней оказалась прямоугольная картонная коробка, а в коробке…
— Константин Коровин, — медленно произнесла Инга, как перед понятыми. — «Малый Китеж». Декорация к опере Римского-Корсакова. За подлинность ручаюсь. — Она вытащила на свет полотно с остроконечными теремами и красными фигурками людей. — Произведение искусства, принадлежащее государству. Как оно у вас оказалось?
Софья Павловна неожиданно резво вскочила с дивана.
— Убирайся вон! Я полицию вызову.
— Вызывайте. Я вас как раз и сдам. Вместе с этой картиной. И добьюсь ордера на обыск. Сколько у вас еще припрятано?
— Что за спектакль ты устроила? Это копия!
— Черта с два! Оригинал! — Инга сделала вид, что внимательно рассматривает оборотную сторону эскиза. — А сказать вам, кто с него снимал копию? А потом ее, а не вот этот оригинал, вернул в Большой театр? Или сами признаетесь?
Софья Павловна смотрела на нее с ненавистью. Инга вытащила телефон, набрала 112, включила громкую связь.
— Вызываем полицию? Я иду по статье за незаконное проникновение в жилище. А вы — за скупку краденого? В особо крупных размерах. Согласны?
Из телефона раздалось:
— …для соединения с полицией нажмите 2.
Софья Павловна замахала на Ингу руками, зажмурилась и прошипела сквозь зубы:
— Убирайся, чтоб духу твоего здесь не было! Сейчас ко мне придут и вышвырнут тебя из моего дома!
— Кто? Подельники ваши придут? Это вы им приготовили Коровина? — Инга на всякий случай не выпускала из рук драгоценную находку. — Думаете, отвалят вам бабла за верную службу? Да опомнитесь вы наконец!
Инга подошла почти вплотную к Софье Павловне, та неуверенно попятилась, плюхнулась обратно на диван и сжалась, как будто ожидая удара. Телефон в руках Инги все еще предлагал вызвать какую-нибудь экстренную службу. Потом сбросил вызов. Комнату наполнили короткие гудки.
— С кем вы связались, Софья Павловна? Скажите мне, пока еще не поздно. Что вы знаете об этих людях? Они Александра Витальевича убили из-за «Парада» — да так виртуозно, что ни малейшего следа не осталось. Его друг Туманов что-то знал о них, а может, был с ними заодно, — так они Туманова раздавили на моих глазах. Как клопа. Как мошку. Вы когда-нибудь видели, как человека давит машина? Позвоночник ломается, внутренние органы лопаются в одно мгновение — печень, почки, селезенка, мочевой пузырь — все всмятку. Вы хотите, чтобы с вами то же самое случилось?
— Что ты несешь… — бормотала Софья Павловна, пытаясь уклониться от потока слов.
— Да им Большой театр уже не интересен! Они ради спасения своей шкуры всех убирают! Потому что полиция на хвосте. — Инга перевела дыхание перед нанесением решающего удара. — Откуда у вас эта картина? Жужлев вам ее пристроил? Так вот — мертв он, убили Жужлева.
Софья Павловна скривилась.
— А вот это ты врешь, сука! Запугиваешь? Он на дачу уехал. Мне жена сказала.
Инга отступила назад и рассмеялась.
— Не дозвонились на мобильный, значит? На риск пошли — домой позвонили? Ох, хреновый вы конспиратор, Софья Павловна. Да он бежал, а они его прикончили по дороге. Узнают, что картина у вас, и к вам придут.
— Все равно не верю! Убирайся из моего дома!
— Хорошо. Я уйду. И Коровина я у вас забираю. — Инга развернулась к двери.
— Не смей! Оставь его! — Софья Павловна попыталась подняться с дивана, но не смогла. Она откинулась на подушки, напомаженные щеки посерели и мгновенно состарились. Дама в секунду превратилась в старуху: глаза закрыты, нижняя челюсть провалилась вниз, лицо — как посмертная маска. Инга притормозила, постояла в нерешительности.
— Может быть, Александра Витальевича убили вы? Ну конечно… кого еще он мог так доверчиво впустить к себе домой? И потом… вы же профессиональная медсестра. Укол тонким шприцом — и все.
— Не я, не я! Ни за Пикассо, ни за что другое я не смогла бы убить. Не бросайся такими обвинениями! Он… ты же знаешь, как мы жили. Думай как хочешь, но видит бог, в его смерти я не виновата. Господи, зачем ты заставляешь меня так страдать? — Софья Павловна не сдерживала слез. Глаза — мутные и бесцветные — бессильно смотрели куда-то за плечо Инги.
В ее речи ни тени, ни пелены лжи. Только сильная тревога, сменяющаяся какой-то необъяснимой тоской, как сумасшедший светофор: вспыхивает красный — расходящимися кругами, а за ним темно-зеленый. Неужели я была к ней несправедлива? Кажется, я перестаралась! Как бы она не умерла. Тогда поведет меня Архаров под белы рученьки вместе со всей этой Большой шайкой-лейкой.
Софья Павловна полулежала на диване, некрасиво растопырив колени. Грудь быстро вздымалась и опускалась, как кипящая каша.
— Они вас… заставили? — Инга сменила тон. — Шантажировали? Сейчас в это трудно поверить, но я вам не враг. Софья Павловна! Дорогая! — это далось Инге с трудом. — Пожалуйста, подумайте о себе. Все очень серьезно, вам сейчас реально опасно вот так вот одной. У вас есть влиятельные друзья, которые могут защитить? В Швейцарии, например?
При упоминании о Швейцарии Софья Павловна только махнула рукой. Инга пошла на кухню, вернулась с бутылкой французской минералки, достала из серванта высокий хрустальный бокал, плеснула в него воды.
Софья Павловна быстро приходила в себя. Слезы высохли.
— У тебя есть связи в полиции? — Она не скрывала хищных интонаций.
Начался деловой разговор, отлично. Думает выпутаться за мой счет. Ну что ж, посмотрим, чем вы сможете пожертвовать.
— Есть.
— И что, смерть Саши и все эти убийства, о которых ты говоришь, действительно как-то связаны?
— Да. Идет планомерное избавление от свидетелей какой-то масштабной аферы. Я вас прошу: расскажите мне все, что вам известно о Жужлеве и его махинациях. Я думаю, мы сможем вытащить вас из этого дерьма.
— Ну… Сашины связи с Большим театром были, скажем так, эмоциональные, больше платонические, что бы там ни говорили. А я… Нуда. Я была знакома с Геной, это правда. С Жужлевым. — Она слегка покраснела.
— И?
— Что и? — Софья Павловна зло зыркнула на Ингу. — Побывала бы ты на моем месте! В девяносто втором году. У мужа в голове только кино, литература и бесконечные романы на стороне. Вокруг мир рушится. А я совсем одна в Москве. Есть практически нечего — консервы и макароны, надеть тоже нечего. А вдруг Саша бы меня бросил тогда? Что делать? Возвращаться в нищий Саратов, работать в больнице за копейки? Или стоять на Ленинградке в мини-юбке?
— И вы…
— Мы познакомилась с Геной где-то в начале 90-х. Саше его порекомендовали как лучшего реставратора живописи в Москве. Он делал нам Маковского. Гена — абсолютный мастер… был. Дома у нас бывал, конечно. А потом… как-то все завертелось. — Софья Павловна прикрыла глаза рукой.
— Александр Витальевич знал, что вы поддерживаете с Жужлевым… дружбу?
— Какую дружбу? Не было никакой дружбы. Нет, Саша ничего не знал. Да мы с ним в то время как раз и разъехались. — Софья Павловна немного помолчала.
— Как Жужлев втянул вас в свои делишки?
— Один раз Гена принес мне эскиз костюма Улановой. Говорит, видишь, какие я копии умею делать. Я удивилась, конечно. Для порядка. Но, Инга, я же в этом мало что понимаю. А потом… мы выпили, и он признался, что это не копия, а оригинал. И это подарок мне. А копия осталась в театре.
— И вы взяли?
— Конечно, взяла! А ты бы что сделала на моем месте, когда не знаешь, что с тобой будет завтра?
— И много Жужлев сделал вам таких подарков?
— Подарков больше не было. — Софья Павловна усмехнулась. — Он попросил меня познакомить его с некоторыми друзьями Саши. Ну я и познакомила, а что такого?
— А для кого предназначалась эта картина?
Софья Павловна взглянула на Ингу с опаской.
— Не спрашивай.
Любовнику.
— Хорошо. Тогда говорите имена тех, с кем Жужлев познакомился через вас.
Под диктовку Софьи Павловны Инга записала три незнакомых имени.
— Может, вспомните, с кем Жужлев общался, куда ездил? О чем просил вас в последнее время?
— Ну не знаю, не знаю я. — Она снова взяла плаксивый тон. — Я на него не работаю. Давно не работаю.
— Тогда вспоминайте, Жужлев знал про «Парад» и рисунки Пикассо? Он мог иметь виды на либретто?
— Нет, не знал. Я ничего не говорила!
— Мы возвращаемся к вопросу, кто мог знать истинную ценность «Парада».
— Постой! — Софья Павловна выпрямилась. — Я вспомнила! Обещай, что вытащишь меня из этой истории. Не бросишь.
— Да уже два раза обещала. А вы не слушаетесь. А теперь вот — спасите, помогите. Кто?
— Помнишь, я тебе говорила, иностранец к нам приезжал? Деньги предлагал за «Парад», но Саша не отдал. Его звали Отто фон Майер!
Майер знал про «Парад» двадцать с лишним лет! И все это время готовил убийство? Не может быть, чтобы так долго. И в 90-е годы наверняка было легче выкрасть либретто, чем сейчас.
Софья Павловна вдруг схватила Ингу за руку:
— А они правда до меня могут добраться? Те, кто убил Гену.
— Могут. Тем более что вы храните дома краденые оригиналы.
— Что же делать, что делать?
— Уехать куда-нибудь на время. А картины… ну положите в ячейку в банк. А лучше верните в театр или сдайте в полицию.
— Что? Нет, в полицию я не пойду! Ты обещала мне защиту, а вместо этого толкаешь в тюрьму. Это же статья!
Все, пусть выплывает сама.
— Придумайте вашему другу сердца подарок подешевле, — наконец сказала Инга. — Чтобы доживать… на свободе. Оставляю вас с вашими сокровищами. Верните их, срок две недели.
Придя домой, Инга проверила, как идет сбор денег на лечение Агеева. Indiwind молодчина — помог посеять запросы по всей сети. За несколько дней поступило больше трехсот тысяч рублей. Первая капельница есть, лишь бы только лекарство помогло! Открыла почту: короткий список от Indiwind. За пять лет в Москве от инсульта умерли только четыре пожилых коллекционера, чьи имена упоминались в СМИ.
Номер 1: Фираев Дмитрий Денисович, 1922 г.р., награды Первой мировой войны, после смерти коллекция передана в филиал Исторического музея.
Номер 2: Андреева Вероника Павловна, 1939 г.р., заслуженный учитель музыки, смычковые инструменты, судьба коллекции неизвестна.
Номер 3: Гнилович Анатолий Николаевич, 1942 г.р., профессор университета Баумана, последние годы проживал в Можайске, филателист и собиратель пластинок, выпущенных в СССР, коллекция не представляет ценности.
Номер 4: Подгорецкий Виктор Борисович, 1929 г.р., агитационный фарфор, наследник коллекции — младший брат Евгений.
Inga:
Подключен(а)
Всего-то четыре человека?
Indiwind:
Подключен(а)
измени выборку
Инга задумалась: какой критерий убрать? Возраст или причину смерти? Или к черту коллекции?
Inga:
давай так: убираем критерий коллекционирование. Что остается? Возраст: 1945 год рождения и старше. Официальная причина смерти: инсульт. Период: последние пять лет. Критерий «известность» оставляем прежним: упоминание в СМИ.
Indiwind:
принято
Некоторое время она сидела, раскачиваясь на стуле и тупо глядя в стену. Набрала Майкла — без цели, просто так.
— Добрый вечер, Инга. — Кажется, он обрадовался. — Я собрался тебе звонить сам. Можешь завтра ехать со мной в аэропорт?
— Многообещающее начало. Что брать — палатку, лыжи, акваланг?
— None of the above. Это фигура речи, шутка, да? Я должен учиться понимать твой юмор. — Майкл сделал паузу. — Завтра в Москву прилетает Отто фон Майер. Я думаю, мы должны смотреть, кто его будут встречать. Если нам повезет, это будет его контакт в Москве, биг-босс, с которым у него бизнес.
Глава 25
Инга никак не могла уснуть — прошедший день вертелся в голове шаткой дребезжащей каруселью.
Довела Софью Павловну до слез, вытрясла, как пыльный матрас. Стыдно?
Да ни капли не стыдно. Жалко? Да! Но Волохова с Подгорецким жалко было больше. Их не вернешь, а Софья Павловна — жива, вертится, молодится, вот любовника завела.
Чего же я ищу? Правды? Справедливости?
Пет, тоже не получается! Ты просто не можешь остановиться, жизнь тебе подбрасывает чужие судьбы, как камни под ноги. Ты скачешь по ним, пытаясь перебраться через бурную реку. Только вот берега не видно. Всей земли — только маленький островок, там Катька, Штейн, Александра Николаевна. И вот теперь, похоже, Майкл… Кстати, что обычно надевают для засады в аэропорту?
Не найдя ответа на этот важный вопрос, она наконец заснула.
Будильник выдернул ее из вязкого сна. Поспать удалось часов пять.
Наскоро позавтракала, полезла в шкаф, подвигала вешалки. Секретарша, жена, бизнес-партнер, любовница? Что еще пролетело мимо! В голове вертелись обрывки ночных мыслей. Ладно, джинсы, рубашка.
Ты репортер, вампир, который питается событиями, чужими историями, как кровью. Вот и не выделывайся, несись вперед, остановишься — снесут те, кто быстрее.
Инга покрутила в руках туфли, отложила и сунула ноги в «Конверсы». Щелкнула мышкой всегда включенного компьютера. «Ого! За ночь Агееву пришло еще сто тридцать тысяч. А мне — плюс к карме».
Брякнул телефон. Письмо от Indiwind — прислал новый список, уже шестнадцать человек! Знакомые фамилии: Волохов, Подгорецкий. Надо бы пробить всех персонажей, но времени нет, пора собираться. Инга выбрала команду «переслать», вбила адрес Кирилла, подумала, приписала несколько строк:
«Привет, я достала новую инфу, файл внизу. Это известные люди, умерли от инсульта за последние пять лет. Дел по ним никаких, естественно, не заводили. Волохов и Подгорецкий тоже в списке. Может, имеет смысл проверить обстоятельства смерти нижеперечисленных? Это реально — да-нет? Звони, буду ждать».
«Письмо отправлено».
Инга вызвала Костика, по дороге захватили Майкла. Майер прилетал во Внуково-3, терминал для бизнес-авиации.
Приехали за два часа до прилета. Майкл переговорил с охранником, и их пропустили на внутреннюю парковку. В узком зале ожидания пустовали бежевые кожаные кресла. Инга и Майкл почувствовали себя как на витрине — кроме них, в зале не было ни одного встречающего. Изредка мимо проплывали стройные стюардессы и меланхоличные сотрудники аэропорта, которым, казалось, было решительно нечем заняться. Тут не было ни стоек регистрации, ни табло прилетов, не булькали динамики «объявляется посадка на рейс…». Даже гул самолетных двигателей куда-то исчез.
— Я понимаю, зачем ты меня взял, — догадалась Инга. — Не хочешь один светиться.
— Светиться? — не понял Майкл. — А, ты права. Не надо, чтобы они нас заметили. Пойдем лучше светиться в кафе?
У барной стойки предлагали эспрессо, приплюснутые сэндвичи и шоколадки.
— У него что, личный самолет? — спросила Инга.
— Нет, он прилетает… как это? Чартер. По приглашению вашего муниципального правительства.
— Понятно, мэрии.
Они взяли кофе, сэндвичи и устроились на высоких стульях — отсюда сквозь голубоватое стекло были видны раздвижные двери, через которые должны были пройти пассажиры.
— После нашей встречи, свидания, — Майкл покосился на Ингу, — я поднял переписку Майера с его контактом в России. Контакт писал «ищу пути к Профессору», потом «нашел путь». Я на это не обращал внимание.
— «Путь к Профессору» — это он, конечно, о Волохове и Туманове. Скажи, а фарфор Отто собирает?
— Это знаю точно, что нет.
Инга задумалась.
— А как фамилия «контакта»?
— Фамилии нет. Я не сильно им занимался. Но ник очень русский, как «матрешка».
— Балалайка? Медведь? Водка?
— Here you go again! Сарказм? Вы говорите так — «сарказм»? Не отвечай, я вспомню сейчас имя… Peteroushka, так?
Да. Последнее звено в цепи встало на свое место. Майер — Петрушка — Жужлев — Туманов. И выходит, что Туманов знал Петрушку и именно о нем хотел рассказать Инге в ту последнюю ночь.
Инга вспомнила напряженный ищущий взгляд Туманова, фигуру в темном пальто, похожую на подбитую птицу.
Изломанное детство… больная психика.
Как это просто — из жаждущего славы провинциала сделать вора и убийцу.
Нет, что-то не так! Все равно не складывается паззл! Не мог Влад убить. И что делать с Подгорецким, который никуда не монтируется?
— Инга, — позвал Майкл. Все это время он пристально смотрел на нее.
— Общие враги сближают больше, чем общие друзья, — горько усмехнулась она.
В этот момент в другом конце зала началось оживление.
— Смотри! — Майкл схватил Ингу за руку.
Время, замедлись!
Через главный вход в зал ожидания гулко прошагали трое рослых мужчин в темно-серых костюмах. Внутри этого треугольника Инга не сразу заметила четвертого — он хоть и был высоким, но ниже своих телохранителей. Он резко остановился, словно ему выключили мотор, потом чуть выдвинулся вперед. Костюм и галстук строго по протоколу, черные отполированные ботинки. Темные волосы немного топорщились на затылке, Инга видела его профиль: тяжелый римский нос, покатый лоб, по щеке расползался нездоровый румянец, а губы чуть заметно шевелились, словно произнося приветственную речь. На лацкане пиджака — значок-триколор.
Где я могла видеть этого человека? По телевизору, в репортажах из Госдумы?
Со стороны летного поля открылись раздвижные двери. Первым шел высокий и очень худой старик в сером фланелевом костюме, в шарфе и в легком макинтоше, он опирался на массивную трость, в другой руке держал плоский кожаный портфель. За ним следовали элегантная пожилая дама и еще один господин, с виду довольно бесцветный. Но все внимание Инги было приковано к старику. Было заметно, что он устал и двигается через силу, словно превозмогая боль. Он прихрамывал, шел медленно, прозрачные бледно-голубые глаза смотрели настороженно и напряженно.
— Это он. Отто фон Майер. Еще неплохо выглядит, — процедил Майкл. — А ты знаешь второго?
— Нет. — Инга покачала головой.
Депутат оскалился в улыбке и сделал шаг навстречу прибывшим, выставив вперед руку. Майер попытался ее не заметить, но тот сам схватил его за сухую кисть и деловито тряхнул. Инга увидела его в фас. Темные, глубоко посаженные глаза и эта приклеенная к губам механическая улыбка.
И правда как кукла. Как безжалостный Петрушка.
Несомненно, это прозвище описывало его лучше любой визитной карточки. Она вдруг вспомнила, где видела это равнодушное лицо со злыми глазами — у входа на ту глупую вечеринку «Звёзды в спорте», куда ее не пустили. Инга быстро достала телефон, сделал вид, что отвечает на звонок, сама же включила камеру и, развернувшись на 90 градусов, нажала кнопку несколько раз. Коротко глянула на экран — есть! Петрушка в кадре.
Она еще раз посмотрела на них — два монстра на параде, два управителя, несущих на своих плечах преступления разных эпох.
— Пойдем! — Майкл уже тащил ее к выходу. Костик дремал на парковке. Усаживаясь в машину, они видели, как кортеж с Петрушкой и Майером миновал ворота «Внуково-3», включил мигалки, ввинтился в поток машин на Боровском шоссе и улетел вперед.
— Вот он. — Инга протянула Майклу на заднее сиденье свой телефон со страницей сайта Госдумы. — Депутат Петряев Валерий Николаевич. Комитет по культуре, по международным делам, комиссия по этике. Общефедеральный список.
— Что это значит?
— Он не региональный, был выдвинут в депутаты на съезде своей партии.
Миновали МКАД, выскочили на Мичуринский. Инга сохранила фото Петрушки в телефоне и поиграла фильтрами — в негативе он выглядел как настоящий черт, не хватало только рожек. Народный любимец… Слуга народа.
Ей вдруг показалось, что она забыла сделать что-то важное. Еще утром помнила. Что? Это связано с Катькой? Родительское собрание? Какое собрание — слава богу, каникулы начались! С Агеевым? Тоже нет. В больнице ее уверили, что все в порядке, лекарства приняли, подтвердили дату первой капельницы.
— Приехали, — сообщил Костик. Он затормозил у гостиницы Майкла.
— Что мы делаем дальше? — шепотом спросила Инга.
— Я должен готовиться к конференции. — Майкл наклонился и неловко поцеловал ее в волосы.
— Давай я тебе помогу с конференцией! Русские очень любят помогать, ты знаешь? Так легче вмешиваться в чужие дела, — засмеялась Инга.
И куда мне с этими мертвыми душами?
Кирилл смотрел на экран монитора. Там был открыт файл с шестнадцатью фамилиями, который прилетел ему от Инги. Он допил холодный кофе, захотелось курить. Жаль, нельзя: прямо сейчас закинуть ноги на стол, щелкнуть зажигалкой, затянуться… и тщательно все взвесить. За соседним столом Рыльчин что-то писал, неторопливо двумя пальцами стукая по клавиатуре.
После их налета на мастерскую Жужлева он не виделся с Ингой. Да это и к лучшему. Арестуй того, пробей этого! Вот швабра неугомонная! Командует прям как целый полковник! Где твое достоинство, Архаров? Да вот же оно, метр восемьдесят, девяносто два кило, все как есть, сидит в кабинете и очень хочет курить.
Кириллу стало известно о гибели Жужлева на следующий день. «Ауди» на полном ходу клином въехала под многоосный трейлер. На такой скорости при лобовом столкновении никакие подушки и ремни не спасут. Тело, вернее, то, что от него осталось, болгарками и гидравлическими ножницами вырезали из груды металла. Кирилл не поленился, смотался к гибэдэдэшникам, выпросил протокол аварии. Те, впрочем, не сильно парились — трасса старая, узкая, движение плотное, грузовиков много, идиотов на мощных машинах — еще больше. Судя по протоколу, тормозного следа не было. Это не странно — значит, заснул водитель за рулем или сердечный приступ. Тоже не редкость. Выкурив с местными полпачки сигарет, Кирилл уже знал, что дело спишут в архив — на сон или на сердце, короче — несчастный случай.
Но тут горячий чай помог — плеснули коллеги Кириллу кипятка в чашку, пить нельзя. Пока ждал, чтоб остыло, листал дело и уперся в фотографию приборной панели. Спидометр, тахометр, датчик топлива, температуры — все стрелки лежали на нуле. А вот это уже странно — обычно при таких авариях в момент удара стрелки не слетают с осей-иголочек, а как были — намертво запечатываются в пластик приборной панели. В некотором смысле даже удобно — сразу видно, на какой скорости произошло столкновение. Кирилл подивился, как это так, спросил. А гайцы сами в непонятках. Теоретически получается, говорят, что ехал твой клиент с выключенным двигателем. Это как же? Да никак — или самоубийство об капот трейлера, или принудительная дистанционная блокировка двигателя и бортового компьютера. Самоубийцами даже церковь не занимается, а мы — и подавно. С блокировкой — надо транспондер искать по всей машине, а где он — кто ж его знает. То есть, конечно, если будет команда, шепнули ему гибэдэдэшники, мы эту груду металлолома на атомы и молекулы разберем и все найдем, хоть транспондер, хоть ядерный реактор. Но команды нет. Поэтому пишем — сон или сердце, а еще лучше по пьяни — проспиртован-то Жужлев дай боже!
А тут и чай остыл, Кирилл дохлебал его и отбыл восвояси.
Конечно, команды «найти то, не знаю что» не будет, он как-то и не сомневался. По ходу, получается, что права была
Белова, когда в мастерскую Жужлева лезла. На самоубийцу он похож не был. Кто-то его устранил. Да еще так хитроумно. Влезть в работу бортового компьютера — но как? Заранее настроить на сбой? Или по спутниковой связи? Но это какие надо иметь возможности! Конечно, он все понимал: сначала Жужлев Туманова, потом кто-то — самого Жужлева, это, считай, факт.
Кто — не знаем, тогда пойдем с другой стороны. Какой интерес? Всех из-за долбаной книженции с картинками? Да ладно, искусствоведы, поди, каждую салфетку Пикассо пересмотрели на предмет неизвестных рисунков. Ничего утраченного в наше время уже найтись не может. Все не то, не фиг и голову ломать.
Кирилл все больше думал об Инге. Началось с Волохова и этого мифического «Парада». А в итоге что мы имеем? Кучку непонятных трупов. Просто штабель висяков! И скандал с Большим театром. Надо быть с ней поосторожнее.
А с утра «подарок» в почте — новый список.
Нет, немедленно курить. Он встал, вышел во двор. Или сходить по парочке адресов из ее списка, чем черт не шутит?
Власенко Анастасия Петровна. Скончалась 26 июня два года назад в возрасте восьмидесяти шести лет. Окончила Московскую государственную консерваторию по классу арфы. Заслуженная артистка РСФСР. Проживала на улице Поварской, наследников первой очереди не имела.
Кирилл поехал «в адрес». Это оказался пятиэтажный серый дом с богатой лепниной на фасаде и изломанными линиями балконных решеток. Бешеный стук отбойного молотка перекрывал все уличные звуки. Подъездная дверь была на коде, он представился консьержке. Власенко проживала на четвертом этаже, теперь квартира принадлежала ее племяннице. Кирилл поднялся.
Дверь ему открыла невысокая женщина средних лет, похожая на улитку. Вяло посмотрела удостоверение.
— Из полиции? Ну проходите.
В трехкомнатной старомосковской квартире шел ремонт. По всей видимости, уже давно: одежда, книги, посуда — все валялось на огромном запыленном столе вперемежку с банками варенья и кастрюлями. В углу был свален мебельный хлам. В квартире стояла невыносимая духота. Под потолком на проводе болтались голые лампочки. Женщина провела Кирилла в крошечную кухню, из-за высоких потолков похожую на колодец.
— Анастасия Петровна была мне теткой, — рассказывала женщина. — Жила одиноко, никого к себе не водила, близких друзей у нее не было. Муж умер уж лет двадцать тому. Квартира, конечно, вот теперь наша, но запущенная очень. До сих пор чиним-ремонтируем.
— От чего она умерла? Болела чем-нибудь?
— Нет, здоровьем ее бог не обидел. Бегала на своих двоих до последнего дня.
— Вскрытия не проводили?
— А зачем? В таком возрасте и помереть не рано. А почему вы спрашиваете?
— Формальная проверка, не беспокойтесь. — Кирилл расстегнул ворот рубашки, с него лил пот. — В квартире ничего не пропало? Какие-нибудь ценности, деньги?
— Да не было у нее никаких ценностей… — женщина сморщилась, — кроме этой квартиры.
В замке звякнул ключ. Хозяйка заторопилась, понизила голос.
— Понимаете, мы почти ничего не знаем об обстоятельствах смерти тети Насти. Я в те дни была в длительной командировке, а когда приехала, все уже и закончилось.
В кухню вошла стройная девушка в очках, с распущенными волосами.
— Машенька, у нас полиция. Насчет Анастасии нашей Петровны интересуются. — Хозяйка обернулась к Кириллу. — Моя дочь Маша. В тот день экзамены в консерваторию сдавала, она тоже не знает, как тетя Настя умерла.
Маша посмотрела на Кирилла с неподдельным любопытством.
— А вот и знаю! Я ее и нашла — уже мертвой!
— И все помните? Рассказывайте, что видели. — Кирилл достал блокнот.
— В тот день у меня как раз было прослушивание, — она горделиво взглянула на мать. — Я отыграла, мне шепнули, что норм, все здорово. Ну я к тете побежала, думала порадовать. Я, правда, по классу скрипки, не как тетя — по арфе. Но тетя Настя меня очень поддерживала. Ну вот, я звоню, звоню, никто не открывает. Тогда я своим ключом.
— У вас был свой ключ?
— Ну конечно. Она же одна жила, мало ли что. Иногда я оставалась у нее ночевать. Мы тогда далеко жили. — Маша покосилась на мать. — Ну вот, захожу, а она в кресле сидит. Прическу высокую сделала, платье фиолетовое надела, серьги длинные мельхиоровые, все кольца достала. Я прям обалдела! Теть Насть, говорю, ты куда такая нарядная собралась? А она уже и не дышит.
Глава 26
Песня из далекого-далекого детства не выходила из головы с утра. Инга никогда не слышала ее «живьем», только запись, но эти жесткие, неровно брошенные аккорды «Машины» и подрагивающий голос зацепились за краешек памяти и остались там будоражащим предчувствием юного бунта. Только не думать, только не паниковать! Инга допила кофе вместе с горькой жижей с донышка.
Черная водолазка, джинсы, низкий хвост, минимум косметики — сегодня ей нужно слиться с толпой, со стенами, стать человеком без лица, тенью. Она смотрела на себя в зеркало. Острые скулы, впалые щеки, покрасневшие глаза — воин, безжалостный и решительный. Как все пройдет? «Пусть! Будет! Как! Будет!» — пересчитывал ступеньки в подъезде ее внутренний голос.
В машине все трое молчали. Костик курил в приоткрытое окошко, Олег крутил настройки фотоаппарата, Инга следила за стрелкой навигатора в телефоне, понимая, что не может заставить ее двигаться быстрее. Они опаздывали.
Костик уже вырулил на Загорянскую, медленно катил мимо машин с водителями и телевизионных микроавтобусов — искал парковку. Свободных мест не было. Прямо на дороге расставляли свои штативы операторы в попытках выстроить хороший кадр — ломаную линию исторического конструктивистского фасада и афишу предстоящего события. Быстрым шагом проходили ВИПы с помощниками, пресс-секретарями, а кое-кто и с охраной. Между ними сновали продюсеры телеканалов, на ходу договариваясь об интервью. Организаторы мероприятия в протокольных белых рубашках — белый верх — черный низ, бейджики со звездой Давида — пытались наладить хоть какой-то порядок и отогнать случайных прохожих от парадного входа. Надо всей этой суетой висело, чуть покачиваясь на ветру, огромное полотно с портретом главного героя и надписью на русском и иврите «Спасающий жизни. Рудольф фон Майер 1902–1967».
Легкий озноб прокатился по спине адреналиновой волной, от лопаток до макушки, коротко отозвался привкусом железа во рту, как будто залпом выпила стакан газировки. Инга вдруг вспомнила это чувство — предвкушение настоящей репортерской работы, жесткой, состязательной, полной взаимовыручки и завистливой ревности коллег по пресс-пулу, готовых навалиться стаей на героя или событие и отхватить самое лакомое — каждый свое. Это — ее жизнь. Это — ее мир. Был, подумала Инга. Ей стало обидно и легко одновременно.
Песня в голове закончилась. Инга не без удовольствия отметила, что все знакомые журналисты, которым она накануне закинула информацию о мероприятии, пришли и работают. Телеканалы, агентства, интернет-редакции, радио, даже блогеры — почти все были здесь. Что и требовалось. И тут она увидела Майкла. Он стоял чуть поодаль, что-то втолковывая двоим неизвестным ей молодым ребятам.
Костик втиснулся между черной «Ауди» и вэном с логотипом Первого канала. Штейн полез в багажник за аппаратурой.
— Эта выставка — еще одна неизвестная страница времен Второй мировой войны. История еврейского народа, история семей, разделенных и уничтоженных войной. — Рядом с Ингой наговаривал в камеру стэнд-ап репортер программы «Время». — Но это — в первую очередь история подвига по спасению евреев и история главного героя сегодняшнего дня — Рудольфа фон Майера. В Москву приехал его сын, известный коллекционер Отто фон Майер.
Инга переползла по заднему сиденью на другую сторону и вышла из машины, тихо прикрыв дверь. «Вы еще не знаете, что вам предстоит увидеть!» Майкл, найдя ее в толпе входящих в здание, улыбнулся и сделал знак рукой «все ОК!»*
В зале свободных мест уже не осталось. Штейн ввинтился в плотный строй журналистов, стеной вставших между рядами кресел, разворачивал штатив. Инга и Майкл примостились у стены рядом со струнным квартетом, который играл что-то печальное из Шопена. На подиуме над столом президиума висел тот же плакат, что и у входа. За столом разместились директор Центра, рядом с ним — Отто фон Майер с переводчиком, люди из МИДа и Министерства культуры, посол Израиля, главный раввин России. Последним в зал вошел депутат Петряев вместе с элегантной пожилой женщиной. Они, улыбаясь, тихо разговаривали на ходу.
— Клара, жена Отто, — шепнул Майкл.
Петряев проводил Клару в первый ряд, любезно придерживая рукой стул, пока она садилась. Потом поднялся на сцену и занял место в президиуме.
Репортеры и техники, загромоздив стол микрофонами, отбежали в проход. В зале стихло.
— Добрый вечер. Рад приветствовать вас в этот исключительный день.
Директор Центра обвел аудиторию грустными глазами.
— За годы, прошедшие со времен Второй мировой войны, группа еврейских общин и наш Центр много сделали, чтобы рассказать миру об испытаниях, пришедшихся на долю евреев. Я благодарю и всегда буду признателен всем, кто поддерживает нас в этом бесконечно важном деле.
Директор церемонно раскланялся в сторону представителей министерств и посольства. Поклоном ответил только Петряев.
— Но сегодня — и день, и случай особый, который не так часто нам выпадает. Сегодня мы говорим не о печальном, а о светлом и высоком — о героизме и самопожертвовании. Представьте себе — Рудольф фон Майер, находясь в центре захваченной фашистами Европы, несколько лет организовывал вывоз евреев на безопасные территории. День за днем, семью за семьей. Это угрожало его жизни не меньше, чем другим, но господин Майер был истинный подвижник. И об этой героической работе никто не знал десятилетиями! У меня, пожалуй, все. Остальное вам расскажут документы. Хочу лишь обратиться к сыну Рудольфа фон Майера: спасибо вам, Отто, за вашего отца, и от России — спасибо, ведь некоторые спасенные были и навсегда останутся нашими соотечественниками!
Он поклонился Отто, в зале захлопали. Поправляя черные одежды, встал главный раввин России.
— Вы знаете, наш народ прошел через многие трагедии. Нас подвергали гонениям, лишали родины, преследовали, убивали. Двадцатый век — черный век в истории человечества и нашего народа. Массовые истребления евреев происходили по всей Европе — Испании, Франции, Германии, Австрии, Польше, Украине. Тем дороже каждая история о спасении. Мы ценим это и благодарим любого, кто помог сохранить жизнь хотя бы одному еврею. Рудольф фон Майер спас сотни. Его семья не будет забыта.
На экране появились кадры из гетто — изможденные люди с нашитыми на одежду шестиконечными звездами, очереди пухнущих от голода детей, сцены расстрелов. Концентрационные лагеря — Дахау, Освенцим, Заксенхаузен, Бухенвальд, Плашов, Равенсбрюк, Собибор.
Раввин продолжал.
— Это страшное преступление. Фашистская Германия погубила в лагерях несколько миллионов евреев. Нас обвинили во всех смертных грехах, лишили имущества, а потом отправили на бойню как скот. Но благодаря таким людям, как Рудольф фон Майер, мы не исчезли с лица земли, мы остались на этом свете, мы живы. Я прочитаю короткую молитву. Давайте помолимся вместе, неважно, какого вы вероисповедания.
На экране появился текст на двух языках, раввин закрыл глаза и, шумно глотнув воздух, заговорил нараспев на древнем языке. Его немолодой голос звучал сначала тихо и нетвердо, словно преодолевая старческую немощь, но постепенно, как мелодия, поднимался вверх, набирал силу и, наконец, наполнился неожиданно звонкими и чистыми нотами.
Ширламаалотэсаэйнай эл эариммеаинявоэзри:
Песнь ступеней. Поднимаю глаза мои к горам — откуда придет помощь мне?
ЭзримеимАшем осе шамаимваарец:
Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю.
Аль итенламотраглеха, аль янумшомреха:
Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой.
Ине лоянум вело ишан Шомер Исраэль:
Вот, не дремлет и не спит страж Иисраэйля.
АшемшомрехаАшемцильха аль яд еминеха:
Господь — страж твой, Господь — сень для тебя по правую руку твою.
Йомамhашемешлоякекавеяреахбалайла:
Днем солнце не повредит тебе и луна — ночью.
В зале стало темно, только один луч освещал портрет Рудольфа фон Майера. Раввин смолк, закрыв глаза, провел руками по лицу и сел. Стояла абсолютная тишина.
Шумно отодвинув стул, встал Отто. Он прошел за спинами президиума к трибуне, за ним семенил переводчик. Отто достал маленькие очки и листки бумаги, расправил их, потом отложил и, глядя на жену, которая смотрела на него, как будто молясь, медленно заговорил, не читая.
— Этого дня я ждал несколько десятилетий. И мне так трудно говорить. Начну с официальной благодарности. Спасибо Национальному Центру «Наследие» за оказанную отцу честь, также благодарю депутата Государственной думы господина Петряева за содействие в организации этой выставки.
Петряев, не вставая с места, приложил руку к сердцу, а другой сделал жест в сторону Отто: мол, смотрите на него, это его праздник, все почести ему.
— Мой отец, как и многие люди его поколения, мало рассказывал о войне. В нашей семье это была закрытая тема. Мы долго не знали о его деятельности, лишь много лет спустя отец вскользь упомянул, что помогал некоторым семьям. И все. И только после его смерти, в архивах, мы нашли подтверждение его словам — и поняли, сколько он сделал! Я горжусь им, горжусь носить его имя. Он был скромным человеком, спокойно и счастливо жил в Лейпциге вместе с семьей. Посмотрите, в городе мирно уживались немцы, поляки, русские, евреи.
На экране появились фото довоенного города — небольшие дома в окружении садов, матери на прогулке с детьми, городской парк, кирха, синагога. Отто продолжал, медленно подбирая слова.
— На его глазах этот Лейпциг из уютного, утопающего в цветах райского уголка превратился в ад. С приходом к власти нацистов все переменилось, будто в людей вселился дьявол. Начались разговоры о расовой теории, а за этим — обвинения, доносы, унижения, погромы.
По экрану двинулись колонны нацистов. Вскинутые в приветствии руки, молодые, полные восторга лица.
— Каждый должен был сделать выбор. Мой отец не хотел убивать, он решил помогать людям, хотя знал, как это опасно.
Отто вытирал пот со лба. Клара сложила руки в молитвенном жесте — только бы сердце выдержало!
— Он не мог равнодушно смотреть на бесчеловечность и насилие.
Когда пел раввин, Инга почти забыла, зачем они здесь. Но теперь каждое новое слово, звучащее с трибуны, стремительно возвращало ее в сегодняшний день. Ей вдруг показалось, что она падает. В бессильной злобе она прижалась спиной к стене, нашла глазами Майкла. Тот что-то быстро набирал в телефоне.
Изображение за спиной Отто зарябило, пошли полосы, звук в динамиках захрипел и оборвался, мигнул свет во всем зале.
Отто замолчал и посмотрел на Клару — она закрывала рот трясущейся ладонью. Обоим на секунду показалось — это дежавю, так уже было, тогда, в Лондоне, на аукционе, когда он упустил «Бессонницу» — внезапно начала отказывать аппаратура — то же мерцание, та же ледяная беспричинная тревога. Сердце сжало костлявой рукой. Отто смахнул пот, мокрые ладони скользили по кафедре. «Показалось, это просто совпадение, сейчас все наладится, и я продолжу!» — Жажда залепила горло, он пил воду, но легче не становилось.
Проектор включился также неожиданно, как и погас, свет вернулся, на микрофоне загорелась зеленая лампочка.
Отто продолжил чуть хрипло:
— Я не могу сказать точно, как отец спасал этих людей и что ему пришлось пережить. У нас есть свидетельства порядка 150 человек, которым он помог — ночью, через кордоны полиции, подкупая нацистов, он вывозил семьи за пределы страны. Отец до войны был коллекционером, он тратил вещи из своей коллекции, чтобы выкупать жизни евреев. Вот они, эти люди…
Но вместо спасенных семей появились фотографии груды изможденных человеческих тел, корпуса концлагеря, газовые камеры, сцены расстрела. По залу прокатился ропот удивления. Отто, не замечая, что происходит за его спиной, продолжал:
— Отец к концу войны стал практически нищим, но это было не важно — главное, что его совесть была чиста.
Майкл незаметно для окружающих продолжал свою работу — выводил на проектор все новые и новые картинки. Теперь весь экран занял потемневший лист бумаги с готическим рукописным шрифтом:
«Расписка. Я, Рудольф фон Майер, получил от Михаила Пельца материальные ценности в виде ювелирных украшений в счет оплаты услуг по отправке Михаила Пельца и членов его семьи в количестве четырех человек за границы Германской империи. От 18 ноября 1938 года».
Смена кадра. Текст:
Михаил Пельц умер в концлагере Бухенвальд.
Зинаида Сара Пельцумерла в концлагере Освенцим-Биркенау.
Руфина Сара Пельцумерла в концлагере Освенцим-Биркенау.
Анна Сара Пельц умерла в концлагере Терезиенштадт.
Звонкий закадровый женский голос читал перевод документа.
Сколько сочувствия и нежности! Очень проникновенно. Даже влюбленно. Боже, дожила — свой голос не узнала.
Вчера, уже ближе к ночи, Инга начитала для Майкла текст поверх видео, которое смонтировал для них Штейн.
Как стыдно — в таком документе мне померещилась сентиментальная чушь! Нашла время! Хорошо, что, кроме меня, этого никто не чувствует.
Отто запнулся, услышав голос из динамиков и, как пловец, набирающий воздух, обернулся через плечо — он, наконец, увидел, что происходило за его спиной. Еще один потемневший документ, написанный таким знакомым почерком — почерком отца. И снова голос Инги:
«Я, верный слуга Рейха и лично Фюрера, довожу до вашего сведения, что еврейская семья Пельц в составе: Михаил, Зинаида Сара, Руфина Сара, Анна Сара пыталась совершить побег с разрешенного места жительства за пределы страны. Михаил Пельц обратился ко мне за помощью в содействии к побегу и в качестве оплаты услуг передал следующее: 1. Перстень: золото, сапфир около 0,5 карат, 2. Серьги: золото, рубины, 3. Цепочка: золото, 5,91 гр».
Шум нарастал, за сценой бегали люди, кто-то включил верхний свет, журналисты в зале переговаривались в голос:
— Это бомба, снимаем, снимаем!
В президиуме представитель МИДа тянул из кармана телефон. Раввин закрыл лицо руками. Только директор Центра продолжал натянуто улыбаться.
Отто развернулся, привалился спиной к кафедре и не отрывал глаз от экрана. С трибуны сыпались листки с его речью. Это был крах. Крах всего — его имени, репутации, семьи.
На экране кадры сменялись один за другим: ордер на арест Михаила Пельца, протокол допроса и распоряжение об отправке в концлагерь, список ценностей, за сокрытие которых его взяли — все документы, которые Майкл нашел в архиве ITS. Кто-то выкрикнул:
— Что происходит? Кто этот человек?
— Что это за документы? Майер убийца?
Майкл пробирался к трибуне. Отто, бледный и растерянный, увидел его на ступенях сцены, вытянул руку вперед, словно пытаясь отогнать наваждение, и закричал по-немецки:
— Scheisse! Nein! Weg! Weg!
Майкл взял микрофон.
— Господа, позвольте мне сказать несколько слов! Пожалуйста, тише. Это очень важно.
Зал утих.
— Меня зовут Майкл Пельц, я американский гражданин. Но также я — внук Михаила Пельца, эмигранта из России. Вы видели его имя на экране сейчас. Мой отец единственный из семьи, кто выжил. Я вел расследования несколько лет — как погибла семья Пельц. Мне помогали друзья и многие честные люди, в том числе граждане Германии, Израиля и России.
Майкл нашел глазами Ингу, хотел улыбнуться, не смог.
— Мы нашли документы вместе — вы видели их минуту назад. Я имею экспертизу: расписка и анонимные доносы — они написаны одним человеком. Его имя — Рудольф фон Майер! Всего я нашел около трех тысяч таких документов! Рудольф фон Майер — не тот, за кого себя выдавал! Простите, рэббе, но все, что вы слышали сегодня, — неправда. Вы молились за убийцу.
Отто что-то кричал переводчику, тот переводил в зал:
— Это клевета и подлог!
Журналисты с камерами и микрофонами подлетели к сцене. На ступенях, оттесняя прессу, встали организаторы мероприятия. Майкл, не обращая внимания на Отто, кричал через их спины репортерам.
— Рудольф фон Майер во время войны придумал конвейер — обещать спасение евреям, забрать у них самое ценное. Потом он писал на них донос в гестапо! Жизнь и кровь многих людей стоит за его коллекцией, за каждой вещью! Его не раскрыли тогда, не было суда. Отто фон Майер сделал себе имя на крови, он прекрасно знает, откуда самые ценные предметы в его коллекции.
Инга схватила за рукав Штейна, у нее самой подкашивались ноги.
— Ничего, старушка, скоро их всех пересажают, — шептал ей Штейн, продолжая снимать как заведенный. — Они будут являться тебе только по ночам.
— Господа, это не все. Я хотел бы показать вам еще что-то важное.
Камера вела панораму по большому хранилищу: на металлических стеллажах были расставлены предметы искусства — картины, графика, скульптура. Между ними ходили люди в форме.
— Я передал все документы в Интерпол. Несколько часов назад вся коллекция Отто фон Майера арестована в Германии. Имеется международный ордер на его арест тоже.
Отто задыхался, открывал рот, пытаясь ухватить немного воздуха, но легкие не слушались. Среди общего столпотворения только Клара оставалась сидеть на своем месте. Она, закусив края белого платка, не мигая смотрела на мужа. Отто удалось, наконец, собраться с силами, и он крикнул в микрофон:
— Ложь, это ложь! Вы не должны верить этому человеку! — Переводчик бесстрастно продолжал делать свою работу. — Это голословное обвинение и наговор. Если бы мой отец был виноват, его бы судили после войны. Но этого не было, нет приговора! Немецкий народ раскаялся, мы платим за свои ошибки, мы помогаем всем — евреям, беженцам, всем! Да, многие говорят, что это неправильно, но мы делаем это. И мой отец помогал! Я хочу, чтобы все знали — он спасал людей, а когда не мог — спасал искусство. Великое искусство, которое уничтожали нацисты. Была война, было много несправедливости, людей убивали, да, но мой отец сохранил уникальную коллекцию, чтобы ее могли увидеть потомки. Я не понимаю, в чем этот человек меня обвиняет? Почему меня арестовывают? Я не нарушал закон!
Он побледнел, навалился грудью на трибуну и замолк. Из первого ряда зала встала Клара и молча вышла из зала. Отто перестал для нее существовать.
Двое молодых неизвестных, с которыми беседовал Майкл перед входом, отделились от толпы и подошли к Отто. Они что-то тихо говорили ему, он пятился от них, пошатываясь, пока не споткнулся о провода и не рухнул на пол. Молодые люди подхватили его, усадили на стул и надели наручники. Но Отто продолжал сползать вниз. Тогда один из молодых людей что-то быстро стал набирать в телефоне.
— Снимай, сейчас подохнет прямо здесь! — раздалось в зале.
Часть телекамер обернулась в сторону Майера. Ему расстегнули рубашку, стали делать искусственное дыхание. Опешившая охрана, наконец, очухалась и закрыла широкими спинами лежащего без сознания Отто.
— Как вы раскопали эту историю? Как бы вы наказали Отто фон Майера? Что, вы думаете, сделают с его коллекцией?
Майкл продолжал свою импровизированную пресс-конференцию.
— У меня есть еще вам сказать. У меня есть много доказательств, что Отто фон Майер продолжал собирать свою коллекцию незаконным путем. В России у него есть группа сообщников, это высокие чиновники, вы называете их «крыша», они снабжают его ценными предметами искусства. Я надеюсь, что они пойдут в суд тоже.
Инга внимательно смотрела на президиум. Директор давно перестал улыбаться и сосредоточенно уткнулся в какие-то бумаги перед собой. Главный раввин что-то не переставая нашептывал послу Израиля, который сидел с каменным лицом. Представители МИДа и Министерства культуры растворились немедленно, как только начался весь этот бедлам. Петряев оставался до последнего, осуждающе кивая на слова Майкла, но потом встал, поднес телефон к уху, как будто ему позвонили, и, не глядя ни на кого, удалился в темноту за сценой.
«Вот выдержка!» — подумала Инга и в эту же минуту увидела перед собой обвешанного фотоаппаратами Штейна и мокрого, взъерошенного Майкла.
— Мы сделали это! — Майкл улыбался во весь рот.
— Петряева видела? — Штейн, шумно дыша, укладывал аппаратуру в кофр. — Как там говорят теперь в новостях? «Его машину в последний раз видели в аэропорту Шереметьево»? Уйдет же, сука, неприкосновенность, то да се. Ладно, похоже, все получилось, пошли курить.
Не заезжая на пандус зоны вылета, машина депутата Петряева свернула вниз с эстакады и нырнула на стоянку ВИП-зала Терминала Д. Он достал удостоверение, шагнул в проем распахнутых стеклянных дверей. Охранники за ним еле поспевали. Валерий Николаевич был в бешенстве.
— Узнай ближайший рейс в Лондон, — кинул через плечо. — Карточку возьми. Сразу билет оплатишь.
Оставив охранников разбираться с кассой, Петряев прошел в зал ожидания, плюхнулся в большое овальное кресло, сгреб со столика барную карту. Нашел глазами официанта, ткнул в строчку меню:
— Двойной!
Он откинулся на спинку кресла, достал из карманов два мобильных телефона, положил перед стобой. Телефоны поочередно мигали беззвучными вызовами. Петряев посмотрел: на одном было шесть пропущенных, на другом — десять.
Быстро пролистнул пропущенные звонки, скопом удалил.
— Не о чем мне с вами, козлами, разговаривать. — Петряев отключил оба телефона, экраны погасли. — Ничего у вас на меня нет. Хрен достанете, руки коротки, — зло прошептал мертвым телефонам.
— Валерий Николаевич, приглашают на посадку. — Над ним склонился охранник. — Как же вы без вещей-то…
— Справлюсь. — Петряев поднялся. — Там все есть, а чего нет — куплю на месте.
— Вот, возьмите. — Охранник протянул посадочный и кредитку.
— Карточку себе оставь. И это тоже. — Отдал телефоны. — Ну, бывай.
— А как же дальше? — Охранник совсем растерялся.
— Понадобишься — найду. — Петряев развернулся и зашагал к воротам. — Такой канал запороли, суки! — процедил сквозь зубы.
Официант с подносом, на котором стоял стакан с внушительной порцией виски, равнодушно поставил его обратно на барную стойку.
Глава 27
Инга захлопнула дверь арендованной Майклом «Хонды» и посмотрела на свои руки. Ей казалось, что под его взглядом она вся красивая и все у нее — красивое. Кисти, прижатые друг к другу колени, скинутые немного вбок, ключицы, поворот головы. Майкл любовался ею — она это понимала; она сама будто бы немного приподнималась над собой и присоединялась к нему в этом любовании. Когда он, не перестав улыбаться, начал ее целовать, она провела рукой по его жесткой от щетины щеке. Его запах, тугая влажная тишина — все было естественным продолжением их сегодняшнего триумфа. Майкл немного отстранился, посмотрел на ее лицо, стал нежно постукивать пальцами по ее губам — будто играл на миниатюрном пианино.
— Все кончено, не могу поверить, — тихо сказал он и снова поцеловал ее. Маленькими шажками прикосновений он поднимался от губ к вискам, снова спустился, целовал шею, при этом нежно проводя пальцами по бровям, будто рисуя их. — Как давно я хотел это сделать. Я стал полностью ненормальный по тебе.
После того, как Отто увезли на «Скорой» в сопровождении сотрудников «Интерпола», она почувствовала, будто внутри нее кто-то надувает воздушный шар. Чувство победы — обезглавлено чудовище, произошедшее от чудовища, жившее в мире кривых зеркал, где человеческая жизнь ценилась дешевле бумажных страниц, красок и холстов, — распирало изнутри. Ей хотелось выдыхать и выдыхать, улыбаться Майклу в его улыбающиеся губы, а еще — аккуратно, не спеша, смакуя и запоминая каждую деталь, лечь в него, как в теплую ванну, чтобы он обволок ее, вобрал в себя всю, как темная густая вода, усыпляющая своей лаской. И ни о чем не думать.
В кармане джинсов тренькнула эсэмэс.
— Не смотри туда, — медленно и раздельно прошептал Майкл.
Но она уже вынырнула, уже доставала телефон, чтобы на автомате посмотреть на экран.
Эсэмэс была от Кирилла. «Подвижки в расследовании. Ты сама список смотрела? С умершими, который ты мне присылала? Кое-что проверил и выяснил».
Господи, при чем тут список? Умершие? Все кончено!
— Я не сказала Кириллу, что мы все раскрыли, — сказала Инга сама себе, глядя на Майкла. — А, к черту все! Поехали к тебе. Я пока ему позвоню. Или напишу.
Майкл провел рукой под ее волосами — от шеи до макушки, широким теплым гребнем, снова начал целовать. Через несколько минут она заставила себя отстраниться:
— Поехали.
Майкл с трудом оторвался от нее, послушно завел мотор; закачался за окнами мир на обочинах: свежий зеленый, пятна света. Инга пристегнулась. Архарову решила не звонить — ей не хотелось сейчас ни с кем, кроме Майкла, разговаривать — начала набирать эсэмэс. Но что-то вертелось в голове, кололо, как камушек, попавший в туфлю.
Почему он про список? Что не так с этим списком?
Передумав писать Кириллу, она открыла переписку с Indiwind. Телефон начал грузить прикрепленный файл.
— День сегодня — лучше не бывает! — Майкл включил радио, покрутил колесико настройки, счастливо улыбнулся, положил Инге руку на колено, сразу убрал, потом снова вернул. — Я пять лет готовил план, сегодня все сработало. До этих пор не верю.
Инга смотрела на столбик фамилий. Шестнадцать человек. Власенко, Волохов, Глебов, Иоганесян, Подгорецкий, Пошехонский, Петров. Она перечитывала и перечитывала. Шла снизу вверх, и потом заново — сверху вниз. Текст исчез: вместо него появился неизвестный номер. Входящий звонок.
— Инга Александровна? — вежливый голос.
— Да, — настороженно ответила Инга.
— Клиника современной медицины, Ирина, — представилась женщина. — Прошу прощения за беспокойство, я по поводу Игоря Агеева.
— Да, что-то случилось?
— Согласно моим данным, вы предоставили нашей клинике пять флаконов препарата «Адцетрис» для курса лечения господина Агеева.
— Да, именно так, — подтвердила Инга, — лекарство было куплено на средства, собранные на лечение этого человека.
— Верно, — подтвердила Ирина, — и согласно нашей договоренности, господин Агеев должен был приехать к нам в клинику в этот понедельник. Мы выполнили все обязательства со своей стороны — подготовили курс. Персонал и палата его ждут. Но сегодня уже среда, а господин Агеев так и не приехал.
— Странно, — удивилась Инга, — я разговаривала с ним несколько дней назад, и он собирался к вам. Хорошо, я поняла, я свяжусь с ним.
— Указанные в анкете телефоны — мобильный и домашний — не отвечают уже третий день, поэтому мы и решили связаться с вами, — объяснила Ирина.
— Хорошо. Я попытаюсь отыскать его другими путями, а потом отзвонюсь вам.
— Заранее спасибо вам за помощь, — поблагодарила Ирина и отключилась.
Инга посмотрела в окно. Отчего-то она была уверена, что звонить Агееву бесполезно: он не ответит. Нужно ехать.
Расследование закончено. Ловец коллекций попался в сеть. Больше никому ничего не угрожает. Поеду к Агееву завтра. Сегодня нас только двое: я и Майкл.
Она посмотрела на его профиль. Щетина, складки у четко очерченных губ — ей нравилось в нем все.
На экране телефона снова высветился список Indiwind. Она рассеянно смотрела на него. Перед глазами вдруг замелькали кадры: пожилой конструктор в отглаженной рубашке и в очках с сильными диоптриями; актриса в старом бархатном платье, на экране не видно, но кажется, что оно изъедено молью; певец в неестественном, неровно приклеенном парике. Нарезка фрагментов интервью, которые брал Агеев, — для ролика о сборе средств. «Мы выполнили все обязательства со своей стороны — подготовили курс. Персонал и палата его ждут. Но сегодня уже среда, а господин Агеев так и не приехал».
— Господи, Майкл! — Она сжала его руку. Он дернулся, машину немного повело влево.
— Что? Инга? Что случилось? — Майкл бросал быстрые взгляды то на нее, то на дорогу.
— У Александры Николаевны когда интервью назначено? Не знаешь?
— Знаю. На вчера вечером, а что?
— Боже мой! Какой кошмар! — Инга судорожно набирала номер Александры Николаевны. — Я своими руками… Безмозглая дура!
— Что кошмар? Что боже мой? Кто дура? Ты меня пугаешь.
— Черт! Никто не подходит. — Инга смотрела на Майкла — ужас метался в ее глазах. — Разворачивайся! Мы должны попасть к ней как можно скорее.
Пока Майкл выворачивал через две сплошные, пока выбирал адрес Александры Николаевны в навигаторе своего телефона, Инга не переставая говорила:
— Этот голос… внешность — он располагал сразу же, вызывал доверие. Не явился на лечение, понимаешь? Ему нечего терять, он и не собирался. Это его план… Идиотка! Какая я идиотка! Конечно, он отлично колет — сколько раз делал инъекции сам себе. Майкл, Майкл, это я виновата! Это я ему сказала про Александру Николаевну. А он абсолютно, тотально безумен!
Майкл разволновался, жилы вздулись у него на висках.
— Инга, говори яснее. Кто? — Майкл сосредоточился на дороге. Машину болтало из стороны в сторону: он обгонял — то справа, то слева.
— Все погибшие люди из списка, который прислал мне мой помощник несколько дней назад, — Инга старалась говорить спокойно и внятно, — перед смертью давали интервью одному и тому же человеку — Игорю Агееву! Я это знаю, потому что делала нарезку из его интервью для сбора средств на его же лечение.
— Ты хочешь сказать, что тетя вчера…
— Майкл…
— Как он это делал с другими людьми? — сухо спросил Майкл.
— Колол что-то в шею, сзади, под волосы, чтобы незаметно.
— И? Инга, что?
— …и они умирали так, как будто это естественная смерть.
— Ты сказала, он болен?
— Рак. Я хотела помочь ему…
Майкл ударил по тормозам. Их бросило вперед — пробка.
Он молчал, глядя в одну точку перед собой.
— Этот список… он был у меня в телефоне, а я даже не открыла. Просто переслала Кириллу, и все. Отто с Петрушкой не убивали ни Волохова, ни Подгорецкого. Они только планировали выкрасть «Парад». А убивал Агеев. Но почему?…
Она не стала ждать, пока Майкл припаркуется, вылетела из машины почти на ходу, бросилась к подъезду. Ключи были уже в руках. Инга сжимала их в правом кулаке, не замечая, что они больно врезались в кожу. Ей хотелось бежать быстрее. Ей казалось, что она двигается как в воде, как во сне. Коричневая дверь, пропахший кошками подъезд, две синие коляски под лестницей. Инга бросилась по лестнице вверх. Только на этаже, когда она увидела узкую щель незакрытой входной двери, Инга пожалела, что не подождала Майкла.
В квартире было тихо: старый сервант позвякивал от ее шагов, пыль плясала в лучах солнца на кухне. Она заметила немытую посуду в раковине: две чашки и два блюдца, несколько чайных ложек.
— Александра Николаевна! — громко крикнула Инга. Никто не шевельнулся, нигде не раздались шаги. Тишина.
Инга услышала скрип двери, шумное дыхание — за спиной стоял Майкл.
Он молча кивнул ей на дверь, открытую в комнату. Инга проследила за его взглядом и увидела, что над креслом возвышается аккуратно уложенная голова пожилой актрисы.
— Александра Николаевна, — тише повторила Инга и начала приближаться. Та не шелохнулась. Инга обошла кресло и тут же зажала рукой рот. Александра Николаевна сидела в спокойной, почти вальяжной позе — нога на ногу, голова чуть откинута назад. На ней были черные лакированные туфли, отглаженные, элегантные брюки. Седые волосы красиво завиты волнами, прядь к пряди, разорванная нитка жемчуга безжизненно свисала почти до ремня черных брюк. Глаза Александры Николаевны были закрыты, будто бы она решила прикорнуть после трудного и волнительного интервью. Все в ее облике было спокойно и беззаботно. Если бы не нижняя челюсть, которая неестественно отвисла, почти доставая до накрахмаленного воротничка ее единственной нарядной блузки — темно-синей, в мелкий полевой цветок.
Майкл, следовавший за Ингой, протянул руку к шее тети, чтобы пощупать пульс. Голова Александры Николаевны упала вперед, и Инга увидела под короткими завитками волос на затылке красный, едва заметный след укола.
— Очень холодная. Надо звонить «Скорую помощь». — Майкл достал телефон, руки у него тряслись.
— Я звоню в полицию.
Инга медленно осела на пол — ноги внезапно перестали ее держать. Она ни о чем не могла думать, не могла сообразить, уловить, поверить: то, что сейчас происходит — это реальность, и с ней теперь придется жить.
Майкл с усилившимся от волнения акцентом диктовал диспетчеру адрес. Инга тоже достала телефон. Архаров ответил почти сразу же.
— Я знаю, кто убивает стариков, — изменившимся голосом сказала она ему без вступлений и проволочек — очень тихо, будто боясь разбудить Александру Николаевну, у ног которой она сидела на полу.
— Я тоже, — спокойно ответил Кирилл. — Я стою напротив его черной полки.
Глава 28
— Со святыми упокой, Христе, души усопших раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…
Инга стояла с зажженной свечой в руке, глядя, как в горячем воздухе ее огонька преломляются латунные подсвечники и оклады икон. В тесном приделе маленькой церкви было светло и жарко — длинные продолговатые окна пропускали много солнца. Священник вытирал лоб платком, но уклониться от лучей было невозможно. Он переворачивал страницы требника и продолжал чтение.
— Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим и сотвори им вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Души их во благих водворятся, и память их в род и род…
Каждый раз, когда он с напева переходил на бормотание, Инге казалось, что Александра Николаевна чуть сдвигает брови, вслушиваясь в его слова, как будто они могли послужить ей напутствием перед дальней дорогой.
Отпевание подошло к концу. Инга наклонилась поцеловать нагретую солнцем и пахнущую пудрой щеку. Майкл стоял у изголовья тети долго, что-то шептал, держа ее за руку. Инга смотрела в сторону, боялась встретиться с ним взглядом.
Потом закрыли крышку.
Они сели в микроавтобус, по разные стороны от полированного гроба — несколько раз при крутых поворотах он больно давил Инге на ногу.
Закапывали трое парней в синих куртках. Подруги-соседки стояли поодаль, переговариваясь вполголоса и время от времени осеняя себя крестом. Тяжелый еловый лапник мягко лег на комковатый холмик.
Майкл переменился. Все его радостное любопытство — к жизни тети, к Москве, к Инге — как-то разом улеглось, сникло, как стихает внезапный порывистый ветер в сумерках полесья, разворошив гнезда и обтрепав ветки сирени. Он ни слова больше не сказал об Александре Николаевне, не заговорил с Ингой — просто так, как заговаривает живой с живым после вынужденного визита на погост. Возвращаясь с кладбища, Инга вспоминала его последний заинтересованный взгляд и последний обращенный к ней вопрос:
— Как у вас в России делают похороны?
Из дома Александры Николаевны он взял несколько полустертых черно-белых фотографий.
В аэропорт ехали молча. На Ленинградском шоссе был глухой затор, минут двадцать они не двигались с места, потом поползли, в удушливом мареве выхлопных газов. Майкл сидел, уставившись в компьютер, перетряхивал свое цифровое пространство. Она задала ему какой-то ненужный вопрос, он не глядя ответил «нет».
Боится опоздать. Как будто его не пустят на борт прежней жизни.
— Может, зарегистрируешься онлайн? — спросила она.
— Вчера уже сделал.
Проклятая предусмотрительность.
Зачем я поехала с ним?
Потом они вышли из машины в толпу, в море чемоданов и колясок, плачущих детей и ругающихся мужчин. Стояли в длинном хвосте перед входом, и он опять нервничал, переминался с ноги на ногу, расправлял затекшие плечи.
Она взглянула на табло — рейс SU102 boarding. Объявлена посадка. Рванулась, заметалась глазами в поисках пластмассового коридора, уводящего вглубь, за границу ее мира.
— Я должен идти… теперь, — с запинкой произнес Майкл.
— Да, да, конечно. — Она развернулась к нему, на какие-то три секунды их столкнула лицами суетная волна. Хотела поцеловать, но ее опять толкнули, получилось криво, куда-то в пустоту. Он поспешно обнял ее, не выпуская чемодана из рук.
— Все будет хорошо. Ты скоро найдешь работу. Все изменится.
Какую работу? Ты приедешь еще? Ты же приедешь? Сделаешь свои компьютерные дела, взломаешь еще что-то и опять приедешь? Нельзя так просто взять и уехать от меня, из моего города! Ты еще ничего не понял! Ни про меня, ни про тетю, ни про нашу историю! Я не успела столько всего рассказать. Я еще не водила тебя по переулкам, по набережным, мы не забирались на крыши, мы не стояли на мосту. Ты не видел московскую грозу… Ты…
— …приедешь?
— Постараюсь. Я напишу. Пока. — Он еще раз приобнял ее и легко встряхнул. Так всегда делал папа, уезжая в командировку. Потом папа, помахав на прощанье рукой, закрывал дверь, а она еще долго ходила по квартире и украдкой подпрыгивала, чтобы на секунду вернуть это ощущение — как папа тебя встряхивает.
Он быстро скрылся в лабиринте перегородок. Сделалось пусто и тихо, как будто ее отсоединили от источника питания. Остались безусловные рефлексы: выйти из душного зала, пропустить ряд машин, посмотреть на экран телефона. Она представила, как самолет Майкла выруливает на взлетно-посадочную полосу, как стюардессы, изящно вскидывая руки, щелкают обрезками ремней, показывают, где лампочка и свисток, объясняют правила поведения на воде, а неумолимое солнце светит в иллюминаторы и заставляет щуриться, и шторку опустить никак нельзя.
Ей казалось, будто на нее высыпают контейнер с песком — тонкими струйками, потом сплошным неудержимым валом, вот она уже по пояс в песке, песок в глазах, в ушах, во рту. Тяжело подниматься, ноги не разгибаются.
Она вышла наружу, в гулкую стоячую духоту.
Было уже за полночь, а они не расходились, сидели в прокуренной кухне. Кирилл с Эдиком от спиртного отказались, пили зеленый чай, Женя объявила, что предпочитает исключительно водку, и Олег, осуждающе качая головой, наливал виски всего в два стакана:
— Ну, девушки, за успешное окончание нашего малоприбыльного проекта! Кирюх, тебе новое звание, что ли, не выписали? Чего смурной такой?
— У нас если и выписывают, то сам знаешь что.
Инга курила, стоя у окна и отвернувшись ото всех. Не помогали ни алкоголь, ни никотин, ни добротный фатализм Холодивкер, которым она лечила абсолютно все душевные раны. Инга прижималась лбом к стеклу и машинально обрывала лепестки орхидеи, стоящей на подоконнике, — подарок Эдика, который он принес сегодня. «Это фаленопсис!» — сказал он, вручая горшок. Эдик любил дарить ей ботанические диковинки.
— Оставь куст в покое. И выпей. Щас же. — Женя протянула Инге стакан и запела:
— Перестань себя казнить — от судьбы не уйдешь, все ко мне попадешь. Пусть тебя успокоит хотя бы то, что она не мучилась. Это была быстрая смерть, не из тяжелых. Ей можно даже позавидовать. А он на свой лад гуманист, этот ваш Агеев.
— Прекрати, Жень! Он был хорошим журналистом и приятным собеседником. И он убивал людей. Как это может уживаться в одном человеке? Почему он это делал?
— На твой вопрос нет ответа, — ответил Эдик, — некоторым людям не нужна причина, чтобы убивать. Им просто… нравится это делать. У них совсем иная… — он сделал паузу, подыскивая слово, — система взглядов, они не считают убийство преступлением. И главное — у них нет эмпатии.
— Ты будто учебник читаешь, — усмехнулся Олег, — а «система взглядов» называется мораль. Ты это хотел сказать?
— Нет. Агеев — классический маньяк. Он наверняка нашел для себя весомую причину для убийств. Но правда в том, что у каждого человека есть в жизни свои трагедии, травмы и основания для ненависти, только, слава богу, убивают единицы. Люди для таких, как он, — просто материал. Маньяки не могут поставить себя на место другого. Зато прекрасно умеют имитировать чувства. Притвориться милым, приятным человеком для них обычно не составляет никакого труда.
— Ты прав, — мрачно кивнула Женя, — вы зря стараетесь понять причину! То, что для вас мотив, для серийного убийцы лишь удобный предлог. Детская травма, абьюз в пубертатном возрасте, тираническая фигура отца — вот эта вся фрейдистская хрень. Его истинный мотив вам не дано постичь никогда. Потому что вы укладываетесь в среднестатитати…стические, — она споткнулась на длинном слове, — границы психиатрической нормы. Надеюсь, без обид?
Олег засмеялся:
— Какие обиды? Считай, комплимент сделала!
— Так вот, — продолжала Холодивкер, — его аргументация выпадает из привычной системы ценностей, из логики. У Агеева она развилась из какой-то спонтанно захваченной идеи, некоего бага, который занесло в его мозг с проходящим потоком психопланктона, и он там осел.
Инга не вникала в то, что говорила Женя, просто слушала звук ее речи. После всего, что произошло, любые рассуждения и объяснения лишь растачивали ее боль, мучили, опустошали голову. Как будто вирус поселился внутри нее и то призывал ее тело бороться, вызывая жар и истерику, то выкидывал белый флаг, и тогда Инга погружалась в холод и депрессию. Но сейчас голос Холодивкер успокаивал. Инга отошла от окна и села на подлокотник кресла рядом с Эдиком.
— Дальше механизм схож с канцерогенезом. По каким-то причинам Агеев зациклился на этой идее, она вошла в режим соматизации, и сформировался параноидальный психоз, от которого пострадал и организм — носитель идеи, и сама она переродилась в злокачественную. Это как сверхидея Раскольникова или фиксация Башмачкина на его шинели — идеи погубили гения и святого. На это можно взглянуть с точки зрения шизоанализа, разработанного Делезом и Гваттари…
— Погоди! — Олег взмахнул рукой, будто пытаясь поймать попутку, от этого несколько капель виски выплеснулось на пол. — Ты не могла бы объяснить попроще? Скажем, на кошках?
— На кошках? С удовольствием! — живодерски обрадовалась Холодивкер. — Как раз кошки самые распространенные носители токсоплазм — это паразиты такие. Источником инвазии, ну то есть заражения, для кошек часто являются грызуны. Чтобы скорее попасть в организм кошки, паразит так воздействует на мозг мыши или крысы, что притупляется ее инстинкт самосохранения и чувство страха, и опа! — она становится легкой добычей для хищника — и токсоплазмы переселяются в искомого хозяина. Некоторые идеи работают так же.
— Что-то похожее было в фильме «Начало». Про идею. Помните? — оживился Штейн.
— Точно, — согласился Эдик. — «Какой самый живучий паразит? Бактерия? Кишечный глист? Нет. Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно», — процитировал он героя фильма. — То есть по твоей теории получается, что идеи функционируют как живые организмы? Сама придумала?
— Куда уж мне: это акторно-сетевая теория и частично теория мемов Джона Ло и Ричарда Докинза, — усмехнулась Холодивкер.
— Парни неплохо соображают. За Ло и Докинза! — Олег поднял стакан, но до рта не донес. — Подожди, не сходится! Допустим, человек выполнил требование идеи-фикс, отслужил ей, после чего гибнет, а дальше что? Паразиты все-таки стремятся, чтобы их хозяин худо-бедно жил и подкармливал их. Разве нет?
— Но идеям, так же как и паразитам, надо расширять свой ареал. Вы же были комсомольцами, ну же, вспомните Маркса! — Холодивкер сделала торжественное лицо и продекламировала: — «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами!» Вот кстати, классический пример удачного распространения паразитарной идеи — коммунизм! Поселилась в черепушке гимназиста Ульянова, а сколько десятилетий после его смерти ворочала мозгами миллионов!
Она поставила стопку, которую все это время держала, как микрофон, дном вверх и сказала с усмешкой:
— Так, Холодильник понесло в философию! Мне больше не наливать!
— Я сама толкнула Александру Николаевну к Агееву. — Инга опять сникла. — Хотела подарок сделать — вернуть ощущение того, что она актриса, что ею восхищаются. Камера, мотор, начали… какая же я непроходимая тупица! Купилась на его красивые разговоры об искусстве. А потом еще эта запись, где мы поздравляем Александра Витальевича… этим он окончательно добил меня.
— Теперь ты единственная оставшаяся в живых свидетельница, которая может дать показания по его делу, — наконец заговорил Кирилл. — Жалею, что не удалось лично пообщаться с Агеевым. Когда мы вломились в его квартиру, он уже был мертв. Сидел в кресле. В костюме, рубашке, при галстуке. Две камеры на штативах, напротив и сбоку.
— Он что, еще и снимал себя? — удивился Штейн. — Офигеть!
— С двух ракурсов. Но самое странное — этой записи нигде не нашли, ни в камерах, ни на картах памяти, ни в компьютере — нигде. А я бы посмотрел!
— Может, еще увидим. — Штейн потер руки. — Представляете, если он себя снял, смонтировал, убил, а потом в Интернет выложил. Вот взрыв будет!
— Что ты несешь! — Холодивкер махнула на него рукой. — Жмуры в интернеты не ходют.
— Есть такая фича — отложенный просмотр, — не сдавался Олег. — Так от чего он умер?
— Это к ней. — Кирилл кивнул в сторону Холодивкер. — По нашей части все в протоколе: на сгибе локтя — след от инъекции, на полу шприц в тридцати сантиметрах от левой ноги. Следов борьбы не обнаружено. А про борьбу акторно-сетевой теории с теорией мемов в душе новопреставленного маньяка нам писать не полагается.
— Не язви! Читала я ваши каракули, труп сейчас по нашему ведомству, — сказала Женя. — Клиника та же, что у Волохова, что у Подгорецкого, — она чуть запнулась, — ну Александры Николаевны. Субарахноидальное кровотечение. Уверена, что это один и тот же препарат.
— Дело пошло как серия убийств, — продолжал Кирилл, — Инга, там многие личности из твоего списка.
— Многие? Они не все были им убиты? — спросила Инга.
— Не все. Вероятно, есть и случаи естественной смерти, совпавшие по признакам. Но это, как ты понимаешь, сейчас установить сложно.
— Так, что это еще за список такой? — Штейн налил себе новую порцию. — Объясняй по порядку.
Инга грустно улыбнулась:
— У меня завелся друг-программа.
— Друг-парикмахер тебя стрижет, друг-ботаник носит тебе цветы, друг-фотограф у тебя регулярно пьет, друг-ме… — он икнул, — друг-полисмен тебе вскрывает двери, а друг-программа на хрен нужен?
— Вычислять закономерности в якобы случайных событиях.
— Я, когда твой список получил, сразу подумал — «глухарь» приехал. — Кирилл тяжело вздохнул. — Какие-то ничем не связанные люди, да и разброс в пять лет. Пойди теперь вспомни, что там было пять лет назад. Но я нашел, за что зацепиться. Знаете, что их объединяло?
— Знаю, — ответила Инга. — Упоминание в СМИ. Я сама задала этот критерий отбора.
— Не только.
— А что еще?
— Несколько деталей. На первый взгляд незначительных. У них у всех не было прямых наследников. Или же были, в двух случаях, но проживали далеко — за границей и где-то на Дальнем Востоке. Это раз.
— Все жили одиноко! — подхватил Эдик.
— Либо их навещали крайне редко. Это облегчало задачу Агееву. Они все были звезды, известные люди, но в прошлом. Кроме Волохова. Это два. А вот что заставило меня задуматься… Никогда не догадаетесь! — Кирилл оглядел всех по очереди. — Одежда! Арфистка Власенко с Поварской была в нарядном платье и тяжелых мельхиоровых серьгах. Ее внучатая племянница обратила на это внимание. Сообразительная девчонка, кстати. Она прямо уперлась в это: бабушка словно на праздник собралась. Ладно, взял на заметку. Пошел в другой адрес. Лыжница Закеева с улицы Виноградова, мастер спорта, олимпийская чемпионка тысяча девятьсот семьдесят какого-то года. Высокая, видная такая старуха. Я по соседям: что помните, что видели? Соседи сами слепые, глухие, еле на ногах стоят и про себя-то ничего не помнят. Только одна вдруг говорит: «Она всю дорогу в спортивных штанах и олимпийке ходила, а тут вырядилась!» Оказывается, ее понятой приглашали, когда труп обнаружили, так она ее и не узнала даже: прическа, блузка белая, маникюр. «Я, говорит, как этот маникюр увидела, мне прямо там, в квартире, плохо стало». И дальше как под копирку — у всех костюм, галстук, прическа, платье, маникюр. Вот здесь я понял, что они к чему-то готовились. И все погибли в момент торжественного события.
— Покойничек нынче куртуазный пошел, — запинаясь, пробормотал Штейн. Он уже был порядочно пьян. — Скажи им, Жень!
— Олег, иди к черту.
— А потом я вбил в поисковик все эти фамилии по твоему списку. И что первое вылетело? Твой пост-обращение, Инга, о сборе средств на лечение Агееву. А что за Агеев такой? Впервые слышу. Продолжаю поиск. И выясняется: все эти люди — герои его «последнего интервью», минут по сорок каждое. Волохов твой опять же. Ну посмотрел я несколько. Тут уже все ясно: Волохов в кадре одет точно так же, как в момент гибели, протокол-то я читал. Ну и чего резину тянуть? Взял ордер, опергруппу и к Агееву. А он уже готов. Понятых усадили, сами пошли по комнатам, в кладовке я полочку эту и увидел. Она у него черная-черная, вполне траурного вида, на ней куча дисков. На дисках — знакомые фамилии. Ровно по списку. И тут ты такая звонишь: я знаю, кто убийца!
— На дисках просто его интервью? — спросил Эдик.
— Не просто, мать вашу! — Кирилл шумно выдохнул, помотал головой. — Там в конце… он все снимал, понимаете, все! Как эти старики умирали, что говорили, как кричали на него, как дышать переставали… Это у вас там как-то специально называется?
— Исходники, — буркнул Штейн, не открывая глаз. — Немонтированный материал.
— Я на оперативной работе чего только не навидался, думал, все уже, но после такого… Ублюдок…
— Не существует пределов ужаса, которые может испытать человек. Стивен Кинг будто про тебя сказал. — Холодивкер ткнула сигаретой в пепельницу.
— Стойте, — сказал Олег. — А как же этот, молодой поэт, к которому мы ездили в Королев? Туманов этот. Он-то тут при чем?
— Парню сильно не повезло. Судя по всему, он был у Волохова, увидел его мертвым и сбежал. — Кирилл повернулся к Инге. — Давай ты рассказывай, я сам еще не все переварил.
— Он не просто так приходил к Волохову. — Инга крутила сигарету в руках, курить уже не могла. — Помнишь, я взяла у Купленова ворох распечаток эсэмэсок Туманова по дороге в Большой? Купленов еще сказал — «гомосятина одна», к делу не относится. — Кирилл кивнул. — Так вот. Я почти сразу поняла, что Туманов убить Волохова не мог. Ну и начала тщательно изучать эсэмэски, думаю, вдруг что найду. И нашла! Был у Туманова некто «Вел. Жуж.». Переписывались довольно часто. Если не вчитываться — то и правда похабная переписка, как будто все время о групповухе договариваются.
— Без цитат неинтересно, — перебил ее Олег.
— «Вел. Жуж.»: «люблю держать тебя крепко; жду твоей интимной встречи с В. Девчонки с нашего двора и Кукольник будут смотреть», — не обращая внимания на Олега, продолжала Инга. — Тогда, в машине, я никакого скрытого смысла не уловила. Но потом мы поехали к Жужлеву, и тот признался в убийстве Туманова. И мне долго не давала покоя мысль, что я откуда-то знаю его фамилию. А потом как стукнуло: Вел. Жуж. — это Жужлев наоборот, очень примитивно.
— Ага, если знать, — кивнула Женя. — А дальше?
— А дальше я начала шерстить эсэмэски. И именно вот эта, про девчонок, дала мне ключ. Мой друг-программа, как ты выразился, Олег, прислал мне статью про Туманова, я тебе говорила… Штейн, не спи!
— Я не сплю, — проворчал Олег, — с закрытыми глазами я тебя лучше слышу. Помню эту жесть. Как несколько девчонок изнасиловали Туманова в детстве.
— Да! Статья называлась: «Девчонки с нашего двора». Жужлев шантажировал его! И это не любовная переписка. Теперь за пошлыми намеками отчетливо проглядывало совсем другое кино. Жужлев вынудил Туманова выкрасть «Парад». Ну а Туманов за эту «услугу» требовал денег. Жужлев в переписке несколько раз упоминал, что «девочки ждут твоего нагого дефиле», а Влад ему в ответ: «такой парад стоит денег». В результате они договорились о сумме.
— Сначала договорились, а потом грохнули! Нормально так! — Женя толкнула в бок Штейна, который опять начал посапывать. — Не находишь, что в наши дни уголовный мир совсем утратил этические ориентиры?
— Я здесь! Я с вами! — Олег встрепенулся, нашарил на столе кусок хлеба, намазал его густо маслом, принялся жевать. — Мне Туманова жалко. Хорошие стихи писал парень, правда!
— Я думаю, было так. Туманов пришел к Волохову домой за книгой. Увидел мертвого Александра Витальевича, страшно перепугался, но книгу схватил и отнес заказчику. Рассказал Жужлеву про труп. А тот, видимо, не поверил. Решил, что Туманов его сам убил. Потому что в переписке начались угрозы, стал чаще упоминаться какой-то Кукольник. Пока я соображала, какой еще Кукольник, мы с Майклом, — Инга сделала паузу, чтобы перевести дыхание, — вышли на Петрушку.
— Ты еще меня стихами про Петрушку пугала, помнишь? — Олег на глазах оживал.
— На том самом поэтическом вечере в Королеве буквально за пару минут до смерти Туманов прочел мне:
На несколько секунд на кухне повисла тишина.
— То есть хотел намекнуть, кто заказчик, — сказал Кирилл, — пытался защитить себя, понимал, что в опасности.
— Не пытался, а прямо сказал, — вставил Эдик.
— Да, — согласилась Инга, — а я не смогла ни понять его, ни спасти… Кстати, я уверена, что именно по приказу Петряева убили Жужлева. Как только полиция на него вышла, его тут же и убрали. А то вдруг бы он заговорил?
— «Каждая его ужимка — это смерть под колесом…» — грустно продекламировала Женя.
— Бабка за дедку, дедка за репку, репка за Жучку, внучку — до кучки. — Штейн шумно задвигался на стуле. — Русский народный фольклор, бессмысленный и беспощадный…
— Знаешь, Олег, кончай шутить на эту тему. — Холодивкер пустила воду в мойке и начала сгребать посуду со стола. — У меня, конечно, тоже профдеформация, но тут людей положили немерено, одного за другим… Это если не считать Агеева. Тогда вообще…
Инга посмотрела на Кирилла:
— Я только одного так и не знаю — где сейчас «Парад», с которого все и началось?
— Это-то как раз известно. Когда арестовали Отто фон Майера, которого прилюдно отделал твой американский друг, по оперативному сопровождению подключилось ФСБ. Книгу нашли в номере Майера, в «Ритц Карлтоне», во время обыска. Так что лежит она себе преспокойно где-нибудь в сейфе на Лубянке. Потом к ней подсоберут икон, другой какой культурный конфискат, созовут пресс-конференцию и торжественно передадут в музеи, храмы и еще куда-нибудь. А в программе «Время» покажут, как искусство возвращается народу. Народу приятно, «соседям» — галочка, внеочередное звание и медаль. Мне другое непонятно.
— Что?
— Убийство Ларисы Феоктистовой.
— Господи, как вспомню, — тихо сказала Инга. — Ее вроде наркоманы убили? Или нет?
— По официальной версии — да. Но мне это сразу как-то не понравилось. Уж слишком изощренно она была убита. Срезанная кожа, игральный кубик в желудке. Способ, исполнение, все это указывает на то…
— Что убийство было продумано, — закончил за него Эдик.
— Точно! — Кирилл повернулся к нему.
— Я тоже думала про Ларису, — призналась Инга. — Когда погиб Туманов, а после него — Жужлев, и я шла по ложному следу убийцы коллекционеров, я даже проверила ее — не собирала ли она что-нибудь, за что ее могли убить. А когда выяснилось про Агеева, я какое-то время считала, что он убил и Ларису…
— Нет, — уверенно перебил ее Эдик. — Лариса не его целевая аудитория, почерк другой.
— Может, она кому дорожку перешла? — спросил Штейн. — Почему мы связываем ее гибель с другими смертями? Тут причины надо искать в ее личной жизни. В наркоманов я точно не верю. Наверняка кто-то прикончил ее за тот яд, которым она так любила плеваться…
— Олег, о мертвых либо хорошо, либо никак!
— Тогда я никак, — хмыкнул Штейн.
— Другой почерк, — задумчиво повторил Кирилл слова Эдика, — вот что меня не отпускает. Если бы мне дали дело Феоктистовой в качестве учебной практики в институте, я бы точно сделал вывод, что это работа очередного серийного убийцы.
— Но, слава богу, такой труп у нас пока только один, — сказала Холодивкер.
— Ключевое слово «пока», — сказал Эдик, машинально теребя ворот рубашки, — очень может быть, что мы просто чего-то не знаем.
— Или не замечаем, — кивнула Инга.
— Пессимисты вы! — Холодивкер аккуратно расставляла мокрые стаканы на расстеленное полотенце. — Давайте, что еще мыть? Мне на дежурство завтра! И еще поспать бы, чтобы руки не тряслись. Убить я, конечно, уже никого не убью, но то, что осталось, могу попортить.
— Ой, подождите! На посошок — еще одна история. — Кирилл распрямился, хрустнул суставами. — Инга, помнишь, ты натравила меня на Большой театр? Я еще в лоб от начальства получил и на тебя страх как разозлился?
— Еще бы не помнить! — кивнула Инга.
— Так вот, вызывает меня вчера Хрущ, полковник наш, и показывает письмо из Большого. Мол, благодарим за то, что привлекли наше академическое внимание к сохранности бесценных произведений. Короче, им посылка пришла с эскизом к опере «Легенда о таинственном городе Китеже», ну или как его там, не помню.
— «Сказание о неведомом граде Китеже».
— Ян говорю. И этот эскиз — подлинник Коровина, эксперты подтвердили. А у них «подлинник» преспокойно числится на хранении. Достали своего «Коровина», сличили — один в один, гениальная подделка! Во где талант пропал — Жужлев наш, а? Теперь там серьезные разборки, но по-тихому. И Хрущ мне говорит «спасибо», представляешь? Хрущ — «спасибо»!
Инга мысленно поздравила Софью Павловну с правильным решением, но Кирилл понял эту улыбку по-своему.
— Ладно, тебе от меня тоже прощение вышло. Зря, получается, на тебя наехал.
— Мне вот что интересно! — сказала Инга. — Петряев, наш Петрушка, который стоит и за этими аферами в Большом, и за убийствами Туманова и Жужлева, — он что, получается, благополучно слился?
— Там такой ресурс… — Кирилл покачал головой. — Не достать.
— На каждый большой ресурс всегда находится еще больший ресурс, — зло проговорил Эдик. — И ресурс этот — закон вселенской справедливости. От высшего наказания он не уйдет, поверьте.
— Нуты, Эдик, утопист. Посмотрим. — Инга перестала улыбаться. — А знаете, что самое печальное в этой истории? — Она оседлала стул посреди кухни, положила голову на спинку. — Мы шли по следам жутких преступлений. И не смогли предотвратить ни одного.
— Расскажи нам об этом, — хором выдохнули Кирилл и Холодивкер.
Инга с Олегом вышли на улицу проводить друзей. На востоке уже розовело небо. Когда такси выехало из двора, Штейн предложил:
— Пойдем гулять по Яузе, а? Давно я по утрам не шлялся.
Но до набережной они не дошли. Остановились на холме у Афонского подворья, что на Гончарной улице, и долго смотрели вниз — на реку, на высотку и островки скверов. Мимо прошла пьяная компания свадебных гостей. Девушки падали с каблуков, изнемогая от хохота. Одна из них, полная, в кудрях, вдруг скинула свои атласные туфли и с восторгом освобождения подбросила их вверх, одну за другой. Все зааплодировали и по очереди приложились к бутылке шампанского.
К подворью тянулись прихожане на литургию.
Инга чертила носком ботинка на асфальте квадраты.
— Агеев говорил, что ложь — это один из путей к правде.
— Чего? — Штейн посмотрел на нее с тревогой.
— Что, не познав лжи, невозможно познать правду.
— И после этого ты ему еще доверяла? Это чистый вывих сознания. Релятивизм, будь он неладен.
— Ты не понял, у нас совсем другой контекст разговора был.
— И понимать не желаю. Ты сейчас его еще оправдывать начнешь. Знаю я этот бред. Мы начинаем с того, что мир бесконечен и в принципе непознаваем, каждое новое знание разбивает в прах предыдущее, чувственное восприятие неистинно и прочие офигительные трюизмы. А кончается это чем? Человек перестает понимать, куда его занесло, где правда, а где расфуфыренное вранье. Полный хаос в голове, и знаешь, что самое страшное? Неуверенность. Неуверенного и слабого легко втягивают в преступление. Могут внушить всякую херню — потому что нет у него критериев правды и лжи. Все относительно! И вчерашний философ становится убийцей и мнит себя спасителем человечества. Твою ж мать! Ты это, подруга, брось. Ложь — никакой не путь. И никогда не приведет к правде.
— Да ты, старик, трезвеешь на глазах!
Они присели на лавочку у подъезда, закурили.
— Я просто устал. Сволочная у нас все-таки работа, — сказал Олег. — Все ходим, вынюхиваем чего-то. Человеку несчастье — нам новость.
— Что это с тобой?
— Да так. Я все про Туми думаю. Не зря нас уволили. Судьба это.
— Как она, не знаешь?
— Читал недавно. Ей хуже. Лечат всем подряд, но прогнозы сомнительные. Мне так и кажется, что мы ей жизнь испортили. Мы с тобой, понимаешь? И чего нас понесло в эту чертову больницу?
— Почему мы?
— Мы подогрели интерес к ее болезни. А оно ей надо? Народ уже и музыку ее забыл, но запоем читает про то, как она слепнет. Безумие какое-то.
— Ты, Олежка, сегодня мистически настроен. И тебе это не идет. Оставайся лучше веселым циником.
— Циником, говоришь? Глупая ты. Знаешь, если бы нас не уволили, я бы через несколько лет скурвился. Стал бы таким же, как Агеев. Убивай и сгребай в мешок популярность. В чем она там сейчас измеряется? В баксах, лайках или просмотрах?
— Ты не стал бы. Ты скорее спился бы.
— О. Это мысль. Так и поступлю.
— Только не в ближайшие сто лет. Ты мне страшнострашно нужен! И я тебя обожаю. — Инга обняла его.
— И не уговаривай. Все равно сопьюсь. А ты не смей. Днем, как отоспишься, садись писать «Дело номер 1. Дья-
Вольский шприц». Или нет — «Смертельное интервью». Нет, не то. О! «Черная полка». И погнали!
Инга засмеялась.
Они еще долго, до первых лучей, бродили улочками, курили на заброшенном пустыре, строили планы, и Олег заставлял ее смеяться все больше и больше. И когда взошло солнце, это уже было новое солнце — не то, что гладило по щеке Александру Николаевну и светило в иллюминаторы самолета Москва — Нью-Йорк.
Эпилог
Источник: Youtube.com
Опубликовано: 21 июня
Категория: Люди и Блоги
Лицензия: стандартная лицензия Youtube
Транскрипт
Ведущий (за кадром): Сегодня у меня очень интересный собеседник. Человек, с которым я хотел поговорить по душам… очень и очень давно. Но все не отваживался. Это я сам. Знакомьтесь, Агеев Игорь Дмитриевич. В прошлом малоизвестный журналист, оператор, ныне — знаменитый видеоблогер и убийца. И вот мой первый вопрос. Какое у вас самое яркое впечатление детства?
…Видео снято на две камеры — одна держит общий план собеседника, другая — крупно лицо. Того, кто задает вопросы, не видно, но это голос Агеева. Пока звучит вопрос, он слушает свой собственный голос. В объектив на зрителя смотрят уставшие глаза. Взгляд — спокойный, но в нем — боль и отрешенность…
Агеев (крупно): Это было в середине 60-х. Самый разгар застоя, как потом стали называть это время. Мне было лет пять-шесть, не больше. И это был единственный раз, когда отец взял нас с матерью на парад Победы. Мы стояли в общей толпе, я почти ничего не видел. И вдруг отец сгреб меня и посадил себе на шею. В один миг я оказался над всеми. Это было такое чувство… Ты почти паришь, почти бог и при этом ощущаешь гармонию и примирение со всем миром. И еще чувствуешь гордость, почти невыносимую. Мы лучше всех! Мы сильнее всех! Мы всех победим!
Смена плана.
Вопрос (за кадром): У вас были близкие отношения с отцом?
Смена плана — крупно
Агеев: Нет. Совсем нет. Отец был очень замкнутым человеком, суровым. К сожалению, он мало успел рассказать мне о своей жизни. На фронте отец несколько раз был ранен и довольно рано умер. Сказались последствия ранений. Но незадолго до смерти он неожиданно признался мне, что по-настоящему счастливым был только во время войны. Тогда он точно знал, что нужен, жизнь была наполнена смыслом. Он во всей полноте ощущал ее ценность, потому что мог потерять в любой момент.
Вопрос (за кадром): А для вас — что значит быть счастливым?
Агеев: Мое счастье умерло в 1998 году, когда я не смог спасти Надю.
Вопрос (за кадром): Как вы познакомились с вашей женой?
Агеев: На съемочной площадке. В то время она работала ассистентом режиссера, а я снимал репортаж об этих съемках. Влюбился сразу. Как оказалось, навсегда.
Вопрос (за кадром): Это было взаимное чувство?
Агеев: О нет, далеко не сразу! Я добивался ее два года.
Вопрос (за кадром): Ходили слухи, что в нее был влюблен сам Топорков, великий и ужасный.
Агеев: Да, у них был служебный роман. Топорков был большой любитель женщин. Он не изменял своим привычкам, несмотря на то что был уже несколько лет женат. А Надя была очень яркой и умной женщиной. Отбить ее у самого Топоркова было совсем нелегко. Но в конце концов она не только ушла от него, но и уволилась с любимой работы — сожгла все мосты. Устроилась на телевидении, мы оказались в одной редакции. Надя стала администратором.
Вопрос (за кадром): И тогда же вы поженились.
Агеев: Почти сразу. Она как будто бросилась в омут.
Вопрос (за кадром): Она была с вами счастлива?
Смена плана. Агеев смотрит в камеру, губы его сжаты.
Агеев: Я уверен, что она любила меня, хотя Надя никогда не говорила мне этого.
Вопрос (за кадром): На чем основывается ваша уверенность?
Агеев думает, как будто решает, насколько откровенно отвечать.
Агеев: Она плохо рассталась с Топорковым. Дело в том, что Надя была беременна. И почему-то она решила, что Топорков уйдет из семьи к ней и ребенку. Но тот прогнал ее. Я не настаивал на аборте. Ни одной минуты! Хотя, конечно, был не в восторге. Аборт был неудачный, я месяц выхаживал ее. Надя осталась бесплодной. Но, знаете, я всегда ей говорил, что это даже к лучшему. Мне не пришлось больше ни с кем ее делить.
Вопрос (за кадром): Вы много времени проводили вместе?
Агеев: Мы все время были рядом. И дома, и на работе. Не расставались ни на один день.
Вопрос (за кадром): А что для вас означает горе?
Агеев: Горе — это когда на твоих глазах умирает твой самый близкий человек, а ты ничего не можешь сделать.
Агеев молчит, смотрит вниз. Смена плана. Он разглядывает свои руки.
Агеев: У Нади был рак желудка. Она слишком долго не говорила мне, что плохо себя чувствует. Как будто наказывала себя за что-то. (Пауза). Или меня. Когда же я заставил ее пойти к врачу, то было уже поздно. Метастазы поразили печень и поджелудочную. Она очень похудела, хотя живот делался все больше, как будто она наконец забеременела. Ее все время рвало, причем с кровью, она не могла есть, даже пить. Единственное, что я мог — облегчить ее страдания. Боли были адские, помогали только наркотические препараты. Их для меня доставал старый друг, а уколы я научился делать сам.
Вопрос (за кадром): Какие были ее последние слова перед смертью?
Смена плана — глаза Агеева крупно. Он злится.
Агеев: Я не знаю. И никогда этого не узнаю. (Пауза). В тот самый последний день Наде стало легче. И я поехал за лекарством. Но я знал, что мне нельзя ее оставлять! (Агеев повышает голос, на записи искажения от громкого звука, срабатывает ограничитель, далее голос Агеева некоторое время звучит тихо). Я бежал всю дорогу, я чувствовал. И не успел. Она ушла в полном одиночестве, без поддержки, утешения, в страдании. Я не знаю, какими были ее последние слова, что она видела перед смертью, что чувствовала, как сильно страдала…
Вопрос (за кадром): Что удержало вас от самоубийства?
Агеев: Сначала я ни о чем думать не мог. Сутки просидел на полу, у ее кровати. Не мог пошевелиться. И мне была невыносима мысль, что ее заберут чужие люди, куда-то увезут, что-то будут с ней делать. И я больше никогда ее не увижу.
Вопрос (за кадром): А потом?
Агеев: А потом началась рутина. Человек, знаете ли, труслив. Он боится расстаться со своей никчемной жизнью даже тогда, когда эта жизнь ничего не стоит.
Агеев улыбается, но глаза остаются холодные.
Вопрос (за кадром): И вы продолжили ходить на работу. Вас ценили как журналиста?
Агеев: В нулевых на наш канал пришли молодые волки, с этими своими бесчисленными гаджетами, нахальством и всезнайством. Нас, старую гвардию, просто оттерли. Никому не был нужен наш уникальный опыт. Но я нашел свое место — искал великих стариков, актеров, ученых, писателей и снимал их, чтобы уникальные воспоминания остались для истории. Этим молодым до них дела не было — они сами себе казались гениями, им никто не был нужен!
Вопрос (за кадром): И тогда вы стали работать в своем любимом жанре?
Агеев: Да. Интервью мне всегда удавались, я умел найти подход, доверительную интонацию, люди открывались мне. И я готовился. Как я готовился! Не то что молодые верхогляды, за которых порой просто стыдно, все только из Интернета.
Вопрос (за кадром): И ваши работы выходили в эфир?
Агеев: В том-то и дело! Я снимал, монтировал, делал превосходные материалы, а мои работы просто отправлялись на так называемую «Черную полку» — это место, где хранятся некрологи, заготовленные заранее — до кончины заметных персонажей. Такие запасы есть в каждой редакции, иногда их по ошибке дают в эфир. Си-Эн-Эн так «похоронило» Генри Киссинджера раньше времени… (усмехается). Вот ведь какой оборот — я думал, что нашел свою нишу, а на самом деле меня в нее просто загнали.
Вопрос (за кадром): И вы решили…
Агеев: Это было остроумное решение (улыбается).
Вопрос (за кадром): Вы стали убивать только ради эфира?
Агеев вытягивает ладонь перед собой, почти закрыв объектив. Смена плана.
Агеев: Нет, конечно, нет! Совсем не поэтому… Хотя я считаю, что настоящий журналист для эфира должен сделать все что угодно. Мне не давала покоя мысль, что же люди чувствуют перед смертью. Что говорят, о чем думают. Я хотел заглянуть за эту черту, увидеть в их глазах ответ на мучивший меня вопрос: что могла сказать мне Надя в последнюю минуту.
Вопрос (за кадром): Как вы убивали?
Агеев: Я уже упоминал своего друга, который помогал мне с лекарствами. Сейчас я могу его назвать. Это Мирошников Павел Григорьевич. Почти сразу после окончания биофака его по рекомендации декана взяли на работу в КГБ, в элитное Управление «Цэ», отдел нелегальной разведки. Это был тип преданного ученого — до фанатизма. Но с развалом СССР посыпалось все. КГБ запинали, сотрудники увольнялись пачками. Пашин отдел закрыли, его самого просто выбросили на улицу. А он ничего, кроме своей науки, не видел и видеть не хотел. Семьи не было, родители умерли, он вернулся в свою московскую квартиру в Ясенево, на 12-й этаж. Когда я приезжал к нему, он часто стоял у окна, смотрел в сторону своей бывшей работы, его отдел был недалеко от дома, объект А-Бэ-Цэ, в «Лесу», как они это называли, и все повторял: что же они наделали, что они наделали.
Смена плана. Агеев молчит, раздумывая. Потом продолжает.
Агеев: В один из таких моих приездов Паша мне рассказал, над чем работал последние годы. Он создал препарат, который вызывал скорую смерть и при этом не оставлял следов в организме. Он его называл тихим убийцей. Основу препарата составляют выжимки из ядовитых растений. Я запомнил болиголов и волчье лыко, они странно звучали в ряду латинских названий. Яд первого вызывает мышечный паралич, а второго — эффект разрыва сосудов, как от страшного скачка давления. Он рассказывал часа два, я давно не видел его в таком возбужденном, даже радостном состоянии. Он расхаживал по комнате, махал руками, рисовал мне на полях старой газеты с программкой какие-то диаграммы. Потом залез на табуретку и достал с верхней полки тетрадь и коробочку. Он сказал: «Сохрани. Когда они одумаются, отдашь. Здесь все мои разработки и пробный экземпляр препарата». А потом… потом он достал шприц. «Лучше всего колоть сзади в шею, вот здесь, на границе волосяного покрова. След от укола найти почти невозможно. Но самому это неудобно. Можно между пальцами». Он вот так положил руку на стол, нашел нужное место и на моих глазах ввел себе препарат. Очень медленно.
Агеев замолкает. Смена плана. Крупно лицо.
Агеев: Я не мог до конца поверить, что он сейчас умрет прямо передо мною. Паша ушел тихо, с улыбкой, до самого конца мы с ним разговаривали, хотя двигаться он почти не мог. А потом он как будто уснул. Я спрятал тетрадь и препарат себе в сумку, вызвал «Скорую». Врачи диагностировали смерть от разрыва аорты. Все как он и сказал.
Смена плана. Агеев наклоняется, и его тело исчезает из кадра. Видно спинку стула. Когда он возвращается в кадр, в его руках — общая тетрадка, зеленая коробочка из дешевой пластмассы и эмалированный тазик. Он ставит тазик себе на колени. Агеев вырывает листы из тетради, комкает их и кидает в тазик.
Агеев: (Он говорит скороговоркой, монотонно, без интереса.) За период с 2007 года по настоящее время я убил восемнадцать человек. Первым был Бахтеев Василий Викторович, 1927 года рождения, в прошлом знаменитый на весь мир скрипач. После введения препарата жил три минуты. Просил вызвать врача и спасти его. У него были отвратительные узловатые пальцы, которыми он пытался схватить меня за пиджак. Власенко Анастасия Петровна, 1931 года рождения, арфистка. После введения препарата прожила пять минут. До последней секунды кричала, звала на помощь соседей. Потом упала, платье задралось, стал виден рваный чулок и дешевые хлопчатобумажные трусы. Безродный Анатолий Петрович, 1933 года рождения, писатель. После введения препарата жил четыре минуты. Никак не мог поверить в реальность происходящего, смеялся, был похож на умалишенного. У него был безобразный беззубый рот. Иоганесян Артур Суренович, 1935 года рождения, ученый-физик. После введения препарата жил семь минут. Оказался слишком живучим, ругался по-армянски, вступил со мной в борьбу, пришлось сбить его с ног и держать, пока он не перестал дергаться. После этого случая увеличил дозу. Целяритский Аркадий Михайлович, 1939 года рождения, артист Большого театра. После введения препарата жил одну минуту. Не успел понять, что произошло.
Вопрос (за кадром): После выхода фильма о Целяритском вас уволили. Что стало причиной?
Агеев: Формальным поводом послужила статья Волохова, где он обвинил меня в нарушении журналистской этики. Целяритский оказался близким другом Волохова, и некоторые факты из жизни артиста Волохов посчитал чрезмерно откровенными. Ну балетные люди, вы понимаете…
Продолжая говорить, Агеев щелкает зажигалкой, в тазике вспыхивает пламя. Он держит его на коленях, пока не становится горячо. Затем опускает вниз, на пол. Несколько секунд видно отблески огня, потом они исчезают.
Вопрос (за кадром): Можно ли сказать, что именно благодаря вашему увольнению вы стали известны?
Агеев: Я довольно быстро набрал популярность в Интернете.
Вопрос (за кадром): Убивать стало легче?
Агеев: Намного. (Он наклоняется вниз, и слышно, как в тазике шуршит обгоревшая бумага.) Теперь я убивал сразу после окончания интервью. В этом есть своя эстетика, согласитесь. Человек прихорашивается, надевает свой лучший костюм и перед камерой вспоминает свою жизнь — в последний раз. Они все были предельно откровенны со мной, потому что я умею слушать. А слушал я очень внимательно, так как выбирал момент, в который оборву их жизнь.
Вопрос (за кадром): Вы ощущали себя чем-то вроде бога?
Агеев: Скорее Управителем, у которого в руках все нити. (Улыбается.)
Вопрос (за кадром): Вы снимали сам момент убийства?
Агеев: Конечно. Сейчас мои фильмы можно посмотреть, как говорится, в полной режиссерской версии. Я их все выложил в Интернет. На этот раз без купюр.
Вопрос (за кадром): Кого еще из ваших жертв вы можете вспомнить?
Агеев: Я помню всех.
Смена плана. Агеев отрешенно смотрит в камеру. Речь становится монотонной, без выражения.
Агеев: Иванченко Ростислав Дмитриевич, 1940 года рождения, тяжелоатлет. После введения препарата жил одну минуту. Не сказал ничего, смотрел на меня округлившимися от ужаса глазами. Потом рухнул всей своей бесформенной тушей на пол. Земцова Альбина Григорьевна, 1939 года рождения, диктор телевидения. После введения препарата прожила четыре минуты. Испугалась настолько, что не могла говорить, только всхлипывала и размазывала по щекам красную помаду. Пошехонский Михаил Иванович, 1926 года рождения, авиаконструктор. После введения препарата жил четыре минуты. Сразу смирился. Давно пора, сказал, все смотрел на меня телячьими глазами. Очки делали эти глаза огромными и уродливыми. Глебов Станислав Петрович, 1928 года рождения, хоккеист. После введения препарата прожил три минуты. Сумел встать и даже замахнулся на меня палкой. После чего упал, изо рта потекла слюна. Петров Ростислав Григорьевич, 1940 года рождения, оперный певец. Прожил полминуты. Хотел что-то сказать и не успел. От досады я двинул ему по макушке так, что съехал парик. Это было потешное зрелище. Закеева Ратина Рашитовна, 1947 года рождения, лыжница. После введения препарата прожила 3 минуты. Жилистая, прямая, как лыжная палка. Был готов к сопротивлению. Материлась, как мужик, орала так, что боялся, услышат соседи. Пришлось зажать рот, укусила. Но больше уже ничего не могла сделать. Подгорецкий Виктор Борисович, 1929 года рождения, хореограф. Поставил ему подножку, когда он вдруг решил ответить на телефон. Растянулся на полу, стал смешно загребать руками, пытаясь подняться. Сразу ввел ему препарат. Умер в течение минуты. На все мои вопросы отвечал мычанием.
Вопрос (за кадром): Вы так и не смогли заглянуть за черту?
Агеев молчит, вздыхает. Продолжает ровным тоном.
Агеев: Надеялся на Волохова. (Пауза.) Он меня не вспомнил. Вырядился в бархатный костюм, надушился. Оказалось, что Волохов невысокого роста, ниже меня на полголовы. И жуткий запах изо рта. Суетлив, мелок в движениях, на экране этого не видно. Но и он меня разочаровал. Умер сразу, хотя доза была обычная.
Вопрос (за кадром): А кто-нибудь удивил вас?
Агеев: Как ни странно, да. (Улыбается.) Цембровская Александра Николаевна, 1937 года рождения, актриса. После введения препарата прожила три минуты. Я сделал ей инъекцию в тот момент, когда она наливала мне чай. Зажал ее голову рукой, убрал с шеи волосы. Колол рядом со старым рубцом, который остался от мужниных побоев. Очень мешало жемчужное ожерелье и еще эти морщины на шее. Старость, поверьте мне, это очень некрасиво. Цембровская сразу поняла, что происходит, не пришлось повторять дважды. Сыграла свою роль до конца. Глаза, полные ненависти. Просто Шекспир! Откинула назад волосы, подняла руку, ткнула в меня пальцем. Сама дряхлая старуха, а голос мощный такой. «Катитесь к черту!» И все.
Агеев открыл пластмассовую коробочку, достал шприц.
Вопрос (за кадром): Ваш цикл программ завершен?
Агеев: Да. Я болен и больше не хочу цепляться за жизнь. Но главное — у меня осталась только одна инъекция.
Агеев показывает в камеру ряд пустых капсул и полный шприц.
Вопрос (за кадром): В таком случае, мой последний вопрос. Что вы скажете перед смертью?
Смена плана. Крупно — только глаза Агеева.
Агеев: Я готов, любимая. Скоро мы снова будем вместе.
Микшер. Черный экран.
13 547 835 просмотров…