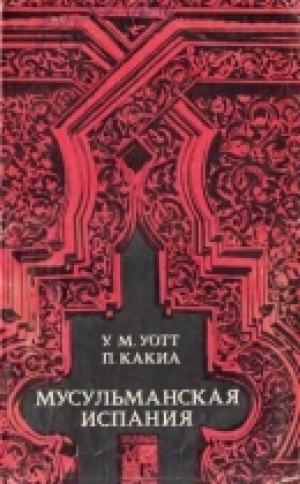
Пер. с англ. С. И. Дунаевецкого. Предисл. А. Б. Куделина. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976.
Предисловие
В востоковедении прошлого века прочно укоренился интерес к истории и культуре мусульманской Испании. Этот интерес во многом подогревался романтизмом, овладевшим умами представителей академической науки, а нередко и водившим их рукой. В мусульманской Испании немецкий ученый Л. Мюллер видел, например, «привлекательность, свойственную необычайному», ибо на ее земле «вымысел и правда, легенда и быль сливаются больше, чем где бы то ни было, если не по внешним очертаниям, то по содержанию; и испанскому арабизму, в том виде как он сложился фактически, присущ тот романтический ореол, которым окружены его предания»[1].
Миновали годы, востоковедение преодолело романтические увлечения, однако и по сей день испано-мусульманская тематика продолжает привлекать исследователей средневековья. Доказательством тому может служить книга «Мусульманская Испания», написанная двумя учеными из Эдинбургского университета — У.М. Уоттом и П. Какиа. Их книгу отличает четкость и ясность аргументации, хорошая документированность, широта кругозора. Все это делает ее одним из лучших кратких очерков по истории и культуре мусульманской Испании.
Большую часть объема книги занимает последовательное изложение истории мусульман полуострова от начала завоевания в 711 г. до падения Гранадского эмирата в 1492 г. Не вдаваясь в излишние подробности, авторы рисуют целостную картину исторического процесса и характеризуют социальную, экономическую и духовную жизнь полуострова. Мусульманская Испания является главной темой исследования, и уже хотя бы этим объясняется его преимущество для интересующихся испано-мусульманской проблематикой перед выходившими у нас ранее трудами по истории Испании либо истории арабских стран (работы А.Е. Кудрявцева, Р. Альтамиры-и-Кревеа, А. Мюллера, А.Е. Крымского), в которых период мусульманского владычества в Испании занимает незначительную часть общего исторического очерка. В книге же У.М. Уотта и П. Какиа, наоборот, необходимые экскурсы в историю собственно мусульманской Испании (например, рассказ об истоках арабо-мусульманской экспансии, анализ причин слабости готской Испании) крепко привязаны к главной теме. Что же касается двух небольших работ Э. Леви-Провансаля и И.Ю. Крачковского об испано-мусульманской культуре, написанных немногим менее сорока лет тому назад, то они не устарели и поныне и могут служить превосходным дополнением к соответствующим разделам публикуемой книги.
У.М. Уотт и П. Какиа не упрощают предмета своего исследования. Они обнажают спорные проблемы, смело высказывают гипотетические соображения. Нам бы хотелось здесь высказать несколько замечаний по поднятым вопросам.
Анализ причин слабости Вестготского королевства, представленный У.М. Уоттом, нуждается, на наш взгляд, в уточнениях и дополнениях. В VII в. в готской Испании проявлялись две противодействующие тенденции. Первая из них свидетельствовала об эволюции политического строя к централизованному управлению, к самодержавной власти. Поэтому, например, стали появляться признаки наследования престола, хотя официально принцип выборности государя сохранялся до мусульманского завоевания. Несмотря на действие противоположной тенденции, ослаблявшей централизацию и усиливавшейся по мере развития феодализационного процесса, централизованное государство существовало в Испании значительную часть VII в. Вестготская знать считалась с тем фактом, что готы составляли большинство населения страны, и поэтому признавали королевскую власть, обеспечивавшую ее господство в Испании. Однако феодализация отношений приводила к ослаблению королевской власти и усилению класса крупных землевладельцев, сформировавшегося из готской служилой знати и испано-римской светской верхушки и высшего духовенства, фактически уравнявшихся в правах с вестготами после официального принятия последними католичества в 589 г.
Феодализационный процесс проявлялся во многих сторонах жизни готской Испании, в частности, в военной. Если ранее основу войска составляло народное ополчение, то в VII в. оно создавалось из отрядов, сформированных крупными феодалами и служилой знатью. Таким образом, военная мощь Вестготского королевства теперь во многом зависела от прихоти представителей господствующего класса. Рост центробежных сил в стране привел в конце VII — начале VIII в. к обострению противоречий в правящей верхушке общества и острым междоусобным столкновениям, а в конечном итоге к краху готской Испании, не сумевшей противостоять мусульманскому завоеванию.
Советский исследователь А.Р. Корсунский, которому мы следуем в изложении данного вопроса, так резюмирует причины краха Вестготского государства: «Сдвиги в социально-экономических отношениях в VII в., связанные с дальнейшей феодализацией, превращение основной массы свободных общинников в зависимых крестьян, сужение товарно-денежных отношений, упадок слоя городских землевладельцев и ослабление заинтересованности у тех магнатов, которые приобрели обширные земельные владения, в сильной центральной власти — привели к изменениям и в политическом устройстве. Несмотря на внешнее сохранение централизованного устройства, отсутствие иммунитетных округов и обособившихся феодальных княжеств внутри страны, центральное управление к концу VII в. деградирует. Власть в государстве перешла в руки узкой группировки светских и церковных магнатов, которые препятствовали укреплению могущества короны. Вестготское королевство, не имевшее широкой социальной базы и полностью записавшее теперь от поддержки светских магнатов и епископов, оказалось бессильным перед лицом внешних противников»[2].
Следует внести коррективы и в вопрос о феодализме в Испании. Ссылаясь на распространенное мнение, У.М. Уотт пишет в одном из примечаний, что «в Испании не существовало феодализма в строгом смысле слова». Думается, что такой подход основывается на старой концепции существования некоей идеальной «модели» феодализма, построенной на французском материале.
Однако, как явствует из новейших исследований, в Западной Европе едва ли придется большое число примеров воплощения идеальной «модели». Вопрос соотношения «модели» феодализма с исторической реальностью подробно освещается в книге А.Я. Гуревича, к которой мы и отсылаем читателя[3]. Что же касается Испании, то она, по выводам А.Р. Корсунского, «несмотря на своеобразие исторического процесса... шла по тому же феодальному пути развития, как и другие страны Западной Европы»[4].
С концепцией идеальной «модели» несомненно связан и подход У.М. Уотта к восточному феодализму. Разумеется, феодализм, развивавшийся в мусульманских странах, имеет мало общего с «классическим» типом западноевропейского феодализма. Но это отнюдь не означает, что в них вообще не было феодализма[5]. Между тем У.М. Уотт склоняется именно к такой позиции, утверждая, что в особых экономических и географических условиях Испании феодализм «был принят даже мусульманами». С должной осторожностью читатель отнесется и к рассуждениям о том, не противоречили ли феодальные идеи мусульманской религии и т.п.
Одним из важных вопросов, поднятых в книге, следует считать вопрос о том, сколь велик был восточноарабский вклад в испано-мусульманскую. культуру. Здесь представляется необходимым вкратце напомнить о контактах Испании с восточными центрами, поскольку в книге сведения по этому вопросу неполны и отчасти противоречивы. Например, мы находим в ней неточное утверждение, что контакты с Востоком осуществлялись в основном до 750 г., так как затем в Арабском халифате произошла смена правящей династии, а в Испании обосновались приверженцы Омейядов. Действительно, если говорить о сирийском (омейядском) влиянии, то оно завершилось в основном к 750 г., хотя и после падения Омейядов в Испанию прибывали иммигранты из Сирии, спасавшиеся от преследований Аббасидов. Затем начинается медленный отход от сирийской традиции. Несмотря на антиаббасидскую направленность политики омейядской Испании, эмиры Хишам I (788—796) и ал-Хакам I (796—822) спокойно смотрели на появление первых признаков влияния иракской культуры в своих владениях. Годы правления эмира Абд ар-Рахмана II (822—852) характеризуются постепенным отступлением сирийской традиции и нарастающим воздействием на мусульманскую Испанию Аббасидского халифата. Абд ар-Рахман II перестроил государственный аппарат Кордовского эмирата по аббасидскому образцу. Именно в годы его правления развернул свою активную деятельность выходец с Востока, знаменитый багдадский певец Зириаб, ставший проводником аббасидской культуры в Испании. К середине IX в. в Кордове образовалась небольшая, но очень влиятельная колония переселенцев из Северной Африки, Египта, Сирии и Ирака. Мекка и Медина также сыграли определенную роль в «реориентализации» мусульманского Запада, так как ежегодно многие андалусцы совершали паломничество к святым местам ислама.
В правление халифа Абд ар-Рахмана III (912—961) движение между Кордовой и старыми. культурными центрами на востоке несколько замедлилось, однако при ал-Хакаме II (961—976) начался новый этап интенсивного восточного проникновения. Этот халиф усиленно приглашал в Испанию ученых, законоведов, литераторов с востока. Престиж Багдада существенно возрос за эти годы на Пиренейском полуострове.
В XI в., после распада Кордовского халифата, контакты продолжились. В трудах испано-мусульманских ученых приводятся данные о тесных связях мусульманской Испании с остальным мусульманским миром и в XII—XIV вв.
Андалусцы, посещавшие Ирак, Сирию, Аравию, Египет, Ифрикию, и восточные путешественники, ученые и литераторы, отправлявшиеся в Испанию, привозили с собой сочинения крупнейших восточных авторов по самым различным отраслям знаний. Например, известный филолог Абу Али ал-Кали, прибывший в Испанию в 941-2 г., привез около 40 диванов стихов восточноарабских поэтов.
Восточноарабские традиции тщательно оберегались на Пиренейском полуострове. Известно, что арабы никогда не составляли большинства мусульманского населения Испании (берберский элемент был многочисленнее). Поэтому арабские правители и арабская родовая знать с особым усердием блюли чистоту восточного наследия и использовали его для сохранения своего господства. По свидетельствам средневековых источников, от всякого, кто желал занять высокую должность при дворе или в государственном аппарате, непременно требовалось прекрасно владеть арабским языком и глубоко знать арабо-мусульманскую культуру. Испано-омейядские эмиры и халифы стремились показать себя защитниками «веры Аллаха» и не жалели усилий, чтобы превзойти в религиозном рвении своих предшественников. Таковы некоторые из причин, объясняющие известный консерватизм испано-мусульманской культуры во время омейядского правления.
Итак, факты свидетельствуют о том, что восточноарабский вклад в культуру мусульманской Испании был чрезвычайно велик. Поэтому крупнейший современный историк мусульманского запада Э. Леви-Провансаль справедливо заметил: «Было бы неразумным пытаться выявить присущие арабо-испанской культуре оригинальные черты, не указывая в то же время на значение, какое имела в Испании великая традиция восточного классицизма»[6].
В книге ставится и другой чрезвычайно важный вопрос: в чем состоял вклад мусульманской Испании в европейскую и общечеловеческую культуру? В значительной мере он поставлен в плане обсуждения проблемы, продолжающей вызывать противоречивые суждения. Однако в отдельных своих частях она уже более или менее ясна. Отмечены влияние философской мысли мусульманской Испании на философию Западной Европы в средние века, воздействие мавританской архитектуры, мусульманских декоративных мотивов в украшении интерьеров и экстерьеров на позднейший архитектурный стиль Испании и других государств Европы, заимствования христиан в хозяйственной, военной, медицинской и многих других областях. Факты, приводимые в соответствующих разделах исследования, могут, разумеется, быть существенно пополнены.
Бесспорным и общепризнанным фактом является также влияние через Испанию восточной дидактической прозы на средневековую европейскую литературу. Однако в области поэзии результаты исследований менее определенны. Прежде всего сама поэзия мусульманской Испании изучена недостаточно, главным образом из-за фрагментарности или полного отсутствия материала по некоторым периодам. К тому же изучение средневековой арабской поэзии в значительной степени сковывается устаревшими теоретическими взглядами, унаследованными от прошлого века. Старые взгляды сформулированы в трудах Р. Дози и А.Э. фон Шакка, которые первыми предприняли систематическое исследование андалусского материала. В творчестве андалусцев они восхищались непосредственными и сильными чувствами, тонкими душевными переживаниями. Однако постепенное расширение изучаемого материала привело исследователей XX в. к противоположным заключениям: в поэтическом наследии мусульманской Испании повторяется ограниченный круг тем, идей, образов; андалусские авторы не стремятся к «оригинальности», «искренности», «естественности» и т.д.
Под влиянием культурно-исторической школы истоки монотонности всей средневековой арабской поэзии стали усматривать в однообразии жизни Аравийского полуострова, где она зародилась: бедная природа пустыни — бедный духовный мир жителя пустыни — бедная поэзия. В дальнейшем традиции доисламской поэзии не подвергались серьезной переработке, утверждают некоторые ученые. Поэтому оригинальность авторов выражалась в варьировании старых тем, шлифовке традиционных образов, поиске новых «украшений» стиха.
Появились теории, пытавшиеся объяснить «европейскому культурному сознанию» своеобразие принципов творчества арабских поэтов, законы композиции и природу образной системы их произведений. Среди иих необходимо указать теорию Л. Масиньона, упоминаемую в книге. П. Какиа, говоря о ней в разделе, посвященном поэзии, высказывает свои сомнения в ее абсолютной верности. Он справедливо замечает, что арабская метафора не всегда «движется от живого к мертвому» в природе. Однако он принимает другие стороны концепции Л. Масиньона, касающиеся «атомарности» мусульманского мышления, и распространяет их на художественное творчество мусульманских авторов Испании. Фундаментальным элементом в теоретическом построении Л. Масиньона является утверждение, будто бы мусульманское мировоззрение не имеет представления о Вселенной как об упорядоченной системе. Из этого Л. Масиньои выводит «атомарность» мусульманского мышлении и ряд особенностей художественного творчества мусульманских народов.
Недавно концепция Л. Масиньона была подвергнута всесторонней критике в работе советского исследователя А.В. Сагадеева. Он отмстил, что французский ученый, говоря об особенностях «мусульманского мировоззрения», имеет в виду учение ортодоксального мусульманского теолога ал-Ашари и его последователей, пользовавшихся поддержкой лишь весьма узкого круга мусульманских богослонов. Поэтому учение ал-Ашари нельзя представлять в качестве доктрины, в которой «сфокусированы существенные черты мировоззрении народов Ближнего Востока»[7], А.В. Сагадеев убедительно доказывает, что «мышление творцов средневековой мусульманской культуры принципиально ничем не отличается от мышления других пародий, стоявших на том же уровне развития»[8].
А.В. Сагадеев демонстрирует несостоятельность и художественного аспекта теории Л. Масиньона. Она неверна, поскольку не принимает по внимание «как раз те моменты мировосприятия творцов средневековой мусульманской культуры — в концептуальной и художественно-эмоциональной формах его выражения, без которых эта культура выглядит в значительной мере обедненной, если не сказать — лишенной, по существу, своего подлинного исторического облика»[9].
Арабская классическая поэзия, и в частности поэтическое наследие мусульманской Испании, разумеется, имеет свои характерные особенности. По наличию специфических черт не должно заслонять от взоров исследователя тех свойств, которые типологически сближают это наследие со средневековым художественным творчеством других народов. Например, каноны арабской средневековой классики (их следует отличать от шаблонов в новой и новейшей литературе) могут быть интерпретированы как следствие этикетности средневекового мировоззрения в свете теории литературного этикета, разработанной Д.С. Лихачевым на материале древнерусской литературы.
В поэзии мусульманской Испании индивидуальный опыт автора не находил прямого «документального» отражения в его произведениях. «Документальные» детали, проникавшие в поэзию и связывавшие ее с действительностью, блекли в окружении поэтических символов. Предметность устранялась из мира поэзии этикетно мыслившего литератора Испании. Реальные события, картины окружающего мира, несомненно оказывавшие влияние на творчество поэтов и вызывавшие к жизни многие их произведения, по-особому претворялись в их стихах, не всегда и не полностью определяли их содержание.
Применительно к литературе мусульманской Испании, основанной на канонах, оригинальность и традиционность не являются альтернативными понятиями. Любом поэт должен был сочинять свои произведения, следуя нормативным правилам. Наивысшего успеха достигал тот, кто в рамках нормативных требований средневековой поэтики ярче проявил богатство своих вариационных и интонационных возможностей.
П. Какиа пишет, что произведения доисламских поэтов признавались непревосходимым эталоном совершенства и поэтому поздние авторы были обречены на подражание высоким образцам. Это не совсем так. С подобных позиций выступали арабские филологи Абу Амр ибн ал-Ала (689—770), Ибн ал-Араби (ум. в 846 г.) и их единомышленники. Однако уже Иби Кутайба (828-9—889) был готов признать равными возможности любого поэта — древнего или нового. Так был снят запрет на критику доисламских и раннеисламских авторов. Развивая мысль Ибн Кутайбы, ас-Салиби (961—1038) утверждал, что стихи его современников лучше стихов предшествующих поколений поэтов, а Ибн Рашик (995-1000—1063-4) пришел к радикальному выводу, что новые поэты не обязаны и не должны слепо копировать древних. Ас-Салиби и Ибн Рашик строили свои рассуждения, опираясь на конкретный материал. Они не могли не заметить, что наследуемая от поколения к поколению традиция подвергалась трансформации и что, очевидно, в ней самой таились возможности, обеспечивавшие такую трансформацию. Потому-то они и сочли возможным легализировать изменения, происшедшие в арабской классике.
П. Какиа указывает на возникновение новых тем в арабской поэзии в тот или иной период. Однако он справедливо подвергает сомнению выводы А. Переса, пытавшегося выделить черты тематического своеобразия классической андалусской поэзии без сопоставлений с произведениями восточноарабских авторов. До настоящего времени в поэтической продукции обширного арабо-мусульманского мира в рамках одной эпохи не выявлено существенных региональных различии о тематике, жанрах, системе образов, стилистических фигурах.
Вышесказанное не относится к мувашшаху и заджалу, которые решительно отличались от классической поэзии. Наиболее интересные открытия, подтверждающие возможность взаимосвязей и взаимовлияний европейской и арабской поэзии в средние века, сделаны как раз на материале этих двух строфических форм. Большая заслуга и теоретическом обосновании возможности контактов арабский и европейской лирики принадлежит испанскому ученому X. Рибеpe, впервые сформулировавшему свои взгляды на данную проблему в 1912 г. X. Рибера выделил два больших этапа арабо-европейских взаимосвязей: первый — контакт арабской классической поэзии с древнейшей романской поэзией с преимущественным влиянием последней на первую, приведший к возникновению арабо-романской «смешанной поэтической системы» [зиджалы Ибн Куэмана (ок. 1080 1100)]; второй контакт «арабо-романской» поэтической систем и с поэзией провансальских трубадуров, когда первая влияла на вторую, Таким образом, X. Рибера поставил вопрос о взаимовлиянии европейской и арабской поэтической традиций, посредником между которыми выступали заджал и мувашшах. Интерес к гипотезе X. Риберы особенно возрос в связи с открытиями известного ученого С. М. Штерна. Начиная с 1948 г., С.М. Штерн опубликовал несколько стихов па романском языке, обнаруженных им в мувашшахах еврейских и арабских поэтов Испании. Открытие С.М. Штерна подтвердило догадку X. Риберы о существовании в Испании в эпоху мусульманского господства лирической поэзии на романском языке, а также темпе о гибридном характере андалусской строфической поэзии. Исследования в этой области должны быть продолжены, они важны для изучения истории европейской и арабской литературы и — в более общем плане — для изучения плодотворного взаимодействия европейской и арабо-мусульманской культуры в средние века.
Мусульманская Испания все полнее раскрывает перед исследователями свои тайны. Некоторые проблемы ныне можно считать выясненными, другие — еще потребуют для своего разрешения дополнительных разысканий. Превосходная книга У.М. Уотта и П. Какиа создает верное представление о современном состоянии всего комплекса вопросов, связанных с изучением одной из наиболее своеобразных культур эпохи средневековья.
А. Куделин
Предисловие к русскому изданию
Испания — страна, которая испытала много превратностей судьбы. До сих пор не утихают споры о том, как отразились на ее теперешнем облике различные этапы ее истории. Но главная цель этой книги не отражение таких споров, а изложение основных фактов политической и культурной истории Испании мусульманского (или арабского) времени. Однако в свете здесь приводимых данных представляется наиболее вероятным, что некоторые из уникальных и ценных черт испанского быта определены скорее взаимовлиянием арабского и иберийского элементов, чем реставрацией в ходе борьбы с арабами того, что существовало до 711 г. Во время великих усилий Реконкисты испанцы все более и более подчеркивали разницу между собой и «мавританским» вражеским лагерем и в конце концов изгнали «мавров» из страны. Но еще задолго до этого испанцы восприняли ряд внешних признаков арабской культуры, а возможно, и кое-что из мировоззрения арабов. Именно на это мне хотелось бы обратить внимание русского читателя, прежде чем он приступит к чтению нашей книги.
Эдинбург, 4 февраля 1975 г. У. Монтгомери Уотт
Введение. Чем нам интересна мусульманская Испания
Много веков мавританская Испания волновала воображение Европы. Отвага Роланда на перевале Ронсеваль прославлялась в балладах, одновременно легенды окутывали фигуру Сила, выраставшего в великого героя. Но сердца пленила не просто борьба с маврами. Лучше осведомленным обитателем грубых христианских королевств и герцогств Западной Европы было известпо, что к югу от Пиренеев лежит страна более высокой культуры, где люди среди роскоши наслаждаются музыкой и поэзией; постепенно они заимствовали что могли из этой культуры. Романтизм XIX в. отчасти воскресил былое восхищение перед нею — несомненно, благодаря влиянию Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» стала словом, нанесшим всем, даже тем, кто и не слыхал об этом дворце XIV в.
Самый сухой ученый-историк не может оставаться равнодушным, говоря о мусульманской Испании. Здесь вступила в Европу восточная культура — и оставила после себя великолепные архитектурные памятники. Испания представляет собой прекрасный образец тесного контакта различных культур, современная европейская и американская историческая школа также сформировались в результате этого контакта. Основные памятники этой культуры сравнительно легко осмотреть, посещение их доставляет удовольствие почти в любое время года. Кроме того, изучение мусульманской Испании помогает разрешить ряд проблем общеисторического характера. Именно в этом плане мы и разрабатывали данную тему. Эти вопросы можно кратко изложить, подразделив на следующие три группы.
Во-первых, мусульманская Испания требует специального изучения. Всеми признаны ее великие, поразительные достижения. Но в чем состоит ее величие? В красоте зданий, оставшихся после нее? В произведениях чисто литературного характера, которые вошли в фонд мировой литературы? В философских, научных или теологических трудах, занявших свое место среди классики «единого мира» (к которому мы идем)? Или же это представление о величии мусульманской Испании питает контраст между присущей ей роскошью и скудостью жизни современных ей государств в других частях Западной Европы; или оно основано на том факте, что Испания служила каналом, по которому проникали в Европу элементы более высокой культуры, как материальной, так и духовной.
Во-вторых, мусульманская Испания должна рассматриваться как часть мусульманского мира. Она составляла культурную общность с обширным мусульманским регионом, и характер культурных связей ее с центральномусульманскими землями также подлежит изучению. Как осуществлялись эти связи? Была ли Испания пассивным получателем, или же она сама внесла какой-то специфический вклад в мусульманскую культуру? Можно ли считать ее активно функционирующей клеткой в социальном организме ислама? С другой стороны, насколько приспособилась эта клетка к особым условиям Пиренейского полуострова, к его климату, географии, смешению религий? Удалось ли ей интегрировать различные расовые и социальные группы в некое единство и распределить свои ценности среди всего общества? К перечисленным выше примыкает также вопрос о связи Испании с Северной Африкой, в особенности с той ее частью, где расположены современные Марокко и Алжир. Составляли ли эти области единую культурную зону, в которой главенствовала Испания?Наконец, мусульманская Испания была в тесном контакте с европейскими соседями. В чем же именно состоял ее вклад в европейскую цивилизацию? В сколь многих сферах можем мы проследить ее влияние, увидеть, чему европейцы научились у испанских мусульман? И еще: очевидное воздействие на Европу оказала ее собственная реакция на существование мусульманской Испании. Крестовые походы являются отчасти ответом на джихад — священную войну мавров, а Реконкиста была основным формирующим элементом в создании современной Испании. Отвечать на эти последние вопросы надлежит уже историкам Европы и христианской Испании, мы же лишь наметим отдельные направления, по которым могут быть получены такие ответы.
Глава первая. Мусульманское завоевание
1. Завоевание как этап арабской экспансии
Для жителей Испании арабское завоевание 711—716 гг. оказалось подобным грому среди ясного неба, однако для самих арабов покорение Испании было лишь одним из этапов экспансии[10]. Это был на редкость доходный и удачный этап, и успех пришел быстро, но в процессе экспансии, которая началась по крайней мере в 630 г., уже бывали похожие периоды. Во время правления халифа Омара (634—644) зарождающееся арабское государство, в то время представлявшее собой союз большинства (но не всех) арабских племен Аравийского полуострова, одержало победу над Византией, отторгнув от нее провинции Сирию и Египет, и нанесло такой сокрушительный удар Персидской империи, что та прекратила свое существование, отдав теперешние Ирак и Иран под власть арабов, коль скоро они смогли найти достаточно людей, чтобы надежно обеспечить эту власть. И это было лишь началом. Еще почти целое столетие арабы продолжали двигаться вперед и вперед. Одна линия экспансии пролегала на северо-восток, вдоль «золотого пути» на Самарканд и далее, другая — на юго-восток, в долину Инда, на западе обе они следовали по побережью Северной Африки. Продвижение арабов не было постепенным, скорее оно напоминало серию скачков. Между ними бывали периоды покоя и консолидации, когда арабы останавливались перед лицом какого-нибудь серьезного препятствия или же для того, чтобы разрешить внутренние проблемы.
Чтобы понять, как эта удивительная экспансия стала возможной, необходимо вернуться к карьере Мухаммада. Мухаммад был и пророком, и государственным деятелем - сочетание, которое трудно понять современному человеку с его строгим разграничением религии и прочих сторон жизни. Как государственный деятель он был заинтересован в арабском единстве; но, возможно, он также чувствовал, что политическое единство само собой вытекает из того обстоятельства, что его пророческая миссия адресована всем арабам вообще, а не только мекканцам. Однако единство без экспансии было практически невозможным — из-за характера кочевого образа жизни. Экономическим базисом этой жизни служило скотоводство с нерегулярными передвижениями с места на место, с пастбища, на котором трава свежее, на пастбище, где есть постоянно действующие колодцы. Кочевники, когда могли, взимали плату с людей и товаров за «обеспечение безопасности». Жизнь в Аравийской пустыне никогда не была легкой, во всяком случае нормой для нее служил набег, целью которого обычно являлся угон скота соседей, но порой эти набеги приводили и к человеческим жертвам. Потери, понесенные в набегах и прочих схватках, должны были отчасти регулировать проблему питания. На какой-то точке его жизненного пути Мухаммаду, должно быть, стало ясно, что политическое единство арабов покончит с набегами, но тогда сразу возникнут трудности с продовольствием. Как же можно было преодолеть их?
Именно в таком контексте следует рассматривать мусульманскую концепцию джихада — «священной войны». Джихад никогда не был чисто религиозным явлением, он всегда носил характер политического орудия. В сущности, «священная война» была трансформацией кочевой практики набегов применительно к условиям, когда Мухаммад располагал лишь Меккой и несколькими союзными племенами. Обыкновенно племя могло совершить набег на другое племя или род, с которым оно в данный момент не было связано дружескими отношениями. Маленькое Мединское государство во многом функционировало как племя. Среди кочевых племен этого региона у него были союзники и друзья, были и враги. Мухаммад настаивал — по крайней мере во второй половине своего жизненного пути - чтобы истинные союзники принимали мусульманство и признавали его пророком. В такой ситуации концепция «священной войны» означала, что набеги последователей Мухаммада направлялись против немусульман, но по мере того как все больше племен вокруг Медины становились мусульманами, это означало также, что для набегов приходилось отправляться все дальше и дальше. Есть некоторые данные полагать, что Мухаммад осознавал, как с ростом числа союзников и прекращением междоусобиц среди них увеличивается дефицит продовольствия, и что он готовился к более дальним рейдам-набегам на Сирию — ближайшую и относительно богатую страну. Во всяком случае, его преемники, едва восстановив контроль над некоторыми племенами, пытавшимися отложиться, направили большие военные экспедиции как в Сирию, так и в Ирак.
Весьма распространено ошибочное мнение, что во время «священной войны» мусульмане предлагали своим противникам альтернативу: «либо ислам, либо меч». Так действительно бывало, но лишь в тех случаях, когда эти противники были политеистами или идолопоклонниками. Для иудеев, христиан и прочих «людей Писания», т.е. монотеистов с кодифицированными священными текстами (это положение интерпретировалось весьма свободно), существовала третья возможность: они могли стать «покровительствуемой группой», которая платила мусульманам дань или налог, но пользовалась внутренней автономией. Члены подобной группы назывались зимми. Внутри самой Аравии кочевые племена были в основном идолопоклонниками — поэтому их принудили принять мусульманство. Однако предполагалось, что за пределами Аравии местное население образует «покровительствуемые группы». Эти группы вовсе не принуждали переходить в мусульманство, скорее наоборот. Дело в том, что движимое имущество, которое захватывали в набегах-походах, легко было поделить между участниками похода. Когда же арабы-мусульмане захватывали землю, у них не возникало желания распределить ее между собой, осесть и перейти к обработке этой земли. Им казалось более выгодным предоставить обрабатывать ее прежним хозяевам, а между мусульманами делить налоги и земельную ренту, что давало им возможность постоянно сохранять боевую готовность для дальнейших походов. Именно таким образом арабам удалось столь быстро распространиться вширь и все время продолжать экспансию. Полноправные граждане, т.е. мусульмане, получали жалованье из казны и могли всецело посвятить себя ратному делу. Поскольку размеры жалованья увеличивались в зависимости от количества захваченной добычи, они всегда готовы были отправиться в поход, обещавший стать прибыльным, но не слишком опасным. Когда жители, подвергавшиеся набегу, покорялись и превращались в «покровительствуемых», приходилось расширять радиус действий, а также оставлять гарнир зоны в основных городах покоренных территорий.
Карта 1. Распространение ислама в «западных землях»
Почти сразу вслед за тем, как арабы закрепились в Сирии, началась их экспансия на запад. Из Сирии был совершен первый поход на юго-запад, в Египет; а уже между 640 и 642 гг. страна оказалась под арабским контролем. Едва это случилось, военные экспедиции двинулись дальше по побережью, в Киренаику и Триполитанию. Попытки византийцев вернуть назад свои провинции и различные заботы арабов в других краях несколько замедлили их продвижение, но в 670 г. они смогли основать город Кайруан в Тунисе. Здесь их продвижение вновь приостановилось — в основном из-за сопротивления берберских племен (хотя город Карфаген все еще был под властью византийцев). Играя на распрях между берберскими племенными группами, особенно между кочевыми и оседлыми берберами, арабы сумели прочно обосноваться в Тунисе; к тому времени большинство берберов приняли ислам. В 698 г. были, наконец, изгнаны из Карфагена византийцы, и вскоре после 700 г. походы арабов и берберов мусульман (возможно, из числа кочевников) стали через Алжир достигать Марокко и берегов Атлантического океана. Сопротивление оседлых берберов, населявших эти земли, было сломлено, и они вынуждены были признать арабский сюзеренитет. Заключительным этапом продвижения к берегам Атлантики была деятельность Мусы ибн Нусайра, о котором сообщают, что он в 708 г. был назначен независимым наместником Ифрикии (т.е. Туниса) и подчинялся непосредственно халифу в Дамаске (до этого глава кайруанской администрации был подчинен правителю Египта).
Карта 2. Торговля и производство в мусульманской Испании
После успехов на северо-западе Африки можно было ожидать, что арабы двинутся к югу: в этом направлении им был привычен сам характер местности. Однако несомненно, что для рядовых мусульман весьма важным мотивом было стремление захватить военную добычу, а продвижение на юго-запад или на юг, как вскоре выяснилось, не оправдывало себя. Вместе с тем, вероятно, ходило немало слухов и всяких полудостоверных сообщений о великих богатствах, сказочных сокровищах Испании. Неудивительно, что мусульмане решились на совершенно новый, непривычный для них план перехода пролива между Африкой и Европой, дабы проверить, какая доля истины скрывалась за этими сообщениями. Таким образом, поход в Испанию полностью соответствовал тенденции расширения власти арабов в Северной Африке, и весьма возможно, что он осуществился бы и без воздействия местных факторов (таких, как взаимоотношения с графом Юлианом), которые дополнительно поощряли их совершить эту операцию.
Хотя верховная власть оставалась в руках мусульман-арабов (происхождение прослеживалось только по мужской линии), берберы после покорения мусульманами Туниса и Восточного Алжира ок. 700 г. стали в этих походах значительной силой. Без этих людских ресурсов захват Испании был бы невозможен. Таким образом, правильнее говорить о мусульманской, а не об арабской экспансии. Однако разногласия между арабами и берберами все же не исчезли после обращения последних в мусульманство; эти разногласия стали постоянным источником внутреннего напряжения в мусульманской Испании.
2. Слабость висиготской[11] Испании
Столь легко завоеванная мусульманами Испания испытывала серьезные внутренние трудности. Для истинного понимания сущности не только этой победы, но и всего культурного развития мусульманской Испании необходимо рассмотреть обстановку, сложившуюся на Пиренейском полуострове в начале VIII в.[12]
Висиготы впервые вступили на испанскую землю в 414 г. и заняли северо-восток страны, римскую провинцию Тарракон. После этого они с помощью различных типических мероприятий удерживались там, но подлинного единства в стране не было, поскольку висиготы придерживались еретического арианского направления христианства, в то время как большая часть местного населения исповедовала католичество. Поэтому столь знаменательным был 589 год, когда король и висиготская знать оставили прежнюю религию и приняли католичество. Это помогло объединению и стабилизации Висиготского королевства, которое теперь занимало весь Пиренейский полуостров и включало в себя провинцию Сентимания на юге Франции. К началу VIII в. висиготская аристократия и испано-римская знать, видимо, составляли вместе единую привилегированную группу, которую можно назвать «высшим классом». Внутри высших классов существовали свои группировки, но они, по всей вероятности, не всегда были ограничены родственными связями. К высшим классам принадлежала и церковная администрация. Архиепископы и епископы играли немалую роль в управлении и государственном аппарате королевства, однако же государство не было теократическим, как иногда полагают. Напротив, король и его советники явно доминировали над духовенством, и оно, как правило, не представляло интересов простого народа.
Но и монархия в стране была не слишком сильна. Предполагалось, что король выбирается знатью из своей среды. Это означает, что строгого закона о престолонаследии не существовало, хотя некоторые короли и пытались обеспечить престол своим сыновьям, еще при жизни привлекая их к правлению. Это часто вызывало недовольство других представителей правящих классов, и престолонаследие постоянно было предметом интриг. Слабость короля обусловливалась также и неудовлетворительным состоянием армии. Теоретически все свободные мужчины, способные носить оружие, должны были явиться на военную службу по приказу короля, но это не было той формой службы, которая предусматривалась вассальными отношениями, позднее распространившимися в Западной Европе. Здесь каждый отдельный человек состоял в непосредственном контакте с королем и должен был ему подчиняться. К концу VII в. короли, очевидно, сталкивались с немалыми трудностями при формировании сколько-нибудь значительной армии. Эта слабость висиготской монархии уходила корнями в германскую концепцию «племени» как политической единицы — висиготы пытались применить эту концепцию в Испании, в условиях, явно для нее не подходящих.
Если не считать высших классов, население страны состояло из испано-римлян со статусом «свободных», а также значительного числа крепостных крестьян, унаследовавших положение римских колонов. Жизнь крепостных была очень тяжелой, но и «свободные» отнюдь не пользовались привилегиями. Поэтому среди простого народа царило недовольство властью, многие даже видели в мусульманах освободителей и помогали им чем могли. В городах, потерявших при висиготах большинство преимуществ, которыми они пользовались при римлянах, было особенно заметно падение уровня жизни. Возможно, что висиготам с их варварским прошлым было просто трудно понять выгоды торговли и вообще городской жизни. Но основная причина все же была в общем экономическом упадке после гибели Римской империи.
Непонимание необходимости торговли могло оказаться одним из факторов, определивших суровое обращение с евреями в королевстве, поскольку многие из евреев были купцами. Другим таким фактором служили тесные связи епископов с королем: управление королевством было в значительной степени возложено на церковные советы, церковные власти, которые, естественно, действовали исходя из религиозных соображений. Они рассматривали евреев как врагов. Особо суровые декреты церковного совета в 693 г. практически лишили иудеев возможности оставаться купцами. Тогда многие из них вступили в тайные соглашения со своими партнерами в Северной Африке, но следующим декретом в 694 г. все не принявшие крещения были объявлены рабами. Даже если принять во внимание, что впоследствии положение иудеев несколько облегчилось и декрет этот не исполнялся строго, то все же нельзя забывать и о тех волнениях среди еврейского населения, которые сами по себе могли послужить стимуляторами мусульманского нашествия, а североафриканские евреи готовы были предоставить в руки мусульман любую доступную им информацию. И после того как мусульмане нанесли поражение висиготам, евреи, конечно, помогали мусульманам насколько могли.
Непосредственной прелюдией к вторжению послужила обычная распря из-за престола, которая на этот раз, однако, привела к гражданской войне на полуострове. Отец и сын правили с 687 г. Сын, Витица, желая, чтобы трон унаследовал один из его сыновей, Ахила, с этой целью назначил его дуксом северо-восточной провинции (Тарракон). Когда в 710 г. Витица умер, сильная аристократическая оппозиция, видимо, избрала королем Родерика, но Ахиле, вероятно, удалось оставить за собой свою провинцию, и он даже начал как независимый государь чеканить собственную монету. Таким образом, к моменту мусульманского нашествия власть Родерика не распространялась на всю страну — неудивительно, что он был разбит и что после его поражения не оказалось ни отдельной личности, ни группы, которые смогли бы взять на себя центральную власть в королевстве.
Итак, слабость Висиготского королевства можно объяснить тремя основными причинами: 1) отсутствие единства в господствующем классе по вопросам престолонаследия; 2) недовольство в других слоях общества привилегиями, которыми пользовались высшие классы, с вытекающей отсюда ненадежностью армии; 3) преследования евреев.
3. Ход вторжения (711-716 гг.)
В апреле-мае 711 г. первая значительная группа мусульман высадилась в Южной Испании и увидела Андалусию в один из самых привлекательных для нее сезонов[13]. Конечно, это был не самый первый контакт мусульман с Испанией, но о предшествующих можно судить лишь по туманным легендам. С них и придется начать - за неимением лучшего. Главной фигурой в этих преданиях был граф Юлиан, даже само имя которого стало предметом ожесточенных споров. Возможно, он был византийским экзархом Сеуты (Septem)близ Гибралтара. Если это так, его относительная изоляция достаточно убедительно объясняется связями с одной из группировок, претендовавших на трон в висиготской Испании. Легенда рассказывает, в какую ярость пришел Юлиан, когда его красавицу дочь, отправленную учиться в Толедо, висиготскую столицу, соблазнил Родерик, который, пусть с помощью узурпации, был фактическим (но ненадежным!) королем Испании. Охваченный гневом Юлиан, как рассказывает легенда, призвал мусульман, чтобы отомстить. Кроме этого предания ряд мелких фактов дает основания полагать, что Юлиан и висиготские противники Родерика откровенно старались вызвать у мусульман интерес к Испании и поначалу оказали им немалую помощь.
Примерно в октябре 709 г. люди Юлиана якобы со вершили набег через Гибралтарский пролив и показали мусульманам, какую богатую добычу можно там захватить. В июле 710 г. отряд из четырехсот мусульман высадился на южной оконечности Испании (к западу от Гибралтара), в месте, ныне называемом Тарифа, по имени их предводителя. Эта разведка боем оказалась удачной, и мусульмане уверились в успехе большого похода, который планировали на следующий год. Семь тысяч человек были переправлены в Испанию близ Гибралтара — на судах, предоставленных Юлианом. Это были в основном берберы, предводителем их был также бербер, клиент Мусы ибн Нусайра (арабского наместника Северо-Западной Африки), чье имя Тарик ибн Зияд и дало название Гибралтару (от искаженного Джабал Тарик — «гора Тарика»), Тарик был опытным полководцем, он возглавлял танжерский гарнизон. Использовав отсутствие короля Родерика, который был на севере страны, мусульмане основали базу на месте возникшего позднее города Альхесирас. А Родерик, получив известие о нападении мусульман, уже спешил на юг и 19 июля атаковал мусульман в долине, обычно идентифицируемой с долиной реки Рио-Барбате. Мусульмане получили подкрепление из пяти тысяч человек, тогда как часть войска Родерика, якобы почувствовав неприязнь к своему королю, покинула его на поле битвы. В результате мусульмане одержали решительную победу, а Родерик не то погиб в бою, не то пропал без вести.
Эта победа подорвала Висиготское королевство как централизованную систему. Позднее мусульмане встречали некоторое сопротивление, но оно носило лишь локальный характер. Тарик быстро понял, что пред ним открыта вся Испания, и прежде всего направился в Кордову. По пути он разбил под Эсихой горстку отступавших висиготов и в результате получил поддержку вулеев и других недовольных сравнительно большого района. Затем он решил выступить на висиготскую столицу Толедо, которую, очевидно, занял без особого сопротивления. Вероятно, прежде чем обосноваться в Толедо, ему пришлось направить разведывательные рейды на северо-восток, в сторону Сарагосы. Тем временем Кордова в октябре сдалась отряду из семисот всадников.
Согласно источникам, правитель Северо-Западной Африки Муса ибн Нусайр, узнав об этих успехах Тарика, преисполнился завистью, но, возможно, это лишь искажение фактов. Поведение Мусы вполне можно трактовать и как бесстрастный расчет, стремление как можно лучше использовать сложившуюся ситуацию. С восемью тысячами воинов, в основном арабов, он в июле 712 г. пересек пролив и двинулся к Севилье. По пути он захватил несколько меньших городов; Севилья также пала. Затем он направился на север — против сильных остатков висиготской армии, отступивших в Мериду и сопротивлявшихся мусульманам вплоть до июля 713 г. Очевидно, лишь после этого Муса и Тарик встретились в Талавере, несколько ниже Толедо по реке Тахо. О событиях 713 г. вообще мало что известно (за исключением подавления небольших мятежей), подразумевается, что мусульмане закреплялись на захваченных ранее территориях.
В следующем году Муса занял Сарагосу и, возможно, посылал разведывательные отряды вплоть до Нарбонна, поскольку в Висиготское королевство входила и юго-восточная часть Франции, включая ее средиземноморское побережье. Затем он, вероятно, решил, что дела на западе более неотложны, и двинулся туда, проникнув в Астурию. Тарик уже захватил Леон и Асторгу, Фортун Арагонский сдался ему и принял мусульманство. В том же году Муса и Тарик были вызваны к халифу в Дамаск. О медленном триумфальном шествии Мусы через всю Северо-Западную Африку и Египет с многочисленными пленниками и сказочно богатой добычей сложена была прекрасная история. Заканчивалась она суровым приемом халифа и смертью триумфатора в тюрьме (или в нищете),— многое в этой повести шло от легенды. Можно лишь сказать, что Муса оставил Испанию осенью 714 г., поскольку в Дамаск он прибыл примерно в феврале 715 г.
В Испании верховное командование оставалось за сыном Мусы — Абд ал-Азизом, который со знанием дела продолжал подчинение страны, пока не погиб в марте 716 г. от руки убийцы. Мусульманские земли на севере и северо-востоке увеличились благодаря взятию Памплоны (близ западной оконечности Пиренеев), Таррагоны, Хероны и, возможно, Нарбонна на средиземноморском побережье. На юго-востоке были захвачены Малага и Эльвира; был также заключен договор с принцем Тудмиром (Theodemir) Мурсийским. Все эти события можно, пожалуй, отнести к 715 г., кроме договора, который датируется 713 г.
Смерть Абд ал-Азиза послужила концом этого этапа завоевания Испании. Еще не был захвачен весь Пиренейский полуостров. На северо-западе, в частности, оставались значительные территории, которых оккупация не коснулась, в других местах также, очевидно, были районы, где контроль мусульман был далеко не полным. Однако в основном организационное единство страны, пошатнувшееся с падением висиготов, было восстановлено. Был создан административный аппарат, в соответствии с расположением войск охвативший почти весь полуостров, причем уровень административной власти был, очевидно, выше, чем при висиготских королях.
Глава вторая. Провинция Дамасского халифата
1. Формирование провинции
Арабы называли свои новые владения на Пиренейском полуострове «ал-Андалус». Как полагают, это — искаженное «Вандалисия», которое, в свою очередь, образовано от наименования захватчиков — «вандалы». Это название прилагалось только к той части полуострова, которая находилась под мусульманским контролем, так что по мере продвижения Реконкисты территория Андалусии все уменьшалась. В настоящее время Андалусией называют область на юго-востоке Испании, которая была последним оплотом мавров в XIII—XV вв.[14]
Для арабов ал-Андалус был всего лишь провинцией (или даже частью провинции) обширной империи, простиравшейся от ал-Андалуса и Марокко до Центральной Азии и Пенджаба. Правил империей халиф. Этот термин возник из араб. халифа, что означает «преемник», «заместитель». Халиф считался временным преемником власти Мухаммада. Первые четыре преемника Мухаммада правили с 632 по 661 г.; они известны как халифы «правого пути» (рашидун). С 661 по 750 г. халифат был под властью рода Омейядов, ветви мекканского племени курайш. Некоторые представители этого рода еще при жизни Мухаммада принадлежали к ведуobv кругам мекканского купечества. Омейядские халиas сxbтали своей столицей Дамаск, хотя двор их часто размещался в одном из других сирийских дворцов.
Несмотря на то что омейядским халифам подчинялись обширные территории, порядок управления в центре все же носил черты кочевой племенной системы. Она прежде всего направлена была на личность, а уже потом — на местность. Халиф был далеко не автократичным правителем: по аналогии с племенным шейхом предполагаюсь, что он будет совещаться с выдающимися предстателями своего окружения и вообще вести себя как первый среди равных. Слабость подобной системы, особенно применительно к проблемам огромной империи, весьма заметна, и кое-кто из поздних Омейядов обнаруживал склонность к самодержавным персидским традициям управления государством — традициям, которые стали основой режима Аббасидов, сменивших Омейядов. Особые трудности возникали в связи с вопросом о наследовании власти халифа. По представлениям арабов, первородство не давало никаких привилегий, да и наследование от отца к сыну вовсе не считалось единственной возможностью. Новым руководителем (или шейхом) племени обычно оказывался наиболее подходящий взрослый мужчина из определенного рода, чью кандидатуру одобряли на сходке ведущие представители племени. Таким образом, удерживание халифской власти родом Омейядов было достигнуто не без интриг и воспринималось многими арабами как узурпация.
Следуя примеру Мухаммада, халифы распределял различные обязанности среди отдельных лиц. Наиболее важным был пост главнокомандующего армии. С завоеванием обширных территорий на главнокомандующего возлагалась также роль наместника — это происходив очень просто: когда войска останавливались на зиму одном из укрепленных городов недавно завоеванных земель (например, в Кайруане), полководец продолжал командовать, но управление его становилось в сущности гражданским, поскольку единственными полноправными мусульманскими гражданами в этих местах были eго собственные солдаты. Финансовыми и юридическими вопросами обычно ведали другие чиновники, специально назначаемые халифом, но общее руководство осуществлял главнокомандующий-наместник.
На немусульман в провинциях халифата, как уже упоминалось, распространялся статус «покровительствуемых групп», или зимми (хотя есть сведения, что ал-Андалусе термин зимми прилагался только к иудеям). Местные власти сохранялись, и глава каждой общины был ответствен за выплату мусульманами дани налогов, а также за поддержание внутреннего порядка. На Ближнем Востоке эта ответственность обычно возлагалась на главу религиозной группы, такого, как патриарх или епископ. По-видимому, так же дело обстояло и в Испании, но договор 713 г. был, однако, заключен с Тудмиром (Theodemir), принцем Мурсийским. Договором подтверждались его княжеские права, а для его подданных, среди прочего, право исповедовать свою религию. Там, где община отказывалась подчиниться по первому требованию и была затем побеждена в бою, статус «покровительствуемых» все равно оставался, но навязанные условия оказывались более жестокими, а дань и налоги — более высокими.
Первоначально все арабы-мусульмане должны был служить в армии, за что получали жалованье. Они составляли, таким образом, высшую военную касту. Когда в походах захватывали движимое имущество, его обычно продавали купцам, а выручку делили между участниками похода. Земель не продавали, они оставались у прежних землевладельцев и землепользователей, а земельная рента выплачивалась главному казначею. Если владельцы земель бежали (как это, видимо, случилось с некоторыми представителями висиготской знати), наместник провинции мог подарить эти земли мусульманам. Так с течением времени многие мусульмане стали землевладельцами. Трудно проследить в деталях за процессом перехода состоящих на жалованье солдат в сословие земельных хозяев, в Испании это еще труднее, чем в других частях халифата. Примерно к 750 г. выплата жалованья из казны потеряла свое значение — возможно, потому, что это жалованье составляло довольно малую часть в доходах воинов, а вскоре, вероятно, была вообще отменена. Однако еще до того, как это случилось, многие арабы ал-Андалуса превратились в землевладельцев, которые обычно жили в городах поблизости от своих поместий.
До 700 г. переход неарабов в мусульманство не поощрялся центральными властями халифата. Иногда даже, чтобы избежать потери доходов из-за перехода в ислам налогоплательщиков (ведь мусульмане освобождались от подушной подати), принимались меры, дабы затруднить желающим выход из их прежних религиозных общин. Однако тех, кто изъявлял готовность участвовать в дальнейших военных походах, принимали с большой охотой, и, по всей вероятности, все берберы, вторгшиеся в Испанию, были из новообращенных мусульман. Примерно до 750 г. неараб, желавший перейти в мусульманство, должен был стать клиентом (маула) какого-нибудь арабского племени. Возможно, это условие было связано с тем, что мусульманское государство все еще рассматривалось как федерация арабских племен. Поскольку положение клиента считалось менее привилегированным и жалованье им выплачивали тоже более низкое, чем чистокровным арабам, среди мусульман неарабов зрело недовольство, которое нарастало с увеличением их численности к началу VIII в. Это недовольство явилось важным фактором падения Омейядского халифата в Дамаске. Необходимость для мусульманина неараба становиться клиентом арабского племени, видимо, незаметно исчезла — вскоре после 750 г.
Берберы в ал-Андалусе, пришедшие большей частью из горных районов Северной Африки, осели в областях со сходными природными условиями и жили скотоводством. Пока ал-Андалус оставался частью Дамасского халифата, его правителей назначал наместник Ифрикии (Тунис), чья резиденция была в Кайруане, а не халиф непосредственно. Это представляется весьма разумным — путь до Дамаска был далек и связь с ним занимала много времени. В период с 716 до 756 г. на посту правителя ал-Андалуса побывало около двадцати человек, причем некоторые по нескольку раз. Только трое удерживались на этой должности по пять или более лет. Некоторые исполняли обязанности правителя лишь временно, замещая тех, кто пал в бою с христианами или погиб другой смертью. Удаленность от Дамаска и даже от Кайруана практически предоставляла им независимость (несомненно это и служило причиной столь частой их смены). Однако, как и халифы, эти правители не были самодержавными, они должны были считаться с мнением арабских авторитетов в ал-Андалусе. Последний из наместников, Йусуф ибн Абд ар-Рахман ал-Фихри, был, видимо, назначен после выборов в этой провинции (747). В это время власть халифа в Дамаске уже пошатнулась. Сразу после завоевания столицей ал-Андалуса была Севилья (вместо висиготского Толедо), но к 717 г. главным городом становится Кордова, расположенная в центре страны.
2. Конец наступления
Поскольку Висиготское королевство распространялось на юг Франции, естественно предположить, что арабы оккупировали и эту часть страны. На самом деле эти районы превратились в часть вакуума, который они создали вокруг себя, уничтожив висиготскую административную систему. К сожалению, сведения о захвате мусульманами французских земель весьма скудны, но представляется, что, если бы во Франции пистиоты оказали мусульманам сколько-нибудь серьезное сопротивление, оно было бы упомянуто где-то. Набеги на район Нарбонна начались вскоре после покорении Испании. Конечно, к 719 г. тогдашний арабский намесник Самх смог захватить Нарбонн и продвинулся до Тулузы, но энергичные действия Эдо привели к изгнанию мусульман из Тулузы в 721 г.
Такой поворот событий не остановил однако попыток мусульман проникнуть во Францию. В 725 г. были заняты Каркассонн и Ним, оттуда был направлен отряд на север, в долину Роны. Как сообщают, он достиг Отона на реке Соне или продвинулся еще дальше. Однако эта пробная операция, видимо, не имела продолжения. Имеете этого Абд ар-Рахман ал-Гафики отправился на разведку другого пути — к западу от Пиренеев. В 732 г. он собрал свои войска под Памплоной и двинулся на Францию через Ронсевальский перевал. Эдо Аквитанский был разбит, мусульмане заняли Бордо. Затем они стали теснить христиан на севере, в направлении Тура, где рассчитывали захватить богатую добычу. Однако Эдо предупредил Карла Мартела, франкского принца, чья власть к тому времени все возрастала, — и тот сразу понял, насколько серьезна опасность. Он выступил на юг, чтобы предотвратить угрозу мусульманского нашествия, и к концу октября 732 г. между Туром и Пуатье состоялось сражение, известное как битва при Туре и Пуатье. Мусульмане были разбиты, их предводитель погиб. Часть их войска отступила к Нарбонну. Другие попытки мусульман вторгнуться во Францию этим западным путем неизвестны.
Прежде чем рассматривать значение битвы при Туре полезно будет упомянуть о некоторых событиях, непосредственно последовавших за ней. В 734 г. мусульмане вновь проявили интерес к Ронской долине: организованный в Нарбонне поход привел к захвату Арля и Авиньона. Однако около 738 г. мусульмане были отброшены назад Карлом Мартелом. Он даже предпринял наступление на Нарбонн и некоторое время держал город в осаде, но взять его не сумел. Других известий о событиях в этом районе нет — вплоть до времени падения Дамасского халифата. Затем, скорее всего в 751 г. (но возможно, что не ранее 759 г.), преемник Карла Мартела наконец отвоевал у мусульман эту важную базу.
Битву при Туре часто называют одним из решающих сражений в мировой истории. И хотя в некотором смысле это так и есть, точнее было бы определить ее как высшую точку прилива, за которой начинается отлив. Она не привела ни к каким катастрофам для центральной военной и политической власти арабов. Она вообще почти ничего не изменила для арабов, только руководители их поняли, что направление к западу от Пиренеев не следует считать подходящим путем для экспансии. Поражение, нанесенное им Карлом Мартелом в 738 г., показало, что экспансия вдоль долины Роны также стала затруднительной и нежелательной. Ведь все эти походы во Францию полностью соответствовали политическим устремлениям, которые стимулировали продвижение мусульман по Северной Африке и Испании. Хотя частные мотивы отдельных участников похода могли носить религиозный характер, хотя религиозные факторы могли влиять на общую стратегию, но непосредственной целью этих походов все-таки был грабеж. Мусульман интересовали в основном те районы, где этот грабеж был легче. Они готовы были сражаться, даже сражаться жестоко, — но все это до определенных пределов. Если продвижение в каком-то направлении сулило упорную и затяжную борьбу, добыча переставала оправдывать усилия, приложенные к ее захвату, и разведывательные отряды направлялись в другую сторону. Поэтому победа Карла Мартела при Туре в действительности лишь показала арабам, что возросшие силы противника делают невыгодным в данный момент дальнейшее продвижение в том направлении. Последующие действия этого государя против Нарбонна продемонстрировали, что операции во Франции вообще не приносят более пользы.
Можно трактовать события иначе, например, так: желание мусульман продвинуться вперед было слабее, чем воля франков к сопротивлению. Различные внутренние факторы способствовали ослаблению наступательного духа мусульман. Кроме увеличения «себестоимости» грабежа следует напомнить также, что мусульманам, привыкшим к средиземноморскому климату, условия Центральной Франции могли казаться неподходящими. Они несомненно предвидели развал Дамасского халифата и уже по этой причине испытывали неуверенность. Их людские ресурсы — как арабские, так и берберские — должно быть, также почти исчерпались. Итак, у мусульман по ряду причин не было большого желания продолжать попытки наступления на Францию. Прилив сменился отливом.
Этот отлив захватил не только Францию. На северо-западе Испании мусульмане также начали отступать, и в течение двадцати пяти лет, последовавших за 711 г., мало что известно. Предполагается, что во всех сколько-нибудь значительных городах стояли мусульманские гарнизоны. Но небольшие группы жителей, укрепившиеся в горах, всё еще отказывались покориться. Возможно, среди них была и висиготская знать, но вдохновителями сопротивления были главным образом местные вожди, прежде всего из галисийцев[15], поскольку самый дух этого народа был резко отличен от висиготского. Довольно неправдоподобная история о том, как близ Ковадонги принц Пелайо обратил в бегство мусульманский отряд (с которым ехал архиепископ Севильи), может быть приурочена к 718 г. или к периоду от 721 до 726 г. Кроме нее, не сохранилось никаких сведений вплоть до правления Алфонсо I, короля Астурии (739—757гг.). Он отвоевал у мусульман значительную часть Северо-Западной Испании и Португалии. Возможно, что мусульмане отступили уже с четвертой части территории полуострова, хотя это не означает, что вся она была занята сторонниками Алфонсо: в значительной степени эти земли оставались незаселенными, выполняя роль «марок», нейтральной полосы.
Причины «отлива» в самой Испании были аналогичны подобным же причинам во Франции, хотя существовали и дополнительные факторы. Мусульманские поселенцы здесь состояли в основном из берберов, которые, как теперь выяснилось, недовольные отношением к ним арабов, подняли мятеж. Кроме всего прочего, голод, начавшийся в 750 г., заставил многих из них покинуть испанские земли и вернуться в Африку.
Историк, особенно историк Европы, понимающий важность Реконкисты для формирования Испании, видит в успехах Алфонсо I начало конца мусульманской власти на Пиренейском полуострове, и это отчасти верно. Но, с точки зрения мусульман, события, происшедшие в период распада Дамасского халифата, просто означали, что одна из границ ал-Андалуса будет неустойчивой. Впрочем, она была не более неустойчива, чем прочие границы халифата, и существование королевства Астурия вовсе не означало, что ал-Андалус обречен погибнуть в зародыше. Это значило лишь, что на севере мусульмане всегда должны быть настороже. Таким образом, подлинная проблема для историка заключается в том, почему же все-таки силы христиан на протяжении длительного периода росли, а силы мусульман уменьшались.
3. Напряженное положение в провинции
Быстрая оккупация почти всего Пиренейского полуострова и попытки распространить завоевание на Францию не могли не оказать влияния на самих участников этих операций, на арабов и их берберских союзников. Местные жители тоже стали переходить в ислам — еще до 750 г., но все же число этих новообращенных было слишком невелико, чтобы стать серьезным политическим фактором.
Источники относят напряженное положение, сложившееся в лагере арабов, на счет соперничавших между собой племен и племенных групп. В частности, разгорелись междоусобицы между двумя такими группами, известными как кайситы и калбиты; со временем междоусобная борьба распространилась на большие группы, генеалогически связанные с упомянутыми выше, пока в нее не оказались вовлеченными практически все аравийские племена. Р. Дози в своей трактовке истории мусульманской Испании преувеличил роль межплеменного соперничества, это признавал и его ученик Э. Леви-Провансаль. Однако такое соперничество безусловно существовало и было немаловажным политическим фактором — надо лишь правильно интерпретировать его. Для этого надо строго различать значение этого фактора в центральных землях халифата и его значение в ал-Андалусе.
Для всего халифата соперничество между группами племен было обычным явлением, и мусульманские историки оправдывают и объясняют его генеалогическими связями объединившихся групп. Однако современные европейские историки склонны считать сами эти генеалогии выведенными из сложившихся группировок (т.е. сочиненными специалистами по генеалогии периода Омейяда), что подтверждается также различиями между этими группировками в зависимости от места их образования. Сами группировки, видимо, возникали в условиях военных поселений, в покоренных провинциях, а не в доисламской Аравии. Современные историки, вместо того чтобы сваливать вину на древние распри, видят
причину напряженного положения в Сирии в том, что многие калбиты расселились там еще до арабской экспапсии, а с экспансией пришли в основном кайситы.
Таким образом, причинами возникшего напряжения были соответствующие социальные и, возможно, экономические различия.
После 740 г. племенное соперничество стало важным политическим фактором в ал-Андалусе. Отчасти события в провинции могли быть отражением того, что происходило в столице. Кайситы и калбиты функционировали почти как партии в современном государстве. Пока халиф опирался на одну партию, ее представители получали большинство постов в провинции. Социальные и экономические различия между этими двумя группами несомненно влияли на поддержку ими той или иной политической линии, но скудные источники все еще не исследованы с этой точки зрения[16].
О том, что происходило в Испании между 720 и 740 гг., известно очень мало. Арабы ходили походами на Францию, по всей стране продолжались умиротворение и колонизация, были подавлены местные бунты. Однако в 740 г. в Северной Африке вспыхнул мятеж среди берберов, восставшие захватили Танжер. Войска, посланные наместником из его резиденции в Кайруане, были разбиты; в 741 г., несмотря на присланное Дамаском подкрепление, армия наместника вторично потерпела поражение. Этот успех мятежников привел к берберскому восстанию на северо-западе Испании. Все берберы были весьма недовольны отношением арабов к ним. Берберы получали меньшую долю добычи, менее удобные для поселения земли и, хотя они были мусульманами, арабы не считали их равными себе. Численно они превосходили арабов, и в бою они были более стойкими, неудивительно, что поначалу они добились успеха.
К концу 741 г. на сцену ал-Андалуса вышли новые важные участники событий. После победы берберов в Северной Африке семь тысяч сирийских всадников, присланных туда во главе с их предводителем Балджем в качестве подкрепления, укрылись в Сеуте, где их осадили берберы. В этой затруднительной ситуации они согласились на предложение правителя ал-Андалуса: помочь ему (если он обеспечит транспортировку) подавить Мигеж в Испании и уйти на страны, когда с восставшими будет покончено. По этому договору они были переправлены через пролив и разбили одну за другой три колонны берберов. Возможно, они покинули бы Испанию после этого, если бы правитель страны не попытался уклониться от выполнения всех условий соглашения.
Этот правитель был из калбитов (даже из йеменитов), тогда как арабы-сирийцы во главе с Балджем принадлежали к кайситской группировке. Поэтому, вместо того чтобы покинуть страну, они пошли на Кордову, изгнали наместника и посадили на его место Балджа. Их противники перестроились, сумели получить некоторую поддержку со стороны берберов, но были разбиты Балджем в августе 742 г., хотя сам он погиб при этом.
Новый наместник, присланный из Кайруана, постарался успокоить страну, расселив сирийцев в долине Гвадалквивира и по южному побережью. В Сирии они были джунди, т.е. получали ленные поместья, а за это должны были исполнять воинскую службу, когда потребуется. В ал-Андалусе их расселяли на сходных ycловиях. Это не помешало им, объединившись с рядом других арабских племен, удерживать у власти тех наместников, которые им благоволили. К 755 г. соперничающая группировка арабов-йеменитов выказывала намерение бросить вызов господствующей коалиции, тогда как север страны понемногу оправлялся после голода, поразившего его с 750 г. Такова была обстановка, когда Абд ар-Рахман (род. в 730 г.), младший отпрыск рода Омейядов, бежавший из Ирака и Сирии после уничтожения пришедшими в 750 г. к власти Аббасидами всей его родни, послал своего эмиссара в ал-Андалус. Абд
ар-Рахман уже некоторое время жил недалеко от средиземноморского побережья Марокко в племени своей матери берберки. Часть сирийских джунди весьма восторженно приняли его эмиссара. Абд ар-Рахман пересек пролив и в мае 756 г. с армией из сирийских джунди, йеменитов и частично из андалусских берберов разбил остатки кайситской группировки. Был основан Омейядский эмират.
Глава третья. Независимый Омейядский эмират.
1. Омейядский эмират.
Абд ар-Рахман I (756-778)
Хишом I (778-796)
ал-Хаким I (796-822)
Абд ар-Рахман II (822-852)
Провозглашение Абд ар-Рахмана эмиром создало новую ситуацию, новую скорое в теоретическом, чем в практическом плане. До сих пор титул эмира носили назначаемые халифом наместники провинций. Но поскольку Аббасиды вырезали почти весь род Омейядов, не могло быть и речи о том, чтобы Абд ар-Рахман признал аббасидского халифата. С другой стороны, его положение никак не позволяло ему самому претендовать на халифский сан. Так впервые в мусульманском мире возник политический организм, который полностью обособился от основного мусульманского государства. В этом и состояла его теоретическая новизна.
На практике, однако, элемент новизны был совсем не так велик. При коммуникациях, растянувшихся на огромные расстояния, при медлительной связи провинциальные наместники были в значительной степени предоставлены сами себе. Именно так обстояли дела в последнее десятилетие перед падением в 750 г. Омейядского халифата. Конечно, халиф послал большие силы из Сирии, чтобы подавить в Северной Африке берберский мятеж. Но всадники из этого подкрепления перебрались под водительством Балджа в Испанию, и это было уже более или менее частное соглашение между испанским наместником и сирийскими воинами. А после этого мусульмане в ал-Андалусе существовали совсем сами по себе. Наиболее новым в положении Абд ар-Рахмана было отсутствие над ним какого-либо высшего начальства, которое могло бы его сместить. Это и обеспечивало его право на правление. Возможно, что мятежников окрыляло также понимание изолированного положения ал-Андалуса. Конечно, не следовало забывать, что Аббасиды могут попытаться утвердить свою власть над этой частью империи. Но поскольку даже установление контроля над Северной Африкой заняло у них так много времени и сил, они никогда не представляли серьезной угрозы омейядскому режиму в Испании.
Основной проблемой, с которой приходилось считаться Абд ар-Рахману и его наследникам, чтобы обеспечить безопасность эмирата, было разнообразие населения, прежде всего национальное. Это были в первую очередь арабы, которые, не представляя численного большинства, удерживали за собой господствующее положение. Внутри арабов существовали дальнейшие подразделения. Старое противопоставление йеменнтов (или калбитов) кайситам постепенно перешло в другое: между арабами первой волны нашествия, так называемыми старожилами (баладийун), и более поздними пришельцами—сирийцами (шамийун). Поскольку сирийцы, как было указано выше, получили лепные владения, различие между двумя группами носило отчасти социальный и экономический характер. Все арабы, разумеется, были мусульманами.
В добавление к ним существовали еще две группы мусульман: берберы и местные новообращенные. Берберы были самыми многочисленными, поскольку они представляли собой основную часть войска при нашествии и оккупации. Наибольший вес среди них имели оседлые берберы (в отличие от берберов-кочевников), которые в Испании вновь занялись сельским хозяйством. Арабы (мы уже отмечали это) относились к ним как к низшим, и среди берберов постоянно тлело недовольство. Новообращенные местные мусульмане стали через некоторое время столь же многочисленными, как берберы, или даже более того. Обращенные назывались мусалим, но, по всей вероятности, этот термин относился к тем, кто действительно менял свою религию, так как вообще испанских мусульман арабы обозначали словом мувалладун, что можно перемести как «урожденные мусульмане». Испанские писатели обычно именовали их «ренегатами», термин, который несомненно возник значительно позже, в разгар Реконкисты. Вероятно, основным мотивом перехода в ислам для большей части испанского населения служило то обстоятельство, что эта религия связывалась с более высокой и весьма притягательной цивилизацией, сюда добавлялось и недоверие к христианскому духовенству, которое в представлении народа было связано с непопулярным висиготским правлением[17].
Еще одну многочисленную группу мусульманского государства в Испании составляли христиане, сохранившие свою религию, их называли мосарабы (мустарибун), что можно перевести как «арабизованные» (возможно, что это также более поздний термин, введенный испанскими христианами Реконкисты[18]). Будучи христианами, мосарабы, видимо, также находили привлекательными многие аспекты мусульманской цивилизации. Они не выказывали никакой враждебности к мусульманскому правлению, освоили арабский язык (хотя говорили и на романском диалекте[19]) и переняли многие арабские обычаи. Помимо христиан в основных городах было много иудеев, которые, пострадав при висиготах, активно помогали мусульманскому завоеванию да и позднее не думали бунтовать.
Управлять столь разнообразным, часто вступавшим и противоречия друг с другом населением было нелегкой задачей. Постоянно вспыхивали разного рода мятежи и волнения. Иногда в них участвовала одна из перечисленных групп, иногда объединялись две или более. Старая система, по которой всякий здоровый мусульманин обязан был отбывать воинскую службу, отпала еще до 750 г., да она была и неприемлема для положения в ал-Андалусе. Одним из путей, которым Абд ар-Рахман пытался разрешить эту проблему, было создание профессиональной армии. Вероятно, она состояла в основном из рабов, легко добываемых на севере, из-за Пиренеев. Размеры этой наемной армии были еще более увеличены его преемниками. Это сделало эмира независимым от подданных, но вместе с тем создало новые серьезные проблемы.
Было выдвинуто предположение, что Омейяды достигли единства этого разнородного государственного организма, связав свои устремления с исламом, но эта гипотеза не в состоянии объяснить всех сложных вопросов. Мы еще остановимся на ней подробнее в последней главе. Здесь же отметим, что это была в лучшем случае дальновидная политика. Главной целью тогда было поставить в центре государственного единства эмира, но основой его власти могла быть только сила. Прискорбным примером тому может быть так называемый день рва в Толедо около 797 г. (а не 807!), вскоре после начала правления ал-Хакама. Всю толедскую знать, в основном испанских мусульман, выказывавших ранее неприязнь к властям, хитростью заманили в замок — под предлогом воздания почестей наследнику, — там же их одного за другим обезглавили, а тела свалили в крепостной ров.
К концу правления того же ал-Хакама, вероятно в 818 г., произошел еще более печальный эпизод: «кровавая баня» в Кордове. Жестокость эмира была вызвана волнениями обитателей предместья к югу от Гвадалквивира. Некоторое время исход казался сомнительным, но постепенно войска эмира взяли верх, предместье было разграблено, триста зачинщиков казнены, остальные изгнаны из Кордовы и вся окраина перепахана. Важность, придаваемая этим событиям арабскими источниками и некоторыми старыми европейскими сообщениями, не должна внушать современному читателю, будто ничто, кроме силы, не могли иип/н-ржм и. центральную власть.
Пока Омейяды упрочивали таким образом власть над территориями, оказавшимися у них в руках, на северной границе не происходило ничего особо важного, но некоторая активность все же отмечается. В 740—755 гг. маленькое Астурийское королевство на северо-западе Пиренейского полуострова смогло несколько расширить свои границы и обезопасить себя от нападений. По ту сторону Пиренеев создавал свою могучую империю Карл Великий (771—814). Иногда он делал вылазим и на полуостров; например, в 801 г. он занял Барселону. Его поход против Сарагосы в 778 г. прославлен "Песней о Роланде". Центральное событие этой поэмы — поражение на Ронсевале арьергарда — было с военной точки зрения весьма незначительным эпизодом, гораздо более важным для всей кампании оказался провал попытки захватить Сарагосу. Возможно, именно эта неудача заставила Карла Великого оставить Испанию в покое.
У ал-Андалуса не было северной границы в современном смысле слова. Между территориями, прочно удерживаемыми мусульманами, и подобными же территориями различных христианских государств существовала полоса земли, переходившая из рук в руки. Это были марки. Мусульманская линия обороны опиралась на Сарагосу в Верхней марке, на Толедо в Средней марке и на Мериду в Нижней марке. Бывали времена, когда мусульмане предпринимали походы на север каждое лето, но они сменялись временами явного перемирия. Одним из выдающихся был поход на Нарбонн в 793 г. и другой поход в те же края в 841 г. Ни тот, ни другой, ни еще один, предпринятый в 828 г. против Барселоны, не увенчались успехом и не отвоевали города у франков.
Ко времени правления Абд ар-Рахмана II (822—852) Омейядский эмират был уже вполне стабильным, а страна процветала. Мятежи все еще случались, но лишь на периферии, в центре же было достигнуто некое единство. Одним из показателей общего процветания служит широкий размах строительства при Абд ар-Рахмане II. Серия дозорных башен, воздвигнутых на побережье и целях охраны населения от набегов скандинавских пиратов, показывает силу и действенность режима. И действительно, Абд ар-Рахман чувствовал себя достаточно сильным, чтобы вмешиваться в политику различных малых и средних государств в районе от Марокко до Туниса, поддерживать меньшие против их более сильных соседей. Однако будет уместнее остановиться на основах мощи и процветания государства Омейядов, после того как мы увидим его в полном блеске в следующем веке.
2. Кризис эмирата
Мухаммад I (852—886)
ал-Мунзир (886—888)
Абдаллах (888—912)
Когда в 852 г. умер Абд ар-Рахман II, Омейядское государство процветало, оно выглядело сильным и прочным. Однако события следующих шестидесяти лет показали, что внешность обманчива, что на самом деле оно было хрупким и ненадежным. Смуты более раннего периода были почти все вызваны горожанами, недовольными тем или иным и проявлявшими свое недовольство в столкновениях с властями. В то же время они едва ли могли что-либо противопоставить существующей государственной или политической системе. Однако еще до конца IX в. появилось немало честолюбцев, которые стремились использовать народное недовольство как инструмент для создания независимых или полунезависимых маленьких государств для самих себя.
Похоже, что все это началось с пограничных марок. Общая система марок была хороша, она отлично зарекомендовала себя при защите более густо населенных районов страны на юге и юго-востоке. Однако она подразумевала предоставление определенной власти и независимости правителям марок и их подчиненным. Уже в 842 г. один из таких подчиненных, Муса ибн Муса ибн ал-Каси, правитель Туделы, отказался повиноваться эмиру и успешно отразил несколько нападений эмирских войск. Co временем эмиру удалось получить от него заверения в лояльности, но на условиях самого Мусы. Ко времени своей смерти в 862 г. Муса весьма эффективно управлял большей частью Верхней марки, включая Сарагосу, и даже называл себя «третьим королем Испании». Начиная с 871 г. трое его сыновей, которые сохраняли большую часть фамильной собственности, пытались вернуть себе его власть, но трудности оказались слишком велики, и в 884 г. единственный из них оставшийся в живых продал Сарагосу эмиру. Положение последнего было ненамного лучше, так как в том районе ему приходилось опираться на соперничающий арабский род, часто именуемый Туджибиды, который тоже претендовал на независимость.
Можно вкратце упомянуть еще о двух сходных линиях развития событий. В первом случае муваллад (т.е. испанский мусульманин) Ибн ал-Джилики с 875 г. утвердил свою независимость в районе Мериды в Нижнем марке, а его сыновья и управители подчинились нейтральному правительству лишь в 930 г. В Севилье, напротив, два арабских рода взяли верх в борьбе с мцвалладами и в 899 г. после ссоры между ними глава одного из этих родов стал полунезависимым правителем области, признанным эмиром и со временем передавшим свою власть сыновьям.
Однако самой угрожающей из этих попыток обрести независимость была акция Ибн Хафсуна, еще одного муваллада. В 880 г. вместе с другими недовольными он поднял мятеж на юге, сделав своей резиденцией замок Бобастро. Страна кипела от недовольства, и ему нетрудно было утвердить собственную власть и бросить вызов омейядским войскам. Вместе с успехами росли и его претензии, и он не останавливался ни перед чем, стремясь расширить свою власть. Около 890 г. он вел переговоры с полунезависимым правителем Кайруана (признанным Аббасидами), чтобы получить от него военную помощь и стать эмиром Испании. В это время Ибн Хафсун пользовался большой поддержкой мувалладов, которые, будучи вовлечены арабами в борьбу, переходили на его сторону. Однако в 899 г. он, вероятно, потерял ту поддержку, приняв христианство,— но зато, разумеется, снискал симпатии мосарабов. Смена религии не помешала ему в 910 г. объявить о своих дружеских намерениях по отношению к государству Фатимидов, которое в предыдущем году возникло в Тунисе. Даже при Абд ар-Рахмане III центральное правительство все еще не могло изгнать Ибн Хафсуна из Бобастро, хотя власть его уже слабела. После его смерти в 917 г. сыновья еще десять лет продолжали сопротивление. Длительность этого мятежа ясно показывает относительную слабость центральной власти.
Примечательной особенностью этих событий и этого периода вообще является смешение христианства и мусульманства. Семейство Мусы ибн Мусы ибн ал-Каси в Верхней марке было связано кровными и брачными узами с семьей, которая в то же время создавала вокруг Памплоны королевство Наваррское. Этот род внес подлинный вклад в создание королевства, который нельзя не признать. Возможно, этот факт следует сопоставлять с распространением франкской феодальной практики, ведь именно феодализм придавал такую важность отношениям между подданными и государем, что религия почти утрачивала свое назначение[20]. Многочисленные датируемые этим периодом случаи перемены религии или клятвы в верности государю другого вероисповедания позволяют предположить, что борьба в IX в. не рассматривалась первоначально как борьба религиозная. Отсюда следует маловероятность того, чтобы политика Омейядов была направлена на превращение ислама в главную интегрирующую силу ал-Андалуса. Во всяком случае, даже если они и придерживались такой политики, она не стала еще эффективной. Вместе с тем Омейяды могли уже заинтересоваться исламизацией, поскольку эмир Абдаллах (888—912), как сообщают, находился под влиянием правоведов, а само наличие их было свидетельством исламизации.
В данном случае уместно упомянуть теорию Америко Кастро в книге «The Structure of Spanish History». Он рассматривает культ снятого Иакова Компостельского, включая паломничество, как преображенное старое галисийское или иберийское поверье о Небесных Близнецах (поскольку Иакон считался близнецом Иисуса). Этот культ дамал галисийцам IX в. и их соседям твердую уверенность в божественной помощи, благодаря которой они со временем обязательно победят мусульман. Таким образом, их культ был источником духовной силы, лежащей в основе Реконкисты.
Отвлекаясь от теории Америко Кастро, можно с уверенностью сказать, что культ Сант-Яго (св. Иакова) присутствовал и в первой половине IX в. и что при Алфаисо III (866—910), пока мусульмане были занятых своими внутренними переделами, объединенное Астуро-Леонское королевство ширилось и крепло.
Глава четвертая. Величие Омейядского халифата
1. Омейядская Испания в зените
Абд ар-Рахман III (912—961)
ал-Хакам II (961—976)
Преемником эмира Абдаллаха был его внук Абд ар-Рахман III, молодой человек двадцати одного года от роду. Когда новый правитель взошел на трон, перспективы были не слишком блестящими для ал-Андалуса. Вдобавок к гражданской войне (так это практически было) с Ибн Хафсуном, к потере контроля над марками на горизонте появились еще две внешние угрозы: королевство Леон на севере и новая Фатимидская держава на территории современного Туниса. Но Абд ар-Рахман III оказался способным государственным деятелем, он обладал сильным характером и судьба благоприятствовала ему, словом, за время его долгого правления ал-Андалус не только преодолел внутреннюю слабость и внешние угрозы, но и достиг высот величия.
Одной из основных его забот было восстановление внутреннего единства страны. В результате решительных и хорошо организованных кампаний двух первых лет своего правления он покончил с большинством покровителей Ибн Хафсуна, урегулировал отношения с правительством Кордовы, поощрив его к изъявлению лояльности. Значительное число замков и укреплений были переданы в надежные руки. Он воспользовался неладами внутри семейства, правившего Севильей (чья зависимость от Омейядов была номинальной), и еще до конца 913 г. туда был назначен правителем покорный Абд ар-Рахману человек. Благодаря такой тактике авторитет Ибн Хафсуна был поколеблен, и после его смерти в 917 г. сыновья его рассорились, а власть их была сведена к минимуму. Сдача Бобастро в 928 г. знаменовала конец угрозам единству. В последующие годы Абд ар-Рахман завершил установление действенного контроля над марками. В Нижней марке это было отмечено сдачей ему наследником Ибн ал-Джилики Бадахоса (930 г.). Затем последовала двухлетняя осада Толедо в Средней марке, после чего город сдался в 932 г. А вот в Верхней марке Туджибиды с самого начала проявили себя как сравнительно верные вассалы Абд ар-Рахмана, хотя в 937 г. правитель Сарагосы предпочел стать вассалом короля Леона, и восстановить контроль над Верхней маркой Абд ар-Рахману удалось лишь после военных действий и осады Сарагосы.
Первые двадцать лет правления Абд ар-Рахмана примечательны не только восстановлением единства ал-Андалуса, но и успехами в борьбе с христианскими королевствами севера Испании — Леоном и Наваррой. Возможно, что слабость этих государств в какой-то мере объяснялась развалом Каролингской империи, может быть также, что правители этого периода оказались менее способными, чем их предшественники и последователи. Во всяком случае, экспедиции Абд ар-Рахмана в 920 и 924 гг. положили конец христианским рейдам на мусульманскую территорию. Однако распространение мусульманского влияния было приостановлено во время ^ правления Рамиро II Леонского (932—950) (для краткости мы называем Леоном королевство Астурии и Леона).
Высшая точка успехов Рамиро приходится на 939 г. Абд ар-Рахман выступил против Лсопа с большей, чем обычно, армией, якобы достигавшей ста тысяч человек. Он встретился с Рамиро при Симанкоге, немного южнее современного Вальядолида. После нескольких дней предварительной разведки громоздкая мусульманская армия была обращена в бегство и понесла большие потери, из-за того что Рамиро предусмотрительно вырыл в тылу мусульман ров (хандак). Поражение было не таким уж непоправимым, но это был серьезный удар по гордости Абд ар-Рахмана. Рамиро воспользовался своим успехом и расселил христиан в окрестностях Саламанки. Но ему тут же пришлось заняться отражением попыток Кастилии поглотить его государство, и Абд ар-Рахман вскоре восстановил свою военную мощь и политическое влияние.
После смерти Рамиро II в 950 г. внутренние междоусобицы значительно ослабили христианские государства, и 951—961 годы свидетельствуют о невиданном увеличении власти и влияния Абд ар-Рахмана. Гегемонию (или сюзеренитет) Абд ар-Рахмана и его преемников признали король Леона, королева Наварры и графы Кастилии и Барселоны, причем это признание было не просто формальным, но подкреплялось выплатой ежегодной дани; отказ от уплаты приводил к карательным рейдам. В это же время были разрушены или переданы в руки мусульман большинство укреплений. Таким образом, начиная с 960 г. и до конца века мусульманский контроль над Пиренейским полуостровом был полнее, чем когда-либо.
Здесь представляется уместным рассмотреть точку зрения Арнолда Тойнби («А Study of History», vol. VIII, стр. 351), который считает, что, коль скоро Абд ар-Рахману и ал-Мансуру не удалось подчинить себе полностью весь полуостров в период, когда они обладали несомненным военным превосходством, это означает поворотный момент: конец мусульманской экспансии на этом направлении и начало христианского восстановления сил. Обсуждение этого вопроса позволяет выяснить некоторые существенные черты омейядской Испании. В определенном смысле покорение полуострова было закончено, поскольку северо-западную часть его занимало королевство Леон, которое признало Абд ар-Рахмана своим сюзереном. Однако покорение не было полным в двух отношениях: никто из мусульман не хотел селиться в северных землях, а местные правители оставались вассалами мусульманского сюзерена, но не превращались в глав общин зимми, т. е. «покровительствуемых».
Причины нежелания заселять северные земли были сходны с теми, которые ослабляли энтузиазм к продвижению во Франции после поражения 732 г. и к отказу от дальнейшего давления на северо-западные районы в середине VIII в. Почти наверняка арабы невзлюбили этот климат; большинство из них было горожанами, северные города они находили маленькими и некомфортабельными. Высказывалось даже мнение, что араб мог быть счастлив лишь под сенью олив. Берберы, поначалу расселившиеся в северозападных областях, еще до своего отступления испытали там множество неприятностей, и память об этом несомненно сохранилась. Суровые условия жизни вместе с враждебностью местных жителей, особенно горцев, делали эти области неугодными для поселения. В тех же районах, которые были почти необитаемы, скорее христиане готовы были приступить к освоению новых земель.
Стратегия создания политически зависимых от них единиц, которая была скорее феодальной, чем традиционно мусульманской, может быть объяснена тем обстоятельством, что у мусульман не хватало сил, чтобы обеспечить покоренным статус зимми, и они вынуждены были довольствоваться их вассальной зависимостью. Однако это предположение еще нуждается в проверке. Более вероятно, что традиционные арабские и исламские идеи просто оказались менее приемлемыми в специфических условиях северной границы ал-Андалуса. Концепция «священной войны» (джихад[21]) как уже отмечалось, превосходно служила в первые века ислама для объединения арабских племен и направления их на широкую экспансию, но даже на востоке эта концепция не годилась в качестве ведущего принципа великой империи при взаимоотношениях с соседями. На западе эти проблемы усугублялись разногласиями среди мусульман Северной Африки.
Абд ар-Рахман, конечно, использовал идею «священной войны» для привлечения людей в армию, но для большинства его солдат побудительным мотивом были, вероятно, материальные, а не религиозные интересы. Существование стратегических замком естественно придавало особую важность отношениям между владельцем такого замка и его сеньором, а мусульманская политическая традиция, более приспособленная к взаимоотношениям политических общин, не имела опыта в этом вопросе. Если вспомнить при этом, что многие из видных мувалладов (испанских мусульман) состояли в тесных родственных связях с рядом христианских знатных семейств, не покажутся удивительными отношения владельцев замков между собой: они были чисто феодальными без учета религии. Короче говоря, попытка применить сугубо мусульманские политические идеи к ситуации, определяющими элементами которой (в основном по географическим причинам) были замки и рыцари, потерпела неудачу. Можно, конечно, объяснять эту неудачу недостатком религиозного рвения, но, пожалуй, правильнее будет признать, что, хотя ислам считается политической религией, мусульманские правители уже вскоре после возникновения ислама были в основном равнодушны к религиозным заповедям при проведении своей политики. Политическая власть была как бы автономной, и для большинства правителей raison d'etat перевешивал все прочие соображения. Весьма вероятно, что мусульманские правители в Западной Европе X в. предпочитали применять принципы и практику, более эффективные в этих краях.
Рассматривая политику Абд ар-Рахмана в Северной Африке, следует помнить о таких определяющих моментах, как основание Фатимидского государства (в Тунисе в 909 г. и в Египте в 969 г.). С одной точки зрения, это была победа оседлых берберов над кочевыми - в то время как ранее арабское завоевание было победой кочевников (при поддержке арабов) над оседлыми племенами, но это далеко не все. Военные и политические успехи Фатимидов были связаны с провозглашением новой серии религиозных идей. Разнесенные исполненными энтузиазма проповедниками (дай), эти идеи могли завоевать популярность у широкого круга людей, способных отлично сражаться. Теологически этот набор идей квалифицируется как исмаилитская форма шиизма[22]. Исмаилизм провозглашает, что мусульманская община имеет одного определенного руководителя, или имама (в фатимидском Тунисе этим руководителем был Убайдаллах), который наследует Мухаммаду и которого как истинного имама вдохновляют и поддерживают божественные силы. Политическим последствием этого лозунга было свержение существующих правителей (поскольку они оказались неправомочными возглавлять мусульманскую общину) и замена их автократической администрацией под руководством истинного имама. Именно Фатимиды, придя к власти в Кайруане, выдвинули претензию на всеобщее главенство в мусульманском мире, причем настаивали на ней серьезнее, чем кто-либо до них. Во все части Аббасидской империи были посланы их агенты, которые искусно обращали местное недовольство на пользу Фатимидам.
Следовательно, значительная часть недовольства, бурлившего в Испании, может быть отнесена за счет Фатимидов. Подстрекаемый авантюризмом, Ибн Хафсун также провозгласил свою преданность Фатимидам, когда они пришли к власти,— и тем самым привлек их внимание к Испании. Большая часть берберских поселенцев там представляла оседлые племена, и можно было ожидать, что они откликнутся на религиозные идеи, близкие к тем, которые воодушевляли берберских последователей Фатимидов. Но история, происшедшая в Средней марке ал-Андалуса в 901 г., послужила мрачным предостережением для тех, кто строил подобные планы. Недовольные берберы собрались вокруг человека, объявившего себя махди (т. е. ведомым богом имамом) и поведшего их на Самору, недавно заселенную христианами; здесь он был разбит королем Леона, а движение рассеялось. Оказывается, в таких делах на первом месте стоят происхождение и традиции. Интерес к святым был типичной чертой религиозной жизни берберов в Северной Африке, но похоже, что берберы-иберийцы были более заинтересованы в поддержке сверхъестественных сил, не воплощенных ни в каких личностях. Америко Кастро противопоставляет французскому и английскому поверью, будто прикосновение христианского короля может вылечить золотуху, другое, испанское, что «осязаемая, ближняя власть» Сант-Яго (св. Иакова), приносящая людям победу в бою, воплощена не в людях, но действует через неодушевленные предметы[23]. Именно так обстояло дело и с испанскими мусульманами, поэтому фатимидская пропаганда не представляла для ал-Андалуса реальной угрозы, но Абд ар-Рахман III этого не понимал.
Общий ход событий в Северной Африке не очень отличался от того, что происходило на северных границах. Здесь был свой начальный период экспансии, когда несколько небольших государств прижали сюзеренитет Омейядов. К 931 г., после ряда военных успехов, Абд ар-Рахман стал сюзереном большого региона от Алжира до Сиджилмасы. Однако вскоре агрессивные действия Рамиро II Леонского отвлекли внимание Абд ар-Рахмана от Северной Африки. Едва успел умереть Рамиро, энергичную подготовку к экспансии начал Фатимид ал-Муизз (953—975). После похода 959 г., которым руководил военачальник Джаухар, под властью Абд ар-Рахмана оставались лишь Танжер и Сеута. Такая расстановка сил продержалась почти до конца правления ал-Хакама II (961—976). Ал-Муизз сконцентрировал внимание на том, чтобы продвинуться в восточном направлении. В 969 г. был покорен Египет, туда в 972 г. была перенесена правительственная резиденция. С этого времени фатимидское влияние на район от Туниса до Марокко пошло на убыль. В результате походов в Северную Африку своего полководца Талиба Омейяды в 973 и 974 гг. вернули себе часть потерянных земель и восстановили в этом районе былое положение, пока их центральная власть не начала слабеть.
Самое важное событие в жизни ал-Андалуса при Абд ар-Рахмане III было связано с фатимидской угрозой. Это было принятие им в 929 г. титула халифа и «главы правоверных» (амир ал-муаминин) вместе с «тронным именем» ан-Насир ли-Дини-л-лах («Защитник веры Аллаха»). Этот акт не подразумевал претензии на право руководить всеми мусульманами, а лишь утверждал независимость правителя ал-Андалуса от какой-либо высшей мусульманской власти. В качестве аргумента в поддержку своих притязаний Абд ар-Рахман мог сослаться на происхождение от дамасских халифов — ведь испанские Омейяды и прежде называли себя «сынами халифов». Таким образом, акция эта была направлена не против Аббасидов, а против фатимидских притязаний; она должна была также дать мелким правителям Северной Африки юридическое обоснование для признания сюзеренитета Омейядов Кордовы.
Возросшее достоинство, которое сообщал новый титул, хорошо сочеталось с политическими успехами Абд ар-Рахмана. Все большее возвышение правителя над подданными было, однако, связано не столько с принятием халифского сана, сколько вообще с его удачным и благополучным правлением. Это увеличение расстояния между ними вытекало уже из простого укрепления административного аппарата. Аналогичные меры заставили последних Омейядов Дамаска задуматься над тем, не придать ли своему правлению некоторые черты персидской империи. Неудивительно, что в последние годы жизни правление Абд ар-Рахмана III, как сообщают, стало более автократичным.
Нет необходимости останавливаться на правлении сына Абд ар-Рахмана — ал-Хакама II (961—976), чье тронное имя было ал-Мустансир би-л-лах[24]. Созданная его отцом структура центральной власти оставалась при нем нетронутой. Неизменным было также внутреннее и внешнее положение ал-Андалуса. В 975 г. армия Талиба подавила попытку королевств Леона, Кастилии и Наварры добиться независимости, а несколько позднее тот же полководец, как мы уже отмечали, стал расширять сферу омейядского влияния в Северной Африке. Кажется все большую роль во внутренних делах начали играть законоведы, но вопрос о них весьма сложен, и мы остановимся на нем подробнее особо. Когда в 976 г. ал-Хакам умер, власть омейядской династии и процветание их государства все еще были в зените; мало что предсказывало внезапный упадок после 1000 г.
2. Экономический базис
После краткого описания наиболее существенных событий правления Абд ар-Рахмана III. и его сына следует остановиться на более общих проблемах, прежде всего на том, что сделало этот период «великим веком». Чем мы восхищаемся в нем: концентрацией политической власти и богатства, архитектурными красотами? Или чем-то, стоящим за этим, быть может, подъемом человеческого духа, взращенным благоденствием и выражающим себя в искусстве, архитектуре и литературе? Ответить на эти вопросы нелегко, и вообще цель этой книги частично в том и состоит, чтобы поставить вопросы, они будут служить постоянным фоном нашему дальнейшему исследованию мусульманской Испании. Здесь же мы обратимся к одному из них материальному базису благосостояния Омейядского халифата.
Земледелие в ал-Андалусе было почти исключительно богарным — единственная возможность для центрального плато. Зато на юге (на территории нынешней Андалусии) можно было использовать ирригацию. Орошение не было изобретено арабами, но, кажется, значительно усовершенствовано ими; возможно, что они принесли с востока иную оросительную технику. Более высокий уровень сельскохозяйственной техники позволил освоить новые культуры. Мусульмане, как полагают, завезли в Испанию не только апельсины и еще некоторые сорта фруктов и овощей, но также рис, хлопок и сахарный тростник. Земли в ал-Андалусе были плодороднее, чем в большинстве других мусульманских земель. Здесь было много полезных ископаемых, которые, вероятно, разрабатывались так же, как в римские времена. Бесспорно, мусульманская Испания унаследовала от висиготов некоторые виды художественных работ по металлу, кое-что из этих ремесел сохранилось до настоящего времени.
Можно предположить, что особый вклад ислама следует искать в сфере развития городов и городской жизни. Ислам всегда был прежде всего религией горожан, а не крестьян, он возник в Мекке, оживленном торговом и финансовом центре. И хотя караваны мекканских купцов проходили по пустыням Аравии, эта религия была мало связана с пустыней, а жители пустынь редко бывали ревностными мусульманами. Еще меньше (если это возможно) увязывалась она с крестьянским укладом жизни. Одним из признаков этого может служить мусульманский календарь — из двенадцати лунных месяцев, т.е. 354 дней; ни одна крестьянская религия не выдержала бы такого календаря даже год.
При висиготах в VI в. в городской жизни наблюдался некоторый упадок, появился слой крупных землевладельцев, сосредоточивших в своих руках власть в стране. Прибытие арабов с их обширным опытом городской администрации на востоке в некотором смысле повернуло вспять этот процесс; городская жизнь постепенно активизировалась. И хотя демократических институтов арабы не вводили, они, казалось, все же поощряли самосознание горожанина. Порядок строго поддерживался. Специальные чиновники наблюдали за рынками, не допуская мошенничеств. Существовали корпорации, или гильдии, ремесленников с категориями, соответствовавшими мастеру, подмастерью и ученику, это подразделение строго выдерживалось. Постоялые дворы принимали под свой кров странствующих купцов и их товары. Таким образом, наличествовали материальные и экономические основы городов. Мусульмане предоставляли городам и возможности для развития литературы, музыки и прочих видов творческой и духовной деятельности.
Возможно, что основной причиной благоденствия ал-Андалуса было поощрение торговли, вытекавшее из общемусульманской системы взглядов. Купцы пользовались не только сухопутными дорогами Пиренейского полуострова, не только просачивались во Францию (через нее велась бойкая торговля рабами), но, видимо, активно развивали существовавшие еще при висиготах торговые связи с Северной Африкой. Особая важность торговых отношений с Северной Африкой, на которой так настаивал Э. Леви-Провансаль, пока еще не вполне ясна, вопрос этот подлежит дальнейшему изучению. В IX и X вв. угроза со стороны норманнских пиратов привела к созданию флота, впоследствии выросла флотилия торговых судов, осуществлявших прямую связь с Тунисом и Египтом; суда этих стран также участвовали в перевозках.
Городские ремесла, естественно, прежде всего призваны были удовлетворять нужды местного населения, но в связи с ростом благосостояния и развитием торговли возникает внутренний и зарубежный спрос на предметы роскоши. Кроме наследственных ремесел и техники мастерства разрабатываются новые. Ал-Андалус получает известность благодаря своим великолепным тканям; он поставляет также меха и керамические изделия.
Интересно отметить, что общая картина влияния мусульманской экономики на Испанию подтверждается изучением арабских заимствований и современном испанском языке. Число их весьма велико, но особенно важно отметить сферы применения нон лексики. Многие из этих слов связаны с торговлей и относящейся к ней деятельностью: с путешествиями, мерами, весами, поддержанием порядка на рынках и вообще в городах. Наиболее распространенный пример термина «таможня» от араб. диван. Еще одной сферой является домостроение — здесь заимствования употребляются в основном для обозначения частей дома или его убранства, т. е. относятся не к предметам первой необходимости, а к комфорту. Ряд арабских слов обозначает термины ирригации, масса названий фруктов, овощей и прочей пищи тоже арабские. Сохранились арабизмы в военной терминологии, в терминологии различных ремесел и производств. Весьма любопытны отдельные слова, вроде jarifo — «показной», которые можно считать проявлением определенной городской изысканности в оценке личности[25]. Один историк и экономист (не специализировавшийся на Испании) обобщил это все в таких словах: «Когда север хотел улучшений в науке, медицине, земледелии, в ремесле или в образе жизни, ему приходилось отправляться на выучку в Испанию»[26].
Наконец, нужно если и не разрешить, то хотя бы поставить вопрос о том, насколько неизбежны были трения между городской, основанной на торговле цивилизацией юга Испании и скотоводческой по преимуществу цивилизацией севера. В экономике и географических условиях севера были какие-то черты, которые делали феодализм лучшим способом достижения определенного уровня безопасности, так что он был принят даже мусульманами. Исламская цивилизация развивалась на сходной материальной базе — в условиях смешанной экономики Средиземноморья, с его богарным земледелием, ремесленным производством и торговлей. Справедливо ли рассматривать борьбу между христианами и мусульманами в Испании как отражение противоречий между политической организацией, соответствующей примитивной экономике, и подобной же организацией, взращенной более развитой городской и торговой экономикой? Была ли способна какая-либо из этих культурных систем усвоить иной тип хозяйства?
3.Общественные и религиозные движения
К сожалению, об общественных и религиозных движениях в ал-Андалусе нам известно далеко не так много, как хотелось бы. То, что будет изложено далее, хотя и следует за принятой современными учеными точкой зрения, основывается не на детальном изучении источников, а на сравнительно небольшом числе фактов, которые удалось подметить. С этой оговоркой можно перейти к обзору отдельных элементов, составлявших общество X в.
С берберами разобраться относительно просто, с них мы и начнем. В основном они происходили от оседлых, а не от кочевых берберов. Большинство из них, вероятно, увеличило число сельской бедноты, хотя некоторые остались в городах и стали ремесленниками. Одному или двоим, однако, удалось получить известность в качестве богословов. Все они были мусульманами. Некоторые из их предков несомненно приняли мусульманство, чтобы участвовать в арабских завоеваниях и в последующем дележе добычи. Тех же, кто эмигрировал в ал-Андалус уже после первой волны нашествия, возможно, привлекли более высокий уровень жизни и, может быть, чуть большая безопасность ее. Поселившись в ал-Андалусе, они оказались перед лицом враждебности со стороны немусульманского населения и ощутили необходимость в солидарности с другими мусульманами, прежде всего с арабами. Возможно, именно по этой причине еретические формы ислама, распространившиеся в Северной Африке, не привились в Испании. Хариджитская доктрина выражала антиарабские настроения кочевых североафриканских берберов. Для оседлых берберов ал-Андалуса, осознавших необходимость арабской поддержки, она ничем не была привлекательна. Вероятно, более близким по духу было для них учение шиитов о боговдохновенном вожде, или святом, но и в этом случае требования арабо-берберской солидарности удержали их от следования за каким-либо лидером, который отъединил бы их от арабов. Человек, объявивший себя махди в 901 г. (см. выше, стр. 52), вел своих последователей против немусульман, а не против арабов.
Арабы, составлявшие лишь малую часть населения ал-Андалуса, сообщили определенную окраску всей цивилизации. Здесь мы сталкиваемся с одной из центральных проблем мусульманской культуры и Испании. Насколько велико было религиозно-культурное влияние арабов? В каких именно формах оно проявлялось? Отчего оно стало столь сильным? Представим себе в общих чертах основу арабского влияния трудно. В центральных землях империи период Омейядского халифата рассматривается как время доминирования арабов. И противоположность ему в Аббасидском халифате на первый план выступают персидские элементы. С моментa завоевания и до 750 г. ал-Андалус был провинцией Омейядской империи, затем им два с половиной века правил род Омейядов. Но дело было не только в том, что арабы стояли у власти. Арабы отличались необычайной уверенностью в своих силах, верой в себя. Именно это в сочетании с их экономическим превосходством — а они владели богатейшими землями в стране — вызывало у прочих обитателей страны восхищение ими и желание им подражать. Поначалу неарабы, обратившиеся в мусульманство, становились клиентами арабских племен и часто принимали родословную своего патрона. Со временем факт фиктивности такой родословной забывался и клиент начинал выдавать себя за чистокровного араба.
Эта арабизация Испании проявлялась во многом: и самом термине мосарабы (т.е. «арабизованные»), обозначавшем живших под мусульманской властью христиан, в интересе к арабской генеалогии и различным вопросам происхождения, в преобладании типично арабской маликитской школы права и прежде всего в популярности арабского языка. Не так уже вероятно, что первые арабы — завоеватели принесли с собой высокую культуру. Но что гораздо более важно, они принесли живую связь с арабоязычными странами Ближнего Востока, чьи культурные достижения они таким образом могли использовать.
Гораздо более многочисленными, чем арабы в строгом смысле слова, были муваллады, т. е. мусульмане иберийского происхождения. Со временем многие из них присвоили себе чисто арабскую родословную, например писатель Ибн Хазм, претендовавший на арабо-персидское происхождение. С практической точки зрения эти генеалогии не вносили серьезной путаницы. Происхождение у арабов признавалось только по мужской линии, но женились арабы на иберийках, так что к X в. расовых различий между арабами и мувалладами уже не было. Неудивительно, что эти две группы всё больше сливались в одну.
Почему, собственно, так много жителей Пиренейского полуострова перешло в мусульманство, точно неизвестно. Это должно как-то быть связано с общим положением в стране[27]. Между висиготской правящей верхушкой и церковными властями существовало сотрудничество (или сговор?), весьма затруднявшее существование всех, кто по каким-то соображениям теологического или материального порядка не выполнял церковных установлений. Среди таких людей могло быть много рабов, необращенных язычников, но могло также случиться, что остатки арианских ересей, столь распространенных среди готов (по которым Иисус мало чем отличался от обычного человека), внутренне облегчили поворот к исламу. Христианской знатью и многочисленными представителями средних и низших городских слоев несомненно руководили как духовные, так и материальные соображения. Видное место среди них занимало желание получить социальные привилегии, распространявшиеся на мусульман, и восхищение перед культурой, которая отождествлялась с исламом.
Но даже если принять во внимание все доступные нам факты, восприятие мусульманской культуры столь большим числом жителей Испании остается загадкой. Ведь, с одной стороны, всего за столетие до завоевания Испании арабы, вторгшиеся в страну, вели примитивную жизнь обитателей аравийских степей и сами, в сущности, не успели достичь высокого культурного уровня. С другой стороны, еще Исидором (ум. в 636 г.) была заложена в Севилье научная традиция, которая сделала этот город одним из ведущих интеллектуальных центров христианской Европы. И все же исидоровская традиция была оставлена — ради арабской. Чем это объяснить? Неужели связь церковных ученых с правящей верхушкой полностью оторвала их от народа? Или исидоровская культура всегда была достоянием горстки книжников? Или существовали какие-то иные факторы, которые нам неизвестны?
Можно считать, что у мувалладов не было ничего чисто иберийского, чем они могли бы гордиться. Великий венгерский исламовед Игнац Гольдциер, изучив шуубитское движение в Ираке и Персии, обратился к испанскому материалу, чтобы обнаружить там аналогичные черты. На востоке мнимое превосходство арабов было атаковано именно литературой, восславлявшей иранские народы. Гольдциеру удалось отыскать лишь одного-двух судей из Уэски начала X в., которые страстно поддерживали идею мувалладов, да одну литературную эпистолу середины XI в., где повторялись аргументы восточных шуубитов[28]. Отсюда следует вывод, что, если мувалладов и раздражали слегка арабские претензии на превосходство, у них не было никаких позитивных аргументов, чтобы противопоставить их этим претензиям.
Следующая важная группа — мосарабы, т. е. христиане, живущие в мусульманских владениях,— также выказывала восхищение всем арабским. В 854 г. один из христианских авторов писал так:
«Наша христианская молодежь с ее внешним изяществом и хорошо подвешенным языком, с ее искусственными манерами и платьями прославилась познаниями и пауках иноверцев. Отравленные арабской риторикой, они жадно хватаются за сочинения халдеев (т. е. мусульман.— У.М.У.), охотно поглощают их, усердно обсуждают и распространяют сведения о них, восхваляя их со всем красноречием, забывая при этом о красоте литературы церковной. Они с презрением глядят на истоки церкви, берущие начало в раю... Увы! Христиане столь невежественны в собственных законах, латиняне уделяют так мало внимания собственному языку, что по всей христианской общине едва ли найдется один из тысячи, кто сумеет написать письмо, расспросить о здоровье друга, зато есть бесчисленное множество таких, кто будет важно рассуждать на халдейском языке, употребляя сложные риторические фигуры. Они даже могут сочинять стихи, где каждая строчка кончается на одну и ту же букву, и демонстрируют в них большие красоты и большее метрическое мастерство, чем сами иноверцы»[29].
Приведенный пассаж дает представление, до какой степени христиане ал-Андалуса, даже сохраняя свою религию, прониклись восхищением перед арабской цивилизацией. Конечно, не следует забывать, что это описание относится к горожанам, тогда как значительную часть мосарабов составляло именно сельское население. Если интерес к арабскому прежде всего проявлялся в сфере языка и поэзии, это подтверждает, что арабы до середины IX в. были весьма популярным элементом в ал-Андалусе или, во всяком случае, что они привлекали симпатии иберийского населения. Тем не менее, принимая арабскую цивилизацию, мосарабы все же не были вполне довольны. Они поддерживали восстания мувалладов, типа мятежа Ибн Хафсуна, а со второй половины IX в. стали эмигрировать из ал-Андалуса в христианские владения. Как и муваллады, в быту они говорили на романском диалекте, хотя более образованные могли столь же хорошо писать и говорить по-арабски.
Другие группы в стране представляли иудеи и рабы. Иудеи сохраняли свою обособленность, хотя в интеллектуальной жизни страны они также принимали участие. Среди рабов и бывших рабов различали негров и «славян» (сакалиба), причем к последним относили не только славян, но и франков, и прочих невольников с севера. При Абд ар-Рахмане III привезено было особенно много рабов (хотя приток их несомненно начался гораздо раньше) для службы в армии и во дворце. Некоторые из них — но отнюдь не все! — были евнухами. Кое-кому удалось выбиться в люди и даже достичь власти. Большинство рабов со временем получило свободу и расселилось по городам, так что к XI в. они составляли довольно большую часть жителей — по численности, но не по месту в политической жизни. Обычно они принимали мусульманство. Однако и христиане, кажется, владели рабами, которые, само собой разумеется, были христианами.
Таковы были основные группы населения ал-Андалуса. В общих чертах можно выделить также социальные и религиозные течения, что дает возможность составить некоторое представление о процессе создания государства Омейядов и сохранения его единства.
4. Институт управления
Прежде всего государство Омейядов в ал-Андалусе было автократией. Власть была сосредоточена (теоретически по крайней мере) в руках эмира или халифа, хотя он мог при желании, как, например, ал-Хакам II, переложить на кого-то еще большую часть забот об управлении или даже общий контроль над политикой. В лице главы государства была сосредоточена ответственность за внешние и внутренние дела, верховное командование армией, а также право распоряжаться жизнью и смертью подданных. Постепенно государь наделялся различными знаками достоинства, которые приняты были отграничить его от окружающих и затруднить к нему доступ. Это стало особенно заметно после провозглашения халифата в 929 г. Например, до этой даты на пятничной молитве в мечети проповедник припевал благословение божье на аббасидского халифа в Багдаде, как на главу мусульман (хотя политическое главенство его не признавалось), но с 929 г. вместо него упоминали Абд ар-Рахмана III ан-Насира.
Обычно при государе существовал главный министр с титулом хаджиба. Он обладал примерно теми же полномочиями, что и везир в восточных землях; везират же к ал-Андалусе был не столь почитаем, и представляли его менее значительные министры. Они отвечали за большую центральную канцелярию, помещавшуюся в Омейядском дворце в Кордове (она осталась там и тогда, когда в середине X в. сам халиф и его двор перебрались в новый дворцовый центр — Мадинат аз-Захра, милях в трех от Кордовы). В каждой из двадцати одной провинции {кура, мн. кувар), из которых (не считая марок) состоял ал-Андалус, существовала уменьшенная копия этой администрации. Во главе любой провинции стоял губернатор, или вали. Немусульманам предоставлялась известная автономия. Они были организованы в общины по провинциям, и во главе каждой из этих общин стоял ответственный за подушную подать (джиэью) comes (араб, кумис), или граф. Были у них и свои судьи[30].
Выше мы уже описывали систему трех марок, служивших для защиты северной границы. Можно добавить еще кое-что о вооруженных силах. Наемники были впервые использованы ал-Хакамом I (796—822); постепенно число их увеличивалось. Многие из них были франками и славянами из бывших рабов, позднее в числе наемников появились североафриканские берберы и негры. Некоторые наемники составляли личную охрану правителя. Кроме наемников на военную службу могло быть призвано значительное число подданных: бывшие джунди (которым были даны ленные владения с обязательством нести военную службу) и горожане. Третью группу воинов составляли добровольцы «священной войны»; собираясь в поход на христианские королевства, правитель объявлял специальный призыв таких добровольцев.
Законоведы, прямо не входившие в органы власти, все же в известной мере принадлежали к аппарату управления. На востоке законоведы выступали как руководители своего рода «конституционной» партии внутри халифата; они настаивали, чтобы управление в различных сферах согласовывалось с шариатом. Таким образом создавался некоторый противовес автократическим тенденциям правителей, а простой народ получал какую-то гарантию безопасности. Однако в других сферах, например в вопросах взаимоотношений халифа с его придворными, принципы шариата не применялись. В некотором смысле аппарат управления довлел над законоведами, их назначение на наиболее важные посты осуществлялось органами власти. Это привело к широкому распространению суетных интересов среди законоведов и прочих ученых-богословов[31].
Сколь близко к этой ситуации, сложившейся в центре Аббасидского халифата, было положение в ал-Андалусе, еще недостаточно изучено. Как мы покажем далее, доминирующим правовым толком в ал-Андалусе был маликитский, влияние законоведов, кажется, постепенно возрастало. Сообщают, что они были более влиятельны при ал-Хакаме II (961—976), чем при его отце Абд ар-Рахмане III. Беглый обзор событий, однако, оставляет впечатление, что в X в. позиции законоведов в ал-Андалусе были менее перспективны, чем в Ираке. Представляется также сомнительным, чтобы Омейяды (как это иногда утверждают) сознательно использовали мусульманскую религию в качестве орудия для объединения и умиротворения своего разнородного по национальному составу государства. Многочисленные факты, отмеченные в предыдущих главах, показывают, что до конца X в. арабский элемент продолжал оставаться определяющим в мусульманской культуре.
Тем не менее есть основания полагать, что мусульманское влияние росло. Ал-Андалус оставался в соприкосновении с центральными землями мусульманского мира (далее мы покажем, что это значило в сфере духовной жизни и в литературе). Разумеется, Багдад представлялся мусульманам во всех отношениях эталоном.
Хотя притязания аббасидских халифов на политическое главенство были отвергнуты, мы видим в Кордове конца X в. элементы дворцового церемониала, заимствованные в Багдаде; возможно, что и в управлении воспроизводилось кое-что из аббасидской практики. Было бы, однако,
ошибкой полагать, что Багдаду подражали из-за того лишь восхищения: вероятно, преобладала все же забота о вящей эффективности правления. Следует помнить, что администрация ал-Андалуса развилась из форм позднего Омейядского халифата в Дамаске, когда слабость староарабской системы была уже обнаружена и наметился интерес к персидским методам. С течением времени, когда перед правителями ал-Андалуса возникли более серьезные проблемы, они не могли оставить без внимания практические преимущества багдадской системы. Информация об этом могла быть получена непосредственно из Багдада или через Кайруан, который до завоевания в 909 г. Фатимидами был столицей государства, частично зависящего от Багдада.
С висиготской традицией организация аппарата управления была почти не связана. Тесная связь в прошлом церковной иерархии с правителями, возможно, способствовала росту влияния законоведов-богословов в мусульманском государстве, но не она была главным источником этой тенденции. Как мы уже отмечали, главным моментом оставалось принятие эмирами и халифами в их отношениях с христианскими королевствами на севере квазифеодальных идей.
Глава пятая Достижения культуры при Омейядах
1. Духовная жизнь. Религиозные науки
Интеллектуальная активность мусульман всегда фокусировалась на праве или юриспруденции. Заметим, чтобы не вводить в заблуждение неподготовленного читателя, что мусульманская концепция права во многом отличается от каких-либо других. Основное значение слова шариа, обычно переводимого как «мусульманское право», — «то, что открыто богом». Следовательно, шариат в его современном смысле нельзя приравнять ни к одному из кодексов позитивного права. В Коране есть несколько определенных положений, вошедших в шариат, но их оказалось далеко не достаточно даже для удовлетворения потребностей мединского общества (еще при жизни Мухаммада), а не только для потребностей огромной империи. Тогда стали учитывать практику Мухаммада как главы мусульманской общины и практику его преемников. Самое любопытное, что при этом кроме лиц, ответственных за организацию юстиции как института, вопросами юриспруденции заинтересовалось — с теоретической точки зрения — множество людей. Видимо, причины этого интереса коренились в желании обеспечить мусульманской общине, основанной на «богооткровенном праве», полное соответствие этому праву[32].
Эта теоретическая и религиозная опека юристов (если подобный термин может быть применен к этим ранним мыслителям) проводилась ими без всякой прямой связи с правящим аппаратом. Такие правоведы могли быть судьями на службе у властей, могли быть и весьма критически настроены по отношению к этим властям, считая, что те отходят от «богооткровенного права». Так было, в частности, в Омейядском халифате в Дамаске (до 750 г.), что касается Аббасидов, то они старались считаться с мнением правоведов (во всяком случае, на словах). Разделение, существовавшее между законоведами и фактическими правителями, означало, что решения законоведов не вводились в практику автоматически, а лишь постольку, поскольку правители избирали их основой для своих действий. На деле законоведы обсуждали гораздо больше, чем правовые проблемы в современном смысле: их компетенция распространялась и на то, что мы назвали бы этикетом и обрядовыми формами. «Богооткровенное право» было в сущности «богооткровенным образом жизни».
Поначалу предполагалось, что дискуссии, происходившие в основном на уровне этики и являвшиеся одной из сторон повседневной практики мусульманской общины, будут оставаться неизменными и впредь. Однако к началу второго века хиджры (ок. 720 г.) стало ясно, что изменения уже проникают в традицию и что в разных частях мусульманского мира существуют различные варианты «истинно мухаммадовской» практики. С этого момента деятельность законоведов сосредоточилась на двух аспектах. Во-первых, им предстояло решать, соответствует ли каждое конкретное действие «богооткровенному праву», и, во-вторых, они должны были сформулировать основные концепции, или «корни», права тaк, чтобы те оправдывали все их частные решения. Считалось общепринятым, что «богооткровенное право» нашло выражение не только в Коране, но и в повседневной практике Мухаммада, так называемой сунне. Принято было также, что эта практика Мухаммада сообщается лишь в достаточно аутентичных преданиях — хадисах. Большинство законоведов придерживалось мнения, что частные определения могут быть выведены из Корана и хадисов путем логических умозаключений (таких, например, как суждение по аналогии), но было немало споров насчет того, к чему разрешается применять эти умозаключения. Иногда признавался также четвертый «корень» — мнение общины (иджма).
Между 800—900 гг. основные течения мысли по правовым вопросам были закреплены в школах или, скорее, голках — этот термин предпочтительнее, так как отражает различия в практике (а не в теоретических положениях). Некоторые из этих толков, например, захириты, отлично представленные в Испании, со временем прекратили существование. Среди суннитов, составлявших большинство мусульман, разрешенными считались четыре толка: ханифиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Для ал-Андалуса имел значение лишь маликитский толк. Название это произошло от имени Малик ибн Анас; Малик (ум. в 795 г.) принадлежал к мединской школе. Обычно считают, что сначала мусульманская Испания следовала за учением сирийского законоведа ал-Аузаи, а затем, около 800 г., официально перешла к маликитству. В общих чертах это верно, но некоторые уточнения все же необходимы.
Формально правосудием в ал-Андалусе распоряжался правитель, будь то наместник, эмир или халиф, но ом обычно перелагал ответственность на специально выделенных чиновников. Первоначально это были скорее политики, чем правоведы. Даже при Абд ар-Рахмане I еще не существовало сословия законоведов, хотя кое-кто изучал юриспруденцию в центральных землях мусульманского мира. Одним из таких лиц был Сасаа (ум. в 796 или 807 г.), учившийся в Сирии у ал-Аузаи (ум. в 773 г.), были и другие, вероятно еще до падения там Омейядов в 750 г. Поскольку ал-Аузаи был ведущим законоведом в омейядской столице, его взгляды, естественно, были определяющими для такой отдаленной провинции, как ал-Андалус, даже когда эта провинция стала независимым государством во главе с представителем рода Омейядов.
После 750 г. ал-Аузаи, поселившись в Бейруте, примирился, по крайней мере внешне, с аббасидским режимом, перестал поддерживать контакт с ведущими политическими деятелями и потерял былое влияние. Из ал-Андалуса к нему всё еще приезжали ученики[33], но они ездили и в Медину, и в другие города. Взгляды на основы юриспруденции, провозглашенные в Медине Маликом и некоторыми другими учеными, были схожи с воззрениями ал-Аузаи, несколько более разработанными[34]. И те и другие выглядели довольно примитивными по сравнению с учениями шафиитов и ханифитов в Ираке. При таком положении, возможно, не имело значения, придерживаются ли правоведы ал-Андалуса взглядов ал-Аузаи или Малика — в любом случае их взгляды не считались бы правителями совершенно авторитетными.
Ситуация, видимо, во многом изменилась, когда два молодых правоведа из Кайруана (один из них учился в Ираке) собрали и систематизировали большое число вопросов по частным проблемам права и в Каире записали ответы на них, данные одним из учеников Малика. Книги этих двух законоведов, содержавшие вопросы и ответы, легли в основу кодификации шариата по маликитским принципам и оказались весьма полезными для практических целей. Более ранняя на них была доставлена в ал-Андалус около 800 г. Исой ибн Динаром (ум. в 827 г.) и бербером Иахйей ибн Иахйа ал-Лайси (ум. в 847 г.). По-видимому, эмир ал Хакам I (796— 822) официально принял эту кодификацию маликитства, которое и стало с этого времени правовым толком в Испании. Его широко преподавали, и маликитские законоведы стали сплоченной группой[35]. В этот период, очевидно, не было дальнейших дискуссий по общим принципам правоведения, но все же наметилась некоторая активность в связи с разработкой частных положений и применением их к испанским условиям. Иса ибн Динар был автором 12-томного сочинения, но наиболее примечательным был труд несколько более позднего юриста ал-Утби (ум. в 899 г.), видимо дополнявший более ранние работы по кодификации.
Становление маликитства, таким образом, можно рассматривать как основную духовную деятельность в сфере религии в ал-Андалусе при Омейядах. Перед законоведением здесь стояли скорее практические, чем теоретические цели, местные правоведы были тесно связаны с маликитами Кайруана и других частей Северной Африки. Но тот факт, что Испания и Северная Африка отдали предпочтение маликитскому толку, нельзя назвать чистой случайностью. В Ираке, где развились халифитский и шафиитский толки, многие мусульмане были исконным местным населением и до того, как принять ислам, испытывали влияние эллинистической культуры. В Северной Африке и на Пиренейском полуострове носителями доминирующей духовной культуры были арабы — у берберов было мало своего, а иберийцы по все еще не выясненным причинам предпочитали арабскую культуру латинской культуре «исидоровского пробуждения». В соответствии с чисто арабским подходом к этому региону, к которому не примешивалась умозрительная заинтересованность в эллинизме, представлялось вполне естественным, что простой, истинно арабский маликитский толк подошел здесь более всего, что из маликитства наиболее предпочтительной была сочтена чисто практическая форма его, разработанная в Кайруане. Возможно также, что в этих периферийных районах (невольно напрашивается сравнение с формой, которую приняла британская культура в Канаде или, скажем, в Австралии) существовала тяга к опоре на ортодоксию, хотя трудно сказать, что считать в данном случае ортодоксией. Но какое бы значение ни вкладывать в нее, представляется, что определяющим было стремление к чему-то простому и практичному.
Обычно считают, что прочие официальные правовые толки не получили никакого распространения в Испании, но это не совсем так. Возможно, они не были легализованы и не представлены в судах, но, с другой стороны, Ибн Хазм (ум. в 1064 г.), оказывается, получил шафиитское образование в ал-Андалусе. Наиболее известным из тех, кому приписывались шафиитские взгляды, был Баки ибн Махлад (ум. в 889 г.). Как и большинство ведущих ученых ал-Андалуса того времени, он обучался в центральных мусульманских землях, но в отличие от других заинтересовался умозрительным аспектом правоведения и выведением из хадисов частных определений. Вернувшись, он то ли из-за своих общих взглядов, то ли из-за изучения хадисов вызвал враждебность маликитов, но ему удалось продолжить свою деятельность в Кордове под покровительством эмира Мухаммада I (852—886). Несомненно, что изучение хадисов, несмотря на хмурые взгляды строгих маликитов, пустило корни в Испании.
Почти столетием позже один из видных представителей правящих кругов ал-Андалуса прослыл захиритом — сторонником толка, к которому позднее принадлежал Ибн Хазм (сам толк впоследствии исчез). Это был ал-Мунзир ибн Сайд ал-Баллути, главный судья Кордовы с 950 до 965 г., когда он скончался в возрасте 82 лет. В случаях с ал-Мунзиром и ал-Баки идеи, противоречащие маликитским, должны были рассматриваться как частные мнения по второстепенным вопросам, и их воззрения не могли широко пропагандироваться. Следует отметить поддержку, которую они получали у правителей, — это, как и другие факты, свидетельствует, что стоявшие у власти еще не готовы были принять монополию маликитов.
В ал-Андалусе можно обнаружить незначительные следы и других течений мысли, существовавших в центральных землях. В сочинениях биографов, например, зафиксированы один или два человека, которые придерживались доктрин, обычно связываемых с мутазилитами — сектой философствующих теологов, получившей в первой половине X в. распространение в Ираке[36]. Писатель ал-Джахиз (ум. в 868 г.), которым с восхищением зачитывались в ал-Андалусе, был мутазилитом; возможно, что восхищение перед ним было данью мутазилизму. Но в целом мутазилизм не укрепился в ал-Андалусе.
Греческая философия наибольшее влияние оказала на Ибн Масарру (ум. в 931 г.): в его воззрениях, хотя и не слишком известных, обнаруживаются элементы взглядов Эмпедокла. Оппозиция ему со стороны маликитов Кордовы оказалась так сильна, что он вынужден был удалиться отшельником в близлежащую Сьерру, где, однако, смог обучать и воспитывать небольшое число учеников и, возможно, заложить основы андалусского мистицизма[37].
В основном же можно сказать, что до конца X в. наиболее частым предметом исследований была маликитская доктрина о «ветвях», или детализированных правовых предписаниях. Начало прочим «религиозным наукам» (удобно пользоваться таким переводом арабского слова улум — «знания», которое может также обозначать естественные науки) было положено изучением Корана и тафсиров (толкований) к нему. Существовали и иные взгляды по поводу «корней» права и по поводу теологии (калам), но вряд ли можно сказать, что они оформились в отдельные дисциплины. (Грамматика и лексикография, которые были необходимы для толкования Корана, изучались, но о них будет сказано далее.) Из иноземных наук (т.е. греческих) философия не практиковалась отдельно (кроме как у Ибн Масарры), но после 950 г. несколько продвинулось изучение медицины, а ал-Хакам II (961—976) поощрял астрономию и математику.
Кроме сочинений по маликитскому праву составлялись важные труды по истории и биографиям. Мусульманская историография уходила корнями отчасти в свойственный северным арабам интерес к генеалогии и достижениям своих племен, отчасти в иранскую (и в меньшей степени христианскую) историографическую традицию. Можно сказать, что в центральных землях она достигла зрелости примерно к 900 г. Культура ал-Андалуса все еще оставалась частью общемусульманской культуры, это подтверждает тот факт, что уроженец Испании Ариб (ум. в 980 г.) приобрел известность как продолжатель на период с 291 по 320 г. х. (904—932 гг.) истории Табари, величайшего арабского историка раннего периода. Другие исторические и биографические сочинения в Испании первоначально были посвящены исключительно местным темам. Первым, кто мог претендовать па звание историка, был Ахмад ар-Рази (ум. в 953 г.), чей труд лег в основу испанского варианта, известного как «Cronica del Моrо Rasis». Примерно в то же время был составлен биографический свод, включавший сведения об ученых Кордовы и других городов (ныне утерян). Однако сохранилась «История судей Кордовы», написанная поселившимся там ученым из Кайруана по имени ал-Хушани (ум. в 971 пли 981 г.)[38]. Этих немногочисленных деталей достаточно, чтобы показать, как с обретением при Абд ар-Рахмане III власти и богатства мусульмане ал-Андалуса почувствовали себя отдельной единицей в мусульманской общине и тем самым достигли уверенности в себе.
2. Духовная жизнь. Поэзия и проза
Когда с пришествием ислама и созданием империи арабы впервые ступили на мировую арену, ими уже были созданы прекрасные строки. Их поэты не были косноязычными новичками, вызванными к жизни только что обретенным величием, они владели сокровищницей звучных од. Каждая ода была написана в соответствии со сложившейся формой: обычно они начинались любовным вступлением, затем переходили к другим традиционным темам — описывали верблюдов или лошадей, сцены охоты или битвы, чтобы достичь кульминации в восхвалении какого-нибудь знатного героя или отважного племени. Условности и клише изобиловали в них: вначале поэт должен был как бы совершать путешествие по пустыне с одним или двумя приятелями, затем он натыкался на едва заметные следы стоянки, «подобные следам татуировки на запястье», в которых он узнавал «следы покинутой стоянки» своей возлюбленной. Эти оды были написаны изысканными метрами с единой рифмой. Все в них свидетельствовало об устоявшейся традиции, не подвергавшейся пересмотру до самого последнего времени.
Правда, жизнь мусульман-победителей не походила больше на жизнь кочевников пустыни. Пока их более изысканные побежденные высмеивали арабов как «верблюжатников» и «пожирателей ящериц», они, не откладывая в долгий ящик, восприняли персидские манеры и изучили греческую мысль, но, естественно, более медленно усваивали эстетические ценности, поскольку основанная на языческих легендах греческая литература их весьма мало интересовала. Напротив, в словесных битвах, столь распространенных между арабами и неарабами в период раннего мусульманства, предметом двойной гордости арабов, позволявшим им безбоязненно похваляться перед клеветниками, служило особое божественное откровение, ниспосланное их народу, и язык, на котором дано это откровение и без которого понимание сего чуда[39] было невозможно. С этим языком и была неразрывно связана доисламская поэзия. Наследственный консерватизм доисламской традиции, рожденный неизменностью жизни в пустыне, усилился поскольку он стал оплотом родовой гордости.
Конечно, в литературной практике происходили все же изменения, это было неизбежно. Второстепенные темы оды развились в независимые любовные песни или в винные песни. Описательная сила поэта пустыни, который с удивительной безличностью, подобно фотографу, фиксировал и родинку на девичьем лице, и помет газели на песчаных дюнах, обогатилась эмоциональным откликом на природу более щедрую, была перенесена на описание замков, кораблей и прочих творений рук человеческих. И действительно, конец VIII в., когда в Испании происходило становление Омейядского эмирата, для литературы восточных земель был периодом смелых новшеств. Абу Нувас (ум. в 813 г.) открыто высмеивал и пародировал традиционную оду, а Абу-л-Атахия (ум. в 826 г.) принес в придворную поэзию язык рынков. И все же, когда этот фонтан ослабел, для утоления жажды бесчисленных поколений арабоязычной интеллигенции осталось лишь традиционное питье только с одним сильным новым привкусом — риторическим украшательством. Признавалось превосходство древних авторов и лучшей школой для поэта считалось хорошенько выучить их оды, а потом подражать им. Композиция и метры стихотворений были традиционными. Даже круг тем был ограничен рутиной. От живого поэта ожидали увеличения изысканности выражения внутри традиционной рамки. Некоторые, подобно ал-Мутанабби на востоке (ум. в 965 г.), были столь талантливы, что их гений, не обегая условностей, прорывался сквозь этот заслон, пока критики весьма неуклюже пытались объяснить его величие средствами тех же условностей. Однако для большинства поэтов задача сводилась к шлифовке старых мотивов с едва заметными вариациями, перегрузке их изысканными сравнениями, смелыми гиперболами и пр. По словам А. Дж. Арберри:
«Как сарацинское искусство и архитектура отрицали вдохновение человеческим телом, неудержимо стремились к причудливым орнаментам, бесконечным изысканным вариациям, так и в арабской поэзии задачей ремесленника-творца было изобретать новые образчики мыслей и звуков внутри рамок традиции. Поэзия стала арабеской слов и значений»[40].
Как видно, это была поэзия для знатоков. Простой народ даже с развитием местных диалектов, отличающихся от классического языка, несомненно развлекался песнями и сказками на манер тех, из которых составлена «1001 ночь». Но интеллигенция не включала эти песни и сказки в понятие литературы. Единственной достойной изучения и записи считалась поэзия, в основном находившая себе приют во дворах больших и малых князей и им подобных. Судьба поэта зависела от обеспечения благосклонности богатого и влиятельного патрона, который либо награждал его за особо выдающиеся панегирики, либо брал к себе на службу. Если стихотворец обладал и другими способностями, поэзия могла открыть ему двери к высшим постам, но все же его положение оставалось подневольным. Он адресовал свое творчество не к безмолвным массам, которые так нуждались в обобщении своего опыта, а к элите, хорошо разбиравшейся в законах мастерства и готовой насладиться его произведениями или осудить их.
Таким образом, арабская поэзия, обусловленная стандартами узкого круга знатоков, которые превыше всего ставили литературную традицию и изысканность выражения, отличается своей преемственностью от поколения к поколению и однородностью, не зависящей от географического положения. Отражение местного колорита и изменений в культурной жизни приходится искать в незначительных деталях и в полутонах.
Арабская поэзия ал-Андалуса была в основном воспроизведением восточноарабской поэзии. Именно таким отпрыском она была в описываемый период. У Абд ар-Рахмана I было поместье, похожее на владения его дяди под Дамаском, оно было названо, как и то, ар-Русафа, и владелец описывал его в следующих строках:
Как бы ни были незначительны в литературном отношении эти строки, они ясно показывают, где находилась духовная родина ранних испанских поэтов.
Итак, у Абд ар-Рахмана и других арабских пришельцев в ал-Андалус уже была некая духовная платформа, предмет их гордости, а вытесненные ими висиготы не обладали культурными ценностями, столь значительными, чтобы они могли влиться в культуру завоевателей. Христианскому автору IX в. действительно оставалось лишь жаловаться на увлечение его единоверцев арабским языком и литературой, ради которых они пренебрегают латинскими текстами[42]. Для тех же, кто родился и вырос в арабской среде, вопрос о выборе вообще не стоял, так как, несмотря на политическое соперничество омейядской Испании с восточноарабскими землями, именно на восток страна обращалась за культурным руководством.
Андалусская литература не только возникла как ответвление восточноарабской литературы, но и продолжала черпать в ней силы, видоизменяясь с помощью восточных «прививок». Из Багдада в ал-Андалус прибыл певец Зирйаб (ум. в 857 г.), ученик, а затем соперник Исхака Мосульского. Он привез с собой юных учеников и девочек-рабынь, чтобы основать андалусскую школу музыки и пения, а заодно преподать и изящные манеры багдадского общества. Известный ученый Абу Али ал-Кали (ум. в 965 г.) также приехал из Багдада; он был встречен в ал-Андалусе с большим почетом и продиктовал здесь свой обширный труд «Амали». Это были не связанные между собой опусы, главным образом на лексикографические или грамматические темы, но, как этого требовала арабская традиция, уснащенные поэтическими цитатами, часто подсказанными (пусть даже подсознательно) собственными литературными пристрастиями ал-Кали. Этим вставкам суждено было оказать непредсказуемое влияние на последующие поколения андалусской интеллигенции. Произведения величайших восточноарабских поэтов за удивительно короткий срок достигали ал-Андалуса, изучались и имитировались местными поэтами. Хотя древняя поэзия там тоже изучалась, именно новое стремление к риторическим украшательствам нашло наиболее яркое отражение в творчестве андалусских поэтов.
Неудивительно, что ал-Андалус не создал сразу выдающегося поэта. Есть немало поэтов конца VIII в. или IX в., чьи имена и образцы сочинений сохранились, но они достигали лишь среднего уровня. Дело в том, что большинство из них были омейядскими князьями, и вниманием, которое уделяли им историки литературы и составители антологий, они обязаны своему происхождению. И только в конце омейядского периода, когда Кордова стала центром учености и двор проявлял должную благосклонность к людям таланта и науки, в ал-Андалусе родились два писателя, чьи имена запомнили надолго.
Ибн Абд-Раббихи (860—940), поэт, чьи любовные стихи не лишены обаяния, известен прежде всего своим литературным тезаурусом «Несравненное ожерелье» («Ал-икд ал-фарид»), остававшимся в течение многих веков популярным как на востоке, так и на западе халифата. За образец он взял труд, созданный на востоке Ибн Кутайбой (ум. в 889 г.) под названием «Источники историй» («Уйуп ал-ахбар»), материал он также брал в основном из восточноарабской поэзии (из андалусских стихов он цитирует лишь свои собственные). Ибн Абд-Раббихи принадлежит также урджуза в 450 строк (урджуза представляет собой метрическую композицию типа классической оды, но менее строгую: полустишия рассматриваются в ней как самостоятельные строки и рифмуются по строфам), посвященная военным подвигам Абд ар-Рахмана III, она заслуживает упоминания уже потому, что нарративные поэмы редко встречаются в арабской поэзии любого периода.
Несомненно самым выдающимся андалусским поэтом того времени был Ибн Хани (ум. и 973 г.), но обвинение в ереси заставило его покинуть Испанию в возрасте двадцати семи лет и искать счастья у Фатимидов. Его называли «западным ал-Мутанабби», что, однако, более свидетельствует о его положении среди андалусцев и о пристрастии к высокопарной нравоучительности, чем о таланте. Для его стиля показательно следующее описание поенных кораблей Фатимида ал-Муизза:
Это изобилие разрозненных образов, напоминающее несущийся с гор поток, характерно для стиля, распространенного во всех арабоязычных странах. С европейской точки зрения особенно странными здесь кажутся две черты. I. Фрагментарность: поэт не пытается построить целостный образ, вызвать единое настроение. Это явление в арабской поэзии наблюдается с самых ранних ее стадий, каждый замысел завершается в одной самостоятельной строчке. 2. Такое использование изобразительных средств приводит к тому, что они порой кажутся удивительно безжизненными и нейтральными, например огнедышащие корабли сравниваются со светильниками.
Луи Масиньону принадлежит поразительное наблюдение, что артистический темперамент в исламе стремится к «дереализации», к окаменелости объекта, так что метафоры следуют по нисходящей градации: человек сравнивается с животным, животное — с растением, растение — с самоцветом. По отношению к прошлому поэт не пытается возродить эмоции. Он воспринимает славу как средство информации, использует сны, тени, призраки, ибо идея мусульманского искусства такова: не следует идеализировать образы, надо идти за ними дальше, к Тому, кто приводит их в движение, как А волшебном фонаре, как в теневом театре, к Тому, кто живет вечно[44].
Как ни увлекателен подобный анализ, все-таки не всегда верно, что арабская метафора движется от живого к неживому. Представляется, что поэт скорее безразличен к тому, в какую сторону направлено это движение. Он довольствуется сопоставлением форм и красок, и единственное условие сравнения — сходство в каком-либо отношении. Например, отражение огня в воде сравнивается с пятном шафрана на человеческой коже без всяких сомнений по поводу разного круга ассоциаций, связанного с каждым образом.
Обе эти черты указывают на атомарность, заботу об отдельных деталях, глубоко заложенную в культурных традициях арабов, а быть может в самой их сущности, резко противоположную стремлению к единству деталей, выказываемому всеми европейскими литераторами со времен древней Греции.
В этом важном аспекте пока еще не было заметно никакой существенной разницы между поэтами ал-Андалуса и поэтами восточных земель. Вскоре ал-Андалусу предстояло превратиться в опору всей мусульманской духовной жизни к западу от Египта. Отношения с христианскими дворами к северу от Испании, с Византией, терпимость к еврейским ученым, которые стали в будущем переводчиками и посредниками, доступ к греческим и даже к некоторым латинским источникам — вот что дало ал-Андалусу возможность создать собственный культурный гибрид. Похоже даже, что смешанные браки с иберийцами и постоянный контакт с населением, большинство которого составляли христиане, в определенной степени окрашивали образ мыслей арабов, которые численно были в меньшинстве. Но это еще не отразилось на литературной продукции. Несколько сочинений, утерянных ныне, было, оказывается, посвящено андалусским литераторам, и это может служить свидетельством зарождавшейся «национальной» гордости. Но единственное, на что можно опереться, говорят о новых формах в поэзии, это мувашшах, создание которого приписывают либо Муххамаду ибн Муафе, либо Мухаммаду ибн Махмуду, оба жили в Кабре, близ Кордовы, в начале X в.
Что касается прозы, то распространение получила эпистола, применявшаяся в основном в официальной переписке. Как выяснилось, в ал-Андалусе было множество секретарей, престиж которых был довольно высок, это явствует из того факта, что о них были написаны три книги (но ни одна из них не сохранилась). Вероятно, и здесь андалусцы следовали за восточным халифатом: в официальной переписке предпочтение отдавалось лаконичности, но наряду с этим все больше развивалась склонность к рифме и словесным украшениям.
3. Искусство
Хотя обычно изучение искусства лежит за пределами поля деятельности историка, в отношении мусульманской Испании важно учесть выводы, к которым пришли специалисты-искусствоведы, поскольку развитие мусульманского (или мавританского) искусства дополняет литературную историю ал-Андалуса[45].
Период до 976 г. был временем формирования мавританского искусства, когда проявились его характерные черты, его дух, ставший его славой. Выдающимся произведением была Большая Мечеть в Кордове, строительство которой было начато при Абд ар-Рахмане I; она была расширена при Абд ар-Рахмане II, при ал-Хакаме II и (вскоре после 976 г.) при ал-Мансуре. Центральная часть здания была снесена после Реконкисты, чтобы освободить место кафедральному собору, но значительная часть постройки осталась такой же, как в конце X в.
Самая старая часть мечети неожиданно обнаруживает возникновение новой архитектурной традиции. Для нее не найдено пока никакого прототипа, хотя есть кое-какие реминисценции омейядских и сирийских построек. Широко используемая подковообразная арка, как теперь известно, была заимствована из висиготской архитектуры, но удвоенная арка, позволяющая увеличить высоту и, возможно, подсказанная римскими акведуками, представляла нечто новое. Вершиной художественных достижений обычно считают часть, пристроенную ал-Хакамом II, с ее более нарядными арками и изысканным декором, особенно вокруг михраба — ниши, указывающей направление на Мекку.
Следующим примечательным произведением искусства был город-дворец Мадинат аз-Захра. Хотя он был разрушен и покинут жителями с 1013 г., его недавно частично откопали (и кое-где реставрировали), так что можно представить себе, как он выглядел в тот период, когда был обитаемым. Город, несмотря на свое предназначение, не был чисто утилитарной постройкой, скорее он служил для первого халифа средством самовыражения. Были приложены все усилия, чтобы сделать его беспримерно прекрасным. Планировка и украшения стен выдержаны в римской и византийской традициях. Возможно, что для этого из Кордовы доставили скульпторов-византийцев. Ал-Хакаму II приписывают также приглашение византийских мозаистов.
Кроме величественных архитектурных памятников и некоторого количества укрепленных замков того же периода сохранились также различные мелкие предметы - утварь из мрамора и слоновой кости, дополнявшая работы по золоту и хрусталю (секрет которого был открыт в Кордове примерно в 850 г.). Добрая традиция обработки металлов была унаследована от висиготской Испании, но остальные ремесла были в основном развиты при мусульманах, отчасти на базе восточной технологии.
Мавританское искусство представляется слиянием западного с восточным, хотя в нем и трудно выявить отдельные элементы. Естественно, что используемые материалы и технология были те же, что при висиготах. Декоративные мотивы обнаруживают некоторое эллинистическое влияние, частично, конечно, пришедшее через висиготскую Испанию, но, возможно, завезенное и с эллинизованным искусством Сирии. Ведь искусство мусульманской Испании долго сохраняло черты омейядского искусства Сирии со всеми влияниями, которое оно испытало. Даже во времена Абд ар-Рахмана III новый минарет Кордовской мечети был квадратным в плане — как сирийские минареты, образцом для которых послужили церковные башни. Лишь в пристройке к мечети, осуществленной наследником Абд ар-Рахмана III — ал-Хакамом II, ясно чувствуется багдадское влияние,— и это был период, когда предпринимались определенные усилия, чтобы освоить духовную культуру центральных мусульманских земель.
Как же определить это слияние культур? В одном случае Анри Террас упоминает о «мусульманских одеждах испанского духа», но несколькими строками ниже он говорит, что «омейядская Испания при всей политической непрочности своего объединения обрела гораздо более глубокое единство взглядов и образа жизни»[46]. Подразумевается, следовательно, что цивилизация там была в первую очередь арабской и мусульманской. Так что же в ней испанское, а что арабское или мусульманское? Подъем духа для захвата Испании и для создания в ней Омейядского государства родился из энергии арабского народа, ведомого концепцией мусульманской религии. Но в мусульманскую общину вошли не только берберы, но и многие жители Пиренейского полуострова, и это объединение стало истинной интеграцией, «единством взглядов и образа жизни». Видимо, обе формулировки выражают один из аспектов истины.
4. Источники мавританской культуры
Приведенные выше размышления о мавританском искусстве следует дополнить рассмотрением сходных вопросов литературной и интеллектуальной жизни. Здесь обнаруживается различие между арабским и мусульманским элементами.
Как уже неоднократно говорилось выше, многое свидетельствует о том, что сначала доминировал арабский элемент. Это вполне естественно для государства, которое первично было провинцией Дамасского халифата, известного своим «арабофильством». Основной эстетической категорией для арабов был язык и поэзия, и тем или другим путем восхищение арабов собственным языком передалось другим обитателям полуострова, включая мосарабов. Результатом этого явился рост интереса к поэзии и филологии. Принятие маликитского правового толка также соответствовало чисто арабскому облику, более практическому, чем умозрительному.
Но существовало также и стремление принадлежать к великому мусульманскому миру-общине, поддерживать контакт со строго мусульманским развитием взглядов в центральных землях. Ведущие законоведы со всех концов Омейядского эмирата (или халифата) совершали «путешествие» на восток, чтобы посидеть у ног тамошних великих учителей. Как отмечалось выше, уже в 822 г. эстету Зирйабу был оказан теплый прием при кордовском дворе, и он оставался законодателем моды во многих областях вплоть до своей смерти в 857 г.
Однако наиболее важные шаги, чтобы поддержать литературную и культурную преемственность от Багдада, были предприняты в X в., сначала Абд ар-Рахманом III, но главным образом ал-Хакамом II. Поэзия и проза и до этого привлекали внимание правителей; так, антология Абу Таммама (ум. в 846 г.) и сочинение по риторике ал-Джахиза (ум. в 869 г.) были привезены в Испанию еще при Мухаммаде I (852—886) одним вернувшимся с востока ученым[47], а труды Ибн Кутайбы (ум. в 889 г.) стали известны к 910 г.[48] Но именно Абд ар-Рахман III приветствовал великого филолога ал-Кали в 941 г. Вероятно, в это же время и также при поощрении со стороны двора заканчивал свой труд по продолжению истории Табари Ариб. Даже фатимидская оккупация Кайруана была использована, чтобы привлечь в ал-Андалус суннитских ученых, оказавшихся не у дел при новом режиме.
Ал-Хакам II, проявлявший глубокий интерес к науке и библиографии, решил сделать халифскую библиотеку одной из самых обширных и богатых в мусульманском мире. Как сообщают, со временем она стала насчитывать более 400 тысяч томов. Он использовал историка Ариба как секретаря, хотя неизвестно, ведал ли тот делами библиотеки. В 963 г., в самом начале его правления, в Кордове поселился ученый с востока, специалист по тексту Корана[49] — предмету, получившему недавно в Ираке большое политическое значение[50]. Этот человек обладал познаниями и в шафиитской юриспруденции, но, как считалось, не мог воспользоваться ими из-за противодействия маликитов. Прибытие в ал-Андалус еще одного восточного специалиста по этому же предмету — как раз накануне кончины первого — показывает, каким образом могла существовать в стране традиция в различных отраслях «религиозных наук».
Приведенные выше замечания могут показаться противоречащими той точке зрения, что отличительные черты мусульманской культуры распространились в эмирате довольно рано. Однако тем более ясным становится, что это, начиная с основного культурного влияния, и составляло так называемое арабофильство. Только к середине X в. благодаря роскоши, распространившейся вслед за успехами первого халифа, решились жители ал-Андалуса позволить мусульманским наукам прочно укорениться в их среде. Предположение Э. Леви-Провансаля[51], что Абд ар-Рахман III культивировал византийский художественный стиль, чтобы ослабить свою зависимость от Багдада, безусловно ошибочно, так как именно в этот период ал-Андалус предпринимает наибольшие усилия, чтобы воссоздать на собственной почке суннитские духовные традиции восточноарабских земель.
Глава шестая. Крах арабского правления
1.Амиридская диктатура и ее падение
Халифы: Хишам II (976-1013)
прочие шесть Омейядов (1009-1031)
три Хаммудида (1016-1027)
Хаджибы: ал-Маисур (Ибн Аби Амир, 978-1002)
ал-Музаффар (Абд ал-Малик, 1002-1008)
ал-Мамун (Абд ар-Рахман, 1008-1009)
Когда в 976 г. ал-Хакам умер, трон унаследовал его сын Хишам II, двенадцати лет от роду. Некоторые влиятельные лица, правда, предпочитали младшего брата ал-Хакама, так как понимали, что регентство будет невыгодно для них, но Джафар ал-Мусхафи, министр, которому халиф вверил дела во время своей болезни, энергичными действиями обеспечил и права ребенка, и продолжение собственной власти.
Во время этих событий ал-Мусхафи оказал поддержку некий Ибн Аби Амир, тридцативосьмилетний представитель старинного арабского рода из-под Альхесираса. Ибн Аби Амир прибыл в Кордову изучать юриспруденцию и литературу и был назначен управляющим принцессы Субх — присматривать за имуществом и доходами ее сына Хишама, которого ал-Хакам считал своим наследником. Начав с этого весьма скромного положения, Ибн Аби Амир сумел с помощью хитрости и интриг довольно высоко подняться по лестнице гражданской службы, и к 976 г. его влияние стало важным фактором в обеспечении прав Хишама на трон, хотя его собственные притязания не были удовлетворены. Но он строил свои планы и расчеты со сверхъестественным проникновением в ход событий, с глубоким пониманием человеческой реакции на эти события — и между тем с полным хладнокровием, — пока в 978 г. при поддержке полководца Талиба, на дочери которого он был женат, не вытеснил ал-Мусхафи и не стал сам хаджибом.
Три последующих года он был занят укреплением собственной позиции. Обеспечить себе поддержку правоведов — такова была часть его политики. Заговор против халифа дал ему возможность уничтожить «мутазилитского» противника законоведов, который оказался замешан в нем. Чтобы снискать их дальнейшее благоволение, он собственной рукой переписал Коран, а многие еретические книги в библиотеке ал-Хакама II приказал изъять и сжечь[52]. Другой стороной его политики было сведение на нет всякой власти молодого халифа. Поощряя его чувственные излишества, хаджиб держал Хишама в стороне от всякой деятельности и контактов, которые могли бы подготовить его к самостоятельному управлению делами государства. Принцесса Субх, видя, что творится с ее сыном, преисполнилась горькой ненависти к прежнему покровителю (говорили, что он был также ее любовником), но все ее попытки легко парировались этим проницательным и честолюбивым политиком. Последний удар был нанесен в 981 г., когда хаджиб перевел свою администрацию из халифских дворцов Алкасар в Кордове и Мадинат аз-Зaxpa в новый, построенный им самим дворец, который он назвал ал-Мадина аз-Захира. Халиф был практически отрезан от всех контактов. Распространился слух, что он решил посвятить себя благочестию и передать нее дела государства Ибн Аби Амиру.
В том же 981 г. произошла ссора между Ибн Аби Амиром и его тестем Талибом. Талибу помогали христианские князья севера, но Ибн Абн Амир со свойственной ему предусмотрительностью призвал из Африки другого полководца с берберскими войсками и положился на него и на христианских наемников. Джунди (обладатели ленных поместий) были сгруппированы в особые соединения, а не по племенам, как прежде, что значительно ослабило их. Несмотря на помощь христиан, Талиб потерпел поражение и был убит. Ибн Аби Амир с триумфом вернулся в Кордову и принял титул ал-Мансур би-л-лах, т. е. «победоносный с божьей помощью», обычно сокращаемый до ал-Мансура (в романском диалекте — Almanzor). Он также получил (или взял сам) право быть упомянутым после халифа в хутбе на пятничной молитве — в знак того, что они были почти одного ранга. Со временем он обрел и другие знаки независимости, но был достаточно мудр, чтобы не претендовать на само халифское звание. Период с 981 г. до смерти сына ал-Мансура, ал-Музаффара, в 1008 г. справедливо может быть назван амиридской диктатурой; однако, хотя ал-Мансур был человеком властным н энергичным, его правление оказалось не более автократичным, чем любой другой мусульманский режим того времени.
«Царствование» ал-Мансура известно большой военной активностью, хотя письменных свидетельств тому весьма мало. Ему приписывают 57 победоносных походов. Результатом его деятельности явилось увеличение региона, прочно удерживаемого мусульманами, и укрепление отношений сюзеренитета с христианскими королевствами. Попытки христианских правителей порвать соглашение с ал-Мансуром жестоко пресекались. Большинство походов было направлено против Леона и Кастилии или против полунезависимых феодалов этого обширного района. Однако в 985 г. мусульмане вышли на Барселону, а в результате большого похода 997 г. были разграблены и разрушены церковь и святилище Сант-Яго (Св. Иакова) в Компостеле, на северо-западе полуострова. Только сама гробница святого осталась нетронутой. Руководило ли ал-Мансуром суеверие? Во всяком случае, это исключение позволяло позднее христианам заявлять, что святой оказался слишком силен для мусульман[53]. Однако, когда в 1000 г. несколько христианских правителей под угрозой краха объединились, чтобы дать отпор мусульманам, это привело их к еще более серьезной катастрофе. В последние годы ал-Мансура мусульманская военная власть доминировала вплоть до Пиренеев. Активность и напор ал-Андалуса в этот период были столь велики, что он распространял свое влияние на Северную Африку и в 998 г. сын ал-Мансура, будущий ал-Музаффар, обосновался в Фесе почти как вице-король.
Когда в 1002 г. ал-Мансур умер, вероятно истощенный волнениями своей напряженной карьеры, его сын Абд ал-Малик не испытал никаких трудностей при занятии отцовского поста, получив от Хишама II рукоположение на власть. В течение шести лет его «царствования» мусульмане сохраняли на севере свое господствующее положение по отношению к христианским королевствам, хотя трудности возрастали. Приходилось сохранять постоянную военную активность. После успешного похода 1007 г. халиф пожаловал Абд ал-Малику почетный титул «ал-Музаффар» («Победоносный»), но менее чем год спустя этот правитель ал-Апдалуса умер при загадочных обстоятельствах. Он зарекомендовал себя если и не равным отцу, то все же весьма умелым администратором и первоклассным военачальником.
Может быть, промежуток с 1008 по 1031 г. был самым трагическим периодом в истории. С вершины богатства, могущества и культуры ал-Андалус полетел в пропасть гражданской войны. В стране не осталось центральной власти, которая была бы способна поддерживать порядок. Всюду царила неразбериха. То там, то здесь появлялись вожди, каждый с кучкой сторонников, пытавшиеся утвердиться в центре, но друг за другом терпевшие неудачу. Некоторым удавалось продержаться всего один-два месяца, больше двух-трех лет не управлял никто. Номинально (а часто и фактически) руководители попыток восстановить центральную власть претендовали на сан халифа. Кроме Хишама II, который был вынужден отречься в 1009 г., но вновь вернулся к власти в 1010 г., халифат в этот период возглавляли тесть членов рода Омейядов да еще трое из наполовину берберского рода Хаммудидов. Этот фарс закончился в I0.il г., когда совет министров, собравшийся в Кордове, постановил отказаться от халифата и провозгласил власть государственного совета. Конечно, этот совет правил только районом Кордовы.
Начало горестному ряду событий положил младший брат ал-Музаффара, ставший его преемником. Он быстро восстановил против себя народ Кордовы, пытаясь убедить халифа объявить его наследником трона. Когда хаджиб был на севере, халифа свергли и на его место посадили другого Омейяда. Но молодой Амирид и тут оказался не на высоте: он не сумел удержать в повиновении собственную армию и вскоре погиб. Немногим позже и новый халиф растерял прежних сторонников, и пришла очередь группы берберских военачальников захватить власть для своего омейядского кандидата на трон. Затем объявилась группа славян (сакалиба), большей частью гражданских чиновников и солдат-наемников, тоже со своим кандидатом. Так и пошло. Здесь невозможно перечислить все детали, отметим лишь, что три основные группы представляли жители Кордовы, берберы и сакалиба.
К 1031 г. тридцать городов разной величины обзавелись более или менее независимыми правителями. Таково было положение дел в государстве, послужившее причиной тому, что период с 1031 г. (или с 1009 г.) получил известность как эпоха «удельных князьков», или reyes de taifas (араб, мулук ат-таваиф)[54].
2. Причины краха
Хотя крах халифата занимает центральное место в истории мусульманской Испании, причины его до сих пор не были тщательно изучены. То, что будет сказано ниже, также носит лишь предварительный характер.
Самым очевидным фактом, кроющимся за катастрофой, был так называемый партикуляризм, как местный, так и родовой. Возможно, тенденциям к превращению каждой области в независимую политическую единицу способствовали трудности связи между ними, обусловленные горным рельефом. Подлинная власть находилась в руках местных правителей, и центральному правительству, чтобы их контролировать, приходилось не щадить сил. Расовое смешение также примерно с середины X в. стало превращаться в проблему. Можно считать, что к тому времени инородные элементы, попавшие в страну в VIII в., были широко ассимилированы. Даже там, где невелико было физическое смешение, существовала, видимо, культурная общность. Но в X в. для страны стал обычным ввоз большого количества рабов с севера и с востока Европы, известных как сакалиба («славяне»), которых использовали для военной и гражданской службы. Их предводитель получил значительное влияние. Вдобавок ал-Мансур при своем продвижении к власти привел из Африки новые контингента берберов, взгляды которых отличались от точки зрения берберов, давно живущих в ал-Андалусе. Все эти факты говорят об усилении расового разделения.
Однако при всей ясности общего положения непонятно, почему же именно к началу XI в. стало так трудно поддерживать единство в стране. Даже если признать, что некоторые из претендентов на центральную власть не способны были справиться с ней — не все же они были неспособными. А если все — не изменился ли сам характер народа? Мы знаем, что при Абд ар-Рахмане III очень сильно возросло богатство, возможно, что основная масса населения стала настолько меркантильной в своих взглядах, что мало кто оказался способен на жертвы во имя единства. Меркантильный подход к делу лидеров, или их сторонников, или тех и других, весьма вероятно, был одним из факторов, приведших к краху.
Другие соображения подсказывает сравнение со сходной ситуацией в Багдаде. Там власть неоднократно ускользала от халифа и в 945 г. окончательно перешла к одному из семейств военачальников, однако ни им, ни их преемникам не удавалось в полной мере контролировать весь халифат. Хотя там крах никогда не был столь полным, как в ал-Андалусе, и за ним последовало частичное восстановление былого положения, в событиях здесь есть что-то общее и с амиридской «диктатурой», и с утратой единства в стране. Тогда, может быть, существовал какой-то изначальный дефект — то ли в мусульманской цивилизации, то ли во всей средневековой структуре общества? В этой связи особенно существенными представляются два момента: несостоятельность исламских идей применительно к тому времени и отсутствие сплоченных средних слоев, заинтересованных к сохранении сильной центральной власти.
По поводу первого из этих соображений следует заметить, что ислам, хоть его и называют политической религией, был не так уже удачлив в политических идеях[55]. При жизни Мухаммада дела шли неплохо, потому что ему удалось приспособить существующие идеи к потребностям его растущей общины. Но ведь он и его непосредственные преемники были ограничены политическими концепциями, связанными с арабским племенем. II некоторых отношениях эти концепции оказались способными к плодотворному развитию, а именно в отношении к мусульманской общине как к некоему племени, а к общине немусульманской — как к подчиненному племени. Но для огромной империи одних этих идей было недостаточно, и мусульманские правители неизбежно пришли к заимствованию персидских методов управления государством: дамасские Омейяды делали это осторожно, а Аббасиды, отбросив всякую осмотрительность.
Некоторые из персидских идей нашли применение и и Испании. Как уже говорилось, в Испании особо примечательным было восприятие некоторых феодальных концепций Западной Европы. Когда мусульманские правители изъявляли готовность принять под свой сюзеренитет (с правом местной автономии) христианских принцев, думали ли они, что действуют по образцу Мухаммада в отношении к подчиненным общинам, просто не замечая разницы? Или они понимали эту разницу, но пришли к счастливому решению избрать местную практику? Если принять последний вариант, значит ли это, что мусульманская религия была менее эффективной, чем христианская, для обеспечения отношений между человеком и его сеньором (даже если и христианство в этом смысле было далеко от совершенства)? Из-за того что политические идеи, в соответствии с которыми действовали мусульмане, не были тесно связаны с основополагающими идеями ислама как религии, политическая деятельность не получала от религии особого одобрения и, следовательно, людьми руководили прежде всего собственные интересы или raison d'etat. Иными словами, главной задачей всякого режима становилось поддержание собственной прочности, а не забота о благоденствии подданных.
Рассуждения относительно идей феодального типа больше подходят для дискуссии о том, почему мусульманам не удалось расширить свои владения на Пиренейском полуострове или хотя бы удержать то, чем они владели. Но эти идеи оказывали влияние и на другие вопросы, в частности на военную политику. Причиной появления всё новых берберских и славянских иммигрантов была необходимость держать под контролем христианских принцев и распространять свое влияние в Северной Африке. Но была ли эта политика истинно исламской, т. е. направленной на сохранение некоего политического организма, внутри которого люди могли бы свободно славить бога и готовить себя к Страшному суду? Правители ал-Андалуса, конечно, говорили о «священной войне», но не было ли это просто способом поднимать боевой дух войск? Связь политики и религии никогда не была простым делом. Политика ведь обладает автономией, и политической деятельностью руководят политические же соображения. Однако по временам в мусульманском мире политика полностью выводилась из религиозных идей, так было и в некоторые весьма удачные периоды. И все-таки кое-где, как, например, в ал-Андалусе, политика вырывалась из религиозных рамок. Весьма любопытно было бы установить, насколько это связано с политическими неудачами.
Вторым моментом, который нуждается в обсуждении, является отсутствие средних слоев, заинтересованных в сильном центральном правительстве; здесь также весьма существенны некоторые из только что упомянутых вопросов. Проблема классовой структуры средневекового востока отнюдь не проста. Грубо говоря, там, кажется, было только два класса: высший и низший. Низший состоял из городской и сельской бедноты, высший - из правителей, чиновников, крупных землевладельцев (часто даже государственных чиновников) и, возможно, крупных купцов. Интеллигенция, представленная главным образом законоведами-суннитами, стояла в стороне, но постепенно все больше попадала в зависимость от правителей. Интеллигенция пользовалась некоторым влиянием на городские массы — в пределах осуществления своих функций по охране основ ислама, но во всем остальном политически активным и влиятельным был только высший класс.
Однако представляется, что увеличение богатства страны (будь то в ал-Андалусе или в Ираке) лишь способствовало дроблению высшего класса на группы и клики, каждая из которых старалась увеличить собственные материальные преимущества за счет других. На всю историю ислама высший класс редко находил в религии свои первичные побуждения; что касается нерелигиозных побуждений, то они были весьма сильны в ал-Андалусе конца X в. В то время как стоящие у власти готовы были использовать религиозные идеи (такие, как «священная война»), чтобы побудить массы к еще большим усилиям, прочие члены того же класса, вероятно, представляли себе вполне ясно, что это эксплуатация идеи. Экспансионистская военная политика Дмиридов несомненно рассматривалась соперничающими кликами не как средство удержать контроль над христианскими принцами, а как способ увеличить их, Дмиридов, власть и славу. Таким образом, эта политика не пользовалась поддержкой среди высшего класса; кое-что из этого отношения могло просочиться и в низшие слои общества. И при всех обстоятельствах рост роскоши отбивал у многих охоту подвергать себя неудобствам и опасностям военной жизни.
Одной из причин некоторых трудностей, неизбежных в подобных условиях, была неразвитость религиозных обоснований функции высшего класса в мусульманской общине. Существовала какая-то идея об особом месте имама, т. е. вождя, но практически его и рядового мусульманина ничего не связывало. Следствием этого на практике явилось то, что отношения между халифом и высшим классом складывались не на основе какой-либо религиозной идеи, но на базе весьма эгоистического интереса. Ничто не воспитывало в представителях высшего класса мысль о лояльности по отношению к центральному правительству как об основополагающем принципе общины. Если они противостояли власть имущим, то лишь из эгоистических соображений, в надежде увеличить собственную власть. У более зажиточной части низших классов также не было оснований стараться ради сохранения существующей структуры общества. Массы можно было вдохновить религиозными идеями на энергичные действия, такие, как оппозиция еретическим новшествам, но эти идеи ничуть не соответствовали обстоятельствам того времени, и применение их было лишь приспособленчеством.
Возможно, что в ал-Андалусе также за суннитским фасадом скрывалось чуть ли не шиитское уважение к личности праведного имама. Это вполне согласовывалось бы со взглядами народов Северной Африки. Видимо, этот момент был весьма существенным, что подтверждается сообщениями о смятении, вызванном известием о претензиях ал-Мансура (который, разумеется, не был кровным родичем семьи пророка) на халифский трон.
Таковы некоторые факторы, действовавшие в ал-Андалусе накануне краха халифата и падения центрального правительства. Прежде чем вынести им окончательную оценку, следует продолжить изучение вопроса.
3. «Удельные князьки» (1009—1091)[56]
Хотя какое-то подобие халифата сохранялось до 1031 г., развал единства ал-Андалуса начался в 1009 г. Поскольку центральное правительство потеряло контроль над страной, местным правителям или другим лидерам пришлось взять власть в свои руки. Для пограничных областей, т. е. марок, разница была не так уж велика — там и прежде власть была сосредоточена в руках местных военачальников. Таким образом, политические единицы скромных размеров со столицами в Вадахосе, Толедо и Сарагосе продолжали существовать в Нижней, Средней и Верхней марках. В остальной части страны ситуация складывалась по-другому, и уже в начале XI в. на южном и восточном побережье и поблизости располагалось до тридцати отдельных политических единиц. Некоторые недолго оставались независимыми. Между этими государствами и внутри них постоянно возникали интриги и военные столкновения. Правитель зачастую не верил своему первому министру, но все же вынужден был полагаться на него, члены семьи правителя то и дело устраивали заговоры с целью его свержения и замены[57]. Вследствие этого политическая история того времени представляет собой путаную и противоречивую массу мелких событий.
Местные «партии» (taifas, тава'иф), откуда пошли «удельные князьки», образовались из трех основных этнических групп: берберов, сакалиба и андалусцев — последние включали в себя всех мусульман арабского и иберийского происхождения (и, возможно, потомков первых берберских поселенцев), которые теперь настолько перемешались, что арабы не считались отдельной «партией». В каждом районе преобладала какая-нибудь одна «партия», она и правила прежде всего в собственных интересах, ничуть не заботясь о благополучии остального населения. Таким образом даже в малых государствах, на которые распалась Испания, отсутствовало единство.
Берберы контролировали южное побережье от Гвадалквивира до Гранады. Одной из заметных династий были Хаммудиды, до 1031 г. они выдвинули трех претендентов на халифский престол, а в Малаге и Альхесирасе они правили еще во второй половине XI в. Еще более сильной была династия Зиридов в Гранаде, в начале второй половины XI в. присоединившая к своим владениям Малагу. Примерно в это же время Альхесирас и мелкие города между ним и Гвадалквивиром отошли под контроль Севильи. Сакалиба после падения центрального правительства продвигались в основном на восток, некоторые их представители захватили власть и таких городах, как Альмерия, Валенсия и Тортоса, но династий, подобно берберам, они не сформировали.
Среди «андалусцев» самой сильной была династия Аббадидов в Севилье. Основатель ее, кадий Мухаммад ибн Аббад, удерживал власть с 1013 по 1042 г. Его сменили сын и внук, обычно известные под их почетными титулами: ал-Мутадид (1042—1068) и ал-Мутамид (1068—1091). Ал-Мутадид сильно расширил свое маленькое королевство на запад и юго-запад и начал борьбу с Кордовой и Гранадой на востоке. Кордова в конце концов была включена в королевство ал-Мутамидом. Несмотря на политические неурядицы, при «удельных князьках» процветали искусство и литература — поскольку каждый малый правитель по мере своих сил и возможностей имитировал величие бывшего халифского двора. Севильский двор при ал-Мутадиде и ал-Мутамиде был бесспорно самым блестящим в Испании[58].
Кордова после падения Амиридов в 1009 г. стала главной ареной борьбы за халифский трон. В ходе этой борьбы ее безжалостно разграбили в 1013 г. В 1031 г. Джахвар, человек, взявший на себя ответственность за отмену халифата, фактически получил после этого верховную власть, хотя он и настаивал на том, что власть якобы принадлежит совету. За ним последовали его сын и внук, и иногда их называют династией Джахваридов[59]. Как уже упоминалось, Кордова после недолгого подчинения Толедо отошла к владениям Севильи.
Дезинтеграция ал-Андалуса, конечно, предоставляла счастливую возможность христианским принцам на севере, и они, несмотря на взаимные распри, этой возможности не упустили. Вместо того чтобы платить дань халифу, они теперь сами требовали дань с «удельных князьков». Сначала пришел черед правителей марок - Бадахоса, Толедо и Сарагосы, они первыми были низведены до этого уровня. Самому энергичному из христианских правителей, Алфонсо VI из Леона и Кастилии (1065—1109) даже удалось взимать дань со сравнительно сильного королевства Севильи. Удельное княжество Толедо, самое слабое среди марок, сдалось Алфонсо в 1085 г. Это было важной датой Реконкисты, с тех пор Толедо никогда уже не попадал под власть мусульман. Интересно, однако, представить себе, насколько осознаны были действия Алфонсо: что в них было от борьбы христиан против мусульман и что — просто стремлением усилить и увеличить собственное королевство. Выше было (высказано предположение, что испанские христиане И арабо-иберийские мусульмане (которых мы называли андалусцами) чувствовали себя единым народом. Одним из факторов в поддержку этого предположения является восприятие мусульманами «феодальных идей» (см. предшествующий раздел). Другим примером может служить карьера Сида. Имя это представляет собой арабский титул (сайид, или сид, т. е. «повелитель»), применявшийся par excellence к Родриго Диас де Вивару, кастильскому аристократу, который около 1081 г., после ссоры с Алфонсо VI, предложил свои услуги мусульманскому правителю Сарагосы, а кончил жизнь независимым правителем Валенсии. Несмотря на тесные связи с мусульманами, он был признан христианами Испании воплощением мужества[60].
Падение Толедо и общее угрожающее положение заставили ал-Мутамида Севильского искать помощи у правителя могущественного государства Алморавидов в Северной Африке Иусуфа ибн Ташуфина (Ташфин). Йусуф переправился с армией через пролив и разбил Алфонсо VI при аз-Заллаке (около Бадахоса) в 1086 г., после чего он и его люди вернулись в Африку. Но угрожающая для мусульман ситуация осталась, Йусуфа вновь призвали, и он прибыл в 1088 г. Эта кампания проходила не так гладко, как он рассчитывал, и тогда под влиянием маликитских правоведов ал-Андалуса он вознамерился не только выполнять весьма ограниченную задачу, возложенную на него теми, кто его пригласил, но и предпринять на свой страх и риск решительную попытку вернуть достояние ислама. В конце 1090 г. он двинулся вперед, тесня мусульманских правителей, и в течение 1091 г. овладел Кордовой и Севильей. Это можно считать началом алморавидского периода.
Глава седьмая. Берберская империя Алморавидов
1. Основание Алморавидского государства
Государство в Северной Африке, к которому в 1085 г. обратились взоры испанских мусульман, после падения Толедо достигло обширных размеров менее чем за гюлвека. Оно включало в себя не только все Марокко и Мавританию, но также бассейн реки Сенегал (на юге) и западную часть Алжира (на востоке). О религиозном движении алморавидов в истории сохранились лишь скудные сведения, которые не проясняют причин их быстрого успеха. Это одна из тех проблем, которые заслуживают более подробного рассмотрения[61].
Это движение возникло в группе скотоводческих кочевых берберских племен, известных под общим именем санхаджа. Их родиной были степи Сахары, но некоторые из них сместились к югу, до бассейна Сенегала и до верхнего Нигера. Они стали предками современных туарегов, и возможно, что само слово «Сенегал» происходит из их племенного названия (в его диалектальном варианте — санага). История движения начинается с паломничества в Мекку, совершенного несколькими знатными представителями санхаджа и возглавляемого Иахйей ибн Ибрахимом. На обратном пути они задержались в Кайруане, который был тогда интеллектуальным центром всей Северной Африки (не считая Египта). Большое впечатление на них произвело учение кайруанского правоведа маликитского толка Абу Имрана ал-Фаси2, который, видимо, умер вскоре после их отъезда. Он понял, как приезжие и их соплеменники нуждаются в просвещении, и помог склонить одного своего ученика, чтобы тот сопровождал их в качестве наставника. Этим наставником оказался Ибн Йасин (т. е. Абдаллах ибн Йасин ал-Джазули), произошло это в апреле 1039 г.
Та часть племени санхаджа, к которой принадлежал Йахиа ибн Ибрахим, однако, не приняла учения Ибн Йасина, и он вместе с несколькими учениками из другой ветви племени удалился на остров на реке Нигер, где, как сообщают, предался благочестию и богословию. Но не надо впадать в заблуждение, подсказываемое европейским подходом: при явной склонности к мистицизму и аскетизму эти люди зарекомендовали себя как отважные и стойкие воины. Арабы называют обитель, подобную той, где пребывал Ибн Йасин, рибат, отсюда пошло и обычное название движения Ибн Йасина — ал-мура-битун (т. е. «живущие в обители»), которое, претерпев искажения в европейских языках, превратилось в алморавидское. Приведенные факты показывают, что сапхаджа привлекло в первую очередь не само маликитское право, а связанное с ним мистическое учение. Здесь следует отметить также, что человек, первым так взволновавший санхаджа, Абу Имран ал-Фаси, более поздними суфиями-мистиками рассматривался как святой.
Около 1055 г. алморавидская армия начала экспансию, завоевав маленькое государство с оазисом в Сиджилмасе. Военными действиями руководил Йахья ибн Омар, но признанным духовным главой был Ибн Йасин. Когда Йахью примерно через год убили, Ибн Йасин присмотрел за тем, чтобы ему наследовал брат Абу Бакр ибн Омар. Сам Ибн Йасин был убит в 1058 г., и Абу Бакр возглавлял движение до своей смерти в 1087 г. Теперь успехи следовали один за другим, и в 1061 г. Абу Бакр передал своему двоюродному брату Йусуфу ибн Ташуфину полунезависимую власть над северными областями, сам сосредоточив внимание на юге. Из новой столицы Марракеша (Марракуш) Йусуф ибн Гашуфин распространил власть Алморавидов на плодородные земли Марокко и западной части современного Алжира.
Эта экспансия Алморавидов, как и рост их власти, частично объясняется раздробленностью покоренных областей, которые в этот период были разделены на множество мелких государств. Однако именно сочетание Алморавидами религиозных и политических целей дало им силы добиться некоего подобия единства племен санхаджа. Империи, выраставшие почти из ничего, были не таким уж редким явлением в кочевой жизни — сразу же возникает сравнение с религиозно-политическим движением в Аравии при Мухаммаде. Но тут же всплывают и многочисленные различия между этими двумя движениями. Одно из этих различий состоит в том, что перед Алморавидами была уже сложившаяся правовая система и они действовали по возможности в соответствии с указаниями маликитских юристов. Другим существенным моментом был тот факт, что они признавали себя частью большей единицы, объявив о своей лояльности по отношению к аббасидским халифам в Багдаде.
2. Алморавиды в Испании
Иусуф ибн Ташуфин ([1090]—1106)
Али ибн Иусуф (1106—1143)
Ташуфин ибн Али (1143—1145)
Только безнадежное положение, в котором они оказались после падения Толедо в 1085 г., вынудило ал-Мугамида Севильского и других правителей ал-Андалуса пригласить Йусуфа ибн Ташуфина в Испанию. Прежде чем заключить с ним окончательное соглашение, они оговорили его возвращение в Африку после ожидаемого поражения христиан. Приняв в принципе эти условия, он выдвинул некоторые свои. Альхесирас был в конце концов отдан ему в качестве базы, и в конце лета 1086 г. он со своими войсками выступил навстречу армии Алфонсо VI. Войска сошлись при аз-Заллаке близ Бадахоса, и мусульмане одержали полную победу: оставшиеся в живых христиане бежали в беспорядке. Йусуф и его люди в соответствии с договором вернулись в Африку.
Однако, хоть битва при аз-Заллаке и охладила пыл Алфонсо, она не изменила положения в Испании. В силу своей разобщенности (а возможно и по другим причинам) мусульмане не могли противостоять христианам. Восточное побережье от Валенсии до Лорки все еще оставалось под контролем Алфонсо; в сильной крепости Аледо (между Лоркой и Мурсией) стоял кастильский гарнизон, и власть христиан в этом районе продолжала расти. Маликитские правоведы вместе с ал-Мутамидом и другими князьями вновь обратились к Йусуфу. Вероятно, Йусуф и его вояки, отведав роскоши ал-Андалуса, и сами не прочь были вернуться. Кроме того, они верили, что способствуют делу ислама, борясь с его врагами. Итак, весной 1090 г. алморавидские войска вторично высадились в Альхесирасе и Йусуф повел их вместе с отрядами андалусцев против крепости Аледо. Осада затянулась на несколько месяцев.
Когда прибыл Алфонсо VI с подкреплением, Йусуф отступил к Лорке, но Алфонсо счел, что отстоять крепость все равно не удастся, и сровнял ее с землей. Таким образом Йусуф получил важное преимущество.
За время осады Йусуф разобрался в политической ситуации в Испании. Он понял, что в большинстве мелких государств дела вершит арабо-андалусская аристократия, которая, исповедуя ислам, не слишком привержена религии, а больше занята поэзией, литературой и искусством. Вместе с тем он осознал, что с ним — поддержка простых людей и маликитских законоведов. И если сначала и подразумевалось, что он, поставив на ноги испанских мусульман, вернется назад, в Африку, то в конце 1090 г. такой вариант уже не устраивал его. Аристократы, стоявшие у власти в мелких княжествах и королевствах, были слишком заняты взаимными подозрениями, чтобы сопротивляться Алфонсо. Интересы мусульманства призвали Йусуфа объединить ал-Андалус под своей властью. К этому решению он склонялся как под давлением собственного честолюбия, так и под воздействием всего экспансионистского комплекса алмораидской политики, высшим выразителем которой он отныне становился.
Придя к решению, Йусуф не терял больше времени. К концу 1090 г. он без боя занял Гранаду. В марте 1091 г. ему сдалась Кордова, вскоре после этого он начал осаду Севильи, которая закончилась к сентябрю сдачей города вместе с ал-Мутамидом. Под его контроль перешло также много более мелких городов. Таким образом весь юг Испании был присоединен к империи Алморавидов, а как только представилась возможность, власть ее стала распространяться и на север. Наиболее важными вехами были захват Бадахоса в 1094 г., Валенсии в 1102 г. и Сарагосы в 1110 г. Сид, правитель Валенсии, умер в 1099 г., но его вдова отстаивала независимость еще несколько лет. Падение Валенсии и других малых государств свидетельствует о большом военном превосходстве Алморавидов над Алфонсо. Вместе с тем Алморавиды не были столь сильны, чтобы захватить территорию, которая была действительно занята христианами, стремившимися заселить пустующие земли мосарабами — христианами из ал-Андалуса. В частности, Алморавидам так и не удалось отвоевать Толедо.
Власть этой берберской династии недолго продержалась в зените. Военачальники, высшие и низшие, так же как и рядовые воины, преисполнились восхищения культурой и роскошью жизни в ал-Андалусе, значительно превосходившими все, что они видели в североафриканских городах, не говоря уж об их родных степях. Это восхищение вело если не к разложению, то, во всяком случае, к ослаблению морального духа. Всех стали занимать прежде всего собственные интересы, и старшие военачальники потеряли контроль над своими подчиненными. Сам аппарат власти перестал быть сплоченным. Финансовые трудности вместе с вызывающим поведением берберских пришельцев привели к неприязни со стороны простого народа, неприязни, которой оказалось достаточно, чтобы изменить судьбу этого режима.
Спад начался в 1118 г. сдачей Сарагосы Алфонсо I Арагонскому (по прозвищу Батальядор — «Воитель»), этой неудаче способствовало вероломство большей части населения. Тому же христианскому королю удалось в 1125—1126 гг. совершить несколько походов далеко на юг страны и увести с собой немало мосарабов для поселения на вновь приобретенных христианских землях севера. Подобный же поход на юг осуществил в 1133 г. Алфонсо VII Кастильский. Все растущее недовольство простого народа привело к восстаниям 1144 и 1145 гг., с которыми окончилось алморавидское правление в Испании.
В оценке алморавидской Испании среди ученых нет общего мнения. До сих пор сохранила сторонников концепция Дози, согласно которой Йусуф ибн Ташуфин и его военачальники выступают полуварварами, а маликитские правоведы — узколобыми фанатиками, что и привело к смене блестящей и величавой культуры ал-Андалуса мрачным временем, когда поэты и писатели лишены были возможности свободного творчества. Ряд фактов подтверждает эту точку зрения, но в целом она представляется односторонней[62], хотя весь этот период требует еще дальнейшего изучения. Во-первых, здесь можно обнаружить элементы «классовой войны». Господствующий класс предшествующего периода, который мы назвали арабо-андалусской аристократией, уступил власть алморавидской династии, объединившейся с маликитскими правоведами и поддерживаемой простым народом (видимо, поначалу массы были более довольны ими, чем удельными правителями). Но ведь наши сведения об алморавидском правлении получены в основном от представителей бывшего господствующего класса, того самого класса, жизнь которого изменилась к худшему. И тем не менее, хотя некоторым поэтам трудит стало майти себе покровителей, декоративные искусства расцвели еще больше, а также и чисто народные песни и поэтические формы.
Как мы далее увидим, именно в алморавидский период испанские мусульмане впервые осознали отличительный характер своей религии и религиозной общины. До этого времени ислам в Испании часто (почти всегда) был формальной, официальной религией, принимаемой как должное, но без пылкого энтузиазма. Теперь же он стал для многих предметом глубокого внутреннего убеждения. Несомненно именно это усиление значимости ислама привело к тому, что правоведы стали затруднять жизнь местных иудеев и христиан. Возможно, что это новое осознание ислама было ответом на растущее самосознание христиан. Подобная же оппозиция, возможно, возникала и в литературе, в поэзии, поскольку они были светскими, испанскими и недостаточно мусульманскими. Вся обширная область общей культуры была поделена между христианской и арабо-андалусской аристократией. Одним из подтверждений этому служит готовность мусульман (при наличии охранных грамот) оставаться в городах, где они жили, после того как те переходили к христианам.
После окончательного ухода от власти Алморавидов, в 1145 г. в ал-Андалусе наступило весьма смутное время, пока страна не перешла к 1170 г. в цепкие руки Алмохадов. Указанные годы иногда называют вторым периодом «удельных князьков», но название это не слишком удачно. Хотя распад державы на маленькие государства действительно произошел, мелкие князья не представляли на этот раз «партий» (таваиф), как после краха Омейядского халифата. После 1145 г. некоторые из правителей малых государств признали сюзеренитет Алмохадов, другие — сюзеренитет различных христианских королей. Для обзора, подобного нашей книге, достаточно будет рассмотреть начало алмохадского периода с 1145 г.— момент их первого вмешательства в дела ал-Андалуса,
Глава восьмая. Берберская империя Алмохадов
1. Ибн Тумарт и алмохадское движение
Между империями Алмохадов и Алморавидов существует определенное сходство. Обе они появились в Северо-Западной Африке, обе позднее включали в свой состав ал-Андалус, обеими правили берберские династии, и обе нашли первоначальную поддержку у берберских племен. Обе они возникли как религиозное движение или, скорее, на религиозной основе. И конечно, вполне естественным было то обстоятельство, что берберы, поддерживавшие Алмохадов, были вековыми врагами сторонников Алморавидов. Одни были кочевниками из группы племен санхаджа, другие — обитателями Атласских гор, принадлежавшими к племени масмуда. Если говорить с точки зрения изучения предмета, то следует отметить, что имеется гораздо больше материалов о возникновении государства Алмохадов, чем об аналогичном периоде истории Алморавидов[63].
Основатель алмохадского движения обычно известен как Ибн Тумарт (Тумарт — берберское уменьшительное от имени Омар). Его род принадлежал к ветви племени хинтата, он родился в атласской деревне примерно в 1082 г. В поисках знания он посетил Кордову, а затем направился на восток: в Александрию, Мекку, Багдад. Сомнительно, чтобы он слушал лекции ал-Газали, величайшего мыслителя и наставника того времени, но, возможно, он приобрел кое-какие познания у философов и теологов, известных под именем ашаритов, которые преподавали в багдадском медресе Низамия и в Александрии. Во время обучения и странствий он преисполнился реформаторского рвения. В качестве базы для своих реформ Ибн Тумарт разработал новую форму мусульманской догмы. В ней особо подчеркивалось значение таухида — «единства» или, точнее, «утверждения единства», поэтому его последователи стали известны как ал-мувахидун — «утверждающие единство», что трансформировалось в европейских языках в «алмохадов».
Энтузиазм Ибн Тумарта был так велик, что он начал проповедовать свои идеи команде и пассажирам корабля, на котором плыл в Александрию, а затем и жителям городов, через которые он проезжал. Результаты были не слишком обнадеживающими: иногда его проповеди вызывали такой протест, что Ибн Тумарту приходилось спасаться бегством. Как раз после изгнания из Бужи (Беджаия) в 1117 или 1118 г. Ибн Тумарт повстречался с человеком, которому суждено было принести политический успех движению, — с Абд ал-Мумином. Тот также ездил учиться и теперь собирался отправиться на восток, но навсегда остался при Ибн Тумарте. Проведя некоторое время в Марракеше, где их принимали с обычной смесью поддержки и неприязни, они отправились в довольно уединенный городок Тинмелал (Тинмал). Он стал центром пропаганды новой доктрины, которая быстро завоевала последователей и обросла иерархической организацией[64]. Около 1121 г. Ибн Тумарт объявил себя махди — ведомым и вдохновляемым небом вождем. Вскоре у него уже было достаточно людей, чтобы бросить (на местном уровне) вызов Алморавидам. Поражение 1123 г. не остановило его. Он сам осуществлял не только духовное, но и военное руководство движением и нашел смерть в бою в 1130 г.
Ибн Тумарт назначил своим преемником Абд ал-Мумина, но тот был признан лишь к 1133 г. Поначалу он вел партизанскую войну, но постепенно добился значительной поддержки горцев, необходимой для того, чтобы спуститься в долины и встретиться с войсками Алморавидов. Он был близок к успеху в сражении под Тлемсеном в 1145 г., к тому же алморавидский правитель вскоре после этого погиб от несчастного случая. Слабость сменивших его алморавидских властей привела к падению в 1147 г. Марракеша, где отныне утвердились Алмохады. Это было во всех отношениях концом алморавидского государства.
Хотя Абд ал-Мумин вмешивался в дела ал-Андалуса уже в 1145 г., он не отправлял туда воинских экспедиций, чтобы захватить владения Алморавидов, а ограничивался пока дипломатической деятельностью. Ему открылась возможность распространить свое влияние на мосток Африки, много дальше тех границ, которых достигали Алморавиды. Однако здесь его ожидала угроза со стороны христиан, в частности со стороны Роже pa II Сицилийского. Тем не менее в результате тщательно подготовленной кампании 1151 г. восточная половина современного Алжира осталась за ним, а последовавшая за ней кампания 1159—1160 гг. принесла ему Тунис с городами Тунис, Кайруан и ал-Махдийа (бывшая столица Фатимидов), а также североафриканское побережье до самого Триполи.
2. Испания под властью Алмохадов (до 1223 г.)
Абд ал-Мумин (1130—1163)
Абу Иакуб Иусуф I (1163—1184)
Абу Иусуф Иакуб ал-Мансур (1184—1199)
Мухаммад ан-Насир (1199—1213)
Абу Иакуб Иусуф II (1213-1223)
О том, что происходило в ал-Андалусе после того как страна вышла из-под контроля Алморавидов в 1145 г., и тем более после завоевания Алмохадам Марракеша в 1147 г., известно мало. Подлинная власть была в руках мелких местных правителей. Кое-кто из них некоторое время сохранял зависимость от христианских королей, но в общем все больше склонялись к тому, чтобы признать сюзеренитет алмохадских халифов. Из этих правителей наиболее независимым был Ибн Марданиш, который правил в Севилье и пользовался некоторой властью над большей частью западных земель ал-Андалуса.
Основатель Алмохадской империи Абд ал-Мумин включив в свои владения Тунис и Триполитанию, снова начал подумывать о Пиренейском полуострове и с 1162 г. стал вести подготовку к широкой кампании. Но его смерть помешала осуществлению этих планов, наследовавший ему (после недолгих раздоров) сын Абу Йакуб Йусуф также не выполнил их. Только в 1171 г. новый халиф попытался прибрать к рукам ал-Андалус Ибн Марданиш оказал сопротивление Алмохадам, но после его смерти в 1172 г. наследникам ничего не оставалось, кроме как сдать Севилью. После этого халиф проследовал к северу и некоторое время осаждал Толедо, но постепенно понял, как трудно здесь добиться успеха — затея была просто безумной,— и снял осаду. Однако впоследствии Алмохады, видимо, установили действенный контроль над большей частью ал-Андалуса. В более поздней кампании Абу Йакуб Йусуф смог уже вести «священную войну» на территории врага. Однако ему не повезло: при осаде крепости Сантарем (близ Лиссабона) он был ранен и вскоре (в 1184 г.) умер от раны.
Первой задачей его сына и наследника Абу Йусуфа Йакуба было отобрать город Бужи и прилегающее алжирское побережье у поселившегося там представителя Алморавидов, который вел себя как независимый правитель. Эти события показывают, что, хотя Алмохады могли, если потребуется, собрать исключительно мощную армию, в обычное время их военные силы были недостаточны, чтобы пресечь вылазки авантюристов. Постоянно какая-нибудь часть империи нуждалась в особом внимании со стороны халифа, и лишь в 1189 г. Абу Йусуф Йакуб смог уделить подобное внимание ал-Андалусу. Различные успехи дали ему возможность в 1190 г. заключить пятилетнее соглашение о перемирии с королями Кастилии и Леона. После ряда операций против португальских крепостей в том же и в следующем году он оставил ал-Андалус в сравнительно спокойном состоянии и опять обратился к неотложным делам в Африке. Конец перемирия открыл новый период активности на Пиренейском полуострове. В июле 1195 г., в самом начале кампании, Алмохады одержали крупную победу над Алфонсо VIII Кастильским в битве при Аларкосе (на полпути между Кордовой и Толедо). Плоды этой победы были частично использованы в этом и в следующем году, но Алмохадам, как видно, не хватало ресурсов, чтобы основательно изменить соотношение сил между христианской Испанией и ал-Андалусом.
Между тем христиан поражение стимулировало к увеличению военной активности, так как оно пришлось как раз на тот момент, когда они воображали, что процесс отвоевания земель у мусульман понемногу продвигается вперед. Важную роль в сглаживании противоречий между политическими деятелями христианского лагеря играли епископы и архиепископы: они улаживали споры, снимали взаимные подозрения. Крестовый поход проповедовался не только в Испании, но и по ту сторону Пиренеев, что принесло ему немалую поддержку. Подготовке к нему способствовало и новое перемирие, подписанное после сражения при Аларкосе, и недостаточная энергичность нового алмохадского халифа — Мухаммада, который наследовал отцовский трон в 1199 г. Некоторое время положение оставалось стабильным, казалось, что власть Алмохадов в Испании стоит в зените. Но когда христиане постепенно перешли в наступление, вскоре выяснилось, что в соотношении сил наступил решительный перелом. В июле 1212 г. объединенные силы Леона, Кастилии, Наварры и Арагона двинулись от Толедо на юг и встретились с алмохадским войском близ Лас Навас де Толоса. Алмохады понесли такое поражение, что фактически их власть в Испании была уже сломлена, хотя это и не проявилось окончательно до 1223 г. лишь потому, что христиане вновь отвлеклись на свои внутренние проблемы. Халиф Мухаммад в 1213 г. умер (возможно, в результате несчастного случая), а наследовавший ему тринадцатилетний сын Абу Йакуб Йусуф II не способен был восстановить положение шатавшегося режима.
Было бы интересно установить причины разгрома Алмохадов, но вопрос этот мало изучен, и все приводимые здесь соображения носят предварительный характер. Существует, однако, несколько вопросов, в которых достигнута известная определенность. Ибн Тумарт вырос в Алморавидской империи, и с одной точки зрения его доктрину можно рассматривать как направленную против Алморавидов. Алморавидский режим был тесно связан с маликитскими законоведами, для которых юриспруденция была знанием деталей практического применения права, т. е. знанием решений признанных авторитетов. Однако Ибн Тумарт придерживался мнения, что законовед должен выводить свои решения о применении закона к практике из первоначальных принципов, т. е. непосредственно из текстов Корана и хадисов, или же из «единодушного мнения» мусульман. Другим важным моментом были притязания Ибн Тумарта на то, что он — махди (ниспосланный небом вождь, призванный восстановить истинный порядок). Хотя это было скорее шиитское, чем суннитское, верование, Ибн Тумарт несомненно и не помышлял о каких-либо связях с восточными шиитами, а лишь открывал дорогу глубоко укоренившемуся среди берберов культу святых и блаженных (свидетельством чему служит народное почитание марабутов[65]).
Режим с подобной догматической базой был обречен на оппозицию со стороны маликитских правоведов, обладавших таким влиянием при Алморавидах. Однако Алмохады не позаботились обеспечить себе поддержку какой-либо иной группы законоведов, хотя некоторые из их сторонников были захиритами (см. об этом далее). Шиитские лидеры типа Фатимидов всегда претендовали на право выносить авторитетные решения по юридическим вопросам, хотя на практике редко вводили какие-либо серьезные юридические новшества. Ибн Тумарт даже и на это не претендовал. В некоторых вопросах он настаивал на точном выполнении предписаний Корана и хадисов, но вообще был, кажется, вполне доволен практиковавшимся применением права. Таким образом, между новой доктриной и повседневной юридической практикой не было такого конфликта, который автоматически исключал бы деятельность существующих законоведов. Разумеется, Алмохады претендовали на халифский титул и отказывались даже формально признавать аббасидов в Багдаде, но маликитские законоведы не слишком беспокоились об Аббасидах. Корпус маликитских юристов в ал-Андалусе, следовательно, все больше переходил на службу к Алмохадам, продолжая свою обычную практику.
Еще одним обстоятельством, обусловившим частые уступки Алмохадов законоведам, преследовавшие цель удержать их расположение, было отсутствие у этих правителей народной поддержки, что, возможно, указывает на более глубокую слабость этого режима. Алморавиды, лишив власти арабо-андалусскую аристократию, снискали популярность у маликитских законоведов и у простого народа. Алмохады, возможно, до некоторой степени пользовались симпатиями поверженной аристократии, но не населения (едва прошло временное недовольство злоупотреблениями Алморавидов). Фигура махди представляла интерес для берберов, но не для
жителей ал-Андалуса (возможно, она мало привлекала и арабов восточных областей Алмохадской империи в Северной Африке). В таком случае это означает, что Алмохадская империя была прежде всего военным государством, ожидавшим лишь минимального одобрения со стороны населения, которым оно управляло. Среди масс не было никакого энтузиазма, равно как и единства с правящей элитой по основным вопросам. В трудные дни после 1223 г. от следования доктрине Ибн Тумарта отказался по крайней мере один из представителей правящего рода — можно себе представить, что творилось среди рядовых жителей страны. И это более чем что-либо иное способствовало падению Алмохадов.
Берберское происхождение правящей элиты несомненно довершило дело. Это означало, что фигура махди мало привлекала к себе мусульман неберберов в ал-Андалусе, коренное иберийское население, кажется, вообще возлагало главные надежды на прямое вмешательство сверхъестественных сил[66]. Кроме того, существовал какой-то зародыш национального (или расового) самосознания, возможно возникшего главным образом на языковой основе. Поначалу Алмохадам удалось привлечь на свою сторону многочисленных арабов Восточного Алжира и Туниса, но вполне естественно, что со временем различная ориентация лингвистических групп привела к политическим последствиям.
3.Успехи Реконкисты в 1223—1248 гг.
Династийные склоки, последовавшие за смертью в 1223 г. алмохадского халифа, не оставившего наследника, привели к тому, что Реконкиста практически не встретила сопротивления в ал-Андалусе — за одним исключением. В Северной Африке остатки Алмохадской империи продолжали существовать, несмотря на распрю внутри правящего рода, но они постепенно слабели, по мере того как становились независимыми подчиненные страны и возникали новые государства, пока наконец, в 1269 г. не исчезли полностью. В ал-Андалусе после 1223 г. отдельные алмохадские правители на ограниченных территориях удерживали некоторую власть еще несколько лет, но центральный аппарат уже прекратил существование.
Заметный успех на востоке и юге страны обеспечил себе в это смутное время наследник бывших эмиров Сарагосы. Однако после объединения в 1230 г. Леона и Кастилии, когда началось новое наступление христиан, он несколько раз терпел поражение и в конце концов пал от руки убийцы. После этого ни одному мусульманскому вождю не удавалось добиться поддержки населения, хотя некоторые сохраняли сомнительную полунезависимость еще два-три десятилетия. Христианским наступлением руководил Фердинанд III, который с 1217 г. был королем Кастилии, а с 1230 г. и королем Леона, пока не умер в 1252 г. После ряда походов, начиная с 1231 г., он наконец завоевал для христиан самое сердце ал-Андалуса. Выдающимся событием явился захват Кордовы (1236) и Севильи (1248). После этого еще лет двадцать заняли «операции прочесывания», особенно на востоке, а затем мусульманское правление в Испании прекратило свое существование — при одном исключении.
Этим исключением — последним проблеском света для мусульман — было возникновение Насридского княжества в Гранаде. Примерно в 1231 г. некий араб (родом из Медины), Мухаммад ибн Йусуф ибн Наср, основал вокруг Хаэна маленькое государство, а потом в 1235 г. захватил Гранаду и сделал ее своей столицей. Ему удавалось держаться благодаря осторожной, дипломатичной политике: он использовал поддержку христиан в борьбе с местными мусульманскими соперниками, а против христиан прибегал к помощи мусульман Северной Африки. Географические особенности этого маленького королевства в сочетании с прочими факторами позволили ему просуществовать еще два с половиной века.
За пределами этого маленького, хоть и важного исключения падение Алмохадов означало конец мусульманской Испании.
Глава девятая. Политический упадок и культурное величие
1. Поэзия
Поэзия, которая при испанских Омейядах обосновывалась на новой почве, подрастала и накапливала энергию, пышно расцвела в конце X и в XI в. Это был период политической раздробленности и непрочности, но поэзия не отражает столь быстро политических взлетов и падений, и сам факт существования в период «удельных князьков» нескольких дворов, соперничавших друг с другом в меценатстве, открывал перед многими поэтами широкие возможности доказать свой талант и получить вознаграждение за него.
В талантах не было недостатка. Самым знаменитым андалусским поэтом был Ибн Зайдун (1003—1071), который с необычайной нежностью и утонченностью выражал в стихах свою несчастную любовь к принцессе ал-Валладе (тоже поэтессе). Строгий теолог Ибн Хазм (994—1064) также создал трактат о любви «Ожерелье голубки», где различные стороны любви и привычки влюбленных иллюстрировались стихами как самого автора, так и прочих поэтов. Особенно выделялся двор Аббадидов в Севилье, где тон задавали сами эмиры, одаренные поэты: ал-Мутадид (1012—1069), поэт большой силы духа, которому удалось ввести в поэтический обиход несколько смелых образов, и в еще большей степени его сын ал-Мутамид (1040—1095). Ал-Мутамид был прекрасным выразителем излюбленных тем своего времени, пока он не подвергся унизительному пленению Алморавидов — тогда он стал изливать душу в патетических элегиях. Ал-Мутамиду служил и его близкий друг, поднятый им до высокого сана, но под конец попавший в опалу и приговоренный к смерти, Ибн Аммар (1031 —1083), чьи стихи не лишены были звучной величавости. Сюда же прибыл изгнанный из Сицилии норманнами Ибн Хамдис (1055—1132).
Обычно считают, что золотой век андалусской поэзии пришел к концу вместе с одиннадцатым столетием, и если подразумевать отсутствие какого бы то ни было оживления или подъема в литературе, то это, конечно, верно. Но созданным в тот период образцам подражали с большим искусством и изяществом еще несколько столетий. При берберских династиях продолжают творить прекрасные поэты, в том числе и поэты провинциальные. Наиболее выдающимся среди них был Ибн Хафаджа из Альсиры (1050—1139), особенно известный своими описаниями садов.
Весьма соблазнительно связать этот расцвет поэзии с образом жизни в светских, терпимых княжествах reyes de taifas, этих «итальянских республиках в тюрбанах», как их иногда называют, или даже с праздностью, царившей в их дворах. Еще легче приписать последующий упадок ее жизненных сил реакционному и репрессивному характеру берберских династий с их полуварварскими правителями, неспособными оценить изысканность андалусского склада ума. В этих суждениях действительно есть доля истины, но против некритического принятия их следует выдвинуть другие факты: жизнь при «удельных князьках» с ее низкими интригами и постоянной неуверенностью в завтрашнем дне изобиловала своими неприглядными сторонами. Кроме того, преемники Йусуфа ибн Ташуфина быстро восприняли андалусские традиции, в том числе покровительство андалусских правителей поэтам, и на деле смена династий не внесла значительных изменений в характер поэзии.
В эту эпоху, как и в любую другую, поэзию нельзя ставить в прямую зависимость от политических и социальных условий. Не стимулируемая ничем, кроме красоты окружающей природы, покровительства Омейядов и обещаний величия, андалусская поэзия развила отдельные новые черты, которые, однако, быстро превратились в традиционные. В этом виде ее существование продлилось и на совсем иные времена, иные не только для Испании, но и для всего ислама, когда пали три халифата, когда извне ей угрожали враги, а изнутри подвергали нападкам ортодоксы[67].
В самом деле, трудно представить себе общество, где специфическая андалусская поэзия могла долго оставаться чем-то кроме конвенционального и эскапистского творчества. Ее главной темой был изощренный гедонизм. Другие темы, столь почитаемые арабской литературой, — назидательность, аскетизм, мистицизм — нашли, правда, своих глашатаев, но весьма безголосых. Вместо этого мы читаем о ночных пирах на реке или на ковре цветущего луга, во время вечерней прохлады или на рассвете, «когда ночь смывает утренней росой сурьму», о грациозных эфебах и девах с тонкой талией и тяжелыми бедрами. Они пьянят вином, которое разливают, взглядами и поцелуями, которыми одаряют... Под аккомпанемент лютни девушка-рабыня поет, а другая танцует, под конец сбрасывая одежды, чтобы явиться «как распустившийся бутон»[68].
В этих увеселениях изысканность была смешана с чувственностью. Андалусские поэты проявляли живейшее внимание к каждому прекрасному объекту. Сформулированный Ибн Хафаджей идеал представлял не уравновешенного и непреклонного стоика, который не способен из-за любви потерять сон, но чутко реагирующего на любой повод человека, который испытывает ненависть или ревность к сопернику, но при виде красоты дрожит от радости, «подобно влажной от росы ветви ивы, которую раскачивает легкий ветерок»[69]. Эта утонченная чувственность проявляется в повышенном интересе андалусских поэтов к природе и к любви.
Природа предстает идиллическим фоном, на котором развертываются вакхические сцены или любовные свидания, в этих случаях она едва намечена. Но существовали и специальные этюды с тщательно выписанными деталями: сумерки, рябь на воде, описание какого-нибудь цветка (эти описания были особенно популярны и заполняли целые антологии, их даже считали отдельным жанром). Именно цветы часто (и довольно искусственно) уподоблялись собранию самоцветов: водяные лилии сравнивались с белым жемчугом с черной бусинкой в центре, дикий жасмин на зеленом стебелечке — с желтым сердоликом на изумрудной ножке. Но встречаются также разнообразные и свежие сравнения, часто включающие персонификацию. Речной поток сравнивается с волнующимися складками облегающего стан танцовщицы платья, ночь предстает негритянским царем, украшенным лунной диадемой и серьгой из созвездия Близнецов... Андалусские поэты проецировали свои эмоции на природу, слыша в ворковании голубей или вздохах ветра признания разлученных влюбленных.
Диапазон любовной поэзии также был очень широк: от всепожирающей страсти до любовных шалостей, от выражения полнейшего самоуничижения перед предметом любви до шутливого назначения компенсаций за любовные раны, от неприкрытой чувственности у Ибн Хафаджи:
до заверений Ибн Хазма, что он скорее предпочтет встречать свою любимую во сне, чем заставлять ее наяву увядать от прикосновения его руки[71].
И все же это разнообразие не выходит за пределы чувственности, пусть даже и утонченной. В «Ожерелье голубки» Ибн Хазма нашла отражение точка зрения (в конечном итоге восходящая к учению Платона), что любовь — соединение двух половинок души, созданных первоначально как единая сфера, однако считалось, что взаимное «узнавание» всегда происходит через физическое влечение. В таком контексте «платоническая» любовь воспринималась как психологически странное, двусмысленное целомудрие, при котором эротический момент служит лишь для патологического продления желания[72], тогда как в физической любви исполнение желания и удовлетворение должны совпадать. Как сообщают, женщина в андалусском обществе обладала большой свободой[73] и была весьма экзальтированной, но в поэзии воспевается лишь ее физическое очарование; единственная черта характера, о которой упоминается, это капризы и жестокие отказы любовнику (хотя применительно к мужчинам иногда и восхваляется целомудрие). Анри Перес[74] цитирует один пассаж, в котором ар-Ради, сын ал-Мутамида, говорит своей возлюбленной: «Ты прекрасна телом и душой», но в этом же отрывке прослеживается заметное (и редкое) христианское влияние, поскольку о возлюбленной говорится как об «ангеле».
Таким образом возникает вопрос о возможности каких-то связей между андалусской и европейской литературами. Перес более тщательно, чем кто-либо, рассмотрел литературное наследие XI в. Он нашел, что большинство примеров персонификации природы противоречит арабской тенденции к деанимации, рассмотренной в предыдущих главах. Он выделил некоторое число отличительных черт, из которых самой главной считает любовь к природе, хотя и несколько искусственно выраженную, но питаемую самой жизнью, а также изначальную меланхолию, «сообщающую андалусским поэтам склонность к полутонам. Они предпочитают весну — лету, вечер и ночь — полдню. Даже во время шумного застолья чувствуется, что им больше по душе молчание и одиночество. Быть может, из-за нестабильности жизни они не способны ощутить незамутненную радость, и «беспокойство, редкое среди жителей Востока, пронизывает каждое их действие, в котором они отдают дань жизни». Их почтительное отношение к женщине и их концепция любви близки к христианским. «Добродетели силы и действия, составлявшие идеал арабо-мусульманского общества, они подменяют мягкостью, смирением, нежностью, рефлексией и задумчивостью. Они стремятся стать всё более человечными, (позволив сердцу взять верх над умом и волей».
В общем Перес видит в андалусцах такое преобладание иберийско-романской крови, что делает их вопреки бесспорному присутствию и восточных элементов наследниками аборигенов; а основную роль в формировании этих черт приписывает иудейско-христианскому влиянию[75].
При всей ценности исследования Переса, при всей его убедительности трудно согласиться с выводами автора, во всяком случае с теми, где он касается отличительных черт андалусской поэзии. В сущности, это та же поэзия, что и в восточноарабских землях. Андалусцы никогда не теряли интереса к литературной продукции востока. Их привычка называть своих поэтов «западный ал-Мутанабби» или «западный Ибн ар-Руми» свидетельствует о почтении к восточным образцам. Ибн Хазм даже жалуется, что родился в Испании, — в других краях его ценили бы больше. Действительно, вся андалусская тематика естественно вырастала из классической
поэзии, и лишь очень немногие из выделенных Пересом особенностей не находят параллелей в литературе мусульманского мира. Что касается формы, то здесь андалусцы просто не уступали другим в стремлении к изысканности. Склонность к красноречивой словесной игре заходила так далеко, что, когда ал-Мутамид, томившийся в цепях, узнал, что оба его сына убиты, его несомненно искреннее горе нашло выход в горькой игре слов, построенной на именах погибших. В поисках наиболее экстравагантных способов выражения поэтов не останавливали ни искусственность, ни дурной вкус. Даже столь изысканный и разборчивый автор, как Абу Амир ибн Шухайд (992—1035), мог написать:
Если в этой поэзии и присутствует специфический лиризм и многие почувствовали его, с тех пор как барон Мак-Гукин де Слэн привлек к нему внимание[77], то он заключается в преобладании определенных тем, эмоциональных обертонов, быть может, в чуть большем единстве настроения и образной системы, как в великолепном описании неприступной горы[78], принадлежащем Ибн Хафадже, или в приводимом ниже отрывке Ибн Кузмана об отряде всадников, все метафоры которого почерпнуты «из воды»:
Значительным представляется следующее обстоятельство: там, где андалусская литературная практика отрывается от восточной традиции, она движется в сторону европейских вкусов. Смешение рас отнюдь не может объяснить этого явления: как уже было показано, мусульманские завоеватели не нашли в Испании культуры, достойной подражания. Но у коренного населения была хотя бы народная литература, и в обществе, которое возникло там,— обществе, которому удавалось сохранить лишь немногие барьеры между мувалладами и мосарабами, зачастую оказывавшимися близкими родственниками, обществе, которое настолько приспособилось к сосуществованию различных культур, что вопреки различным календарям даты некоторых особо популярных мусульманских праздников были подогнаны к христианским,— эта народная литература должна была слиться, смешаться с литературой пришельцев. И действительно, один текст XIII в. утверждает, что ранние андалусцы пели «либо на манер назарейцев, либо на манер арабских погонщиков верблюдов»[80]. Нетрудно представить себе, что, коль скоро такая гибридизация происходила па массовом уровне, некоторые черты ее, просачиваясь через народную литературу, медленно проникали даже в полные условностей произведения элиты[81].
Весьма вероятно, что именно так происходило развитие строфических форм — мувашшаха и заджала, которые бесспорно представляют собой андалусский вклад в арабскую поэзию. Простейший вид мувашшаха — это стихотворение из пяти или более строф, открывающееся куплетом, который может далее использоваться как рефрен, во всяком случае — как повторяющийся элемент. Таким образом, каждая строфа состоит из трех строк с собственной рифмой, за которыми следуют две строки, повторяющие рифму первого куплета, по схеме:
А А ббб АА (АА) вввАА(АА) и т. д.
Разумеется, у этой схемы есть много разновидностей и вариантов. Заключительный куплет, называемый харджа, служит кульминацией всего стихотворения, и ранние источники по теории мувашшаха отмечают, что харджу следует сочинять сначала; однако можно и заимствовать этот куплет. В тех же источниках указывается, что харджа должна быть остроумной и эффектной и писать ее надо не на классическом арабском, а на местном наречии или на романском диалекте. В последние годы действительно были найдены такие харджи, они написаны на смеси арабского и романского просторечных диалектов и почти всегда — от лица женщины.
Заджал всегда создавался на разговорном языке, схема рифмовки в нем обычно более проста: заключительная строчка каждой строфы повторяет рифму первого куплета:
ААбббА(АА) и т. д.[82]
Некоторые андалусские мувашшахи были написаны в метрах, близких к классическим арабским. Однако были и другие, особенно поразившие Ибн Сана ал-Мулка (ум. в 1212 г.), пропагандиста этого жанра на востоке мусульманского мира, тем, что при чтении ухо не улавливает в них метра вовсе[83], хотя предполагается, что когда их поют, то с помощью растягивания или сокращения гласных они как-то укладываются в ритмические рамки. Между этими двумя крайностями можно выделить и многочисленные совпадения с силлабической системой, возможно происходящей от квантитативных классических метров, но значительно отошедшей от них. Это выдвигает новые увлекательные проблемы, которые еще только ждут разрешения[84].
Мувашшах и заджал лишь две из многих неклассических форм поэзии, получивших распространение в арабоязычных странах[85]. По крайней мере одна подобная форма — мавалия, как сообщают, была в употреблении в Ираке еще в VIII в. Известны; также строфические композиции, приписываемые багдадским поэтам Абу Нувасу (ум. ок. 813 г.) и Ибн ал-Мутаззу (ум. в 908 г.), которые можно считать предвестниками мувашшаха[86]. Однако нет прямых свидетельств, что эти единичные образцы служили моделями кому-либо из поздних поэтов. Можно лишь утверждать, что в восточноарабских землях развитие строфических форм оставалось в основном монополией народной литературы, пока андалусцы не подняли мувашшах и заджал до такого уровня, что они стали предметом восхищения и подражания со стороны всех образованные мусульман; так что первенство ал-Андалуса в этой области неоспоримо.
Самые ранние известные мувашшахи датируются XI в., но само «изобретение» их приписывает поэту из Кабры, который умер в начале X в. «Изобретение» означает лишь, что он первым придал мувашшаху приемлемую в литературном кругу форму, так как сам характер харджи выдает народное происхождение этой формы: возможно, это были песни, которые распевали перед арабской публикой местные певицы. Гарсиа Гомес показывает, что любой арабский поэт, чье ухо уловило в народной песне звучную строку, вполне мог написать под нее первый мувашшах[87]. Но похоже, что этот первый поэт позаимствовал там больше — настолько отлична структура мувашшаха от классических арабских стихов.
Этот жанр приобрел большую популярность, его применяли многие прекрасные поэты. Некоторые даже, подобно Абу Бакру Мухаммаду ибн Зухру (ум. в 1110-11 г.), построили свою литературную репутацию на мастерском владении им. Мувашшах вполне сочетался с тягой к искусственности и вместе с тем, поскольку основной единицей в ней была строфа, а не строка, произведения этого жанра казались и новыми и приемлемыми одновременно. В руках мастера эта форма приводила к созданию самых прелестных любовных стихотворений и самых изящных описаний в андалусской поэзии.
Заджал появился довольно поздно, и основной его представитель Ибн Кузман (ум. в 1160 или 1169 г.)[88] претендовал на то, что именно он усовершенствовал эту форму. Это не значит, что заджал лишен длинной истории — просто, будучи истинно народной формой, он был ниже внимания литераторов. Ибн Кузман был первым, чье искусство и грубый здоровый юмор заработали этому жанру признание литераторов и потомков.
Итак, именно в Испании, единственной из мусульманских стран, могучий народный дух разбил стену условностей, возведенную классицистами.
2. Прозаическая литература и филология
У арабов лингвистические и литературные штудии всегда были тесно связаны. Ранние арабские грамматисты и лексикографы, стремясь установить, каково было первоначальное, чисто арабское словоупотребление, обращались к материалу древнеарабской поэзии, так что их труды были полны поэтических цитат, которые использовались не только как иллюстрации, но и как авторитетные источники. Получилось так, что именно грамматисты стимулировали запись этой поэзии, а развитие их интересов привело к составлению антологий, сборников литературных анекдотов, к записи комментариев к литературным текстам и появлению самой литературной критики.
Очевидно, что у испанских мусульман существовала иная система образования, чем в восточноарабских странах,— более рациональная, как подметил Перес[89], — при которой сначала изучался язык, а уж потом «религиозные науки». Но сами эти «науки» сохраняли традиционность, свойственную восточноарабским землям. Первоначально их привезли сюда такие ученые мужи, как ал-Кали, связь поддерживалась постоянным обменом учеными и научными трудами, и этот обмен еще более усиливал изначальное единство мусульманской культуры.
Таким образом арабские грамматисты в ал-Андалусе, как и в других мусульманских странах, вносили свой вклад в общий фонд знания, составляя комментарии на основополагающие труды, созданные на востоке. Лексикографу Ибн Сида (1006?—1066) кроме прочих трудов принадлежат два словаря, довольно известных как на востоке, так и на западе мусульманского мира.
Сочиняли в Испании и книги по адабу, в которых были собраны различные сведения, часто энциклопедического характера, охватывающие всю сферу интересов культурного человека. Одна такая книга, написанная Абу Бакром ат-Туртуши (известным также как Ибн Аби Рандака; 1059—1130), называлась «Сирадж ал-мулук» — «Светоч государей». Она почти полностью состояла из анекдотов о нравах царствующих особ и, вероятно, может быть отнесена к разряду княжьих «зерцал». Другое сочинение, принадлежащее Йусуфу ибн аш-Шайху из Малаги (1132—1207), включало в себя самые различные темы, подобранные по алфавиту; оно стало использоваться как учебник общей культуры.
Стали также появляться антологии, где почетное место занимали андалусские поэты, в частности антологии на одну тему, нередко отражавшие свойственное андалусцам восхищение природой. Самая ранняя из тех, что сохранились,— антология Абу-л-Валида ал-Химйари (1026 — ок. 1084), полностью посвященная весне и весенним цветам. Сочинение Ибн Хазма «Ожерелье голубки», которое мы выше называли поэтической антологией (оно было вызвано к жизни восточноарабской антологией Абу Давуда ал-Исфахани «Китаб аз-захра»), в то же время является весьма своеобразным трактатом о любви, с непревзойденной репутацией.
Историко-литературный труд Ибн Бассама (ум. в 1147 г.) составлялся с заранее заданной целью: предоставить заслуженное место андалусскому гению, освободить его от подчинения восточным образцам. Эта книга была названа автором «Аз-Захира» (т. е. «Сокровищница»), что весьма точно, поскольку она и по сей день служит богатейшим источником литературной информации. Младший современник Ибн Бассама, ал-Фатх ибн Хакан, щедро используя «Сокровищницу», написал два историко-литературных сочинения, которые, однако, заслужили немалую известность превосходным качеством своей прозы. Наконец, на этот раз не из соперничества с востоком, а в ответ на вызов, прозвучавший при дворе алмохадского правителя ал-Мансура, аш-Шакунди (ум. в 1231 г.) составил эпистолу (рисала) в защиту андалусской культуры, в которой продемонстрировал возвышенное красноречие и остроту стиля.
Стилистические достоинства обоих этих авторов — ал-Фатха ибн Хакана и аш-Шакунди — весьма примечательны, и все-таки изящная словесность, как таковая, т. е. проза, направленная прежде всего на создание эстетического эффекта, а не на передачу информации, выросла из официальной переписки. Секретари эмиров были не просто переписчиками, а высшими гражданскими чиновниками, людьми, облеченными почетом и ответственностью, чье искусство слова весьма ценилось литературными критиками.
Со временем прозаические писания вышли из рамок официальной переписки, переросли в эпистолы на различные темы, описательные наброски, воображаемые «споры» между мечом и пером или между различными цветами.
И вновь источником и образцом служил восток, где ряд писателей (самым одаренным из них был умерший в 869 г. ал-Джахиз) развивали живой и ясный прозаический стиль. В ал-Андалусе у них нашлись поклонники и подражатели, среди которых наиболее известен поэт Ибн Зайдун. Ему принадлежат две эпистолы; в одной, написанной во время опалы, оп умоляет правителя о милосердии, другая адресована его сопернику Ибн Абдусу и носит сатирический характер. Оба эти произведения являют прекрасные образцы мастерства, живости слога, оба полны ученых аналогий.
Довольно быстро проза, как и поэзия, обнаружила тяготение к риторическому украшательству. И на востоке и на западе мусульманского мира тщательно отделанная, пересыпанная рифмами проза стремилась вызвать у читателя скорее восхищение, чем сопереживание, превзойти мастерством соперников, а не завоевать симпатии.
Особенно яркое выражение эта разновидность прозы получила в макаме. Макама - это короткий, мастерски построенный рассказ (быть может, мастерство даже довлеет над содержанием) о проделках находчивого и симпатичного пройдохи, на которые он пускается ради того, чтобы сытно поесть или перехватить немного деньжонок. Считается, что изобретен этот жанр на востоке Бади аз-Заманом ал-Хамадани (969—1008), но опять это лишь свидетельствует, что названный автор придал макаме известную литературную шлифовку. Как форма, так и ее название (макама[90]) показывают, что они ведут начало от своего рода анекдотов, которые рассказывали в IX в. об одном бедуине, приверженце языкового пуризма и строгости нравов, постоянно разглагольствовавшем перед аристократами о разлагающем влиянии роскоши на старинные добродетели. Веком позднее герой был низведен до роли незваного гостя, который старается втереться в доверие к хозяевам ради жирного куска.
В описаниях ухищрений своего героя Бади аз-Заман демонстрирует непосредственность и точность, он показывает также незаурядную наблюдательность, однако ясно, что его собственные интересы сводились к использованию возможностей макамы для искусной выразительности, для совершенствования самой манеры выражения, которые и обеспечили успех жанру. Ал-Харири Басрийский (1054—1122) пошел в этом еще дальше, поскольку его герой пользуется красноречием исключительно как средством позабавить или одурачить свою аудиторию. Повествование превращается в тоненькую рамку для блистательных словесных tours de force.
Сочинения Бади аз-Замана, как эпистолы, так и макамы, получили быстрое распространение, в Испании ими очень восхищались и вскоре начали подражать им. Не менее популярны были и произведения ал-Харири, которые, как сообщают, кое-кто из андалусцев слышал из уст самого автора. Именно комментарий андалусца Абу-л-Аббаса Ахмада аш-Шариши (т. е. из Хереса; ум. в 1222 г.) к макамам ал-Харири завоевал широкую известность и признание во всем мусульманском мире. В самом ал-Андалусе также сочинялись макамы — с конца XI в. Вероятно, одним из выдающихся представителей этого жанра был Абу-т-Тахир Мухаммад ат-Тамизи ас-Саракусти ал-Аштаркуни (т. е. из Зстеркела; ум. в 1143 г.), который в своих пятидесяти макамах взвалил сам на себя весьма субъективные правила словесной орнаментации, составленные явно в подражание стилю «Лузумиййат»[91] восточноарабского поэта Абу-л-Ала ал-Маарри (973—1057).
При всем том, что в макамах главное внимание отводится не повествованию, а виртуозности изложения, они являются единственной (кроме анекдотов) повествовательной формой в арабской литературе, будь то проза или поэзия. Выполненный персом Ибн ал-Мукаффой (ум. в 757 г.) ранний арабский перевод басен Бидпая воспринимался как литературная классика[92]. Видимо, персидские сказки (в столь же высококачественном переводе) легли в основу «1001 ночи», но в более поздних напластованиях их анонимность и невыразительный язык выдают народное происхождение. В сущности, мастера арабской прозы почти полностью отдали повествовательный жанр в руки простонародья, это связано с атомарностью арабской литературной практики: до блеска отшлифовывая средства выражения, арабы не развивали ни эпоса, ни (вплоть до последнего времени) драмы, ни романа — никаких жанров, требующих длительной изобретательности, связанной с единой темой. Единственным заметным исключением в восточных землях было прозаическое произведение поэта ал-Маарри «Рисалат ал-гуфран» («Послание о прощении»), в котором описывалось путешествие па небеса н встреча там с поэтами былых времен. Поверхностному сходству этого трактата с «Божественной комедией» Данте обязана своим возникновением дискуссия о том, пдохновляли ли Данте, хотя бы отчасти, мусульманские источники[93].
Мусульманская Испания в этом смысле ничем особенно не отличалась от восточноарабских земель. Сказки и легенды (некоторые из них сохранились) были частью культурного достояния простого народа. Именно их безымянные творцы, не привязанные сознательно к ограниченной традиции, свободно поглощали всяческие элементы, лишь бы они были полезными и привлекательными, независимо от того, был ли этот элемент арабским, греческим или местного происхождения, и сплетали их в такую ткань, которую подсказывало им обогащенное гибридизацией воображение. Однако п здесь не развилось никакого литературно-повествовательного жанра, хотя известно, что некий Ибн ал-Кинани, врач XI в., был автором книги «Мухаммад и Суда» (ныне утеряна), вероятно представлявшей собой образец романтического произведения.
Есть еще два андалусских сочинения, весьма интересных в этом отношении, хотя в обоих повествовательный элемент имел для авторов второстепенное значение. Одно из них — «Рисалат ат-таваби ва-з-заваби» Абу Амира ибн Шухайда (992—1035). Автор описывает путешествие в некое фантастическое царство, где он встречается с таваби («гениями»), которые, по доисламским поверьям, вдохновляют и опекают поэтов. Он беседует с гениями трех доисламских поэтов и с гениями «современных» стихотворцев. В большинстве случаев эта беседа представляет собой лишь краткий диалог, в заключение которого гений одобрительно выслушивает касыду, написанную Ибн Шухайдом в духе упоминаемого поэта. Но есть в книге места, где автор останавливается на тех или иных поэтических фигурах и образах, используемых известными поэтами. Заканчивается эта книга обсуждением поэтических достоинств сочинений мула и осла и выступлением гуся — возможно, это сатирическое изображение каких-то неидентифицируемых литературных деятелей.
Это первая подобная книга на арабском язьгке, дошедшая до нас, она на несколько лет опередила «Рисалат ал-гуфран» ал-Маарри (хотя нет никаких свидетельств, что ал-Маарри знал о ней). Перес предполагает[94], что источником ее могли послужить некоторые диалоги Платона или Лукиана, но это предположение также не подтверждено никакими фактами. Во всяком случае, это прежде всего образец литературной критики, облеченной в несколько причудливую форму. Повествование в нем ведется весьма искусно, иногда со скрытым юмором, столь редким в арабской литературе. То обстоятельство, что автор встречает лишь гениев поэтов (а не самих поэтов), дает ему возможность вводить описания внешности, которые, хоть и носят случайный характер, выглядят весьма меткими.
Второе повествовательное сочинение — история о Хаййе ибн Йакзане Ибн Туфайла (ум. в 1185 г.), которое подробно будет рассмотрено ниже, в главе о философии. С точки зрения истории литературы можно отметить, что Ибн Туфайл позаимствовал имя героя и общую тему (достижение высшей истины упражнением человеческих способностей) из раннего сочинения восточномусульманского философа Ибн Сины (980—1037). Но если труд Ибн Сины был философским трактатом, а имя его героя — «Живой, сын вечно Бодрствующего» — всего лишь откровенным символом, то Ибн Туфайл соединил его с народной сказкой о мальчике, которого выкормила газель. Он облек свои рассуждения в плоть и кровь, описывая духовное развитие человеческого существа, заброшенного на необитаемый остров, не подверженного традициям и не связанного социальными узами, — как бы предвосхищая «Эмиля» Руссо. Необычайный союз в этом произведении философии и народной повествовательности дал арабской литературе одно из самых интересных и увлекательных нарративных сочинений.
3.«Религиозные науки» и история
Для различных интеллектуальных дисциплин, равно как и для поэзии, политические беспорядки, последовавшие за падением Омейядского халифата, открыли период расцвета. Этот расцвет в значительной степени объясняется тем, что было сделано во второй половине X в., в последние годы правления Абд ар-Рахмана III и при ал-Хакаме II: строительство библиотек и поощрение ученых из центральных областей к переселению в Испанию. Видимо, помог и дух времени, так как уверенность в себе, самосознание, возникшее при Абд ар-Рахмане III, сохранялись долгое время и после исчезновения Омейядов. Неудивительно, что в XI и XII вв. Испания породила людей широко образованных, людей всеохватывающей учености. Величайшие из них обрели славу в центральных землях, а в XIII в., когда большая часть мусульманской Испании перестала существовать, ученые из ал-Андалуса смогли найти себе применение в Северной Африке, Египте и Сирии.
Самым выдающимся ученым ал-Андалуса в XI в. был Ибн Хазм Кордовский (994—1064), которого в Европе иногда называют Abenhazam[95]. Его происхождение не лишено курьезов. Он утверждал, что происходит из древнего персидского рода, переселившегося в Испанию в качестве клиента Омейядов; и некоторые из поздних биографов уверовали в это. Но кое-кто из современников упрекал его в том, что на самом деле он родом из местного испанского семейства, жившего недалеко от Севильи[96]. Он, конечно, чувствовал себя арабом, родичем Омейядов, и бьгл злейшим противником христиан. Одно из его второстепенных сочинений — трактат по арабской генеалогии.
Его отец занимал различные видные посты при ал-Мансуре Амириде и его сыне ал-Музаффаре (ум. в 1008 г.) и несомненно продолжал заниматься тревожными государственными делами ал-Андалуса после смерти ал-Музаффара до собственной кончины в 1012 г. К этому времени Ибн Хазм, вероятно, уже закончил свое образование, поскольку распад правящих институтов начался уже. в 1009 г. Существуют обрывочные сведения, что его семья перебиралась из одного поместья в другое, пока в 1013 г. не осела в Хативе под Валенсией. К 1016 г. Ибн Хазм, видимо, был вовлечен в политику на стороне Омейядов, но его карьера оказалась весьма неровной, он не избежал ни войны, ни тюрьмы. В декабре 1023 г. он стал главным министром одного недолговечного омейядского халифа, но уже через семь недель халиф был убит, а Ибн Хазм брошен в тюрьму. В промежуток с 1027 до 1031 г. он, как сообщают, получил новое политическое назначение, но вскоре оставил политику навсегда, предавшись науке.
Его первое прозаическое произведение, «Ожерелье голубки»[97], было своего рода сюрпризом как потому, что было создано человеком, занимавшим высокие посты в качестве теолога и правоведа, так и потому, что было целиком посвящено любви и включало многочисленные живые истории на эту тему. Отчасти этот трактат явился отражением его собственного опыта, увлечений молодости, но еще больше он отражал интерес автора к арабскому языку и к совершенствованию литературного слога. Проза Ибн Хазма тщательно отделана и перемежается изящными стихами собственного сочинения. Напряженное внимание к языку роднит «Ожерелье голубки» с более поздней теологической системой.
Первые свои познания в «религиозных науках» Ибн Хазм приобрел у маликитов, преобладавших в Испании, поэтому они не выходили за пределы изучения деталей правовой системы и ее практического применения. Но удержать ревностного ученика от вопросов о правомерности частных предписаний было невозможно: ведь в Испании того времени насчитывалось немало ученых знатоков хадисов, равно как и законоведов-шафиитов. Эти последние, должно быть, распространяли учение о «корнях» — основных принципах структуры права. Ибн Хазм углубился в изучение хадисов и даже написал большую книгу о праве с точки зрения шафиитов. Однако к 1027 г. он начал разочаровываться в шафиитской системе и вернулся под влияние одного из своих старых наставников в области литературы, который теперь познакомил его с захиритской школой правоведения. С этих пор захиризм становится для него духовным приютом. Эта школа была основана Давудом ал-Исфахани (ум. в 884 г.) и считала главным своим принципом сохранение «прямого значения» (захир) слов Корана и хадисов. Подобный центральный принцип был обусловлен прежде всего попыткой устранить явно противоречивые свидетельства исходных текстов, не впадая при этом в метафорическую интерпретацию (проклятую консервативными кругами).
Вероятно, увлечение Ибн Хазма захиризмом было очень велико. Прежде захиризм был просто школой права (правовым толком), Ибн Хазм пытается построить на том же основополагающем принципе целую систему догматической теологии. Как представляется, эта система выводилась из сочетания традиционной арабской концепции языка (и соотношений языка и знания) с тенденцией к умозрительности, вероятно иберийского происхождения (поскольку ее можно проследить и в достижениях философской мысли дальнейших веков). Для мусульман арабов язык был не просто условностью, придуманной человеком, но творением бога, созданным в соответствие неким определенным предметам, к которым и сам он принадлежит. Коран как речь бога должен быть превосходным средством передать людям то, что бог хочет им сообщить. Следовательно, главная задача ученых заключается в том, чтобы, во-первых, понять, что бог подразумевает в Коране, и, во-вторых, уяснить, что подразумевается в различных высказываниях Мухаммада. Конечно, осуществление этой задачи невозможно без глубокого знания Корана и хадисов (в частности, Коран следует знать наизусть) и без тщательнейшей заботы каждого нового поколения ученых о скрупулезной передаче точной словесной формы текстов Писания. Подобные взгляды были широко распространены среди мусульманских ученых и отнюдь не ограничивались захиритской средой, но именно захирит Ибн Хазм посмотрел на эту концепцию наиболее серьезно и попытался дать ее истолкование.
Кажется, Ибн Хазм оказал значительное влияние на более поздние философские воззрения ал-Андалуса, но и теологии у него не было явных последователей. Некоторые из его учеников придерживались в законоведческой практике захиризма (хотя бы по временам), и захиритская школа просуществовала еще один-два века, правда с весьма ограниченным числом приверженцев. Ибн Хазм был очень резок на язык (это даже вошло и пословицу) и заработал себе немало врагов. Одно время он нашел себе убежище на Мальорке, но склоки там привели к его высылке. Последние годы жизни он провел в фамильном владении Ниебла (западнее Севильи), где и умер в 1064 г.
Для современных исследователей кроме трудов Ибн Хазма по теории права весьма интересно его сочинение о сектах. Его даже превозносят как первую работу по сравнительному описанию религий, однако это не совсем так. Во-первых, существует несколько более ранних арабских ересиологических работ, а во-вторых, целью сочинения Ибн Хазма было не описание, а полемика. Смешение вер в Испании, вероятно, толкало ученых типа Ибн Хазма на размышления по поводу позиции собственной религии по отношению к религиям-конкурентам. Сохранилось еще около тридцати пяти работ Ибн Хазма, но некоторые из них лишь памфлеты на различные темы. Кроме этого он создал сочинение по этике (оно было переведено на испанский), трактат с критикой аристотелевой логики (по мнению биографов, основанный на неверном понимании) и эпистолу, защищающую ал-Андалус от упреков в пренебрежении к памяти своих ученых[98].
Ибн Хазм был явлением из ряда вон выходящим, он не может считаться типичным. В качестве другого первоклассного ученого, получившего известность в центральных землях, по своим мировоззрением тесно связанного с ал-Андалусом, можно назвать Ибн Абд ал-Барра (978—1071)[99]. Он получил образование в Кордове, но вел переписку с учеными восточноарабского мира и стал величайшим знатоком хадисов в Испании и Северной Африке. Его исследования и сочинения охватывают различные дисциплины, в том числе арабскую генеалогию и описание жизни и походов Мухаммада. Большое внимание привлекало изучение биографий сподвижников Мухаммада (ансаров), поскольку цепь передатчиков хадисов всегда открывалась кем-либо из сподвижников.
Самое своеобразное сочинение Ибн Абд ал-Барра кратко называется «Толкование и превосходство знания». Составлено оно весьма типично для знатока хадисов: почти целиком из рассказов о высказываниях и деяниях Мухаммада и выдающихся представителей раннего мусульманства вместе с изложением взглядов других ученых по этому поводу. Свои собственные взгляды он прямо не высказывает, лишь иногда их можно вывести из таких положений: «Все законоведы и ученые, за исключением двух, соглашаются, что суждение по аналогии (кийас) допустимо в правовых решениях, но не в боголовии». Выбор тем, однако, весьма интересен — они связаны с арабской концепцией знания (подобно только что приведенной) и формулируются так: необходимость поисков знания; превосходство учености над благочестием и мученичеством; следует ли отдавать предпочтение записи знаний (с точки зрения устной культуры доисламских арабов эта процедура была нежелательной); путешествия в поисках знания; должное уважение ученика к учителю; отношение ученых к властям; источники правовых и религиозных знаний; методы аргументации, возможные в этих областях. В этом проявляется тенденция ученого к отходу от строгого маликизма X в.; далее он совершенно недвусмысленно отрицает таклид, т.е. слепое следование авторитетам. Неудивительно, что сам ученый сначала принадлежал к захиритской школе, а позднее, хотя он принял господствующий маликитский толк и стал кадием Лиссабона, его подозревали в склонности к шафиизму.
Вторую половину своей долгой жизни он провел в различным городах восточного побережья страны и умер также в тех краях — в Хативе.
Дальнейший свет на условия существования ученых и этот период проливает жизнь ал-Хумайди. Он родился ок. 1029 г. на Мальорке, куда его отец перебрался из окрестностей Кордовы, скорее всего из-за беспорядков в стране. На Мальорке ал-Хумайди испытал влияние Ибн Хазма и приобрел прекрасное знание хадисов и смежных предметов. Он учился также у Ибн Абд ал-Барра, вероятно в Кордове. В 1056 г. он отправляется в восточные земли завершать образование, предполагая посетить Мекку. Сообщают, что он изучал хадисы также в Тунисе, Египте, Дамаске и Багдаде. Возвратился ли он после того в Испанию, неизвестно. Он принял захиритские взгляды своего учителя Ибн Хазма и пострадал из-за общей оппозиции этому толку. По этим причинам он со временем переселился в Багдад. Там кроме нескольких компетентных, но заурядных трудов по хадисам он вод воздействием багдадских друзей составил по памяти биографический свод ученых Испании. Ал-Хумайди был одним из первых эмигрантов из Испании на восток, умер он в Багдаде в 1095 г.
Итак, в ал-Андалусе, несмотря на тяжелые времена, наука продолжала удерживаться на высоком уровне. Это подтверждается не только именами и биографиями ряда ученых на протяжении следующих полутора веков, не только списком сохранившихся рукописей того времени, но прежде всего славой, которую снискал в центральных мусульманских землях Кади Ийад (1083—1149). Пожалуй, он был главной фигурой алморавидского периода. Родившись в Сеуте, в африканской части Алморавидской империи, он учился в Кордове, но впоследствии опять вернулся в Сеуту в качестве кадия. Затем он был назначен на аналогичную должность в Гранаде, но вскоре (в 1137 г.) перебрался в Кордову. Несомненно, тревожное положение в стране в конце алморавидского правления послужило причиной его возвращения в Марракеш, где он и умер в 1149 г.
Он пользовался репутацией величайшего знатока хадисов на мусульманском западе того времени и оставил после себя несколько среднего качества трудов по правоведению, хадисам, а также свод биографий маликитских правоведов, но одно сочинение, известное как «Шифа» («Исцеление»), поднимает его над заурядностью. До сих пор сохранилось более двадцати комментариев на этот труд, составленных между XIV и XIX вв. Хотя в полном названии книги говорится о «правах» пророка, фактически она представляет собой восхваление Мухаммада вплоть до возведения его в ранг сверхъестественных фигур. Особо подчеркиваются сотворенные Мухаммадом чудеса (в противовес точке зрения богословов, утверждавших, что единственным чудом пророка был Коран), описываются его моральные совершенства, утверждается его непогрешимость и безупречность. Таким образом, это сочинение знаменует важный этап в развитии теологической доктрины личности Мухаммада — вероятно, именно это привлекло к нему такое количество комментаторов. Заманчиво связать общее направление этой книги с поклонением святым, распространенным в Северной Африке. Хотя сообщается, что дед Ийада эмигрировал из ал-Андалуса в Фес, а затем в Сеуту, вполне можно предположить, что семья эта была берберского происхождения, и уж почти наверняка по женской линии имела североафриканскую кровъ. Возможно, что наследственные черты вместе с окружающей средой повлияли на возникновение мировоззрения Ийада, столь характерного для Северной Африки[100].
Итак, маликизм алморавидского периода отличался от маликизма конца X в., теперь маликитские ученые включали в сферу своей деятельности гораздо больше, чем детали правовой практики. По мере возникновения в Северной Африке угрозы со стороны Алмохадов (т. е. примерно с 1125 г.) маликиты, поддерживавшие Алморавидов, осознавали необходимость атаковать не только учение Ибн Тумарта и его алмохадских последователей, но и доминировавшую в Багдаде ашаритскую теологию, которую (не вполне верно) считали определяющей для формирования взглядов Ибн Тумарта. Особенно яростным нападкам подвергался ашаритский богослов и мистик ал-Газали. Было написано немало книг, критикующих его взгляды, его учение было официально объявлено еретическим, а его основной труд «Оживление наук веры» был публично сожжен (явно по приказу Кади Ийада).
После установления в Испании власти Алмохадов, начиная с 1145 г., маликитские правоведы лишились той официальной поддержки, которой они располагали при Алморавидах, но некоторые из них сохранили прежние посты. Со временем алмохадские правители обнаружили, что не могут обойтись без маликитов и той части населения, для которой маликиты служили рупором. Хотя алмохадское движение началось с одной определенной теологии, оно не было тем самым привязано лишь к одной системе юриспруденции. Об Абу Иусуфе Иакубе (1184—1199) сообщают, что он поощрял захиритов. Самым выдающимся из законоведов того времени был поддерживавший существующий режим Ибн Рушд (1126—1198). Он стал одним из величайших в мире философов, и о том, что он был законоведом, почти не вспоминают. А между тем он происходил из семьи законоведов, сам продвинулся до поста кадия Севильи, а затем Кордовы и в 1188 г., кажется, закончил важную работу по юриспруденции, написанную в основном двадцатью годами раньше. Этот труд рассматривает «различия» между официальными правовыми толками (или школами) и уделяет особое внимание аргументации каждой школы, которой та подкрепляет частные определения[101]. Этот вопрос о «корнях» права маликиты обычно обходили, зато мелкие группы захиритов и шафиитов культивировали его; возможно, что именно эти группы оказали основную поддержку Алмохадам в юриспруденции.
В заключение следует кратко остановиться на исторических трудах в Испании[102], что не будет противоречить теме данной главы, так как большинство историков и биографов были одновременно юристами. По мнению Леви-Провансаля, самым значительным из ранних историков был Ибн Хаййан (ум. в 1076 г.) Его труды, правда сохранившиеся лишь частично, содержат много ценной и надежной информации. Его современник, толедский кадий Сайд (ум. в 1070 г.), оставил свод всеобщей истории (в 1935 г. он был переведен на французский язык под названием «Livre des categories des nations»), в котором все народы подразделены на тех, кто культивирует науки, и тех, кто их не знает, и определена степень знакомства мусульман с немусульманскими цивилизациями того времени. В ал-Андалусе было также составлено много сборников биографий, в основном местных ученых. Как правило, эти сочинения представляют больший интерес с точки зрения их содержания, чем с точки зрения литературных достоинств.
В каком-то смысле цивилизация мусульманской Испании продолжалась в Северной Африке, поэтому здесь уместно упомянуть имя Ибн Халдуна (1332—1406), который, хоть и родился в Тунисе, принадлежал к арабскому роду, с VIII в., жившему в Испании, игравшему важную роль в Севилье незадолго до захвата ее христианами. Ибн Халдун—автор обширного исторического труда, последние тома которого подробно освещают историю различных североафриканских династий. Общее внимание привлекает введение к этому сочинению («Мукаддима»), которое считается первой работой по социологии. Хотя Ибн Халдун провел большую часть жизни в Северной Африке и лишь в 1362—1365 гг. побывал в Испании (в Гранаде), один из последних его переводчиков считает, что «его приверженность к Испании и испанской культуре» глубоко повлияла на основу этого труда[103]. Таким образом, он может служить примером того, каким путем ал-Андалус вносил свой вклад в общую цивилизацию мусульманского мира.
4.Философия и мистицизм
Выше уже отмечалось, что в начале X в. Ибн Масарра и его школа начали развивать в ал-Андалусе философию. Однако, хотя можно и далее обнаружить некоторый интерес к философским идеям, нельзя назвать какого-либо ученого философом, пока мы не сталкиваемся с Ибн Баджжей (ум. в 1138 г.). Он родился в Сарагосе, позднее жил в Севилье и Гранаде, а под конец жизни переселился в алморавидскую столицу Фес, где был, очевидно, отравлен одним известным врачом. Его главный труд называется «Образ жизни уединившегося» и в общих чертах может быть определен как выражение протеста против меркантильности и суетности правящих классов того времени. Коль скоро общество так испорчено, настаивает Ибн Баджжа, человек, увидевший его истинное лицо, должен отрешиться от него хотя бы в мыслях. В сочинении Ибн Баджжи чувствуется подлинная приверженность к проблемам этики, но не следует забывать, что интеллектуальная жизнь при Алморавидах контролировалась консервативными маликитами, поэтому философу ничего не оставалось, кроме ухода от мира и отшельнической жизни. В отличие от историка для философа наибольший интерес в его книге представляет анализ «спиритуальных форм», т. е. идей, возникающих в человеческом сознании[104].
После падения Алморавидов и установления в ал-Андалусе власти Алмохадов семя, брошенное Ибн Баджжей, принесло чудесные плоды. Причины этого можно видеть в существовании при Алмохадах больших перспектив для развития философии. Основоположник алмохадского движения Ибн Тумарт (ок. 1080—1130) был не философом, а теологом, однако он поощрял и философские формы теологии. Скорее всего, Ибн Тумарт не был учеником ал-Газали (ум. 1111 г.)[105], великого богослова, который усовершенствовал неоплатоническую философию своего времени. Подвергнув ее энергичной критике, он вместе с тем показал, что многое в этой системе взглядов сочетается со здоровой теологической доктриной. Не встречаясь с самим ал-Газали, Ибн Тумарт был знаком с его учением. Как отмечалось выше, защита идей маликизма при Алморавидах включала в себя нападки на ал-Газали, равно как и на алмохадскую теологию. Следовательно, как только интеллектуальная оппозиция пришла к власти, должна была возникнуть атмосфера благоприятствования философии. Так и случилось.
Первым выдающимся философом при Алмохадах был Ибн Туфайл (ок. 1105—1185), известный в средние века и как Abubacer (от его куньи Абу Бакр). Он родился в Кадиксе близ Гранады и, прослужив некоторое время секретарем местного правителя, возвысился до положения везира и дворцового врача при алмохадской халифе Абу Йакубе Йусуфе (1163—1184). Он поведал миру свою философию в довольно аллегорической форме (возможно, чтобы обмануть противников) в романтическом повествовании «Хайй ибн Иакзан» («Живой, сын Бодрствующего»), которое было переведено на различные европейские языки[106].
Герой повествования, Хайй, с младенчества растет на пустынном острове, не встречаясь с людьми, вскормленный газелью. При помощи размышлений и наблюдений за окружающим миром он постепенно вырабатывает цельную философскую систему, включающую доктрину бога, и достигает степени мистического экстаза. Тут на острове появляется другой юноша, по имени Асал, который ищет уединения от мира, чтобы предаться мистическому созерцанию (в духе Ибн Баджжи). Когда эти двое встречаются и сравнивают свои взгляды, они обнаруживают, что философская религия Хайя идентична позиции Асала, достигнутой путем философской критики традиционной веры. Хайй преисполняется энтузиазма обратить жителей обитаемого острова в свою философскую веру, но, когда два товарища пытаются осуществить свой план, они убеждаются, что люди не хотят принимать их религии.
Эта история, прелестно изложенная, явственно соотносится с современной автору проблемой взаимосвязи между философией и религией. Можно считать, что Хайй олицетворяет чистую философию, а Асал — философское богословие, возможно богословие, подобное созданному Ибн Тумартом. О Саламане, правителе обитаемого острова, говорится, что он одобряет буквальное значение текста (захир) и отвергает метафорическую интерпретацию (тавил) — таким образом, его можно сопоставить с захиритами и другими законоведами, поддерживавшими Алмохадов (но, видимо, не с маликитами). Итак, Ибн Туфайл дает негативное решение проблемы: философская религия представляет собой истину, но ее нельзя прямо использовать для ведения дел в государстве или в жизни простых людей. Отдельные привилегированные личности могут через посредство философии осуществить величайшее предназначение человека, но достигается эта возможность только уходом от действительной жизни. Это напоминает царей-философов из «Государства» Платона, которые находят истинный смысл жизни в созерцании Добра самого по себе. Однако способа, которым мистический экстаз философов может содействовать благосостоянию светского государства, состоящего из простых людей, Ибн Туфайл не излагает.
Другой великий философ алмохадского периода, а в некотором отношении и величайший философ из всех писавших по-арабски — Аверроэс, или Ибн Рушд (1126—1198), мы уже упоминали его как законоведа. Он был другом Ибн Туфайла и на короткое время сменил его в должности придворного врача Алмохадов. Впервые Ибн Туфайл представил его алмохадскому принцу и будущему правителю Абу Иакубу Иусуфу примерно в 1153 г. Хотя молодой Аверроэс был уже искушен в греческих науках, он испугался и отрицал свою осведомленность в этой области, когда эмир спросил его, считают ли философы небеса вечными или сотворенными. Только после того, как эмир, обратившись к Ибн Туфайлу, свободно заговорил о Платоне, Аристотеле и др., Аверроэс осмелился вступить в беседу. Несмотря на такое неудачное начало, он стал большим другом эмира. Его сын и наследник Абу Йусуф Йакуб ал-Мансур также благоволил к Аверроэсу, но в 1195 г. был вынужден, чтобы получить от маликитских законоведов поддержку своей кампании против кастильцев, сместить ученого с поста кадия Кордовы и даже приказал сжечь его книги. Вскоре, однако, он исправил содеянное, приблизив Аверроэса к своему двору в Марракеше.
Самая важная философская работа Аверроэса — его комментарии к ряду трудов Аристотеля. Он глубоко проник в систему взглядов Аристотеля и был способен толковать его сочинения в истинно авторском духе. До этого понимание мусульманскими мыслителями Аристотеля опиралось в основном на неоплатоническую традицию, которая во многих отношениях отошла от учения Аристотеля, сведя к минимуму различия между ним и Платоном. Большую путаницу внесла арабская версия неоплатонического сочинения под названием «Теология Аристотеля». Одной из величайших заслуг Аверроэса было, таким образом, открытие подлинного Аристотеля и передача Европе его идей. Это произошло после перевода христианскими и иудейскими учеными Испании комментариев Аверроэса на латынь и древнееврейский. Знакомство с Аристотелем послужило в Европе одним из важнейших факторов, способствовавших великим достижениям томизма, хотя сам Аверроэс в этом ничуть не виноват: просто его взгляды на соотношение разума и божественного откровения были искажены так называемым латинским аверроизмом в теории «двойственности истины».
Хотя при Алморавидах маликиты совместили нападки на ал-Газали с атакой на Алмохадов, Аверроэс чувствовал необходимость защищать философию от критики ал-Газали, содержавшейся в книге последнего «Опровержение философов» (написана ок. 1095 г.). В своем ответе на этот труд, озаглавленном «Опровержение опровержения». Аверроэс раздел за разделом детально опровергает осуждение философов, с которым выступил ал-Газали, и попутно высказывает собственную уверенность в способностях разума постичь конечные тайны Вселенной[107]. Это было первоклассное философское сочинение, и на европейскую мысль оно оказало некоторое влияние (его перевели на латынь в 1328 г.), но оно появилось слишком поздно и слишком далеко от центральных мусульманских областей, чтобы вызвать в них какое-то оживление философской мысли. Там философия была монополией теологов, особенно теологов ашаритской школы, которые подчиняли ее теологической догме. И хотя труд Аверроэса был известен в восточных землях, его мировоззрение оказалось настолько чуждым здешним ученым, что они просто не воспринимали его.
Кроме присущего ему чистого аристотелианства Аверроэс отличается от Ибн Туфайла более позитивным подходом к связи между философией и религией. Аверроэс был глубоко убежден, что и философия, и религия истинны, это убеждение легло в основу его частной жизни, в которой он сочетал сочинение философских трактатов со службой кадия. В одном небольшом произведении (ныне переведенном на английский язык под названием «Оп the Harmony of Religion and Philosophy») он настаивает на том, что, поскольку философия истинна и ниспосланное богом писание тоже истинно, между ними не может быть никаких противоречий. Затем он довольно подробно показывает, как можно примирить явные противоречия. Хотя философы могли допускать отдельные ошибки, философия в целом правильна, поэтому указанное примирение должно осуществляться при помощи интерпретации священного писания, так чтобы привести его к гармонии с принятой философской доктриной.
С этой точки зрения Аверроэс оправдывает активное участие философов в современной им жизни. Религиозные представления простого народа также могут иметь ценность, если они правильно поняты и истолкованы, поэтому философ не должен избегать контактов с народной религией, а должен «выбрать наилучшую религию своего времени», принять ее формулировки и объяснить их. Поступая так, он вносит свой вклад в жизнь государства, в которой религии принадлежит важная роль. Аверроэс настолько четко осознает место религии в обществе, что считает ниспосланную богом религию (конечно, осмысленную философски) предпочтительной по сравнению с религией чистого разума. Возможно, что различия между Ибн Туфайлом и Аверроэсом в этом вопросе обусловлены формированием идей Ибн Туфайла при Алморавидах и маликитах, враждебных философии, тогда как при Алмохадах, напротив, по отношению к философам проявлялись терпимость и дружелюбие.
С Аверроэсом философия в мусульманской Испании достигла высшего уровня. Но к моменту его смерти период терпимости закончился, так как серьезные политические затруднения вновь вернули к власти маликитов. Иногда говорят о «философии» Мухйи ад-Дина ибн ал-Араби, но это, скорее, теософия. С большим правом па звание философа может претендовать более молодой (родился вероятно, раньше 1200 г.) Ибн Сабин (ум. в 1270 г.). Уроженец и воспитанник Испании, к традициям которой он принадлежал, Ибн Сабин скоро предпочел ей Северную Африку, а окончил жизнь в Мекке, где, как сообщают, вскрыл себе вены. Ему приписывают (хотя это сомнительно) небезынтересную книгу «Ответы на сицилийские вопросы» — имеются в виду вопросы, которые император Фредерик II поставил мусульманским ученым в Сеуте (при посредничестве алмохадского правителя того времени). Изложенная здесь философия представляется менее аристотелианской и более неоплатонической, чем у Аверроэса. Это неудивительно, поскольку Ибн Сабин был еще и мистик[108].
Трудно написать что-либо определенное о суфизме и мистицизме в Испании, отчасти потому, что они там смешаны с философией, отчасти из-за зависимости этих направлений от развития мистицизма в Северной Африке и других местах. Связь мистицизма с философией восходит к Ибн Масарре (см. выше). Известны несколько его учеников, чья деятельность развивалась в конце X — начале XI в., но масарризм пришел к концу, когда один из его адептов провозгласил себя чудотворцем и стал вмешиваться в политику. Центром мистиков-масарритов была Печина (но наравне с нею и Кордова, столица); в соседней Альмерии во второй половине XI в. обосновалось другое мистическое течение. Окончательную форму ему придал Ибн ал-Ирриф (ум. в 1141 г.), второстепенные центры этого движения были в Севилье, Гранаде и Алгарви (Португалия). Постепенно алморавидские правители заподозрили, что у этого движения могут быть политические последствия, тем более что их собственная власть над ал-Андалусом все слабела. Они вызвали Ибн ал-Иррифа и его ближайшего помощника в Севилье, Ибн Барраджана, в Северную Африку, где оба умерли. Однако вождь мистиков в Алгарви сохранял политическую независимость с 1141 по 1151 г.[109]
Как полагает самый выдающийся исследователь мистицизма мусульманской Испании Мигель Асин Паласиос, масарритские идеи оказали влияние и на величайшего мистика ал-Андалуса Мухйи ад-Дина ибн ал-Араби (1165—1240)[110]. Он родился в Мурсии, учился в Испании и в Северной Африке, объединенных в то время под властью Алмохадов. Возможно, что в Севилье он подпал под влияние Ибн ал-Иррифа и Ибн Барраджана. Однако в 1201 г. он отправляется в паломничество на восток и остальную часть жизни проводит в Мекке, Багдаде и Дамаске, где знакомится с многочисленными мистическими течениями центральномусульманских областей, включая ханбалитов. Его литературное наследство весьма обширно, в значительной степени оно содержит материал, который можно найти у более ранних мистических авторов. Асин Паласиос подчеркивает также наличие христианского влияния, хотя другие ученые склонны сводить его к минимуму. Ибн ал-Араби часто обращается к концепции логоса, который он идентифицирует с Мухаммадом или бытием Мухаммада, но эта концепция не аналогична христианской доктрине логоса, так как система Ибн ал-Араби в основе своей пантеистична и монистична. Однако вдаваться в подробности мы не будем — этот вопрос относится к общему изучению исламского мистицизма.
В заключение следует отметить, что андалусцы внесли важный вклад в рост дервишского мистического ордена шазилийя. Иногда основателем этого ордена считают вместе с аш-Шазили (ум. в 1258 г.) также и Абу Мадйана из Тлемсена (ум. в 1193 г.), который прибыл пз Испании, как и его главный ученик и преемник Абу-л-Аббас ал-Мурси (ум. в 1287 г.). Самым важным из этих андалусцев, проведших зрелые годы в Северной Африке, был Ибн Аббад из Ронды (1333—1390), который прожил большую часть жизни в Рабате и в Фесе[111]. Его помнят прежде всего как комментатора одного из основополагающих орденских трудов, а также за сборник «писем по духовному руководству».
5. Искусство в XI—XII вв.
Искусство мусульманской Испании при «удельных князьках», при Алморавидах и Алмохадах заслуживает внимания историка тем, что одновременно и проливает свет на некоторые основные, трудноразрешимые вопросы, и ставит перед исследователем новые проблемы. Одна из таких сложных проблем заключается в том, что развитие изобразительных искусств сильно отличается от развития литературы. Возможно, это объясняется различной социальной средой, в которой возникли эти два вида искусства. Произведения изобразительного искусства, особенно архитектуры, заказывались правящей верхушкой в любой период, а выполнялись большей частью представителями ремесленных слоев, профессиональные навыки которых передавались из поколения в поколение.
Самым замечательным из сохранившихся архитектурных памятников периода «удельных князьков» является дворец Алхафёриа в Сарагосе, построенный местным правителем Абу Джафаром ал-Муктадиром (1049—1081). При сравнении его с памятниками X в. обнаруживается растущий интерес к украшениям. Арки тщательно отделаны зубцами, заполняющий плоскости геометрический орнамент становится более сложным, отчетливо выражена склонность к контрастам, проявляющаяся в сочетании гладких поверхностей с панелями, заполненными причудливыми украшениями. Все это служит естественным развитием искусства омейядского периода.
В самой Испании нет выдающихся памятников искусства алморавидского периода, но о его общем характере можно судить по различным постройкам в Северной Африке, особенно после того как была удалена штукатурка, которой их замазали при Алмохадах. Алморавиды использовали при работах ремесленников из ал-Андалуса, так что архитектурный стиль мусульманской Испании был перенесен на южное побережье Средиземного моря. В многочисленных образцах алморавидских произведений особенно заметна тенденция полностью закрыть поверхности орнаментом. Что касается религиозных верований Алморавидов и поддерживавших их маликитских законоведов, то они, кажется, никак не влияли на художественное творчество.
При Алмохадах, напротив, элемент пуританства в их религиозных воззрениях привел в искусстве к отказу от богатого декора предшествующего периода. Именно по этой причине были оштукатурены некоторые памятники эпохи Алморавидов. Большая простота алмохадского искусства бросается в глаза — особенно в североафриканских образцах, где ощущается также и величие. В алмохадских произведениях на территории самой Испании это не так явно. Один из главных памятников Алмохадов, Хиралда в Севилье (ныне служащая колокольней кафедрального собора), ближе к ранним испан-ским стилям, чем к современному ей стилю Северной Африки.
К более общим моментам, которые можно отметить, относится готовность новых берберских правителей принять архитектурные традиции ал-Андалуса. Их прежняя материальная культура была настолько простой, что у них вообще не возникало вопроса, принять ли чужую традицию или внести свой вклад. Теологические идеи, лежавшие в основе алморавидского и алмохадского движений, правда, подчеркивали роль ислама (и превосходство ислама над христианством), но это не оказало прямого влияния на художественное творчество. Поскольку традиция ал-Андалуса была определенно мусульманской и антихристианской, у ревностных мусульман не возникало колебаний в принятии ее. Возможно, они действительно чувствовали нечто специфически исламское в геометрических или стилизованных растительных орнаментах.
Глава десятая. Конец мусульманской Испании
1. Насриды из Гранады
Как уже отмечалось, основателем насридской династии был Мухаммад ибн Йусуф ибн Наср, известный также под именем Ибн ал-Ахмар. Хотя он поначалу выдвинулся в Хаэне, где стал правителем около 1231 г., успехи Реконкисты при Фердинанде III Кастильском, и в частности, потеря самого Хаэна в 1245 г., вынудили его отступить на юг и сделать Гранаду, которую он захватил еще в 1235 г., своей столицей. Когда он понял, что не сможет со своими малочисленными военными ресурсами долго противостоять силам кастильцев, он решил стать вассалом Фердинанда, как уже сделали несколько других местных правителей-мусульман. В этом качестве он предоставлял помощь своему сеньору в кампаниях, которые привели к взятию Севильи и оккупации земель в нижнем течении Гвадалквивира, а также в последующих кампаниях против мусульман. Созданное таким путем государство располагалось от Таифы (около самого Гибралтара) на западе и заходило на 20—30 миль за Альмерию на востоке, всего на протяжении 240 миль. На севере граница была, пожалуй, ближе к Хаэну, чем к Гранаде, в 60—70 милях от моря — на расстоянии полета вороны.
Когда Мухаммад I Гранадский стал вассалом Кастилии, он был не единственным мусульманским правителем, решившимся на этот шаг. Но прочие постепенно исчезли, сменились христианскими губернаторами. Последним из них был эмир Мурсии (1264 г.). Стоит спросить, почему же Гранадскому королевству удалось сохранять независимость в течение двух с половиной веков? Можно выдвинуть различные объяснения этому, но ни одно из них не будет окончательным. Мухаммад I оказался хорошим вассалом Фердинанда и его сына и заслужил этим великодушное обращение, так что к моменту его смерти в 1273 г. признание независимости Гранады стало обязательной частью внешней политики Кастилии. Возможно также, что для Кастилии с ее многочисленными мусульманскими подданными было небесполезно иметь рядом мусульманское государство, куда могли бежать недовольные. Но, может быть, главную роль сыграли два географических фактора: гористый рельеф страны и близость Африки. Большую часть территории Гранадского королевства составляли довольно высокие горы, эта естественная защита была усилена мощными крепостями и укрепленными городами (такими, как Ропда) — в тех местах, где легче было осуществить нападение. Пока все шло нормально, кастильские правители, возможно, считали, что попытки продвинуть в этом направлении свои рубежи не окупят военных расходов. Тем более что близость Африки позволяла насридским правителям время от времени обращаться за помощью к новым мусульманским правителям Марокко, династии Маринидов. Это означает, что они никогда не зависели полностью от милости Кастилии, хотя соблюдали осторожность и с Маринидами, чтобы не дать им присоединить Гранаду к их африканским владениям.
Гранадское государство полностью осознавало свой мусульманский характер. Беженцам со всех концов Испании предоставлялся приют. Арабский был единственным языком в королевстве. Евреи в стране были, но христиан мосарабов не было совсем, хотя не ясно, явилось ли это следствием каких-то определенных мер, или просто отношение к христианам рядовых мусульман сделало их жизнь там слишком неприятной. Подчеркивать роли ислама и защиты ислама вполне понятно в свете показанной еще Алморавидами и Алмохадами заботы о «священной войне». Растущее самосознание христиан в период успехов Реконкисты с 1212 по 1248 г. также имело немалое значение.
Об истории Насридского государства во многих аспектах почти не сохранилось сведений. Несколько лучше известны его отношения с христианскими государствами, так как в их хрониках есть материалы на этот счет. Период наибольшего блеска приходится на 1344—1396 гг., когда была построена самая прекрасная часть Дихамбры. В делом государство процветало — благодаря интенсивному сельскому хозяйству, городским ремеслам и торговле. Однако существовали и многочисленные внутренние трудности. Династийные распри из-за прав на престол, в которых каждый преследовал свои интересы, были весьма часты, особенно в последнее десятилетие XIV в. Сознательно исламский характер государства способствовал усилению влияния правоведов, а они вместе с африканскими наемниками и некоторыми городскими элементами обнаруживали тенденцию к войне. Им противостояла правящая элита, купцы и крестьяне, чьим интересам больше отвечал мир.
Конец Насридского королевства был в такой же степени вызван его собственной внутренней слабостью, как и растущей силой христиан. Эту силу еще более увеличило объединение Арагона и Кастилии, последовавшее за браком Фердинанда и Изабеллы. Изабелла вступила на трон Кастилии в 1474 г., а Фердинанд II на арагонский трон — в 1479 г. Но еще до этого захват Гибралтара в 1462 г. показал, что христианские державы вновь приступили к военным действиям. Все же можно было бы оттянуть окончательное поражение, но у мусульманских лидеров не выдержали нервы, и они дали волю нетерпению. В 1481 г., до окончания перемирия, они захватили у христиан замок Захара, и несомненно этот вызывающий булавочный укол привел Фердинанда и Изабеллу к решению покончить с Гранадой. Они отказались от всеобщего наступления — вместо этого Фердинанд использовал раскол среди самих мусульман и поддерживал мир с одной из фракций, пока его войска громили другую. Таким образом ему удалось захватить
Ронду (1485) и Малагу (1487) на западе, а потом Альмерию (1489) на востоке. Последняя кампания против Гранады была начата в 1491 г., и еще до конца этого года защитники города осознали безнадежность своего положения и согласились на сдачу. Им были предоставлены почетные условия, и город был сдан в самом начале 1492 г. Сцена прощания с ал-Андалусом последнего из Насридов — последнего мусульманского правителя в Испании — Абу Абдаллаха (Boabdil) породила одну из испанских народных баллад.
2. Мусульмане под властью христиан
Можно сказать, что падение Насридов было концом мусульманской Испании — и вместе с тем это был далеко не конец. Для историка мусульманской культуры жизнь некоторых немусульманских частей Испании в XIII и XIV вв. так же важна, как жизнь насридской Гранады. Следовательно, чтобы завершить историю мусульманской Испании, надо обратиться к истории мусульман, остававшихся в христианских государствах.
То, что было известно ученым о нетерпимости христианской Испании, вместе с распространением идей Реконкисты иногда приводило к заключению, будто с того момента, как провинция или область попадала под власть христиан, мусульман в ней вообще не оставалось. Но даже в Кастилии, которая особенно поощряла политику расселения христианских колонистов в не занятых еще землях, дело обстояло совсем не так. Когда в 1085 г. был занят Толедо, там осталось много мусульман-ремесленников, а с ними и отдельные ученые, которые сыграли важную роль в передаче Европе мусульманской науки и философии. После 1248 г. в христианских королевствах было много мусульман. В Кастилии они составляли большинство населения новой провинции Андалусия, в Арагоне христиане были в меньшинстве как в центральной провинции, так и в провинции Валенсия. Такое положение дел было неизбежным: правителям приходилось держать у себя мусульман, так как те были основой экономики страны, а мусульманам некуда было податься, и они продолжали заниматься своими ремеслами там же, где раньше.
Мусульмане, оставшиеся на старых местах при изменившемся правлении, стали известны как мудехары (исп. mudejares) — название, образованное от арабского слова мудаджжан — «получившие разрешение остаться» в значении «одомашненные». Они находились в том же положении, что и покровительствуемые меньшинства в мусульманском государстве. Они следовали своей религии, законам, обычаям и могли свободно заниматься ремеслами и торговлей. Во главе каждой местной мусульманской общины стоял мусульманский руководитель, назначаемый королем. За свои привилегии они платили подушную подать. Они образовывали отдельные общины, иногда обязанные носить особую одежду, занимали определенные кварталы городов. Значительную часть мусульман составляли трудолюбивые крестьяне, населявшие сельские районы. Некоторые ремесла почти полностью сосредоточены были в руках мудехаров.
Мудехары оставили мало следов в так называемой событийной истории христианской Испании, на которой концентрировалось внимание историков XIX в. Однако их небогатая событиями жизнь свидетельствовала о важном историческом явлении — существовании экономической структуры и материальной культуры, общих для мусульман и христиан. В эпоху мудехаров — XIII и XIV вв.— это экономическая и материальная культура распространялась даже на те части Северной Испании, которые прежде практически не были связаны с мусульманами. Важнейшим свидетельством тому служит художественное творчество этого периода.
Вместе с тем необходимо учитывать, что при ассимиляции этой культуры христианами действовал отбор. Никогда не принималось то, что откровенно не соответствовало основным христианским концепциям. Это относится и к высшим областям духовной жизни, и особенно к быту рядовых испанских христиан. Из других стран в Испанию тоже прибывали христианские ученые, чтобы познакомиться с живой традицией греческой философии в ее мусульманских одеждах, было пролито много чернил для доказательства того, что можно и чего нельзя вводить в христианскую традицию, но это уже не имеет отношения к истории Испании.
К началу XV в. наметились изменения в отношении испанских христиан к мусульманам. Частично это объясняется экономическим недовольством, поскольку большинство мудехаров было зажиточно. Определенное предубеждение против мусульман стало появляться в простом народе. С объединением Испании при Фердинанде и Изабелле эти предупреждения начали оказывать некоторое влияние на политику. Старой политикой религиозной терпимости еще руководствовались, когда населению Гранады были предложены великодушные условия сдачи в 1492 г., но в том же году был издан эдикт, принуждавший евреев во всех частях Испании либо креститься, либо покинуть страну. Ранее, в 1478 г., была «национализирована» инквизиция в Испании — в том смысле, что испанских инквизиторов теперь назначал не папа, а король и королева. В результате оказалось, что поощряется и даже насаждается не христианская ортодоксия simpliciter, но христианская ортодоксия, как ее представляли себе испанские лидеры.
Другая сторона новой политики проявилась в 1499 г., когда могущественный кардинал Хименес де Сиснерос посетил Гранаду и провел там дискуссию с законоведами. За ней последовало сожжение чисто мусульманских сочинений и насильственное обращение в христианство.
В результате здесь на следующий год вспыхнуло восстание, которое продолжалось более года. В качестве карательной меры мусульманам Гранады в 1502 г. был предложен выбор между крещением и высылкой. Многие предпочли креститься, однако убеждений своих не изменили. В 1525—1526 гг. сходные меры были приняты против мусульман других провинций. После этого в Испании официально не осталось мусульман, но еще почти целое столетие испанские правители сталкивались с проблемой морисков.
Для объяснения роста нетерпимости в Испании после столь долго сохранявшейся терпимости можно привести несколько причин. Некоторое время ожидали, что представители трех вероисповеданий могут быть сплочены в некое единство, но чем дальше, тем яснее становилось, что это невозможно. Политическое единство при Фердинанде и Изабелле было чревато разобщением и настоятельно требовало единства духа, чтобы предотвратить это разобщение. Непримиримая и вместе с тем оборонительная позиция Гранады в последние десятилетия ее существования несомненно подготовила решение Фердинанда и Изабеллы создать подлинное единство в мировоззрении. К 1525 г. Испания, выросшая уже в империю, сознавала, какую угрозу для Европы создавало мусульманское (турецкое) наступление на Вену (она была действительно осаждена в 1529 г.). Участие в действиях там — и по другую сторону Атлантического океана — требовало максимального использования испанских людских ресурсов, так что здравый смысл диктовал исключить самую возможность существования враждебных элементов внутри страны, пока такое количество надежных и боеспособных люден находится за ее пределами.
Как сообщают, подразумевалось, что мусульманам предоставлено сорок лет на исполнение постановлений, принятых в 1525—1526 гг. Неизвестно, было ли так на самом деле, однако к 1566 г. антимусульманское законодательство вновь оживилось — предшествующие меры оказались неэффективными. К тому же мусульманская религиозная практика в центральных землях ислама или в других местах часто разрешала и оправдывала такыйю — т.е. сокрытие своих истинных религиозных убеждений, когда проявлять их опасно для жизни. Очевидно, мориски получили официальное решение мусульманских законоведов за пределами страны, что в условиях Испании XVI в. разрешается подобная скрытая приверженность к исламу. Сохранились рукописи, известные под названием алхамиадос, которые написаны арабским алфавитом, но на испанском языке. Они содержат изложение мусульманской веры и религиозной практики морисков. Дополнительной причиной увеличения нетерпимости был ощущавшийся теперь факт более высокой рождаемости среди мусульман, за счет которой росла их численность. С другой стороны, существенный экономический и материальный вклад морисков в жизнь Испании способствовал тому, что их поддерживала значительная часть знати Арагона и Валенсии.
С 1566 г. давление на морисков увеличилось. Некоторые из них подняли в 1569 г. восстание и получили помощь оттоманского правителя Алжира. Однако, несмотря на этот нажим, их общины в городах оставались в основном нетронутыми — благодаря замкнутому характеру их жизни. Они оказались неассимилируемым элементом населения. Наконец, между 1609 и 1614 гг. появились эдикты о высылке, в результате которых около 500 тыс. человек, как сообщают, пришлось уехать в Северную Африку. Некоторые из событий там позволяют по-новому увидеть кое-какие детали жизни в Испании. Так, среди своих собратьев по вере часть морисков проявила себя столь же неассимилируемой, как и среди испанских христиан. Их культура была общей материальной культурой Испании, мусульманской настолько же, насколько христианской. В мусульманской атмосфере Северной Африки они более чем когда-либо осознали свое испанское происхождение, свое превосходство над африканскими мусульманами — берберами и пр. В некоторых городах Северной Африки по сей день сохранились отдельные мусульманско-испанские черты, так что в этом ограниченном смысле мусульманская Испания все еще жива.
3. Литература в период отступления
Этот период в литературной истории ал-Андалуса не без оснований считали всего лишь эпилогом. Не было ни особого импульса к изобретательству, ни удивляющих поэтических новшеств. Скорее это была (как и на мусульманском востоке) эпоха компиляции и широкой эрудиции, когда записывались или обретали законченное выражение накопленные поколениями знания; часто в роли фиксаторов выступали андалусские эмигранты.
Одним из таких экспатриантов был грамматист Ибн Малик (1208—1274), которому принадлежат две урджузы, где изложена вся арабская грамматика. Более короткая из них, включающая чуть меньше тысячи строк скверных стихов[112], до сих пор используется как учебное пособие. Другой андалусец Абу Хаййан (1257—1344), преподававший на востоке, известен прежде всего как грамматист, но он был также сведущ в ряде мусульманских наук. О размахе его эрудиции свидетельствует тот факт, что он был автором солидной турецкой грамматики; как сообщают, ему принадлежала еще и грамматика эфиопского языка. Еще один эмигрант, Ибн Сайд ал-Магриби (ум. в 1274 г.), слыл тоже разносторонним человеком, он составил весьма ценную антологию, в которую включил немало собственных стихов.
Оставшиеся в сокращавшихся мусульманских владениях в Испании представители культуры также жили на скопленные капиталы, но капиталы эти были достаточно велики, чтобы обеспечить им достойное и изысканное существование. Во время правления Насридов в Гранаде при дворе — в той самой Алхамбре, где каменные своды дворцов и павильонов легко покоятся на стройных колоннах, на вид столь же хрупких и неустойчивых, как балерина на пуантах, — поэтам и прозаикам, которые больше заботились о своем наследии, чем о приближающемся конце, все еще удавалось порой высечь искры вдохновения, подобные прежним.
Среди прочих фигур в литературе, как башня, возвышался Лисан ад-Дин ибн ал-Хатиб (1313—1374). Везир, хронист, автор полезного биографического словаря, он был также мастером орнаментальной прозы, написавшим и многочисленные макамы, и высокообразованным поэтом, сочинявшим как традиционные касыды, так и изящные мувашшаха. Он написал также урджузу под названием «Рисалат ал-хулал фи назм ад-дувал» («Число полумесяцев в порядке стран»), излагавшую историю ислама на западе. Один из современных арабских ученых считает ее достойной звания арабского «Шах-наме»[113], хотя она никогда не проникала в народное воображение, подобно персидскому эпосу. В целом этот автор замечателен не новаторством, а своим тонким мастерством, простыми ритмами, чарующей выразительностью и искренностью образов, с какой он поет о свидании влюбленных в идиллической обстановке, среди чутких лилий в завистливых нарциссов, о мимолетности этого свидания, которое, подобно судьбе, «можно упрекнуть лишь в том, что оно пронеслось в одно мгновение».
Стихи его протеже и преемника Ибн Замрака (1333— 1393), последнего великого андалусского поэта, были использованы для украшения стен Алхамбры.
У морисков, оказавшихся под христианским правлением, были, конечно, совсем иные заботы. Изысканная литература, зависевшая от меценатов, была не для них. Вместо этого в их среде имели хождение труды, предписывавшие противостоять давлению, которому подвергалась их сера: изложение канонического права, полемические трактаты, кое-какие стихи во славу пророка и на другие исламские темы, немало сказок и легенд либо на общефольклорные темы, либо подсказанных аскетами, или выросших из коранических упоминаний Моисея, Иосифа, Соломона и Александра, или восхвалявших воинскую доблесть Мухаммада и других мусульманских героев. Альхамийская литература, написанная по-испански, но арабским письмом, в нашем обзоре может быть упомянута лишь вскользь. Стоит, однако, отметить, что этим способом были записаны многие сказки, которые в классическом арабоязычном обществе могли бы избежать внимания грамотных людей.
Изобилие выявляемых таким образом народных повествований нельзя не учитывать при изучении влияния андалусской литературы за пределами страны. Это влияние отнюдь не ограничивается рассматриваемым здесь периодом, однако как раз Реконкиста усилила и увеличила его.
С одной стороны, восточномусульманские земли всегда имели возможность вкусить от лучших образцов литературного творчества ал-Андалуса, на них распространилась, например, андалусская мода на мувашшах. Теперь, когда владения мусульман на Пиренейском полуострове сокращались и слабели, все больше ведущих родов ал-Андалуса и все больше его ученых искали помощи братьев мусульман и покровительства мусульманских эмиров в других краях, особенно в Северной Африке. Тунис и Фес стали хранилищами андалусской культуры, так что именно одному североафриканцу, учившемуся в Фесе ал-Маккари (ум. в 1631 г.), мы обязаны значительной частью информации об ал-Андалусе и его литературе.
С другой стороны, и христиане принимали к себе смешанное население с культурой, отдельные аспекты которой они стали ценить и осваивать в своей собственной культуре.
Уже в то время, когда удача мусульман пошла на убыль, их познания привлекали к себе ученых всех вероисповеданий. Испанские евреи, в частности, были в прямом долгу перед арабской мыслью, и многие из них, включая великого Маймонида (1135—1204), получили свою ученость из рук арабских учителей и писали свои книги по-арабски. Даже в изящной словесности поэты, писавшие на древнееврейском (такие, как Ибн Габирол (1021—1052), подверглись влиянию арабской просодии. Были созданы еврейские мувашшаха, не только воспринявшие условности арабской формы, но и оказавшиеся в подавляющем большинстве случаев... имитацией определенных арабских стихотворений»[114]. Немало прозаиков XII и XIII вв. писали на древнееврейском также макамы, один из них, Йегуда бен Соломон Алхаризи (1165—1225), в действительности перевел в 1205 г. макамы ал-Харири. «Калила и Димна» была переведена па древнееврейский дважды: неким Рабби Йоилем и рабби Елеазар бен Иаковом (1283), который также писал макамы.
Христиан также, даже если они не были завоеваны исламом, привлекала арабская ученость. Аннотации по-арабски, помещаемые перед латинскими текстами, показывают, что их переписчики свободно разбирались в этом языке. Но связь между арабской литературой и литературами, которые возникли в христианских странах, не столь прямая и четкая, как связь с литературой на древнееврейском.
Наиболее ясно прослеживается эта связь в передаче повествовательной литературы. В начале XII в. Педро Алфонсо, перешедший в 1106 г. в христианство еврей, собрал тридцать три сказки арабского происхождения, перевел их на латынь и опубликовал под названием «Disciplina clericales», указав таким образом, что они предназначены в наставление грамотным. Эта книга получила в Европе весьма широкое распространение и была переведена на многие языки, отзвуки ее можно видеть в таких знаменитых произведениях, как «Дон Кихот» и «Декамерон». Принадлежавшая Рабби Поплю версия «Калилы и Димны» тоже была переведена на латынь Иоанном Капуанским, также крещеным евреем, и получила название «Directorium Vita Humanае».
Испанская повествовательная литература, например, в особом долгу перед тремя ранними переводами восточных работ (которые хотя бы частично дошли до испанцем по-арабски) за данный ей первичный толчок. Одно из этих произведений уже упоминавшаяся «Калила и Димна», переведенная с арабского в середине XIII в. по приказу Алфонсо X[115]. Два других — это «Syntipas», известный также как «Синдбад-наме» и как «Sendebar», еще один сборник сказок индийского происхождения, переведенный в 1253 г. под названием «Libro de los asayamientos de las mujeres», и книга «Варлаам и Иосафат», основанная в конечном счете на жизни Будды.
Эти повествования породили многочисленные отклики в Испании и других европейских странах, равно как и сказки «1001 ночи». Тут и там можно обнаружить отдельные другие заимствования. Так, «Disputa de l'Ase» Турмеды (1417), в которых Осел отвергает аргументы мнимого превосходства Человека, точно следует за одной из «Эпистол Чистых Братьев», сборника X в., содержащего научные и философские трактаты. В своем «Критиконе» Грасиан также частично заимствовал народную сказку — ту же, что Ибн Туфайл в своем «Хаййе ибн Иакзане»[116]. Рассказ о полете Мухаммада на небо (мирадж), переведенный на испанский по приказу Алфонсо X, хотя ныне он сохранился только во французской и латинской версиях, мог сыграть известную роль в формировании образной системы Данте[117].
Итак, вдохновение черпалось главным образом в народных повествованиях, но есть предположение, что плутовской роман XVI—XVII вв., который с симпатией описывает приключения и похождения низкородного героя, возможно, обязан своим происхождением макаме.
Рибера выдвинул также теорию о существовании какого-то раннего народного эпоса, следы возможного влияния которого он искал в «Песне о Роланде» и в «Поэме о Сиде».
Много дебатов среди арабистов и романистов[118] вызвала возможность влияния арабской поэзии, точнее, андалусских строфических форм на искусство хугларов и трубадуров, и следовательно, на всю лирическую традицию романских литератур.
Возможностей для проявления такого влияния возникало много, когда христиане и мусульмане жили рядом и культурный обмен между дворами был обычным делом. Небесполезными в этом смысле оказались и военные столкновения. Названные возможности взяты отнюдь не из области догадок: известно, что при христианских дворах выступали пленные певицы-мориски; одна из иллюстраций к принадлежащей перу Алфонсо X «Саntigas de Santa Maria» (1265) изображает мавра и христианина, поющих вместе под собственный аккомпанемент на одинаковых лютнях; а церковный совет Вальядолида в 1322 г. проклинал совсем не выдуманное зло, вынося запрет использовать в церквах мусульманских певцов и оркестрантов. Про одного из трубадуров, Гарсиа Фернандеса, известно, что он женился на певице из морисков и странствовал с нею имеете между христианскими и мусульманскими владениями Испании[119].
В самом деле, между андалусской и романской лирической поэзией можно обнаружить значительное сходство. Особенно заметно оно в тех чертах, которые обусловлены структурой андалусской строфической поэзии. Оказывается, Гийом IX включил в свою «Chanson 5» несколько арабских строк[120]. Однако оспаривается, чтобы сходство это было существенным в вопросах содержания, особенно в таких моментах, как отношение к женщине и к любви трубадуры лишь увековечили излюбленные «общие места» андалусской поэзии: жестокость и тиранию возлюбленной, страдания измученного влюбленного, вмешательство в любовную интригу таких обязательных персонажей, как доверенный друг, клеветник, соглядатай. И все же они отразили в своем творчестве более утонченную концепцию любви, чем та, что была известна в Европе до Ибн Хазма.
Трудно отрицать, что андалусская поэтическая традиция была одним из определяющих факторов периода формирования романской литературы, особенно если вспомнить вклад мусульманской Испании во все прочие области культуры, хотя бы в музыку, столь тесно связанную с литературой. Однако степень и границы этого влияния можно определить лишь после детального изучения текста и сопутствующего ему обсуждения эталонов сравнения, которые до сих пор не выработаны[121]. Это значит, что пока аргументы еще нельзя обобщить. Достаточно привести, например, точку зрения Менендеса Пидаля, проницательного и высокообразованного ученого-романиста, по которой арабское влияние было одним из нескольких, которые можно выделить в ранних произведениях провансальских трубадуров, особенно у Гийома IX, Маркабрюна и Серкамона, но что оно быстро исчезло, сохранившись в основном в анонимных народных песнях Франции и Италии. В галисийско-португальскую поэзию оно почти не проникло, за исключением принадлежащих Алфонсо X «Cantigas de Santa Maria». В кастильской поэзии оно преобладало до XVI в., когда было вытеснено отовсюду, кроме самых вульгарных форм, однако следы его до сих пор можно найти в классическом испанском театре, богатом традиционными песнями[122].
Остается еще раз подчеркнуть, что андалусцы передали своим романским преемникам не классическую свою традицию — не моноримные касыды с обязательной последовательностью тем, не перенасыщенную тропами прозу, — а свои образные сказки, строфические стихотворные формы и, возможно, особенно утонченный лиризм своих любовных песен. Примечательно, что, пожалуй, именно эти черты выделяли андалусскую литературу среди литературы единоверцев-христиан в восточных областях. В немалой мере это были также черты, присущие народной литературе или происходящие из нее.
Это соответствует общей картине мусульманской Испании, где литература элиты под покровительством меценатов стремится увековечить традиционные образцы, пусть весьма ценные, но не свои собственные, и в награду за стойкость пожинает плоды в виде блистательных шедевров. Но бок о бок с ней, лишь отчасти — но все же глубже, чем в других арабоязычных странах,— проникая в нее, существовала другая литература, служившая естественным выражением этнического и культурного смешения населения. В этой литературе арабский элемент брал и давал, смешивался и формировал, стимулировал развитие и развивался сам. Взаимопроникновение этих этнических и культурных элементов породило отличительные черты андалусской литературы, оно же помогло ей выжить.
Андалусская литература походила на аристократа экспатрианта, у которого две жены: одна — свободная женщина его собственной национальности и касты, а другая — местная рабыня. Сыновья от первой жены больше блистают при дворе, сыновья же невольницы лучше приспосабливаются к жизни, когда политические перемены уносят прочь отцовские привилегии.
4. Искусство XIII—XIV вв.
Несмотря на ухудшение в XII—XIII вв. политического положения, художественная традиция в мусульманской Испании была все еще жива и даже создала некоторые великие произведения. Можно считать, что она распалась на две ветви: мудехарское искусство и искусство Гранады.
Мудехары, как мы уже объяснили, это мусульмане, которые предпочли остаться на христианской территории. Число их в некоторых областях было значительным, и благодаря этой новой форме общения мусульман и христиан столь большая часть культуры ал-Андалуса перешла к христианской Испании, точнее, была ассимилирована христианской Испанией при ее экспансии. Объединение двух обществ в почти целостный культурный организм иногда называют «мудехарским фактором». Однако мудехарское искусство — это не просто искусство, создаваемое мудехарами, — скорее это искусство, возникшее на почве указанного нового культурного единства. Продолжая традицию исламского искусства независимых мусульманских королевств, это искусство вместе с тем вполне освоилось в новообразованном обществе под владычеством христиан. Что дело обстояло именно так, подтверждается многочисленными фактами: ремесленники, выполнявшие работы, могли быть либо христианами, либо мусульманами из независимой Гранады, но произведение всегда юхраняло мудехарский стиль, в то время как мудехарские мастера, которые покидали Испанию, работали и в других стилях.
Внутри самого мудехарского стиля различают «придворный мудехарский» и «народный мудехарский». «Придворный» представлен прежде всего дворцом Ал-Касар в Севилье, он тяготеет к омейядским образцам. «Народный» описан Анри Террасом как национальный испанский стиль того периода. Он слегка варьировался oт одного региона к другому, поскольку включал в себя местные традиции. В церквах Толедо начиная с конца XII в. можно найти прекрасные образцы мудехарских произведений. Все это весьма интересно само по себе. С точки зрения нашего обзора большой интерес к мудехарскому искусству свидетельствует о симбиозе, возникшем в результате освоения христианскими королевствами значительной доли материальной и духовном культуры ал-Андалуса.
Искусство Гранады известно нам главным образом по его величайшему достижению, дворцу Алхамбра, хоти это далеко не единственное произведение, сохранившееся от Насридского королевства. На примере Алхамбры можно видеть, как общая система взглядов в королевстве влияла на его искусство. Это было обороняющееся общество, сознающее себя бастионом ислама против враждебного мира, сосредоточившее силы на сохранении того, что оно унаследовало. В искусстве это означало, что оно твердо придерживалось ранней традиции ал-Андалуса и не вносило никаких новшеств; достижением новых высот оно обязано совершенствованию мастерства.
Алхамбра представляет собой комплекс зданий на одном из склонов Сьерра-Невады, над городом Гранада. Как и другие мавританские дворцы, она служила также, пользуясь современной фразеологией, «правительственным учреждением». Кроме того, это была еще и хорошо защищенная крепость. Однако с художественной точки зрения наиболее интересен сам дворец, состоящий из сравнительно небольшого числа комнат и зал, группирующихся вокруг двух внутренних дворов (патио). В основном он был построен в течение двух последних третей XIV в. Здесь всюду возобладала страсть к заполнению поверхностей замысловатыми, изящно выписанными украшениями — и создала поразительный эффект. Полностью использовалась и вода, которую в изобилии предоставляли высокие горы: были сооружены фонтаны, бассейны, во дворах насадили растения — залог приятного досуга в жарком климате. И все же самое сильное впечатление производит доведенная до совершенства орнаментация и та несравненная грация, с которой застыли как бы нисходящие с высоты стройные колонны.
Это было щедрое искусство, создававшееся для сегодняшних радостей, не задумывавшееся о вечной славе. Оно использовало непрочные материалы, почвенная опора по своей природной структуре тоже была довольно хрупкой. Только благодаря ряду чудес и постоянной заботе последующих поколений Алхамбра сохранилась до наших дней.
Однако в XV в. творческий импульс гранадских мастеров ослаб — несомненно в результате замкнутого положения королевства и его политического развала. Еще до того как насридская Гранада окончательно исчезла, ее оригинальное искусство было уже мертво.
Так случилось, что отчасти в результате людских действий (действий христиан), отчасти в силу естественного процесса роста и увядания мусульманское искусство Испании перестало существовать. Испанцы нового времени склонны рассматривать мавританское прошлое своей страны как нечто чуждое. И все же непредубежденному взгляду видно, что сегодняшние художники и ремесленники Испании до сих пор черпают вдохновение из мусульманских источников.
Глава одиннадцатая. Значение мусульманской Испании
1. Арабо-мусульманская колония
В начале этой книги в качестве одного из вариантов подхода к проблеме мусульманской Испании было предложено рассматривать ее как ответвление обширной мусульманской общины. Она представляла собой часть огромного культурного и религиозного организма, простиравшегося от атлантического побережья Испании и Северной Африки сначала до Самарканда и Пенджаба, а затем и до Индонезии. Как же функционировала эта часть организма, этот изолированный орган? Соответствовали ли мусульманские формы общественной жизни условиям Пиренейского полуострова, или необходима была какая-то адаптация? Могла ли культура ал-Андалуса внести свой вклад в культуру центральномусульманских земель? Таковы вопросы, к которым следует вновь вернуться после приведенного обзора истории мусульманской Испании. В настоящий момент читателю уже должно быть ясно, что, коль скоро в наших знаниях существует столько пробелов, ответы могут быть лишь предварительными.
Для исследователя культуры одной из самых интересных черт мусульманского общества центральных земель представляется способность мусульман арабов через посредство своей религии и языка поглощать большую часть культурного наследия народов, населявших «плодородный полумесяц»[123], и их соседей. Арабы вышли из пустынь или из городов, тесно связанных с пустыней,— следовательно, уровень их материальной культуры был весьма низок, хотя они достигли, как можно утверждать, высокой степени совершенства человеческой личности и человеческих отношений. Народы, которые они покорили в Ираке, Сирии и Египте, веками поддерживали высокий уровень материальной и духовной культуры; последняя включала в себя и греческую философию, и основанную на ней христианскую теологию. И все же именно культура арабов стала матрицей для новой мусульманской цивилизации, ассимилировав все, что было лучшим в более древних и более высоких культурах.
Обращаясь к Испании, следует помнить, что ее основные контакты с центральномусульманскими землями приходятся на период Омейядского халифата (до его смены в 750 г.)[124]. После этого времени мусульманская Испания была в известном смысле отрезана от основных центров мусульманства, так как они оказались под властью Аббасидов, свергнувших Омейядов, а в Испании владычество Омейядов продолжалось еще более 250 лет. Однако Омейядский хадифат в центральных землях характеризовали скорее арабские, чем четко выраженные мусульманские, черты. Конечно, Омейяды исповедовали ислам, но они не выказывали свойственного Аббасидам почтения к самозваным истолкователям мусульманской религии и права. В системе управления они старались, преодолевая все возрастающие трудности, применить арабские политические идеи (ведущие начало от племенных институтов) к новой империи, тогда как Аббасиды открыто опирались на традиции древнеперсидской империи. Ассимиляция мусульманами эллинистической мысли началась при Омейядах, но лишь в Ираке, Сирия почти не затрагивалась.
Итак, культура первых мусульман ал-Андалуса была более арабской, чем мусульманской; преобладание арабского элемента и в дальнейшем оставалось для нее характерным. Свидетельством этому служит интерес к арабской поэзии и грамматике, к сочинению комментариев к таким типично арабским произведениям, как «Макамы» ал-Харири, к деталям арабской генеалогии. На то же указывает принятие маликитского правового толка — наиболее истово арабского, в то время как прочие толки права происходили из Ирака, где интеллектуальная среда была насыщена эллинистическими идеями. Подобная им философская теология восточных земель в Испании не находила для себя никакой почвы. Это преобладание арабского и антиинтеллектуального элемента делает еще более замечательным расцвет андалусской философии при Алмохадах, загадку которого отнюдь не разъясняют приведенные выше причины.
Доказательства, собранные в данной работе, склоняют нас к выводу, что арабский элемент продолжал доминировать до XI в., а влияние мусульманского элемента полностью проявилось при Алморавидах и Алмохадах. Это произошло вовсе не потому, что ал-Андалус был полностью оторван от центральных земель, — напротив, путешествия были весьма просты и в некоторые периоды среди андалусских ученых было принято ездить пополнять образование в такие центры ислама, как Медина и Багдад. Привезенные Зирйабом каноны багдадского вкуса IX в., кажется, не оказали особого влияния на интеллектуальную и религиозную сферу. Большое значение имела созданная ал-Хакамом II огромная библиотека и поощрение ученых из центральных земель переселяться в ал-Андалус, проявлявшееся примерно в то же время. Это создало основу, на которой могла быть возведена более всесторонняя система мусульманской учености, что, в свою очередь, сделало возможным рост специфически мусульманского мировоззрения и восприятия, еще более усилившийся при Алморавидах и Алмохадах из-за их религиозных взглядов.
По прошествии первых пятидесяти (или около того) лет после возникновения ислама ни в одной части мусульманского мира специфически исламские идеи не оказывали влияния на систему управления. Концепция «священной войны» время от времени могла поднять энтузиазм масс и увеличить боеспособность армии — по этой причине политики находили ее полезной. Однако правители-практики мусульманских государств большей частью оказывались перед необходимостью следовать вековым традициям администрирования. Аббасиды в своей системе управления копировали доисламскую Персию, кое-что из этой системы проникло и в придворную жизнь и в административную систему ал-Андалуса. Однако следующим разительным отличием ал-Андалуса от теоретических исламских норм были весьма часто складывающиеся отношения, при которых немусульманские местные правители оказывались данниками мусульман, а местные мусульманские правители — данниками христиан. Представляется, что здесь мусульмане восприняли местную практику, возможно соответствующую географическим условиям.
Судя по данному краткому очерку, культурное развитие ал-Андалуса почти полностью обусловливалось (за исключением политической сферы) культурой центральных земель мусульманского мира, хотя в разное время в различной степени. Но это как раз случай, когда внешность обманчива, и на самом деле иберийское влияние было гораздо большим, чем кажется на первый взгляд. Ясно только одно: ничего из христианской духовной культуры доисламской Испании не стало вкладом в дальнейшее культурное развитие страны, хотя школа Исидора Севильского и достигала высокого уровня. Наоборот, многие местные жители приняли мусульманство и со временем ассимилировались арабской частью населения. Еще более удивительное и достойное размышления явление — притягательность арабской культуры для той части местного населения, которая осталась христианской, но получила из-за этого своего пристрастия название мосарабов. Можно предполагать, что на них как-то повлияло карфагенское наследие. Бесспорно, что многое в культуре ал-Андалуса (за исключением сугубо религиозных догм) разделялось всеми обитателями страны независимо от расовой или религиозной принадлежности. Представляется, что именно благодаря разнородному составу населения развились новые поэтические формы, которые и стали основным вкладом ал-Андалуса в культуру центральных земель (хотя ученые, работавшие над традиционными дисциплинами, также внесли много ценного).
В самом деле, чем больше изучаются эти вопросы, тем яснее становится, что мы имеем дело с подлинным симбиозом местных и пришлых элементов населения и соответствующих культур. Многие внешние формы, которые современному ученому легче распознать, были вкладом арабов, так же как и духовный импульс. Но созидательная энергия, которая произвела на свет высшие эстетические достижения в архитектуре, литературе и прочих искусствах, возможно, не в меньшей мере порождена иберийцами или какой-то их частью. Здесь опять перед нами одна из великих тайн. Кажется, с иберийцами произошло примерно то же, что с персами, чей гений, оплодотворенный исламом, принес столь роскошные плоды.
Следует учитывать также, что в общей культурной смеси могла быть и доля берберов, которую трудно сейчас выделить. Наиболее очевидным проявлением ее может служить интерес к боговдохновенным вождям, который издавна был отличительной чертой североафриканской религии. Но, как уже отмечалось выше, черта эта не могла особенно повлиять на Испанию, так как берберы зависели от мусульманских правителей. Указанная особенность отразилась на идеях, которые легли в основу алморавидского и алмохадского движения, но распространение на Северную Африку культуры ал-Андалуса в период правления этих династий показывает, что у берберов было слишком мало своего. Во всяком случае, берберская проблема относится скорее к изучению Северной Африки.
2.Стимул к развитию христианской Испании и Западной Европы
Вторая группа вопросов связана с отношениями между мусульманской и христианской Испанией, а более широко — с отношениями между мусульманской Испанией и христианской Европой. Что касается христианской Испании, то здесь нет особых сомнений. Именно необходимость борьбы с мусульманами за существование сделала христианскую Испанию великой. В Реконкисте Испания обрела свой дух. Трудность заключается в том, чтобы объяснить, как конкретно это произошло. Довольно распространено мнение, что существует неразрывная связь между католической Испанией висиготского периода и Испанией Фердинанда и Изабеллы. Слабым местом этой точки зрения является тот факт, что королевство Астурия, центр, откуда началась Реконкиста, никогда в сущности не входило в состав висиготской Испании, скорее оно было мятежником у ее границ. Значительно ближе к истине гипотеза Америко Кастро, изложенная в его книге «The Structure of Spanish History», которую он формулирует так: «Становление христианской Испании, само рождение ее, происходило по мере того, как она включала в себя, в свою жизнедеятельность то, к чему ее побуждало взаимодействие с мусульманским миром».
Огонь Реконкисты был, конечно, взлелеян прежде всего в Астурии, а затем и в других маленьких северных королевствах. Поначалу, однако, это была не столько надежда отвоевать свои земли, сколько страстное желание независимости. Ревностное стремление к распространению христианства и защите его от ислама тоже на раннем этапе не имело особого значения — следует остерегаться и не приписывать прошлому того, что принадлежит более позднему времени. Иногда кажется, что в тот период действующие лица с обеих сторон вообще не придавали значения различию религий. И только к середине XI в. наступательное движение северных королевств стало сознательно идентифицироваться с распространением христианства. Несколько позднее и мусульмане осознали себя защитниками земель ислама[125].
Северяне в ходе своей отчаянной борьбы сначала за независимость, а потом за расширение власти, все более обращались к христианской вере. В культе Сант-Яго (св. Иакова Компостельского), в частности, они обрели источник сверхъестественных сил, которые поддерживали их в бою и сообщали им уверенность в победе. Наряду с этим они не могли позволить себе пренебрегать материальной основой военных успехов и по мере возможности перенимали у мусульман оружие и военную технику,— ведь казалось, что они и обеспечивали их превосходство. Вместе с этим северяне воспринимали много других сторон более высокой цивилизации, с которой враждовали. Процесс ассимиляции был усилен возникшей уже в начале X в. практикой заселения пустующих земель на границах христианских владений мосарабами с мусульманских территорий. Постепенно эти люди и их культура стали неотъемлемой частью христианских королевств. На более позднем этапе ассимиляцию еще дальше продвинул другой фактор — существование внутри христианских государств больших групп мусульман-мудехаров. Вслед за тем как христиане с севера узнавали Толедо (после 1085 г.), Кордову (после 1236 г.), Севилью (после 1248 г.) и многие меньшие мусульманские города, они принимали образ жизни, получивший развитие в ал-Андалусе, — во всем, кроме религии. Таким образом движение за отвоевание своих земель, стремление быть христианской Испанией нашли в культуре ал-Андалуса элементы, которые, соединившись между собой, дали им их внешний облик. Но сами эти элементы также не были чуждыми, поскольку они были почерпнуты из симбиоза арабо-мусульманского и иберийского обществ.
Сложный комплекс культурных отношений лежит также в основе такого явления, как трубадуры, и некоторые концепции рыцарства. Нельзя сказать, какая именно черта здесь принадлежит Востоку и какая — Европе, поскольку взаимопроникновение этих двух направлений было так велико, что выявить теперь абсолютные различия между ними просто невозможно. Так или иначе, этот союз породил творческое горение, которое выросло в невиданное пламя.
Точно так же, либо вследствие симбиоза, либо через культурный обмен, достигла христианской Европы греческая философия: частично в арабских переводах греческих сочинений, частично в собственных трудах арабо-мусульманских мыслителей. Между христианским Толедо и мусульманской Кордовой не было китайской стены. Во второй половине XII в., когда Аверроэс был на вершине славы, воззрения великого аристотелианца с большей легкостью проникали в христианскую Европу, чем в центральные земли мусульманского мира. Именно эти взгляды в значительной степени стимулировали возникновение философии св. Фомы Аквинского — величайшего достижения средневекового христианства[126].
Можно было бы составить длинный список тех ценностей, которыми христианская Европа обязана ал-Андалусу — начиная с научных знаний и философских концепций, технических и прикладных дисциплин и до таких аспектов, как литературная форма и изобразительные искусства, — однако важнее не потерять из виду общей картины. Мусульманская культура, с которой западное христианство непосредственно контактировало на протяжении большей части рассматриваемого периода, была культурой более высокой, за ней стояла самая мощная политическая организация, с которой когда-либо сталкивались западные христиане. Фактически только во время Крестовых походов произошел какой-то контакт с восточным (византийским) христианством, да и сама концепция «крестового похода», возможно, многим обязана джихаду, «священной войне» мусульман. Из-за этой особенности взаимоотношений западного христианства с мусульманским миром, локализованных в Испании, вполне естественно, что христиане испытывали к исламу как сильную тягу, так и сильное отвращение. Ислам был для них одновременно и великим врагом, и грандиозным источником более высокой материальной и духовной культуры. Весьма заманчиво усмотреть в этом параллель к отношениям между современной Европой и новыми национальными государствами Азии и Африки. Если такая параллель существует, то европеец, способный проникнуть воображением в собственную историю, может почувствовать, что это значит быть представителем только что возникшей нации.
3. Подлинное величие мусульманской Испании
Третья группа самых трудных вопросов касается самой мусульманской Испании. В частности, возникает вопрос, обладала ли она истинным величием, или ее слава — прошедшее сквозь века отражение внешнего великолепия, которое так поражало несколько отсталых средневековых христиан.
Несомненно, на европейцев роскошь быта производила впечатление. Некоторый вклад ал-Андалуса в эту сторону жизни Европы уже был описан. Как это более наглядно показал Америко Кастро: «Победоносные войска христиан (ок. 1248 г.) не могли сдержать изумления при виде величия Севильи. Христиане никогда не знали ничего подобного в искусстве, экономическом блеске, гражданской организации, производстве, научном и литературном творчестве». Если мы признаем справедливость приведенных слов (и тем самым признаем, что всё еще находимся под влиянием воспоминаний о былом восхищении материальной роскошью и духовной утонченностью), может ли это быть основанием для того, чтобы признать мусульманский период в истории Испании одним из великих этапов в жизни человечества?
Можно попытаться проверить это положение, подсчитав, сколько мыслителей и писателей ал-Андалуса достойны занять место среди классиков «единого мира», к которому мы приближаемся. (Конечно, это будет грубая и приблизительная проверка, которая сама по себе вызывает много вопросов.) Несомненно, сейчас же наметятся кандидаты на это место. Самый очевидный из них — Аверроэс, отчасти из-за своего влияния на христианскую философию, хотя он вполне заслуживает этого места сам по себе. Обаяние «Хаййа ибн Йакзана» Ибн Туфайла, пусть несколько поверхностное, позволяет ему также претендовать на место среди бессмертных. Ибн Халдун, если рассматривать его в числе андалусцев, также получит место в этом ряду, а вот положение Ибн Хазма сомнительно, поскольку его труды слишком тесно связаны с догматической средой и менее универсальны. Среди поэтов чья-либо вселенская привлекательность вызывает сомнение, но из мистиков, возможно, Мухйи ад-Дин ибн ал-Араби будет включен в мировой пантеон мистических «святых». Итак, в ал-Андалусе есть несколько имен самого высшего ранга. За ними можно обнаружить много других — второго класса, из которого, однако, кое-кто получил достаточную известность,— успехи их обладателей на неведомых дорогах бытия были весьма значительны. Жизнь ал-Андалуса действительно представляет собой одно из высоких достижений человечества.
Кроме литературы сохранилась также и неувядаемая прелесть мавританских зданий. Есть что-то от непреходящей ценности в прекрасных памятниках, и можно утверждать, что цивилизация, которая создала такие памятники, должна была обладать величием. В общих чертах это вполне обоснованная претензия, однако поучительно сравнить наше отношение к Парфенону с отношением к Алхамбре. Многие из тех, кто восхищаются обоими объектами, пожалуй, скажут, что в Парфеноне они видят прекрасный предмет, выражающий вместе с тем греческий дух, тогда как Алхамбра для них лишь нечто истинно прекрасное, без всяких ассоциаций с породившей ее культурой.
Это противопоставление заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее. В сущности, естественно, что мы склонны выше оценивать греческую, а не мавританскую культуру. Именно греческая культура (или, по крайней мере, какая-то выборка из нее) является частью нашего собственного культурного наследия, частью традиций, которые неотделимы от нас; тогда как мавританская при всем том вкладе, который она внесла в культуру Европы, является глубоко чуждой нам по сути, нашим «великим врагом», которого боятся, даже восхищаясь им. Унаследованный нами «образ» ислама сформировался в XII и XIII вв. под давлением страха перед сарацинами, и до сих пор мало кто в Европе способен смотреть на ислам без предубеждения. И все же — зависит ли наша оценка прекрасного предмета от нашей неспособности правильно оценить породившую его культуру? И наоборот — не может ли эта оценка прекрасного объекта открыть путь к верному восприятию чуждой культуры? Возможно даже, что этот самый объект явится средством доказательства ценности этой культуры. Разве не следует счесть великой культуру, создавшую Большую Мечеть в Кордове или Алхамбру в Гранаде?
Этот вопрос влечет за собой новые. Между Парфеноном и Алхамброй есть существенная разница. Восхищаясь Парфеноном, мы обычно созерцаем его снаружи, тогда как Алхамброй можно любоваться только изнутри. Это никак не связано с противопоставлением религиозного и светского назначения зданий, так как Большая Мечеть Кордовы тоже стяжала наибольшую славу за внутренний вид. Ранее высказывалось предположение, что стройная колоннада Алхамбры, несущая массивную и тщательно отделанную верхнюю часть дворца, выразила нисхождение от высшего царства, которое лишь одно содержит вечную ценность и значимость, тогда как другие постройки скорее отражают попытку человека вознестись в небеса. Предположения такого типа можно умножить и развить, одни из них, вероятно, покажутся более убедительными, другие — менее. Но даже самые лучшие несостоятельны, поскольку оценка красоты никогда не может быть сужена до умозрительных терминов. Тем не менее, если в приведенных выше соображениях есть что-то хоть немного приближающее нас к сущности прекрасного, подвергаемого оценке, тогда представитель западноевропейской традиции, который считает, что красота Алхамбры затрагивает в нем чувствительную струну, признаёт тем самым высокую истинную ценность этого выражения духа мусульманской Испании и открывает себе дорогу к более глубокому пониманию всей андалусской культуры.
Библиографический обзор
А. Собственно история
Для периода до 1031 г. основы общей историографической традиции по мусульманской Испании были заложены Райнхардтом Дози, а после него Эваристом Леви-Провансалем. Оба ученых немало потрудились, чтобы ввести в научный обиход основной материал источников, в том числе источников и для более позднего времени. «История мусульман Испании, 711—1110» Дози была впервые опубликована в 1861 г. в Лейдене и переведена на английский в 1913 г. В 1932 г. Леви-Провансаль подготовил второе издание этого труда, однако затем решил, что теперь необходимо совершенно новое исследование. К сожалению, до своей смерти он успел опубликовать лишь первые три тома собственной «Истории мусульманской Испании». Изложение доведено до 1031 г. и полностью перекрывает вышеупомянутую работу. Полные библиографические отсылки, столь важные для серьезного изучения предмета, делают излишними отсылки к источникам в начальной части нашего обзора. Итак, общепризнанный взгляд на раннюю историю мусульманской Испании сложился в результате трудов двух ученых, работавших в тесном сотрудничестве. Возможно, что когда с материалом ближе познакомится какой-либо ученый с иными представлениями, изменится и общая интерпретация предмета.
Для периода после 1031 г. подобной исторической традиции нет, как нет и специального труда, посвященного этому времени, что составляет серьезный пробел в современных исторических штудиях (это упоминается в соответствующих разделах больших и малых исследований и популярных изданий о мусульманской Испании). Правда, XI век (после 1031 г.) все же освещен в третьем томе Дози, переработанном Леви-Провансалем, но сам он, вероятно, значительно пересмотрел бы трактовку событий в намечавшемся четвертом томе собственного труда. Алмохадский период довольно подробно исследован Амбросио Хуиси Мирандой. [Ныне о насридской Гранаде см. работу Рашель Арие.] Существует большое число испанских работ по частным вопросам, тема в них обычно трактуется с позиций христианства; см., например: четырехтомник А. Гонсалеса Палеисии.
А. Гонсалесу Палеисиа принадлежит также одна из лучших среди кратких работ — «История мусульманской Испании», вышедшая четвертым изданием в 1945 г.; ныне она уже устарела. «Политическая история мусульманской Испании» пакистанского ученого С. М. Имамуддина компетентна, но явно зиждется на более старом труде Леви-Провансаля и несколько блекнет, когда временные рамки последнего кончаются. Значительно лучше остальных «Испанский ислам» Анри Терраса, хотя его нельзя назвать собственно историей. Филип К. Хитти в своей «Истории арабов» [претерпевшей десять изданий, почти каждое из которых еще и репринтировалось], отводит Испании чуть ли не всю четвертую главу (более ста страниц); особенно убедительно показан вклад Испании в мировую культуру. В объемной сводной «Истории Испании» под редакцией Р. Менендеса Пидаля четвертый и пятый тома представляют собой переводы из Леви-Провансаля, а более поздние тома еще не опубликованы.
Есть еще два пути заполнить кое-какие пробелы в информации. Многие статьи «Энциклопедии ислама» по мусульманской Испании содержат интересный материал. Статьи по религии из первого издания, часто пересмотренные, перепечатаны в отдельных томах: по-немецки (1941) и по-английски (1953, репринты в 1961 и 1965). Конечно, следует учесть, что более ранние статьи устаревают. Кроме «Энциклопедии ислама» большое число статей публикуется в различных периодических изданиях. Тематическое перечисление их можно найти у Пирсона. Работы по мусульманской Испании можно найти в разделах XXXV (история) и XXXVII.
Б. Общая трактовка
Как в самой Испании, так и за ее пределами идет ожесточенная дискуссия по вопросам общей интерпретации испанской истории и значении для нее мавританского периода. Романтический аспект мавританской Испании, вероятно, открылся Европе в результате публикации «Легенд Альгамбры» Вашингтона Ирвинга в 1832 г. Возможно, под влияние этих идей подпал и Стэнли Лэн-Пуль, который восхищался арабами и терпеть не мог современных ему испанцев, полагая, что своим величием Испания обязана маврам, а последующим упадком — их высылке. Напротив, испанцы-католики иногда склонялись к трактовке периода мусульманского владычества как простого перерыва в существовании некоего единства, т. е. католической Испании. Именно эта мысль, хотя и приукрашенная с большой изысканностью, стоит за сочинениями К. Санчеса Алборноса. Более интересный и явно более обоснованный подход (к тому же и более приемлемый для историка ислама) содержится в книге Америко Кастро, американское издание 1954 г. сделано с переработанного варианта аргентинского издания 1948 г.
Основополагающая идея Америко Кастро такова: преемственности между висиготской Испанией и поздней христианской Испанией не существовало, более того, последняя явилась неким новым явлением, которое возникло и развивалось в смешанной культурной среде (большей частью арабской), образовавшейся при мусульманах.
Из книг, специально посвященных мусульманской Испании, заметно выделяется одна: «Испанский ислам, встреча Востока и Запада» Анри Терраса. Автора интересует в основном история искусства и архитектуры, и он широко использует материалы из этой области, чтобы обосновать примерно ту же концепцию мусульманской Испании, что и у Америко Кастро. Представляют интерес также три лекции, первая из которых прочитана в 1938 г (опубл. в 1948 г.) в Египте, где Леви-Провансаль делится своими размышлениями по поводу проблемы, которой посвятил всю свою жизнь.
В. Литература
Отсылки в разделе «А» нашего библиографического обзора к «Энциклопедии ислама» и Пирсону сохраняют значение и для данного раздела. Существенно пополнить понимание испано-арабской литературы могут также отдельные замечания, разбросанные по историческим работам Дози, Леви-Провансаля, Хулиана Риберы-н-Тарраго.
Основополагающим источниковедческим трудом для всего арабо-мусульманского материала остается «История арабской литературы» Карла Брокельмана. В его пяти томах (два основных и три дополнительных) названы все рукописи арабоязычных произведений, известных западным ученым к моменту завершения публикации этой книги (1949 г.), а также и печатные издания. Там же приведены данные о каждом авторе с отсылками к арабским биографическим словарям и современным исследованиям.
Основное деление труда — хронологическое по периодам, периоды в свою очередь подразделены по темам, но каждому автору отведено одно определенное место. [Приблизительно так же построена «История арабской письменности» Фуата Сезгина, с той разницей, что его верхняя временная граница — 430/1038 г.]
Нельзя пройти мимо разделов о литературе Испании в общих историях арабской литературы, особенно у Р.А. Николсона, X.А.Р. Гибба, Ф. Габрнэлн, Х.-М. Абделжалила и др.
Единственная всеобъемлющая книга об арабо-испанской литературе — исследование Анхела Гонсалеса Паленсин, которое вполне удовлетворительно обобщает изыскания в основном испанских и французских ученых до 1945 г.
Что касается поэзии, то книга А. Ф. фон Шакка (изд. 2-е, 1877) сильно устарела, но ее многочисленные стихотворные переводы еще могут быть использованы.
Самый деятельный современный исследователь андалусской поэзии — Эмилио Гарсиа Гомес, издатель и переводчик ряда интересных текстов, автор вдумчивых исследований, часть из которых уже завершена и издана. В предисловии к «Арабо-андалусским стихотворениям» он дает общий обзор развития андалусской поэзии.
Анри Перес в своей выдержавшей два издания книге «Андалусская арабская поэзия XI в.» склонен преувеличивать неарабские и немусульманские элементы, а его кропотливая систематизация поэтических мотивов содержит некоторые погрешности, иногда не учитывая влияния условностей, а в других случаях—специфики того или иного поэта. Тем не менее он мастерски отобрал и представил огромный материал по этому важнейшему периоду.
Большая часть книги А.Р. Никла о связях арабской и провансальской поэзии представляет собой обзор андалусской поэзии по периодам с биографическими заметками о многих поэтах и с переводами их стихов. Как это ни удивительно при столь обширной эрудиции, но переводы Никла с арабского часто гораздо ниже среднего. Выбор поэтов также в значительной мере субъективен и ооусловлен неудержимым стремлением доказать связь арабской поэзии с трубадурами (см. также его исследование о трубадурах)
И все-таки в его книге, равно как и в библиографических заметках, содержится масса информации.
Первой работой по строфической поэзии была книга Мартина Хартмана (1897).
Исследование С. М. Штерна «Песни мосарабов» — попытка дешифровать все известные харджи, написанные на смеси романского и арабского языков; это еще один вклад автора в изучение мувашшаха. Он объявил также о своем намеренни напечатать всеобъемлющую работу на эту тему.
Современные арабские ученые выказывают растущий интерес к Андалусии. Стоит особо отметить книги, посвященные литературе следующих авторов: Абд ал-Азиз ал-Ахвани, Бутрус ал-Бустани, Ахмад Хайкал, Ихсан Аббас, Джаудат ар-Рикаби. Андалусии посвящен также третий том «Полдня ислама» — сочинения, принадлежащего Ахмаду Амину.
Среди переводов андалусских литературных произведений самое интересное — антология Ибн Сайда (1243), называемая «Знамена состязающихся» (Райат ал-мубарризин). Помещенные там стихи не равноценны по качеству, а половина их вообще неандалусские, однако антология все же дает представление о вкусах тех времен. Она лежит в основе сборника Гарсиа Гомеса «Арабо-андалусские стихотворения» и весьма удачно переведена на английский язык А.Дж. Арберри.
Существует несколько английских переводов трактата Ибн Хазма о любви — «Ожерелье голубки»: перевод Никла (1931) хуже перевода Арберри (1993). Около пятидесяти стихотворений и послание Ибн Зайдуна переведены Огюстом Куром в 1920 г., а стихи Ибн аз-Заккака изданы и переведены на испанский Гарсиа Гомесом (1956).
Максимилиано Аларкон издал в 1930 г. двухтомный испанский перевод «Светоча царей» (Сирадж ал-мулук) Абу Бакра ат-Туртуши. Гарсиа Гомес опубликовал в 1934 г. перевод «Послания» аш-Шакунди; французский перевод этого сочинения напечатал в журнале Hesperls А. Люя.
«Хайй ибн Якзаи» Ибн Туфайла был впервые переведен на английский С. Окли в 1708 г. под названием «Совершенствование человеческого разума», этот перевод был пересмотрен А.С. Фултоном в 1929 г. Более доступный и сокращенный вариант под названием «Пробуждение души» выпустил Пауль Брёнле в 1904 г. Это же произведение переведено на испанский Гонсалесом Паленсией (1934), на французский — Леоном Готье (1936), [а также на русский — И. Кузьминым (1922)].
Популярное традиционное повествование об Александре издано и переведено Гарсиа Гомесом в 1929 г.
Список сокращений
BSOAS — «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», London.
EI — The Encyclopaedia of Islam.
EOLP —Etudes d'orientalisme dediees a la memoire de Levi-Provenсal, t. I—II, Paris, 1962.
GAL — Brockelmann C., Geschichte der arabischen Litteratur.
GMS NS — «Е.J.W. Gibb Memorial» Series. New Series.
HEM — Levi-Provenсal Е., Histoire de l'Espagne musulmane.
JAOS — «Journal of the American Oriental Society», New York—New Haven.
JRAS — «Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland», London.
OI — «L'Occidente e l'lslam nell'alto medioevo».
RIEI — «Revista del Instituto de estudios islamicos en Madrid».
SSH — Castro A., The Structure of Spanish History.
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft», Leipzig, Wiesbaden.
Библиография
Абдал - Азиз ал-Ахвани, Аз-заджал фи-л-Андалус, Каир, 1957.
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Сокр. пер. с исп., т. 1—2, М. 1951.
Андалусская поэзия. Пер. с араб., М., 1969.
Ахмад Хайкал, Ал-адаб ал-андалуси мни ал-фатх ила сукут ал-хилафа, Каир, 1958.
Беляев В.И. Изучение испано-арабской литературы в России — Советском Союзе — «Вопросы испанской филологии», вып. 1, Материалы I Всесоюзной научной конференции по испанской филологии», Л., 1974.
Бойко К.А. Арабская историческая литература в Испании (VIII — первая треть XI в.), М., 1976.
Бойко К.А. К истории жизни и литературной деятельности Мухаммада ибн ал-Хариса ад-Хушнани, — «Палестинский сборник», М.—Л., 1964, вып. 11 (74), История и филология стран Ближнего Востока.
Борисов А.Я. Заметки о поэзии Моисея Ибн Эзры. I. Арабские влияния в «винных песнях» Моисея Ибн Эзры,— «Известия АН СССР. Отделение общественных наук», 1936, № 4.
Борисов А.Я. Об исходной точке волюнтаризма Соломона Ибн Габироля,— «Известия АН СССР. Отделение общественных наук», 1933, № 10.
Бутрус ал - Бустани, Удаба ал-араб фи-л-Андалус ва'аср ал-инби'ас, Бейрут, 1947.
Венмарн Б., Комптерева Т., Подольский А., Искусство арабских народов, М., 1960.
Глускниа Г.М. Пятидесятая макама знаменитого средневекового поэта Алхазари и ленинградские рукописи,— «Семитские языки», вып. 2 (ч. 2), 2-е изд., 1965.
Григулевич И.Р. История инквизиции (XIII—XX вв.), М., 1970.
Джаудат ар-Рикаби, Ат-табиа фи-ш-ши'р ал-андалуси, Дамаск, 1959.
Джаудат ар-Рикаби, Фи-л-адаб ал-андалуси, Дамаск, 1957.
Иби Туфейль, Роман о Хайе, сыне Якзана. Пер. и предисл. Ив. Кузьмина. Под ред. И.Ю. Крачковского, Пг., 1920.
Ибн Хазм, Ожерелье голубки. Пер. с араб. М.А. Салье. Под ред. И.Ю. Крачковского, М,—Л., 1933; 2-е изд., М., 1957.
Ибн Хамдис, Стихотворения — «Восток», 1923, кн. 3.
Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв., М., 1961.
Ихсан Аббас, Тарих ал-адаб ал-аидалуси. Аср сийада Куртуба, Бейрут, 1960.
Карасс М.Б. Архив толедских мосарабов XII—XIII вв. и изучение культурных связей между Востоком и Западом, «Краткие сообщения Института народов Азии, т. 86, История и филология Ближнего Востока. Семитология», М., 1965.
Коковцев П. К истории средневековой филологии и еврейско-арабской литературы, ч. I. Книга сравнения еврейского языка с арабским Абу Ибрагима (Исаака) Иби-Баруна, испанского еврея конца XI и начала XII века, СПб., 1893.
Корсунский А.Р. Готская Испания, М., 1969.
Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература,— Избр. соч., т. IV, М,—Л., 1957.
Крачковский И.Ю., Арабская культура в Испании, М.—Л., 1937.
Крачковский И.Ю., Арабская поэзия в Испании,— Избр. соч., т. II, М,—Л., 1956.
Крачковский И.Ю., Д.К. Петров — арабист,— «Записки Коллегии востоковедов», т. II, вып. 1, 1926.
Крачковский И.Ю. Памяти И.П. Кузьмина, — «Записки Коллегии востоковедов», т. II, вып. 1, 1926.
Крымский А.Е. История арабов и арабской литературы светской и духовной (Корана, фыкха, сунны и пр.). Изд. новое, перераб., ч. 1—3, М., 1911—1913; сокр. изд. в Крымский А. Tвopi, т. IV, Киев, 1974.
Кубе А.Н. (сост.), Испано-мавританская керамика, М.—Л., 1940.
Куделнн А. Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая система» (гипотеза X. Риберы в свете последних открытий), — «Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада», М., 1974.
Куделин А.Б. Классическая арабо-испанская поэзия (конец X — середина XII в.), М., 1973.
Кудрявцев А.Е. Испания в средние века, Л., 1937.
Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. Пер. с франц., М., 1967.
Ли Г.Ч. История инквизиции в средние века. Пер. с англ., т. I—II, СПб., 1911—1912.
Льоренте X.А. Критическая история испанской инквизиции. Пер. с исп., т. 1—2, М., 1936.
Малицкая К.М. Толедо, М., 1968.
Маловист М. Европа, Магриб и Западный Судан в XV в. Международные основы европейской экспансии в Африке. [Пер. с польск.], — «История, социология, культура народов Африки». Статьи польских ученых, М., 1974.
Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Пер. с исп, М., 1961.
Мюллер А. История ислама от основания до новейших времен. Пер. с нем., т. 1—IV, СПб., 1895—1896.
Ннкитюк О.Д. Кордова, Гранада, Севилья, М., 1972.
Петров Д. К. Одна из испано-арабских проблем, — «Записки Коллегии востоковедов», т. II, вып. 1, 1926.
Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153). Публикация О. Г. Большакова, А. Л. Монгайта, М., 1971.
Сагадеев А.В. Иби-Рушд (Аверроэс), М., 1973.
Сагадеев А. В. Очеловеченный мир в философии_ в искусстве мусульманского средневековья. (По поводу одной типологической концепции), — «Эстетика и жизнь», вып. 3, М., 1974.
Смирнов А.А. Средневековая литература Испании, Л., 1969.
Старкова К.Б. Панегирик в средневековой еврейской поэзии, — «Советское востоковедение», т. 4, 1947.
Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу, М., 1976.
Цетлин М.Н. Средневековый путешественник Вениамин Тудельский,— «Страны и народы Востока», вып. 3, М., 1964.
Шидфар Б.Я - Андалусская литература, М., 1970.
Шидфар Б. Арабская проза и средневековая испанская литература, — «Теоретические проблемы восточных литератур», М., 1969.
al-'Abbadi А. М. Maqamat al'Id, — RIEI, vol. II, 1954.
al -'Abbadi A.M. Los eslavos en Espana, ojeada sobre su origen, desarrollo у relacion con el movimiento de la shu'ubiyya, Madrid, 1953.
Ab dal - Wahhab, Le developement de la musique arabe en Orient, Espagne et Tunisie,— «Revue tunisienne», t. XXV, 1918.
Abd-el-Jalil J.-M., Breve histoire de la litterature arabe, 2e ed., Paris, 1960.
Abd el Вadi L. La epica arabe у su influencia en la epiqa castellana, Santiago de Chile, 1964.
Abel A. Spain: Internal Division, — G. E. von Grunebaum (ed.), Unity and Variety in Muslim Civilization, Chicago 1955.
Aben Adhari de Marruecos, Historia de al-Andalus traducida роr Francisco Fernandez у Gonzalez, Granada, 1860.
Abu-Lughod I. Arab Rediscovery of Europe. A Study in Cultural Encounters, Princeton, 1963.
Abun-Nasr J.M. A History of the Maghrib, Cambridge, 1971, 1975.
Abusalt de Denia, Rectificacion de la mente, tratado de logica, ed. у tr. por A. Gonzalez Palencia, Madrid, 1915.
Adler G.J. The Poetry of the Arabs of Spain, New York, 1867.
Affifi A.E. The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul 'Arabi, Cambridge, 1939.
Alarcon M. Lampara de los principes por Abubequer de Tortosa, vol. I—II, Madrid, 1930—1931.
Aljoxani, Historia de los jueces de Cordoba, ed. у tr. por J. Ribera, Madrid, 1914.
d'Alverny M. Th. La connaissance de l'lslam en Occident du IXe au milieu du XIIe siecle,— OI, t. 2.
d'Alverny M. Th. Deux traductions latines du Coran au Moyen Age, — «Archives d'histoire doclrinale et litteraire du Moyen Age», t. XVI, 1947—1948.
Andrae T. Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm, 1918.
Arberry A. J. An Introduction to the History of Sufism (The Sir Abdullah Suhrawardy Lectures for 1942), Oxford, 1942.
Arberry A.J. Moorish Poetry, a translation of The Pennants, an Anthology Compiled in 1243 by the Andalusian Ibn Said, Cambridge, 1953.
Arberry A.J. Sufism. An account of the mystics of Islam, London, [1969].
Arie R. L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232—1492), Paris, 1973.
Arie R. Miniatures hispano-musulmanes. Recherches sur un manuscrit arabe illustre de l'Escurial, Leiden, 1969.
Arnaldez R. Grammaire et theologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Paris, 1956.
Arnaldez R. La Guerre Sainte selon Ibn Hazm de Cordoue,— EOLP, t. II.
Arnоld T. W. Guillaume A. (ed.), The Legacy of Islam, Oxford, 1931
Arnold T.W. The Preaching of Islam, 3rd ed., London, 1935.
Asin Palасiоs M. Abenhazam de Cordoba у su Historia critica de las ideas religiosas, vol. I—V, Madrid, 1927—1932.
Asin Palасiоs M. La escatologia musulmana en la Divina Comedia seguida de la historia у critica de una polemica, 3a ed., Madrid — Granada, 1961.
Asin Palacios M. La espiritualidad de Algazel у su sentido cristiano, vol. I—IV, Madrid, 1934—1941.
Asin Palacios M. Glosario de voces romances registradas рог un botanico anonimo hispano-musulman (siglos XI—XII), Madrid — Granada, 1943.
Asin Palасiоs M. Huellas del islam, Madrid, 1941.
Asin Palacios M. Islam and the Divine Comedy, transl. by H. Sutherland, [London], 1968.
Asin Palacios M. El islam cristianizado, estudio del «sufismo» a traves de las ohras de Abcnarabi de Murcia, Madrid, 1931.
Asin Palacios M. Obras escogidas, vol. I—III, Madrid, 1946—1948.
Baer Y., A History of the Jews in Christian Spain, Philadelphia, 1961.
Barbour N., Al-Andalus en las cronicas inglesas de los siglos doce v trece,—RIEI, vol. XIII, 1965—1966.
Barbour N. The Influence of Sea Power on the History of Muslim Spain,— RIEI. vol. XIV, 1967—1968.
Barbour N. King Sancho el Fuerte of Navarre (1194—1234),— RIEI, vol. XV, 1970.
Bargebuhr Fr. P. The Alhambra. A Cycle of Studies on the Eleventh Century in Moorish Spain, Berlin, 1968.
Bel A. Les Banou Ghanya, derniers representants de I'empire almoravide et leur lutte contre l'empire almohade, Paris, 1903.
Bel A. La religion musulmane en Berberie, t. 1, Paris, 1938.
Blachere R. Elude semanticue sur le nom maciama,— «al-Mashria» vol. 47, 1953.
Blachere R. La vie et l'ocuvre du poete-epislolier andalou Ibn Darragl-Kaslalli,— «Hespcris», t. XVI, 1933.
Blanco E.G. The Rule of the Spanish Military Order of St. James 1170—1493. Lalin and Spanish Texts, Edited with Apparatus Criticus, English Translation and a Preliminary Study, Leiden, 1971.
Bosch Vila J. Los almoravides, Tetuan, 1956.
Bosch Vila J. El Oriente arabe en el desarrollo de la cultura de la Marca Superior, Madrid, 1954.
Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Zweite den Supplementbanden angepasste Aufl., Bd I—II, Leiden, 1943— 1949; Suppl.-Bd I—III, Leiden, 1937—1942.
Brunschvig R. Averroes juriste,— EOLP, t. I.
Brunschvig R. Sur la doctrine du Mahdi Ibn Tumart,—S. Lowinger (ed.), Ignace Goldziher Memorial Volume, vol. II, Jerusalem, 1958.
Cabanelas D. Cartas del morisco granadino Miguel de Luna,— ME AH, 1965/66.
Cagigasl. de las, Andalucia musulmana. Aportaciones a la delimitation de la frontera del Andalus (ensayo de etnografia andaluza medieval), Madrid, 1950.
Cagigasl. de las, Minorias etnico-religiosas de la edad media espanola. I. Los mozarabes, vol. 1—2, Madrid, 1947—1948; II. Los mudejares, vol. 1—2, Madrid, 1948—11949.
Cagigasl. de las, Sevilla almohade у ultimos afios de su vida musulmana, Madrid, 1951.
Сahen CI. Quelques problemes concernant l'expansion economique musulmane au haut moyen age,— 01, t. 1.
Сais N.E. Apercu sur la population musulmane de Majorque au XIVе siecle,— «Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb», Alger, 1970, № 9.
Le Calendrier de Cordoue publie par R. Dozy. Nouvelle ed. accompagnee d'une tr. franfaise annotee par Ch. Pellat, Leiden, 1961.
Campaner у Fuertes A. Bosquejo historico de la domination islamita en las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1888.
Canard M. L'expansion arabe: le probleme militaire,— 01, t. 1.
Cantera Burgos Fr. Versos espanoles en las muwassahas hispanoebreas,— «Sefarad», vol. IX, 1949.
Caro Baroja J. Los moriscos del reino de Granada (ensayo de historia social), Madrid, 1957.
Caro Baroja J. Una vision de Marruecos a mediados del siglo XVI, la del primer historiador de los «xarifes», Madrid, 1956.
Сasiri M. Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis..., Matriti, t. I—II, MDCCLXX (reprint, Osnabriick, 1969].
Caste j on CalderonR. Los juristas hispano-musulmanes, Madrid, 1948.
Castrillo Marquez R. El Africa del Norte en el «A'mal al-a'lam» de Ibn al-Jatib. Los primeros emires у dinastias aglabi, ubaydi у sinhai, Madrid, 1958.
Castro A. La realidad historica de Espana, Mexico, 1962.
Castro A. The Structure of Spanish History, Princeton, 1954.
Сerulli E. «Libro della Scala» e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia, Vaticano, 1949.
Cerulli E. L'islam nella storia dell'alto medioevo,— 01, t. 2.
Сhejne A.G. Muslim Spain. Its History and Culture, Minneapolis.
Codera Fr. Ribera J. (ed.), Bibliotheca Arabico-Hispana, vol. I—VIII, Madrid, 1882—1892; vol. IX—X, Zaragoza, 1893—1895.
Сorbin H. Histoire de la philosophie islamique, t. I, Paris, 1964.
Сorbin H. L'Imagination creatrice dans le coufisme d'Ibn 'Arabi, Paris, 1958.
Coulson N.J. A History of Islamic Law, Edinburgh, 1964.
Сour A. Un poete arabe d'Andalousie: Ibn Zaidoun. Etude d'apres le divan de ce poete et les principales sources arabes, Constantine, 1920.
Una Cronica anonima de Abd al-Rahman III al-Nasir editada роr primera vez у traducida, con introduccion, notas e indices, рог E. Levi-Provenfal у E. Garcia-Gomez, Madrid — Granada, 1950.
Diaz-Plaja D. G. (dir.), Historia general de las literatures hispanicas. Con una introduccion de Don Ramon Menendez Pidal. vol. I, Desde origenes hasta 1400, Barcelona, (1949] (J. M. Millas Vallicrosa, Literature hebroespanola; E. Teres, La literature arabigoespanola; J. Madоz, La literature en la epoca mozarabe; G. menendez Pidal, La escuela de treductores).
Dickie J. The Hispeno-Areb Gerden, Its Philosophy and Function,— BSOAS, vol. XXXI, pt 2, 1968.
Dozy R. Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'a la conquete de I'Andalousie par les Almoravides (711—1110), 2e ed. per E. Levi-Provencal, t. I—III, Leyde, 1932.
Dozy R. Recherches sur I'Histoire et la litterature de I'Espagne pendant le moyen age, 3e ed. revue et augmentee, t. I—II, Leyde, 1881 [reprint, Amsterdam, 1965].
Dozy R. Engelmann W. H., Glossaire des mots espagnols et portugais derives de I'arebe, 2e ed. revue, Leyde, 1879 (reprint, Amsterdam, 1966].
Dressendorfer P. Islam unter der Inquisition. Die Morisco-Prozesse in Toledo, 1575—1610, Wiesbaden, 1971.
Dubler С. E. Abu Hamid el granedino у su relation de vieje por tierras eurasiaticas, texto arabe, traduccion e interpretation, Madrid, 1953.
Dubler С. E. Teres SadabaE., La «Materia Medica» de Dioscorides, transmission medieval у renacentista, vol. 2, La version arabe de la «Materia Medica» de Dioscorides (texto, variantes, indices), Tetuan — Barcelona, 1957.
Dubler С. E. Uber das Wirstschaftsleben auf der liberischen Halbinsel vom XI zum XIII. Jahrundert, Genf — Basel, 1943.
Dufourcq Ch.-E. L'Espagne Catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVе siecles, Paris, 1966.
Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne. Texte arabe publie pour la premiere fois d'apres les man. de Paris, d'Oxford avec une traduction, des notes et un glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje, Reimpression anastatique [de la premiere edition de 1864—1866], Leiden, 1968.
The Encyclopaedia of Islam. New Edition prepared by a num¬ber of leading Orientalists, vol. I—III—Leiden—London. (1954) 1960-1971-...
Fischel W.J. Jews in (he Economic and Political Life of Medieval Islam, London, 1937.
Gabrieli Fr. Sloria della letteratura araba, Milano, 1951.
Gallego у Buriu A. La Alhambra, Granada, 1963.
Garcia Dоmingues J.D. Conceito e limiles do Ocidente Extremo do Andaluz nos geografos, historiadores e anotpgistas arabes — «Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici. Ravello, 1—6 settembre 1966», Napoli, 1967.
Garcia Gomez E., Un alfaqui espanol, Abu Ishaq de Elvira, texto arabe de su «Diwan», segiin el M. S. Escurial 404, publicado por primera vez, con introduction, analisis, notas e indices, Madrid — Granada, 1944.
Garcia Gomez E. Cinco poetas musulmanes, biografias у estudios, Madrid, 1945.
Garcia Gomez E. Elogio del Islam Espanol, Madrid, 1954.
Garcia Gomez E. Estudio del Dar attiraz,— «Al-Andalus», vol. XXVII, 1962.
Garcia Gomez D. E. Las jarchas romances de la serie arabe err su marco, Madrid, 1965.
Garcia Gomez E. Poemas arabigoandaluces, Madrid, 1940.
Garcia Gomez E. Poesia arabigoandaluza, breve sintesis historica, Madrid, 1952.
Garcia Gomez E. Silla del moro у nuevas escenas andaluzas, Madrid, 1948.
Garcia Gomez E. Sobre un posible tercer tipo de poesia arabigoandaluza,— «Estudios dedicados a Menendez Pidal», vol. II, Madrid, 1951.
Garcia-GomezE. Un texto arabe occidental de la Leyenda de Alejandro, Madrid, 1929.
Carcia Gomez E. Todo Ben Quzman, t. 1—3, Madrid, 1972.
Ghazi M. Evolution de la sensibilite andalouse. (Du Califat Umayade aux Reyes de Taifas),— EOLP, t. II.
Gibb H.A.R. Arabic Literature. An Introduction. 2nd ed., Oxford, 1963.
Goitein S.D. Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1968.
Goldziher I. Gesammelte Schriften. Hrsg. von Joseph Desoniogyi, Bd I—VI, Hildesheim, 1967—1973.
Goldziher I. Introduction,— в кн.: J.D. Luсiani, Le livre de Mohammed ibn Toumert, Alger, 1903.
Goldziher I. Materialien zur Kentniss der Almohaden-Beweg-ung,—ZDMG, Bd XLI, 1887 ( = «Gesammelle Schriften», Bd II).
Goldziher I. The Zahiris. Their Doctrine and Their History. A Contribution to the History of Islamic Theology. Transl. and ed. by W. Behn, Leiden, 1971.
Goldziher I. Die Zahiriten. Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Behxag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie, Leipzig.
Gomez Moreno M. El arte arabe espanol hasta los almohades Arte mozarabe, Madrid, 1951.
Gonzalez PalenciaA. Historia de la Espaiia musulmana, 41a ed., Madrid, 1945.
Gonzalez Palencia A. Historia de la literature arabigoespanola, 2da ed., Madrid, 1945.
Gonzalez Palencia A. Los mozarabes de Toledo en los siglos XII у XIII, vol. I—IV, Madrid, 1926-1930.
Grabar O. L'essor des arts inspires par les Cours princieres a latin du premier millenaire; princes musulmans et princes Chretiens,— 01, t. 2.
Grabаr О. The Formation of Islamic Art, New Haven — London, 1973.
Granja F. de la, Ibn Garcia, cadi de los califas Hammudies,— «Al-Andalus», vol. XXX, 1965.
Granja F. de la, La «Maqama de la Fiesta» de Ibn al-Murabi al-Azdi,— EOLP, t. II.
Grunebaum G.E. von, L'espansione dell'Islam: la struttura della nuova fede,— 01, t. 1.
Grunebaum G.E. von, Islam. Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, 2nd ed., [London], 1961.
Grunebaum G.E. von, Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation, 2nd ed., Chicago — London, [1953].
Hartmann M. Das arabische Strophengedicht. I. Das Muwassah, Weimar, 1897.
Harvey L. P. The Arabic Dialect of Valencia in 1595,—«Al-Andalus», vol. XXXVI, 1971.
Hitti Ph. K. History of the Arabs, 10th ed., [London], 1970.
Hodgson M. G. S. The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization, vol. 1—3, Chicago — London, [1974].
Hoenerbach W. Dichterische Vergleiche der Andalus-Araber, Bonn, 1973.
Hoenerbach W. Islamische Geschichte Spaniens. Dbersetzung der A'mal al-a'lam und erganzender Texte, Zurich — Stuttgart, [1970].
Hoenerbach W. Spanisch-Islamische Urkunden aus der Zeit der Nasriden und Moriscos, Los Angeles—Berkeley, 1965.
Hopkins J. F. P. The Almohade Hierarchy,—BSOAS, vol. XVI, 1954.
Huici Miranda A. Coleccion de cronicas arabes de la Recon- quista, vol. I—IV, Tetuan, 1952—1955.
Huici Miranda A. Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas (almoravides, almohades у benimerines), Madrid, 1956.
Huici Miranda A. Historia politica del imperio almohade, pt. I—II, Tetuan, 1956-1957.
Huici Miranda A. The Iberian Peninsula and Sicily,— P. M. Holt, A. K. S. Lambton, B. Lewis, The Cambridge History of Islam, vol. 2, Cambridge, 1970.
Ibn Abdun, Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn Abdun. Tr. роr E. Levi-Provencal у E. Garcia Gomez, Madrid, 1947.
Ibn Arabi, Fusus al-Hikam. Das Buch der Siegelringsteine der Weisheitsspriiche. Obersetzt von H. Kofler. Einleitung, Auszug aus der Einfuhrung des Ahu'l-'Ala Afifi und Literaturverzeichnis von E. BaAerth, Graz, 1970.
Ibn Arabi, Sufis of Andalusia. The Ruh al-quds and al-Durrat al-fakhirah of ibn 'Arabi. Tr. with Introduction and Noles by W. J. Austin. Willi a Foreword by M. Lings, London, [1971]
Ibn Arabi, Tarjmnau nl-ASwaq. Tr. bv R. Л. Nicholson, London. 1911.
Ibn al-Arif, Mahasiii al-Majalis, lexte arabe, traduction et commentate par M. Asm Palacios, Paris, 1933.
Ibn Bassal, Libro de agriciiltura. Ed. у Ir. por J. M. Millas Vallicrosa у M. Aziman, Tetuan, 1955
Ibn Hayyan, Das Buch der Gifte des Gabir Ibn Hayyan. Arabischer Text in Facsimile (HS. Taymur, Tibb 393, Kairo), iibersetzt und erlautert von A. Siggel, Wiesbaden, 1958.
Ibn Hazm, El collar de la paloma, tratado sobre el amor у los amantes de Ibn Hazm de Cordoba. Tr. por E. Garcia Gomez. Prologo por J. Ortega у Gasset, Madrid, 1952.
Ibn Hazm, Halsband der Taube. Uber die Liebe und die Liebenden. Obersetzt von M. Weisweiler, 42. Aufl., Leiden, 1944.
Ibn Hazm, The Ring of the Dove. Tr. by A. J. Arberry, London,1953.
Ibn Hazm. The Necklace of the Dove. Tr. by A. R. Nykl, Paris, 1931.
Ibn al-Kattani's «Dichterische Vergleiche der Andalus-Araber». Einfiihrung nebst kommentierter Edition von A. S. M. I. Hasanein, Kiel, 1971.
Ibn Khaldun, The Muqaddimah. An Introduction to History. Tr. by Fr. Rosenthal, vol. 1—3, 2nd ed., (New York—Princeton], 1967.
Ibn Khali ikan's Biographical Dictionary. Tr. by Bn Mac Guckin de Slane, vol. I—IV, Paris, 1842—1871 {reprint, Beirut, 1970].
Ibn al-Qutiyya, Historia de la conquista de Espafia. Tr. por J. Ribera, Madrid, 1926.
[Ibn Rushd], Averroes' Tahafut al-Tahafut (The Incoherence' of the Incoherence). Tr. with Introduction and Notes by S. varr den Bergh, vol. I—II, London, 1954 [reprint, 1969].
Ibn Rushd, Ibn Rushd (Averroes) on the Harmony of Religion and Philosophy. Tr. by G. F. Hourani, London, 1962.
Ibn Tufауl, The Awakening of the Soul. Tr. by P. Bronnle, London, 1904.
Ibn Tufауl, El filosofo autodidacto. Tr. por A. Gonzalez Palencia, Madrid. 1948.
Ibn Tufayl, The Improvement of Human Reason. Tr. by S. Ockley, rev. by A. S. Fulton, London, 1929.
Idris R. Reflexions sur le Malikisme sous les umayyades d'Espagne,— «Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici, Ravello, 1—6 settembre 1966», Napoli, 1967.
Imamuddin S.M. A Political History of Muslim Spain, Dacca, 1961.
Imamuddin S. M. Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain, 711—1492 A. D., Leiden, 1965.
Irving W. The Alhambra: a Series of tales and Sketches of the Moors and Spaniards, Philadelphia, 1832.
Khoury A.-Th. Les Theologiens Byzantins et I'islam. Textes et auteurs (VIIIe—XIIIe s.), Louvain — Paris, 1969.
Kritzeck J. Peter the Venerable and Islam, Princeton, 1964.
Landau R. Ibn Arabi, London, 1963.
Lane-Poole S. The Moors in Spain, London, 1888.
Levi Delia Vid a G. Note di storia letteraria arabo-ispanica. A cura di M. Nallino, Roma, 1971.
Levi-Provengal E. Arabica Occidentalia, II,— «Arabica», vol. I, 1954.
Levi-Provenf al E. Las cuidades у las instituciones urbanas del Occidente musulman en la edad media, Tetuan, 1950.
Levi-Provenfal E. La civilisation arabe en Espagne, vue generate, Paris, 1948.
Levi-Provenfal E. Conferences sur I'Espagne Musulmane prononcees a la Faculte des Lettres en 1947—1948, Le Caire, 1951.
Levi-Provenfal E. Documents arabes inedits. I. Trois traites hispaniques de Hisba, Paris —Le Caire, 1955.
Levi-Provenfal E. Documents inedits d'histoire almohade. Fragments des manuscrits du «Legajo» 1919 du Fonds Arabe de l'Escurial. Publies et traduits avec une introduction et notes, Paris, 1929.
Levi-Provenfal E. Histoire de I'Espagne musulmane, t. I—III, Paris—Leyde, 1950—1953.
Levi-Provenfal E. Inscriptions arabes de I'Espagne, t. I—II, Paris—Leyde, 1931.
Levi-Provenfal E. Islam d'Occident, Paris, 1948.
Lewicki T. L'apport des sources arabes medievales (IXе—Xe sieсles) a la connaissance de l'Europe centrale et orientale,— 01, t. 1.
Lewis B. The Arabs in History, 5th ed., London, 1969.
Lewis B. An Ode Against the Jews,— его же, Islam in History. Ideas, Men, and Events in the Middle East, [London], 1973.
Liauzu G. La condition des musulmans dans I'Aragon chretien aux XI et XII siecles,— «Hesperis-Tamuda», t. 9, 1968.
Lopez R.S. L'importanza del mondo islamico nella vita economics europea,— 01, t. 1.
Lopez Ortiz J. Fatwas granadinas de los siglos XIV у XV,— «Al-Andalus», vol. VI, 1941.
Mаkki M.A. Egipto у los origenes de la historiografia arabe-espanola,— RIEI, vol. V, 1957.
Makki M.A. Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espana musulmana у su influencia en la formation de la cultura hispano-arabe, Madrid, 1967 ( = RIEI, vol. IX—XII, 1961—1964).
Makki M.A. A proposito de la revolution de 'Ubayd Allah b. al-Mahdi en Madrid,—RIEI, vol. IX—X, 1961 — 1962.
Makki M.A. El si'ismo en al-Andalus,—RIEI, vol. II, 1954.
Manzanares de CirreM. Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, 1972.
Manzanarez de Cirre M. El otro mundo en la literatura al-jamiado-morisca,— «Hispanic Review», vol. 41, 1973.
Marcais G. L'architecture musulmane d'Occident: Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Sicilie, Paris, 1955.
Marcais G. La Веrberiе musulmane et I'Orient au moyen age, Paris, 1946.
Marfais G. Manuel d'art musulman. L'architecture. Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne, Sicilie, t. I—II, Paris, 1926—1927.
Martinez Montavez P. Islam у cristianidad en la economia mediterranea de la baja edad media,— «XIII Международный конгресс исторических наук, Москна, 16—23.VIII.1970. Доклады Конгресса», т. I, ч. 4, М., 1973.
Мassignоn L. l.rs inclliodcs de realisation artistique des peuples de l'lslam,— «Syria», 1921 («Opera minora», t. III, Beirut, 1963).
Menendez Pidal R. The Cid and His Spain, London, 1934.
Menendez Pidal R. La Espana del Cid, 6ta ed., Madrid, 1967.
Menendez Pidal R. (dir.), Historia do Espana. Ill, Espaiia visigoda, Madrid, 1940.
Menendez Pidal R. Poesia arabe у poesia europea, 4ta ed., Madrid, 1955.
Mieli A. La science arabe et son role dans revolution scientifique mondiale. Avec quelques additions de H.-P.-J. Renaud, M. Meyerhof et J. Ruska. Augmentee d'une bibliographie par A. Mazaheri, Leiden, 1966.
Miles Q. C. The Coinage of the Umayyads in Spain, New York, 1954.
Millas Vallicrosa J.M. Estudios sobre Azarquiel, Madrid—Granada, 1943—1950.
Millas Vallicrosa J.M. Estudios sobre historia de la ciencia espanola, Barcelona, 1949.
Millas Vallicrosa J.M. El quehacer astronomico de la Espana arabe,— RIEI, vol. V, 1957.
Minio-Paluello L. Aristotele dal mondo arabo a quello latino,— 01, t. 2.
Mones H. 'Abd al-Rahman III у su papel en la historia de Espania,—RIEI, vol. IX—X, 1961—1962.
Mones H. Les Almoravides,—RIEI, vol. XIV, 1967—1968.
Mones H. Gasification de las Ciencias segun Ibn Hazm, — RIEI, vol. XIII, 1965—1966.
Mones H. La division politico-administrativa de la Espafia musulmana,—RIEI, vol. V, 1957.
Mones H. The Umayyads of the East and West. A Study in the History of a Great Arab Clan,— Hoenerbach W. (Hrsg.), Der Orient in der Forschung. Festschrift fur Otto Spies zum 5. April 1966, Wiesbaden, 1967.
Monneret de Villard U. Lo studie dell'Islam in Europa nel XII e nel XIII secolo, Vaticano, 1944.
Monroe J. Hispano-Arabic Poetry. A Student Anthology, Los Angeles, 1974.
Monroe J.T. Hispano-Arabic Poetry during the Caliphate of Cordoba: Theory and Practice,— G. E. Von Grunebaum (ed.), Arabic Poetry. Theory and Development, Wiesbaden, 1973.
Monroe J. The Historical Arjuza of Ibn 'Abd Rabbihi, a tenth century Hispano-Arabic epic poem,— JAOS, vol. 91, 1971.
Monroe J. Islam and the Arabs in Spanish Scholarschip (Sixteenth Century to the Present), Leiden, 1970.
Monroe J.T. Risalat al-Tawabi' wa z-zawabi'. The Treatise of Familiar Spirits and Demons by Abu Amir ibn Shuhaid al-Ash- ja'i, al-Andalusi. Introduction, Translation, Notes, Berkeley, 1971.
Monroe J. The Shu'ubiyya in al-Andalus; the Risala of Ibn Garcia and Five Refutations. Introduction, Translation and Notes, Berkeley—Los Angeles, 1969.
Moubarac Y. Pentalogie Islamo-Chretienne, vol. I—V, Beirut, 1972-1973.
Murdoch J.E. Sуlla E.D. (eds.) The Cultural Context of Medieval Learning. Proceedings of the First International Colloquium on Philosophy, Science and Theology in the Middle Ages, September 1973, Boston, [1975].
Naillino C.A., Raccolta di scritti editi e inediti. A cura di M. Nallino, vol. I—VI, Roma, 1939—1948.
Nasr H. Three Muslim Sages, Avicenna — Suhrawardy — Ibn 'Arabi, Cambridge, Mass., 1964.
Nicholson R. A. Literary History of the Arabs. 2nd ed., Cambridge, 1930 (reprint, 1969].
Nykl A. R. Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Provencal Troubadours, Philadelphia, 1946.
Nykl A. R. Troubadour Studies, Cambridge, Mass., 1944.
Осana M. El cufico hispano у su evolution, Madrid, [б. г.].
O'Callaghan J. A History of Medieval Spain, London, 1975.
L'Occidente e I'lslam nell'alto medioevo, 2—8 aprile 1964, t. 1—2, Spoleto, 1965.
Pavon Maldonado, B. Almenas decorativas hispano-musulmanas, Madrid, [б. г.].
Pavon Maldonado B. Arte toledano: islamico у mudejar, Madrid, [б. г.].
Pearson J.D. Index Islamicus 1906—1955. A Catalogue of Articles on Islamic Subjects in Periodicals and Other Collective Publications, London, 1958; Suppl. I, 1956—1960, Cambridge, 1962; Suppl. II, 1961—1965, Cambridge, 1967; Suppl. Ill, 1966—1970, London, 1972; Suppl. IV, 1971—1975, (pt I—IV),[London, 1973-6].
Pellat Ch. The Origin and Development of Historiography in Muslim Spain,— B. Lewis, P. M.
Hоlt (ed.), Historians of the Middle East, London, [1962].
Peres H. La poesie andalouse en arabe classique. 2 ed., Paris, 1953.
Petrov D.K. Quelques mots sur l'origine de la langue espagnole,— «Яфетический сборник. Recueil Japhetique», т. II, Пг., 1923.
Pirenne H. Economic and Social History of Medieval Europe, New York, {б. г.].
Pons Boigues Fr. Apuntes sobre las escrituras mozarabes toledanas que se conservan en el Archivo Historico Nacional, Madrid, 1897.
Pons Boigues Fr. Los historiadores у geografos arabigo-espanoles, 800—1450 A.D. Ensayo de una diccionario bio-bibliografico, acompanada de anotaciones criticas у historicas, descripciones analiticas de las obras con apendices varios, un indice general e indices arabigos precedido de una introduction general, Madrid, 1898 [reprint, Amsterdam, 1972].
Ribera у Tarrago J. Disertaciones у opiisculos, vol. I—II, Madrid, 1928.
Ribera у Tarago J. Opusculos dispersos, Tetuan, 1952.
Rosenthal E.I.J. Political Thought in Medieval Islam, an Introductory Outline, Cambridge, 1962.
Rosenthal Fr. Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam, Leiden, 1970.
Sanchez Albоrnoz Cl. La Espana musulmana segun los autores islamilas у crislianos medievales. 2da ed. revisada, vol. I—II, Buenos Aires, 1960.
Sanchez Albоrnoz Cl. La Espania mi enigma historico, vol. I—II, Buenos Aires, l943.
Sanchez Albornoz Cl. Kspaiia у cl Islam, Buenos Aires, 1943.
Sanchez Albornoz Cl. El Islam de Espana у el Occidents — OI, t. 1.
Schacht J. The Origins ol Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950.
Sсhасk A. Fr. von, Poesie inul Knnst der Araber in Spanicn mid Sicihen, Berlin, 1865; 2. Aufl., Stuttgart, 1877.
Scheindlin R. P. Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid ibn 'Abbad, Leiden, 1973.
Schlunk H. Die Auseinandersetzung der christlichen und der islamischen Kunst auf dem Gebiete der iberischen Halbinsel bis zum Jahre 1000,—01, t. 2.
Schmidt W. Die Natur in der Dichtung der Andalus-Araber. Versuch einer Strukturanalyse arabischer Dichtung, Kiel, 1971.
Seco de Lucena у Paredes L. Los Abencerrajes, leyenda e historia, Granada, 1960.
Sezgin F. Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd I, Qur'anwis-senschaft. Hadit, Geschichte. Fiqh. Dogmatik, Mysik. Bis ca. 430 H. Leiden, 1967. Bd II, Poesie. Bis ca. 430 M. Leiden, 1975; Bd III, Medizin-Pharmazie. Zoologie-Tierheilkunde. Bis ca. 430 H., Leiden, 1971; Bd IV, Alchimie-Chemie.Botanik-Agrikultur. Bis ca. 430 H. Leiden, 1971. Bd V. Mathematik. Bis ca. 430 H. Leiden, 1974.
Silver D.J. Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy, 1180—1240. With a foreword by S. Zeitlin, Leiden, 1965.
Simonet Fr.J. Lerchundi J., Crestomatia arabigo-espanola, Granada, 1881 (reprint, Amsterdam, 1972].
Sоla - Sоle J.M. Una composition bilingiie hispano-arabe en un cancionero Catalan del siglo XV,— «Hispanic Review», vol. 40, 1972.
Steiger A. Contribution a la fonetica del hispano-arabe у de los arabismos en el ibero-romanico у el siciliano, Madrid, 1932.
Steinschneider M. Die europaischen Obersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts, Graz, 1956.
Stern S.M., Asiqayn I rtanaqa — An Arabic Muwassah and its Hebrew Imitations,—«Al-Andalus», vol. XXVIII, 1963.
Stern S.M. Les Chansons Mozarabes. Les vers finaux (kharjas) en Espagnol dans les muwashshahs Arabes et Hebreux, Oxford, 1964.
Stern S.M. Esistono dei rapporti letterari tra il mondo isiamico e l'Europa occidentale nell'alto medio evo,— 01, t. 2.
Stern S. M. Hispano-Arabic Strophic Poetry. Ed. by L. P. Harvey, London, 1974.
Talbi M. Kairouan et le malikisme espagnol,— EOLP, t. II.
Teres E. 'Abbas ibn Nasih poeta у qadi de Algeciras,— EOLP, t. I.
Terrasse H. L'art hispano-mauresque des origines au Xllle siecle, Paris, 1932.
Terrasse H. L'Espagne du moyen age: civilisation et arts, Paris, 1966.
Terrasse H. Islam d'Espagne: une rencontre de l'Orient et de l'Occident, Paris, 1958.
Thoden R. Abu-l-Hasan Ali (Albohacen). Meriniden-Politik zwischen Nordafrika und Spanien in den Jahren 710—752 H./1310— 1351, Wiesbaden, 1973.
Tisini T. Die Materieauffassung in der islamisch-arabischen Philosophie des Mittelalters, Berlin, 1972.
Torres Balbas L. Arte almohade, arte nazari, arte mudeiar, Madrid, 1949.
Torres Balbas L. Ciudades hispanomusulmanas. Obra postuma preparada para la publication рог: el Seminario de Arte у Arqueo logia Hispanomusulmana con la colaboracion de H. Terrasse, vol. I—II, Madrid, (б. г.].
Torres Balbas L. La mezquita de Cordoba у las ruinas de Madinat az-Zahra', Madrid, 1952.
Urvoy D. Sur l'evolution de la notion de Gihad dans I'Espagne musulmane,— «Melanges de la Casa de Velazquez», Paris, t. 9, 1973.
Vernet Gines J. La ciencia en el Islam у Occidente,—01, t. 2.
Vernet Gines J. Literatura arabe, Barcelona, 1968.
Vernet J. Traducciones Moriscas de El Coran,— Hoenerbach W. (Hrsg.), Der Orient in der Forschung. Festschrift fur Otto Spies zum 5. April 1966, Wiesbaden, 1967.
Villanueva Rico C. Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada у sus alquerias, vol. I, Casas, mezquitas у tiendas de los iglesias de Granada, vol. II, Madrid, [б. г.].
Waltz J. The Significance of the Voluntary Martyrs of Ninth-century Cordoba,—«The Muslim World», vol. LX, 1970.
Watt W.M. The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh, [1972].
Watt W.M. Islam and the Integration of Society, London, 1961.
Watt W.M. Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh, [1962].
Watt W.M. Muslim Intellectual. A Study of al-Ghazali, Edinburgh, [1963].
Werckmeister О. K. Islamische Formen in spanischen Miniaturen des 10. Jahrhunderts und das Problem der mozarabischen Buchmalerei,— 01, t. 2.
Yahуa 0., Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn 'Arabi, t. I—II, Damas, 1964.
Иллюстрации
Рис. 1. Портал с декоративной аркадой на западном фасаде Большой мечети в Кордове; отделан изразцами и барельефами, характерными для искусства Халифата.
Рис. 2. Красно-белые полосы, украшающие аркаду Большой мечети в Кордове
Рис. 3. Каменная решетка и декоративная арка в Большой мечети Кордовы, украшенные характерными арабесками стилизованного растительного орнамента
Рис. 4. Аркада на одной из террас - возможно, тронный зал - во дворце Мадинат аз-Захра
Рис. 5. Деталь шкатулки из слоновой кости. Кордова.
Рис. 6. Масляный светильник из бронзы (Гранадский музей).
Рис. 7. Шкатулка из слоновой кости времен Кордовского халифата. Работа мосарадов.
Рис. 8. Торре дел Оро, построенный Алмохадами в начале XIII века при въезде в Севилью над Гвадалквивиром.
Рис. 9. Хиралда (Севилья), бывший минарет алмохадской мечети, ныне кафедральный собор.
Рис. 10. Входная арка Зала послов в Алкасаре (Севилья). Мудехарский стиль.
Рис. 11. Алхамбра (Гранада). Вид на дворец сверху.
Рис. 12. Стройные колонны Львиного дворика в Алхамбре (Гранада).
Рис. 13. Деталь резьбы по алебастру на стенах в Львином дворике.
Рис. 14. Мозаика и резьба по алебастру в Зале послов, Алхамбра.
Рис. 15. Резьба по алебастру в Львином дворике, Алхамбра.
Рис. 16. Бассейн и портал Торре де лас Дамас, Алхамбра.
Рис. 17. Примечательная сводчатая арка в куполе кордовской мечети; манера, позднее оказавшая влияние на архитектуру итальянского Возрождения.