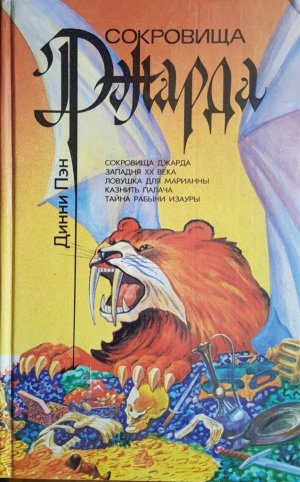
СОКРОВИЩА ДЖАРДА
Роман
Приключенческий детектив
ЧАСТЬ I
БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ СОКРОВИЩ
1.
Кто-то прислал Алисе билет на выставку.
Из хрустящего конверта выскользнуло глянцевое приглашение, по которому змеилась серебристая надпись:
“По всему миру бродят легенды о несметных богатствах древнего Алипета — о сокровищах древних зингов. Вам выпадает редкая удача увидеть хотя бы малую толику этих драгоценностей”.
Удивленно рассматривая билет, Алиса обнаружила, что он стоит очень дорого — пятьдесят долларов. Страна, где жила Алиса, несчастная Нивелия, нищала день ото дня, поэтому каждый грош был на счету, не говоря уже о долларах. Что значил для Алисы, бедной конторской служащей, такой подарок, может понять лишь та молодая женщина, которой приходится каждый божий вечер штопать драные колготки, а каждое божье утро довольствоваться овсянкой на молоке, разведенном водой.
Кем бы ни был этот человек, позаботившийся об Алисе, он совершил благое дело, и Господь воздаст ему за добро, столь редкостное теперь в Нивелии. Сочные рекламные плакаты “Сокровища древних зингов” просто-таки заполонили Туру — столицу Нивелии, и Алиса, гуляя вечерами по огнистому городу, невольно засматриваясь на рекламу, хотя бы на какие-то мгновения выпадала из своей рабской жизни и уносилась в грезах — туда, где сверкают великолепные сапфиры, гранаты, изирисы, туда, где в уютных залах ресторана подают изысканные блюда, туда, где женщины — не измученные загнанные кобылы, а нежные игривые существа, которыми любуются мужчины.
Засыпая вечером в своей убогой конуре, Алиса впервые за последние годы с радостью продумала о завтра: в девять вечера она пойдет на выставку и своими глазами увидит главный экспонат — Ожерелье древних зингов, необычный металлический ошейник, сплошь усыпанный зеленовато-синими изирисами — камнями, которые недавно признаны по своей ценности равными алмазам. Казалось бы, какое дело ей, нищей конторской крысе, до изирисов, до древнего Алипета, до Ожерелья зингов? А вот поди ж ты, лишь получила от кого-то заветный билет — так сразу и захотелось сходить, увидеть, развлечься, помечтать…
Сквозь сон на Алису накатилась зеленовато-синяя волна, на которой так приятно было покачиваться. Удивительная волна одновременно была водопадом, и потоком сверкающих изирисов.
Водопад драгоценностей, ощущение легкости и счастья во сне, и блаженно витающий над спящей Алисой вопрос: кто он? Даже во сне она не смогла уйти от проблемы: кто позаботился о ней? Кто же он? В принцев давно уже не приходилось верить… Они уже и не снились… Нивельцы-мужчины — во всяком случае, те, с которыми судьба сталкивала Алису, — были отменно расчетливыми, жесткими.
Изумрудная волна еще раз качнула Алису, и тут…
…И тут ее разбудил неожиданный, особенно резкий среди ночи телефонный звонок.
Алиса, конечно же, не знала, какие необыкновенные события повлечет за собой этот странный звонок, но сердце ее дрогнуло.
2.
— Доброй вам ночи, Алиса.
— Кто вы?
— Почему голос — испуганный? — укорил ее мужчина с того конца провода. Я — ваш давний друг.
— Сейчас ночь. — Полусонная Алиса бросала отрывистые фразы.
— Помните, как сказал один поэт: я считал, что дружба — понятие круглосуточное, — мужчина доброжелательно рассмеялся, да и Алиса к этому времени уже пришла в себя: звонок несомненно связан с присланным билетом.
— Это вас я должна поблагодарить за приглашение на выставку?
— А вы придете?
— Конечно, приду.
То, что Алиса не стала ломаться, тронуло мужчину и он радостно пообещал: — Без пяти девять вас будет ждать у входа давний, забытый вами… Мол.
“Мол? — пронеслось в голове у Алисы. — Мол…” И сейчас же из глубин памяти выплыло: давным-давно, как в сказке, был детский пансионат на берегу моря. Туманные горы, расплавленное солнце и полудетская-полуюношеская влюбленность в Сашу Молева — в Мола. Сколько лет прошло? Десять? Да нет же: лет пятнадцать!..
— Мол! Как ты нашел меня?!
— Не забывал.
Шутка пришлась по душе Алисе, и она засмеялась.
— Слушай, Мол, ты стал миллионером, что делаешь такие подарки?
— Ты о чем, Алиса?
— Билет стоит…
— Перестань. Я надеюсь, выставка понравится тебе. А после просмотра я приглашаю тебя в бар. Есть деловой разговор.
3.
Они сидели в баре при выставочном зале, и странно: Алиса в своем поношенном блузоне не ощущала себя неуютно, ибо все вокруг было продумано умелыми декораторами. Гобелены песочных оттенков мягко сочетались с деревянными панелями мореного дуба. Каждый столик был уединен настолько, чтобы усталому человеку не надоедало излишнее чужое внимание, освещение бара тоже словно убаюкивало: как напоминание о чудесных камнях изириса на столиках мерцали зеленовато-золотистые ночники.
Именно в таком уютном баре и стоило поговорить о прошлом, о жизни пятнадцать лет спустя. Юношеские мечты развеялись, и Алисе, и Молу теперь уже за тридцать, а Нивелия — тяжелая для жизни страна… Алисе напрасно показалось, что Мол преуспел, он всего-навсего корреспондент небольшого журнала, она — конторская служащая? Да, чиновничья лямка, пожалуй, еще более неблагодарна: отсиживай с утра до ночи за гроши, наживай геморрой и астму. У него хотя бы такие халтуры, как эта, выпадают: Мол с самого начала прикреплен к этой выставке. Его наняла для освещения выставки сокровищ Лилия Дей — коммерческий директор фирмы “Золотой грош”, организовавшей выставку. Вот она — состоятельная и деловитая женщина, не упустила ни одной детали: наняла прекрасных художников, декораторов, отсюда оригинальные витрины.
— О да, — восхищенно вздохнула Алиса, вспомнив о стеклянном граненом шаре, заключавшем в себе главную ценность — пресловутое Ожерелье зингов.
— А музыкальное оформление? — подсказал Мол. — Лилии удалось привлечь Алексея Двинского, композитора оригинального, но пока не признанного достаточно широко. Мне лично нравится музыка Двина.
— Мне тоже, — искренно согласилась Алиса, вспомнив странную чарующую мелодию “Элегии изириса”, что заполняла собою выставочный зал.
— Посмотри-ка, они, — прошептал Мол, направляя Алису взглядом к выходу.
Там, в проеме арки, появилась пара, которая, пожалуй, в любом месте привлекла бы к себе внимание. Тяжеловесный, тучный мужчина с добрым, каким-то безвольным, лицом сопровождал женщину, которая внешне являла полную противоположность ему: сухая, высокая, с остервенелым выражением лица, с длинными, по пояс, обесцвеченными волосами.
— Двинский и Дей? — уточнила Алиса, рассматривая пару: бросался в глаза избыток украшений на Лилии Дей, мягкую улыбку вызывала неуклюжая походка огромного Двина.
— Давай-ка выпьем, — отвлек Алису Мол, приподнимая бокал с шампанским.
— С удовольствием. За что? За встречу? Через пятнадцать лет?
— За встречу через два тысячелетия!
— Не доживем, — посетовала Алиса.
— А я не о будущем, — Мол весело сверкнул темными глазами. — Я о прошлом. Я хочу выпить за древний Алипет, за его тайны, за его сокровища. Наконец, за то, что и спустя два тысячелетия он дает кое-кому, — кивнул в направлении Дей и Двина, — подзаработать на себе.
— Да-а, — протянула Алиса с еле заметной завистью, — неплохой привет прислали им древние зинги…
Допив бокал, Мол тихо сказал:
— Древние зинги могут и другим подбросить. “Господи! Неужели задумал похищение?!” — испугалась Алиса, уже проклиная тот момент, когда согласилась прийти сюда.
— Не пугайся, — отрезал Мол, угадав ее мысли. — Никто не собирается садиться за решетку. Похищение века — не наше амплуа. У нас задачи более скромные: на роскошном пиру ухватить свой маленький кусочек.
Официант принес десерт. Метрдотелю нельзя было отказать в чувстве юмора, ибо в меню значилось: “Десерт “Услада древних зингов”. В изящных вазочках застыл фонтан из взбитых сливок, кусочков банана, лимона, шоколада. Композиция была припорошена фисташковыми орехами.
— Вряд ли древние зинги могли позволить себе такие лакомства, — игриво усмехнулась Алиса.
— Кто знает, — многозначительно промычал Мол. — Все-то нам кажется, что у них все было хуже, безвкуснее, бледнее. А если напротив, а? Вон какие сокровища, и поговаривают, что это — капля в море…
— Сдаюсь, — кивнула Алиса. — Наша современная самоуверенность чудовищна и… смешна вообще-то.
— Итак, Алиса, я чувствую, что ты прониклась к древним зингам…
— …Уважением и восхищением.
— Так вот, основываясь на данном, я и предлагаю тебе вполне невинную мистификацию. Итак, слушай.
4.
Предложение Мола показалось Алисе одновременно: и авантюрным, и безумным, и заманчивым — в общем, захотелось и рыбку съесть, и на сокровища сесть. Сразу возникли и кое-какие опасения, хотя в целом идея Мола не выходила за рамки законности — свежо, оригинально, в духе времени, но не криминогенно.
— …Ты должна сделать это заявление, Алиса, — убеждал Мол, и в его голосе, в его темном взгляде сквозила решимость отверженного, узревшего наконец свой шанс в жизни. — Мы должны попробовать выбиться из нищеты. Я не обещаю тебе миллионов, но после этого заявления колесо фортуны может закрутиться в нашу сторону. Толстосумам нравятся загадки, тайны, как и всем, ведь жизнь без этого пресна. Толстосумы могут хорошо заплатить за мистификацию.
— Или просто посмеяться над нами, — огрызнулась Алиса.
— Пусть! — вскинулся Мол. — Ради бога! Не выгорит — плакать не станем, уверяю тебя!
Осененная неожиданным сомнением, Алиса сделала выразительный круговой жест и вопросительно посмотрела на собеседника. Понимая ее, он успокоительно заверил: — Нет-нет, бар не прослушивается, верняк, я ведь прикреплен к выставке изначально, бар декорировали при мне. — И сразу же вернулся к теме: — Пойми, впервые все связалось в выгодный узел, и ребята с телевидения готовы предоставить мне десять минут: пять минут моих россказней, пять — твое заявление — и наше дело сделано, а дальше — как хотят, пусть верят-не верят, гадают на кофейной гуще…
Постепенно склоняя Алису на свою сторону, Мол видел, что прежние силы пробуждаются в ней. Жизнь, конечно, забила, затоптала Алису, но не окончательно — видел Мол. Пока она еще способна сделать дерзкий шаг. Изобразив раздражение, Мол фыркнул презрительно: — Ну что ты, право, как баба на базаре, все мнешься?!
— Да не мнусь я! — не сдержалась и Алиса. — Как ты не поймешь: я согласна! Согласна! Но я боюсь подвести тебя! Вдруг у меня не выдержат нервы?!
— Слу-у-ушай, я что, сейф предлагаю тебе взять?! Всего-навсего рассказать по тиви красивую сказочку и посмотреть, что из этой затеи выгорит.
— Конец двадцатого века, Мол. Дураков нет. Ничего не выгорит.
— Но и к ответу за это нас не притянут: пошутили — и все тут, с нас взятки гладки. Но даже за шутку нам могут прилично отстегнуть — реклама, моя милая.
Бросив завистливый взгляд в сторону Лилии Дей: раскованна, дерзновенна, одновременно страшна как черт и хороша в своей расхристанности стерва! — Алиса решила: надо равняться на таких, как Дей, будь что будет.
— Я согласна, Мол.
— Слава те, господи. Упарился уговаривать.
Напряжение мгновенно слетело с обоих, они рассмеялись и выпили по два бокала шампанского. Стало еще мягче, уютнее.
— А как тебе пришла в голову эта фантазия? — уже поощрительно спросила Алиса.
Почувствовав легкое восхищение в ее тоне, Мол пожал плечами, откинулся в кресле и принялся рассказывать:
— Ты не представляешь, как все было обставлено с момента подготовки выставки. Вроде и просто: монтируют витрины, проводят сигнализацию и вместе с тем… Уже пробовали в зале музыку Двина — эту странную томительную “Элегию зингов”, от которой мечется душа… А потом, потом подвезли контейнеры. Когда достали Ожерелье зингов, поверишь ли, такой величественностью дохнуло на всех, все стояли как завороженные. Ощущение совершенно необычное, клянусь: чуешь, что рядом — какая-то тайна, что-то гораздо значительнее, чем мы живем, — голос Мола осел. Малая толика его возбуждения передалась и собеседнице.
От волнения Мол закурил, молча предложив сигареты спутнице. Также молча, жестом, Алиса отказалась — как-будто оба чувствовали, что сейчас нельзя произнести ни слова помимо чарующего рассказа — странное оцепенение охватило обоих. И тут еще в баре, как сюрприз для композитора и остальных посетителей, раздались томительные звуки “Элегии зингов”. Мол вздрогнул, Алиса поежилась. Между тем он продолжал хриплым голосом: — …Ночью я не мог заснуть. Лежал в полудреме, а перед глазами — дивный водопад, я и не видел таких в жизни, я ведь мало путешествовал. И сквозь этот водопад все сверкают, ослепительно так — до боли в глазах, — изирисы — а их я тоже в тот день увидел впервые.
— Сказочные камни, — прошептала Алиса.
— …И вдруг такая легкость слетела на меня, полусонного, такая беззаботность. Кому-то и не расскажешь, а расскажешь — не поймут. Веришь ли, будто и впрямь — летаю — вольно так, свободно: над этим водопадом, и сквозь его пенистые струи. Дико звучит?
— Нет-нет, продолжай, Мол. Поверь: какой-то частицей души я понимаю.
— И вот тут, в состоянии этой эйфории, поверь, наркотиков не было, это здесь ни при чем, я вообще не увлекаюсь.
— Верю.
— …И вот тут я подумал о тебе. Даже не подумал, а словно увидел. Знаешь, как на слайде: ярко так. Ты в прозрачной одежде, напоминающей тунику, на локте — браслет. Почему именно тебя увидел? Ума не приложу.
Алисе вдруг показалось, что Мол слегка “пережимает”, чтобы окончательно завербовать ее в свои сторонники, и он сразу почувствовал это, и взмолился: — Не лгу, Алиса. И не хочу уверять тебя ни в какой влюбленности. Да, когда-то, в детстве, я увлекался тобой.
— И я тоже, — подтвердила она и сразу охладила обоих: — Но то было детское, прошло безвозвратно. — Пожала плечами.
— У меня тоже прошло, — признался Мол. — И я не вспоминал. Но, видимо, когда стал невольно прокручивать в подсознании, как и что я могу поиметь от причастности к выставке, подсознание “любезно” подсказало мне единственный возможный путь: мистификацию. Нужен был верный сообщник. И тут выплыла ты.
— Из водопада, — засмеялась Алиса.
Вынув из внутреннего кармана куртки сложенный вчетверо листок, Мол торжественно вручил его Алисе: — Здесь я набросал примерное содержание твоей речуги. Поверти-покрути, прорепетируй перед зеркалом. Ближе к назначенному дню и часу я, конечно, проверю.
— Хорошо. Думаешь, произведет впечатление?
— Уверен, все ахнут.
Алиса улыбнулась.
…Если бы она знала, в какой водоворот событий ввергнет ее заявление, первоначально задуманное как невинная мистификация…
5.
Волнение нарастало, неумолимо приближалось телеинтервью. До него осталось менее десяти минут. С трудом удавалось Молу выводить Алису из состояния истерики. “Связался с психопаткой!” — внутренне бушевал он, не проявляя внешне своего недовольства: иначе она могла бы совсем сорваться. Подсовывая ей третью таблетку элениума, Мол убеждал воркующим голосом: — За пять минут заработаешь столько же, сколько в конторе за год.
— Нас осмеют — и все, — шепнула она. — Потребуют доказательства, а где они?
— Людям нужны не доказательства, а красивые сказки. Они восхитятся тобой. Ты станешь для них Алисой из страны чудес.
— Дорогие друзья, я хочу представить вам одну из посетительниц выставки, — весело говорил Мол в телевизионную камеру. — Мы познакомились с Алисой десять минут назад на выставке сокровищ древних зингов. Почему именно у нее я решил взять интервью? Скажу откровенно: меня поразила детская реакция Алисы. Когда она увидела Ожерелье зингов, то вскрикнула на весь зал. — Он снисходительно улыбнулся и обратился к приглашенной: — Алиса, видимо, никогда раньше вам не доводилось любоваться такими красивыми ожерельями? Я прав?
Ласково улыбнувшись в ответ, словно и не было вовсе нервической дрожи и истерики, Алиса таким же снисходительным тоном, каким соизволили беседовать с ней (“Молодец чертовка” — восхитился он), ответила: — Нет, почему же, доводилось не только видеть, но и носить ожерелье…
Призывая телезрителей разделить его веселье, Мол засмеялся:
— Я не сомневаюсь, Алиса, что ваши украшения тоже красивы и изящны, как и сама хозяйка, но… увы… Ожерелье древних зингов — единственное в мире. Недаром и вы сами вскрикнули, увидев его.
— Я вскрикнула по другой причине, — заносчиво сказала она.
— Если можно, раскройте нам этот секрет. Итак, вы вскрикнули, — паясничал Мол. — Вас укусила пчела?
— И вы бы вскрикнули, Мол, увидев при таких необычных обстоятельствах свою вещь, — спокойно заявила Алиса.
— Свою вещь? — в замешательстве переспросил Мол.
— Да, — подтвердила она, хладнокровно заявив далее в телекамеру: — Два тысячелетия назад Ожерелье принадлежало мне. Два тысячелетия назад моя душа воплощалась в древнем Алипете. Я была рабыней при дворе фараона. Это ожерелье было изготовлено мастером-рабом для жены фараона. Но ей показалось, что в него вселились злые духи. Чтобы изгнать их, в Ожерелье обрядили рабыню — меня. Я помню, что украшение сыграло трагическую роль в моей судьбе. Два тысячелетия назад я была убита в одном из пещерных переходов древнего Алипета.
Теперь, Мол, вы поняли, почему я вскрикнула, увидев эту реликвию?..
6.
Каждый прореагировал на заявление Алисы по-своему. Телефонные звонки не смолкали в студии. Добропорядочные обыватели разделились на две партии: первая плевалась на заявление “чокнутой”, требовала “не считать их отпетыми кретинами”, вторая — умилялась милой сказке. Считая, что Алиса справилась со своей задачей куда лучше, чем он ожидал, Мол был спокоен, как древнеалипетский сфинкс. Неожиданностью для него явилось то, что вдруг разъярилась Лилия Дей: в словах Алисы ей почудилось покушение на Ожерелье, за демонстрацию которого Дей отвалила круглую сумму нескольким фирмам, являвшимся владельцами сокровищ древних зингов.
Ошеломленную Алису в сопровождении верного Мола, самой Лилии Дей, Алексея Двинского и еще нескольких представителей “Золотого гроша” в мгновение ока доставили на освидетельствование в клинику, где она и подверглась молниеносной проверке на детекторе лжи.
Морально готовый к плачевному финалу мистификации, Мол был восхищен Алисиной волей к победе и к заработку, когда в присутствии семерых свидетелей комиссия официально сообщила о результатах обследования, кои гласили: заявительница не лжет. Следующий этап обследования показал: заявительница психически нормальна, аномалий нет.
Алиса и Мол ликовали.
ЧАСТЬ II
Я БЫЛА РАБЫНЕЙ ФАРАОНА
7.
Рекламные фирмы не заставили себя ждать, на Алису посыпались предложения одно другого заманчивее. Не уставал пожинать лавры и Мол, “открывший — как он выражался — вундеркинда”.
— Твоя затея, Мол, понравилась всей Нивелии, — смеялась Алиса.
— Но и ты — хороша, — ответно удивлялся Мол. — Надо же так драматизировать историю! В Ожерелье вселились злые духи! Жена фараона заставила рабыню изгонять их! В сущности, неплохо, но почему ты не посоветовалась со мной?
— Видит бог, я не хотела этого говорить, — заверила его Алиса. — Пришло само собой, уже во время интервью. Начала болтать и — вдохновилась! Веришь?
Мол верил. Мол торжествовал. Мол восторгался тем, как спецы своего гармоничного дела — косметологи, парфюмеры, модельеры и прочие мастера женского обаяния — за несколько часов неузнаваемо преобразили Алису: из обвисших прядей волос сделали глянцево блестящую прическу “каре”, тушью, гримом, пудрой “подправили” черты лица, подобрали гардероб, достойный женщины, которая так хорошо сохранилась, шутил Мол, за два тысячелетия.
Итак, из затюканной конторской крысы Алиса превратилась в “женщину на все времена”. За эти же часы переменилось и отношение Лилии Дей к Алисе. Директор фирмы “Золотой грош” разрешила использовать фойе выставочного зала и бар для фотосъемок. Мол проверял контракты, Алиса подписывала их, и фотографы сейчас же начинали ловко увековечивать на снимках “женщину на все времена”. Костюмы и интерьеры менялись со сказочной быстротой. Вчерашняя нищенка на глазах становилась обеспеченной дамой. Перепадало и Молу. Он тоже не дремал, и броские заголовки: “Ей — две тысячи лет”, “Леопард для Алисы”, “Я люблю тебя, Алипет, родина моя!.. — вылетали из-под его пера как из компьютера.
— В конце концов, Мол, к утру ты вспомнишь, что и сам был фараоном, — съязвила Лилия Дей, удаляясь из фойе, где наблюдала за съемками.
— Вспомню, Лили, если ты наконец разрешишь Алисе надеть Ожерелье зингов, — парировал Мол, подзадоривая Дей, которая оглянулась на выходе и четко отказала: — Нет.
Ее упрямое “нет” уже пять часов пытались сломить различные фирмы, предлагая большие суммы за право сфотографировать “рабыню фараона” в ее ожерелье. Не удавалось. Расчетливая Дей знала, сколько часов надо продержаться, чтобы суммы достигли космических высот. Она “сдалась” на следующий день после обеда, продав желанное право ювелирной фирме “Изумруд шаха”. В контракте оговорили, что витрина с нашумевшим Ожерельем будет вскрыта ровно в полночь, что Лилия Дей своими руками возьмет Ожерелье, наденет его на Алису, и после этого в течение десяти минут фотограф “Изумруда” будет делать снимки. В заключение Лилия опять-таки своими руками снимет Ожерелье с шеи Алисы и водрузит его на прежнее место. Все, казалось, было договорено и рассчитано заранее, но тут…
…Но тут в бой вступила “рабыня древнего Алипета”, запросившая с фирмы изрядную сумму, естественно, не без консультаций Мола. Алиса и Мол торговались с “Изумрудом” до половины двенадцатого. Нервы у них оказались крепкими, фирма согласилась на их условия.
8.
Вскрытие витрины было обставлено как некое ритуальное торжество.
В выставочном зале притушили огни, и сокровища древних зингов замерцали с мистическим очарованием. Отовсюду — с потолка, из стен — полилась нежная мелодия “Элегии зингов”. Алису вывезли на подиуме в поистине царственном одеянии. “Будто я была не рабыней, а женой фараона”,— усмехнулась про себя виновница торжества. Улыбаясь, Мол давал понять окружающим, что не надо терять чувство юмора, что элемент игры присутствует во всем этом, но почему-то волновался сам, а, кроме того, видел, что и окружающие излишне эмоционально воспринимают игру: талантливый Двин стоит поодаль словно в оцепенении, слишком бледна — и бледность эта проступает даже сквозь грим — сама Лилия Дей; подобно изирисам сверкают и Алисины глаза — но ей простительно, слишком быстрая метаморфоза произошла с ней. И кто бы мог подумать, усмехнулся Мол, что статус рабыни принесет такие высокие дивиденды…
Парни из “Золотого гроша” бесшумно вскрыли витрину. Осторожно придерживая длинное мерцающее платье, затканное серебряной нитью, на две ступеньки поднялась Лилия Дей и с уверенностью хозяйки взяла в руки легендарное Ожерелье древних зингов — ликующе блеснули на окружающих сине-зеленые глаза изирисов. “Что за чудные камни!” — пронеслось у Мола в голове, и сейчас же, повинуясь наитию, он рванулся вперед, потому что Лилия Дей вдруг покачнулась и чуть не упала с возвышения. Благо, парни, вскрывавшие витрину, стояли рядом, и вовремя поддержали хозяйку — не то разбилась бы. Страшная бледность покрыла ее лицо. Все суетились, слышались предположения:
— Здесь душно, видимо, сердце.
— Сосудистая дистония, явный перепад давления.
Заложив под язык таблетку валидола, Лилия слабым голосом успокаивала всех: — У меня так часто бывает, нет проблем, — и просила: — Пусть фотограф “Изумруда шаха” начинает, у него всего десять минут. Алиса, приступайте к работе.
— Али-и-иса, у вас такое напряженное лицо, как будто вы на осмотре у гинеколога! Али-и-иса, на минуточку сообразите: вам выпало счастье сниматься в Ожерелье зингов, а вы не имеете на своем личике даже улыбки! — в общем, фотограф из “Изумруда шаха” и за десять минут умаялся с клиенткой так, будто пять часов кряду снимал весь кордебалет варьете.
— Да-а, — приговаривал он, — я верю, что эта дамочка прожила две тысячи лет, характерец, как у моей тещи.
К половине первого ночи все наконец завершилось: были окончены съемки, ожерелье водрузили на место, а всех участников ритуального действа — бледных, усталых, раздраженных — быстро развезли по домам на разгонных машинах.
А глубокой ночью…
9.
…А глубокой ночью участникам странной фотосъемки не спалось. В эту ночь произошли два важных разговора, и нарушителями спокойствия, конечно же, были прекрасные дамы.
Прежде чем позвонить, Алиса долго металась по квартире: принимала душ, варила кофе, потом пила его медленными, словно ритуальными, глотками — мысли путались, но воображение и память срабатывали с удивительным тщанием и яркостью. Стоит ли звонить ему? И что это даст? Возможно, лишь нарушит и его покой, но Мол не из тех, кто гоняется за спокойствием — скорее, за нездешними приключениями.
— Мол, привет! Мне срочно надо тебя видеть.
— Тем более что давно не виделись, — сонно съязвил он.
— За те десять минут… В общем, не по телефону. Мне надо тебя видеть. Подъезжай сейчас же.
— К даме?! В полночь?.. Да с удовольствием! — пошутил Мол, но по голосу чувствовалось: беспробудный сон для лентяя дороже всего на свете. И точно — он продолжил заунывным тоном: — Али-ис, будет день — будет песня.
— Я жду тебя через двадцать минут, — приказным тоном сказала Алиса. И тогда Мол ответил таким же приказом: — Приготовь кофе с ликером. Еду.
— … Понимаешь, Мол, оказывается, верно, что лишь одна тысячная человеческой памяти подключена к работе, а остальной материк памяти спит…
Слушая, Мол смотрел на собеседницу с укором. Право же, существуют нормы приличия: вместе начинали мистификацию, было по сути равное партнерство, а теперь она настолько обнаглела, что ему же — инициатору мистификации! — рассказывает байку о спящей красавице, которая пробудилась.
Между тем собеседница витийствовала все горячее, а Молу становилось все неудобнее за нее. Наконец он вперил в “рабыню фараона” ледяной взгляд и забарабанил пальцами по столу.
— Хорошо, Алис. Ты решила развернуть игру, хотя мне не совсем ясно, по какому сценарию — но это мелочи. — Алиса открыла рот возразить, но Мол крутым жестом остановил ее. — Но почему ты не хочешь прямо и честно посоветоваться со мной, выработать общий план, как мы это уже сделали на начальном этапе? Почему ты уверяешь меня, нормального современного человека, что ты де “вспомнила” ту жизнь, которую в самом деле предложил тебе я? Если ты считаешь меня кретином, тогда не стоит больше ко мне обращаться…
Горечь и досада отразились на лице собеседницы, и Алиса прошептала: — Меньше всего я хотела обидеть тебя, Мол. Ведь первым вспомнил ты…
— Да не вспомнил я! — свирепо зарычал он, вскочив и отбросив стул. — Не вспоминал я! Я все выдумал! И ты прекрасно это знаешь! Мы можем другим вешать лапшу на уши, но между собой должны быть откровенны — пойми ты это!
— А ты пойми меня, — ласково попросила Алиса. — Я, именно я теперь знаю, что твое воображение ничего не выдумало, оно просто подсказало тебе давнее-давнее прошлое, твое и мое прошлое. И когда я надела ожерелье зингов…
— Вранье! Ничего ты не вспомнила, когда надела его! Просто ты — продувная бестия — решила выжать максимум из данной ситуации — пусть, я не против; если пошла карта в руки, глупо отказываться. Я только не желаю, чтобы ты считала меня дурачком!
Увидев, что Мол закусил удила, что в нем бурлит ущемленное самолюбие, увидев, что Мола не переубедить, Алиса неожиданно для него и для себя тихо заплакала.
Окончательно разъярившись, Мол закричал:
— Слушай, ты добьешься: я сейчас уеду!
И тогда Алиса прошептала сквозь тихие всхлипывания: — Мне легче бы сейчас сдаться, сказать, что ты прав. Но тогда я бы солгала, а нам нужна правда. И правда заключается в том, что десять минут пробыв в Ожерелье зингов, я многое вспомнила. И в том прошлом, давностью в два тысячелетия, есть и твое место, Мол. Если я не ошиблась, Мол, ты был тем рабом-мастером, что изготовил оба ожерелья.
— Как — оба?! — неожиданно изумился Мол.
— Ожерелье в металле — первое, а было еще и второе ожерелье, где вместо металла — кожа, и камни изириса сверкают на коричневом фоне — еще красивее, поверь, Мол…
В комнате стало тихо. Так тихо, будто сюда вошла память о двух земных тысячелетиях… Взяв себя в руки — ведь не истерик же он в конце концов, а нормальный мужчина с нормальными реакциями! — Мол решительно, но спокойно заявил: — В общем, я должен хотя бы несколько минут подержать Ожерелье зингов в руках…
Решить довольно легко, но как претворить решение в жизнь?
10.
В это же ночное время в баре шел не менее напряженный разговор, но роли распределились иначе: женщина, а ею была Лилия Дей, выглядела взбудораженной, а мужчина, им был Алексей Двинский — Двин — пребывал в спокойном безразличии.
— … Ты видел, Двин: я побледнела и чуть не рухнула на пол, — страстно шептала Дей, — так я заплатила за подсказку ожерелья. Как только я взяла Ожерелье зингов в руки, картины — одна сочнее и красочнее другой — замелькали в моем сознании с невиданной скоростью. Удивительно, Двин, раньше мое воображение не знало такой скорости — это поражает и запоминается навсегда. Блистательная вереница видений. Шествие фараона, когда все вокруг словно облито золотом, сверкает драгоценностями. Я видела себя, Двин, в роскошном наряде, рядом с фараоном. Видимо, я была женой фараона.
“Ну, конечно, — саркастически усмехнулся про себя композитор, но внешне не подал виду. — На меньшее, чем быть в прошлом женой фараона, ты не согласна — о людская спесь!..” Алексей Двинский вздохнул и подлил шерри-бренди в темный бокал Лилии. Она же, почти не смущаясь, продолжала: —… Но главный сюрприз, Двин, я приберегла для тебя. Знаешь, кем ты был тогда?
— А я тоже там был? — на сей раз Двину не удалось скрыть сардоническую усмешку.
— Ты ироничен, потому что не помнишь, — Лилия старалась говорить хладнокровно, но это плохо удавалось ей: больно уж интересной и волнующей представлялась ей тема. — А не помнишь, потому что не притрагивался к ожерелью. Через пять минут мы это поправим — и твои усмешки как рукой снимет. — Лилия помолчала и почти торжественно заявила: — Два тысячелетия назад для тебя, Двин, не было ничего невозможного, ты купался в золоте, в славе, в почитании, ты был наместником бога на земле — ты был фараоном, Двин.
Благодарно улыбнувшись ей за столь щедрое распределение ролей, Двин с юмором похвалил себя: — И тогда умел устроиться. — Но сейчас же, сопоставив факты, спохватился и с комическим ужасом уставился на Лилию: — А в твоем лице, Лили, выходит, имел супружницу?! И, конечно же, покончил жизнь самоубийством? — на что Лилия фыркнула и предложила ему пройти в выставочный зал — благо он пустует в ночное время.
Ловко отключив сигнализацию: своя рука — владыка! — Лилия благоговейно передала Ожерелье зингов Двину, не сводя глаз с его лица, надеясь уловить бледность, испуг, напряжение взбудораженной памяти, но — не тут-то было! Двинский оставался спокойным, как древнеалипетский курган. С сожалением пожав плечами, Двин искренно сказал: — Никакого проблеска, Лили, честное слово.
Снопы изумрудных и золотых искр вылетали из ладоней, в которых он держал одно из драгоценнейших ожерелий земли, но вся эта красота говорила лишь душе Двина, но ничего не подсказывала его памяти. Понимая, что Двин не лжет, Лилия робко попросила: — Надень его на себя.
Двин улыбнулся и ласково напомнил ей: — Я ведь не женщина, Лили. И в древнем Алипете мужчины не носили ожерелий.
— А ведь ты прав! — обрадовалась она. — Тысячу раз прав! Вот поэтому ты и не можешь вспомнить! Ничто в твоем прошлом не связано с этим ожерельем! Ты ни разу не держал его в руках — поэтому и не можешь вспомнить!
“Женщины в своих уловках могут достичь гениальных высот, — снисходительно подумал Двинский. — Не укладывается что-то в выдуманную ею схему — пожалуйста, уже готова отговорка, и даже аргументированная — о женщины!..”
Как бы то ни было, целенаправленные мысли Лилии Дей теперь постоянно вращались по орбите вокруг сказочного Ожерелья. Вернувшись домой на рассвете, она даже не прилегла, так как ее память, ум и воображение работали над логической схемой, в которой давние люди и события находили свое место в современности и принимались действовать. Ей оставалось лишь вовремя разгадывать мотивы их поступков и не опаздывать…
В одиннадцать утра присев за туалетный столик, Лилия Дей с особым интересом начала изучать в зеркале свое лицо. Довольно удачливая бизнесменша в настоящем, жена могущественного фараона в прошлом увидела крепкие скулы, твердый взгляд темных загадочных глаз, которые прикрывала обильная челка обесцвеченных волос. Наблюдая за незнаемой, неизученной собой, Лилия невольно подумала: “Видимо, в Алипете я была еще суровее, чем сейчас. Твердость характера плюс неограниченная власть. Ох и тяжко, наверное, приходилось моим рабам…”
На серебристой “Вольве” приближаясь к магическому выставочному залу, Лилия Дей уже представляла, с какой просьбой обратится к ней Александр Мол, также воскресший в ее окружении два тысячелетия спустя. Пусть не надеется, она будет по-прежнему тверда.
11.
На довольно безобидную просьбу журналиста Молева Лилия Дей ответила решительным отказом, чем удивила даже снисходительного Двинского: — Человек пашет на твою выставку, Лили, с самого начала, закрутил вокруг нее прибыльную рекламу, а ты отказываешь ему в такой малости…
— Эта “малость” стоит сейчас больших денег, — парировала Дей невозмутимо.
— Для посторонних, Лили. Думаю, следует различать. Постороннему, конечно, не стоит разрешать фотографироваться с Ожерельем, или, в крайнем случае, за солидную сумму, а уж своему…
Двин несогласно пожал плечами, а Дей лишь хмыкнула в ответ. Не могла же она, в самом деле, раскрыть все свои карты перед наивным и вместе с тем неверующим Фомой. Еще слишком рано посвящать его во все. Вот когда он хоть что-то вспомнит и проникнется ее мечтой, тогда… А пока надо ставить его перед фактами, умело направлять, а грядущие события сами закружат его в таком водовороте, что только успевай выплывать.
Лилия знала свое дело туго и умело подводила Александра Мола к нужному ей решению, отказав ему в “детском” поощрении — сфотографироваться с Ожерельем зингов в руках. С удовольствием наблюдая, как бесится Мол, как ищет и не находит нужного выхода Алиса, Лилия Дей чувствовала: к ночи созреет и сам Мол, и его решение, тем более что он представляет, как отключить сигнализацию…
Рассчитав все верно до минут, Лилия и Двин засели в засаде в выставочном зале без десяти двенадцать ночи. За соседней искусной ширмой она посадила двух массивных ребят из своей фирмы. Двин не верил, что они придут. Лилия знала, что так будет.
…И вот в ноль часов семь минут в слегка подсвеченном, полутемном выставочном зале раздались шаги. Они приближались к главному залу…
Как только похитители вскрыли витрину, в зале вспыхнул ослепительный, прожекторный, свет, и как чертики из японской коробочки из своих укрытий выскочили Лилия с Двином и два парня, которые не зря ели свой хлеб: в мгновение ока подлетев к Алисе и Молу, они через секунды уже защелкнули наручники на их запястьях. Алиса успела лишь вскрикнуть, а Мол нервозно пробормотать:
— Я хочу сделать заявление!
Обращаясь с ними как с неодушевленными предметами, парни вытащили похитителей на улицу и втолкнули в “Вольву” — причем, все сделали с таким профессионализмом — сноровисто, четко — что Алиса с Молом и запротестовать как следует не успели, о чем Алиса уже в машине сожалела.
Летящая “Вольва” мчала их куда-то за город, навстречу превратностям судьбы…
12.
“Вольва” остановилась около небольшой виллы, чей силуэт смутно вырисовывался во тьме весенней ночи. Парни были немногословны, действовали уверенно. Пленников освободили от наручников и разместили в удобных комнатах. И в дороге, и напоследок Мол не уставал повторять: — Мы не совершили ничего криминального. Я хотел просто сфотографироваться с Ожерельем в руках.
Алиса кивала, но внутренне была неспокойна, ее колотил озноб. Когда она щелкнула выключателем, перед ней предстала очень уютная комната, пол которой был застелен пушистым песочного цвета паласом, а на подоконнике, на подставках для цветов стояли букеты пахучих глициний — их дивный запах сразу же пленил Алису. В дверь вскоре постучали, и на отклик парень вкатил сервировочный столик с изысканным ужином. Прощаясь, он успокоительно сказал: — Больше я вас не побеспокою. Все необходимое вы найдете в шкафу. Лилия Дей просила передать, что завтра утром приедет на рандеву с вами.
“Итак, я все-таки вляпалась в историю,” — вслух подвела неутешительные итоги Алиса, падая в отменно мягкое, словно набитое лебяжьим пухом, кресло, обтянутое ласковым коричневым бархатом. “Как-то вы теперь будете выкручиваться, госпожа рабыня?” — иронически поинтересовалась у самой себя, но ирония не спасала: страх не оставлял Алису.
Дело в том, что изо всех участников этой странной истории она одна-единственная, как ей показалось, более или менее представляла прошлое и настоящее и была осведомлена о трагической роли провидения во всем этом… Их четверо: она сама, Лилия Дей, Алексей Двинский и Мол. Все они, как подсказала ей разбуженная чудесным Ожерельем память, “имели место быть” в Алипете два тысячелетия назад. Для Алисы примерно ясно и их кастовое положение. Она была рабыней, Мол мастером-ювелиром, тоже рабом, Лилия Дей, как следует из видений, была чрезмерно обеспеченной госпожой — родственницей или даже женой фараона, а Двин, вроде бы — невероятно, с таким мягким характером! — самим фараоном. Все они связаны общей родиной — прекрасным неведомым Алипетом, полным загадок, все они связаны общим прошлым. Но это бы не испугало Алису. В конце концов, у каждого землянина есть свое интересное древнее прошлое, и рано или поздно каждый вспомнит… Страшно другое: прошлая жизнь Алисы трагически оборвалась. Алиса отчетливо помнит последние мгновения своей прошлой жизни.
В сопровождении кого-то — кого?! — она пробирается по каким-то хитрым пещерным переходам, и вдруг… кто-то обхватывает ее горло с железной беспощадностью…
Лишь надкусив бутерброд с черной икрой, Алиса отложила его. Поковыряла ложечкой прихотливый десерт. Выпила три глотка коктейля. Алисина мысль, будто ее чем-то стимулировали, мчалась вперед — бесстрашно, неудержимо. Память и разум подсказывали ей, что тот поход — двухтысячелетней давности — по пещере был связан с прекрасными блесткими камнями изириса — а значит, связан с сокровищами древних зингов, недаром трубят о том, что сокровища эти несметны… Лилия Дей — деловитая, умная, беспощадная — тоже кое о чем вспомнила, когда взяла Ожерелье в руки — как пить дать вспомнила, иначе откуда бы эта бледность, неожиданный приступ. Но как Алиса знает из собственного опыта, воспоминания эти даются памятью отрывочно, малыми порциями, с трудом — это большое напряжение нервной системы и всего организма. Лилия Дей многого не сумеет вспомнить, и тогда…
…И тогда — Алиса поежилась — она будет искать любые способы, чтобы заставить вспомнить ее, Алису, а сокровища зингов того стоят!.. Какие меры воздействия на нее, пленницу, применит Лилия: пытки? стимуляторы? лекарства? Дело скверное… Бежать? Но за дверью — тот громила, а окон в комнате нет. Да и сама она вовсе не суперменша — обычная конторская крыса, что сама полезла на приманку и теперь вот расхлебывает последствия…
Разве что перестучаться по стене с Молом? Но воображение услужливо преподнесло давнюю страшную картину: она, рабыня, пробирается по узкому переходу и тут… Горло вновь захлестнуло, как будто Алиса вновь переживала тот роковой миг. По позвоночнику пробежала холодная дрожь: а ведь кто-то шел тогда за Алисой, а если Мол?..
Роковое стечение обстоятельств может повториться, ведь говорят же о кольцах судьбы. Мола надо опасаться. Он ничего не может вспомнить, пока не взял в руки ожерелье.
Поразмыслив еще, Алиса пришла к выводу, что попала в странную, трагическую ситуацию, и сам дьявол, пожалуй, не знает, что она сулит Алисе.
13.
Нельзя сказать, чтобы и Лилия Дей сибаритствовала этой ночью. Заново напрягая свой мозг, она занималась раскладом сил. Нужны ли ей такие помощники, как Мол и Алиса? Может статься, она справится сама? Но она слишком мало помнит. Прикосновение к камням ничего не дало Двину — он не держал их в древности. У каждого из них найдутся свои мотивы воспоминаний…
Нужно ли на время изолировать Мола и Алису, и вдвоем с Двином пуститься в довольно рискованное предприятие? А если они ничего не вспомнят? Такие затраты — коту под хвост?
Отбросив сомнения, Лилия накрутила телефонный диск и требовательно сказала в трубку:
— Оставь все свои дела, Двин. Я сейчас заеду за тобой, и мы отправимся на одну заманчивую виллу.
ЧАСТЬ III
ПОЗОВИ МЕНЯ В ЭЛЬДОРАДО!..
14.
В десять часов утра, когда пышная хвоя сосен, окружавших виллу, стала солнечной, все собрались в Алисиной комнате. Причем, мужчины, Двин и Мол, воспринимали события более приземленно: крепкий ароматный кофе, хороший завтрак, ну, для Мола грядущие небольшие неприятности, если Лилия Дей начнет вменять ему попытку похищения ожерелья — а женщины с особой остротой чувствовали необычность ситуации. Спустя два тысячелетия вновь встретились когда-то связанные Судьбой люди. Прошли века, но фатум продолжал властвовать над ними, соединив их в другом краю, в иные времена…
Призрак древнего Алипета витал в этой уютной комнате. Томительный, сладкий запах глициний напоминал, показалось Алисе, аромат каких-то давно забытых благовоний…
Даже мужчины, пока не подвластные магическим воспоминаниям, сознавали, что с каждой минутой напряженность в комнате возрастала: сильные страсти связывали этих людей в прошлом… Не желая упускать ситуацию, Лилия первой взяла слово. В ее тоне смешались присущий современному человеку скептицизм, невольное волнение, а также отголоски каких-то надежд, упований.
— Друзья мои, вот мы и встретились. Если бы нас сейчас слушали посторонние, то, естественно, сочли бы нас за сумасшедших…
— А, может, мы и… — попытался пошутить Двин.
— Прошу не перебивать, — сразу оборвала Дей и продолжала: — Но провидению было угодно вновь соединить нас спустя две тысячи лет… — Мол присвистнул, Алиса вздохнула. — Мы встретились в другой стране, в другое время. Однако, ностальгия по древнему Алипету никогда не покидала нас…
Последняя фраза нашла теплый отклик в душе каждого. На несколько минут воцарилось молчание. Эта тишина, пропитанная солнцем и сладким запахом глициний, сблизила людей куда более чем слова. Отхлебнув глоток стынущего черного кофе, Лилия сказала:
— Не скрою, я долго обдумывала создавшееся положение. Есть в нем и недосказанность, и оригинальность, и особый привкус — этого не выразить, это надо чувствовать…
— Сонм этих чувств, кстати, выражает “Элегия зингов”,— любезно вставил Мол, за что Двинский поблагодарил его полупоклоном головы.
— Чудесная музыка, — прошептала Алиса, но взгляд ее, блуждающий по комнате, выражал не восторг, но испуг. Ей казалось, должно что-то произойти… Опасность, по ощущению Алисы, исходила отовсюду…
— В жизни каждого человека, — говорила Лилия, — наступает пора большого выбора. Конечно, все мы можем остаться здесь, на месте, и не тревожить себя сомнениями и иллюзиями. Но сколько стоит такая жизнь, где все размерено и рассчитано, где не осталось места выдумке и романтике?.. По-моему, гроши… Я предлагаю вам, Алиса, вам, Мол, и тебе, Двин, разбудить в своей душе нетронутое пока, но исконно свойственное человеку, первобытное желание — путешествовать. Плюнуть на все и пуститься, очертя голову, в дальнее странствие!
— А что?! — весело откликнулся Мол. — Неплохая идея, ей-богу, неплохая.
Тяжеловесный Двин скептически крякнул и поерзал в кресле. Алиса напряглась еще больше…
— …Я зову вас в Алипет, — ласково подсказала Лилия. — Я зову вас туда, где протекала ваша прежняя жизнь. Спросите свое сердце: разве вас не тянет туда? Разве по ночам вам не снятся его горы и водопады? Разве в запахе этих глициний вам не почудился аромат алипетских благовоний?
— Почудиться-то почудился, — с готовностью вставил Мол, выразительно посучив пальцами. — Но такая поездка кусается…
— Предвидев этот вопрос, хочу сразу расставить точки над и: все дорожные расходы я беру на себя. Более того, я уже арендовала теплоход с символическим названием “Эльдорадо”.
— Лили, — не сдержался Двин. — Все душевное, романтическое, во снах являющееся, несомненно, прекрасно. Но ведь не будешь же ты, деловая женщина, уверять нас, что поездка носит экскурсионный характер. Извини, в это никто из нас не поверит.
— А я и не собираюсь хитрить перед вами. — Лилия Дей встряхнула гривой светлых волос. — Каждый из нас, по отдельности, может с трудом восстановить лишь кое-какие детали, и только там, на месте, в Алипете, появится возможность воссоздать целостную картину.
— И тогда рукой подать до сокровищ древних зингов, — с нескрываемой горечью произнесла Алиса, но на ее тон никто не обратил внимания, согласились лишь с самой сутью. Мужчины издали одобрительные восклицания, и Лилия Дей подхватила на этой волне: — Сокровища несметные. Немного энергии, времени — и мы найдем их. И сумеем распорядиться ими. Мы не дикари. Я уверена, что у нас не закружится голова. Я уверена в том, что мы, с присущей деловым людям честностью, разделим сокровища, и доля каждого будет столь велика, что никто из нас не позарится на чужую. Все можно оговорить и даже закрепить письменно.
— Нет вопроса!
— О чем речь! — откликнулись мужчины.
— Значит, в целом мы пришли к согласию, — умиротворенно подытожила Дей, но тут всех ожидал довольно неприятный сюрприз. В благостную тишину диссонансом врезалось Алисино резкое: — Нет. — Все с удивлением и досадой посмотрели на нее. Вжавшись в кресло испуганным воробьем, Алиса ощетинилась и четко повторила: — Нет, я никуда не поеду.
— Ну почему?!
— Вот это номер!
— Тогда объяснись, пожалуйста! — вознегодовали мужчины.
Одна Лилия Дей сохраняла хладнокровие.
— Состояние моего здоровья не позволит мне предпринять эту дальнюю поездку, — дипломатичным тоном произнесла Алиса.
— Вы больны? — уточнила Дей.
— Больна дурью! — раздраженно воскликнул Мол.
— Не надо оскорблений! Только без оскорблений! — взмолился Двинский.
— Я не могу ехать.
— Нет так нет, — опечаленно согласилась Лилия.
— Как это “нет”?! — завопил Мол. — Как это “нет так нет”?! Она единственная помнит лучше всех…
— Когда вы, Александр, — быстро перебила его Дей, — возьмете в руки ожерелье — а я через полчаса предоставлю вам эту возможность — вы также легко восстановите в памяти многие фрагменты, не надо паники.
— Нет! Уже затрачено столько сил! Да в конце концов, я первым сказал “а” и имею право требовать…
— Не надо ничего требовать, — остановила Лилия. — Каждый в своем праве.
По окончании делового завтрака Алиса с плохо скрываемой дрожью в голосе поинтересовалась у Лилии: — Вы меня выпустите отсюда?
— Как вы могли в этом сомневаться! Сейчас же и поедем. Что ж, живите в своей конуре по-прежнему, раз вас это устраивает, — не удержалась та от обидного укола, но Алису это даже немного успокоило: вроде бы отвязались. Правда, тревожное чувство не покинуло ее, мнительную. Она знала: совсем успокоится лишь оказавшись в своей “презренной конуре”.
Чтобы привести себя в порядок перед дорогой, Алиса прошла в ванную и умылась. В овальном зеркале отразилась ее повеселевшая мордашка. Видит бог, она все-таки преобразилась за последнее время. Ей и не нужно больше того скромного достатка, которого она достигла на рекламе — всех денег не соберешь, всех сокровищ мира тоже, она хмыкнула, и в карих глазах задрожали озорные золотые искры. Каштановые волосы в прическе “карэ” блестели глянцем, как у всех обеспеченных женщин. Скулы покрывал легкий природный румянец, а маленький носик торчал по-прежнему задиристо и уверенно: ну и пусть плывут за своими несметными сокровищами, высыхают на беспощадном алипетском солнце, бродят по голым опасным пещерам. Конечно, и ей хотелось бы увидеть Алипет… Тут уж ничего не поделаешь — древняя родина, ностальгия… Но их всех с Алипетом связывают приятные воспоминания — чудесная жизнь… А ее — они не знают — с Алипетом связывает не только жизнь, но и смерть… Ей, Алисе, надо быть осмотрительной. Нечего канючить, решено: никуда она не едет. Дай им бог найти все сокровища древнего Алипета!..
Выйдя из ванной комнаты, Алиса подумала, что на самом деле нисколько не завидует будущим путешественникам. На секунду странное предчувствие неожиданно сковало ее: глянув вперед, Алиса увидела длинный узкий коридор — темный, забранный коричневыми гобеленами, он вдруг показался ей удивительно похожим на тот пещерный переход, в котором…
Дикий страх сковал Алису, чудовищное ощущение того, что ее руки и ноги атрофировались и теперь растворяются в пространстве посетило ее, когда какой-то мягкий увесистый комок закрыл ее лицо. Теряя сознание, Алиса успела подумать: “Не убереглась. Меня вновь убили…”
15.
Теплоход “Эльдорадо” вышел в открытое море.
Солнечный луч, пробившийся сквозь иллюминатор, разбудил наконец Алису. После беспамятства в голове вереницей прошли вопросы: где я? что со мной? что было?.. Сознание проснулось и быстро принесло хозяйке все подсказки. Она вспомнила. Она поняла. Ее, несомненно, усыпили хлороформом. Ей лишь показалось, что ее вознамерились убить. На самом деле просто похитили с тем, чтобы против ее воли везти в Алипет…
На удивление, Алиса легко прореагировала на это открытие, прошептав какой-то тривиальный афоризм типа: от судьбы не уйдешь. Итак, она все-таки, несмотря ни на что, — на борту “Эльдорадо”…
Обследовав свою каюту, путешественница поневоле отметила, что, во-первых, Дей отвела ей удобную уютную комнату, а, во-вторых, не забыла ничего из тех мелочей, которые понадобятся во время вояжа женщине — даже капризной: все было предусмотрено, все учтено. Кое-какие милые вещицы, как-то: белый фарфоровый флакон духов с нежным сиреневым абрисом глицинии, напольная, ввинченная в пол каюты ваза с искусными шелковыми цветами, расшитое небольшое панно на стене — сразу порадовали Алису.
Увидеть Алипет, несомненно, стоило, пусть даже таким, подневольным, способом. Трусливая, нерешительная, — самокритично подумала Алиса, — она никогда бы не решилась пуститься в этот долгий непредсказуемый путь, а так: ее пустили как детский кораблик, ей остается теперь раскидывать мозгами и ничего не бояться — будь что будет.
После хлороформа еще ощущая слабость, она медленно поднялась и тщательно исследовала свой гардероб — и здесь, надо отметить, Лилия Дей не сплоховала и не поскупилась. Несмотря на яркое солнце, на палубе, конечно же, свежий ветерок, поэтому Алиса облачилась в костюм из чертовой кожи: удобные брюки и просторную куртку. Отражение в зеркале подсказало ей, что любые стрессы в молодом возрасте переживаются сравнительно легко и она без сомнения может показаться своим спутникам.
“Явление Христа народу”,— сыронизировала над собой, появляясь на палубе, где был укреплен огромный разноцветный тент, под которым размещались инкрустированные креслица и длинный низкий стол, заставленный бутылками с яркими этикетками, бокалами и вазочками со сладостями: зефиром, орешками, вареньем, пирожными. “Неприхотливые радости жизни сей”,— подумала Алиса и в тот же миг задохнулась от восторга: вокруг нее, везде и всюду, сколько охватывали ее душа и глаза, простиралось море, веселое, игривое под заходящим солнцем, розово-нежное, чарующее.
Этой картиной не уставал любоваться и Алексей Двинский, который, чувствовалось, уже долго сидел на палубе, потягивая коктейль и мурлыкая что-то себе под нос. Было ли его поведение запрограммированным или вполне естественным, трудно сказать, но когда Алиса непринужденно бросила ему: — Привет, — присаживаясь на соседнем кресле, Двин точно также раскованно ответил ей:
— Привет? Тебе чего: бренди? виски?
Легко прореагировала Алиса и на появление Лилии, когда та в длинном, плотном макинтоше вступила на палубу. Присев, спросила у Алисы: — Каюта удобна для тебя? Если чего-то не хватает, скажи мне.
— Спасибо, все на редкость предусмотрено, — без подтекстов ответила Алиса и поинтересовалась: — Сколько мы будем в пути?
— Пять суток, успеет надоесть, — бросила Дей.
Когда обе поняли, что ни та ни другая не хотят нудных разбирательств, на душе стало совсем легко. Но — для Алисы — ненадолго.
За одно мгновение все переменилось, лишь только на палубу вступил Мол. Сразу же сонм противоречивых чувств захлестнул Алису: тут были и прежний страх, и решимость противостоять, и даже доля ненависти.
“Редко кому в этой жизни доводилось видеть своего убийцу, — подумала Алиса, с омерзением наблюдая за Молом. — Но и он, видимо, уже вспомнил, что я — его жертва двухтысячелетней давности. Лилия, можно не сомневаться, перед отправлением давала ему Ожерелье зингов — значит, он должен знать, но держится так, будто и в Алипете мы были друзьями.” Однако и на его приветствие ответила с притворной улыбкой — пусть не догадывается, что она теперь начеку.
Как и любой наблюдательный, неглупый человек, Александр Молев сразу почувствовал резкую перемену к себе у Алисы. Он не мог, конечно, догадываться о том, что в последний миг перед усыплением хлороформом “рабыня фараона” с особой, “предсмертной”, ясностью вспомнила последние мгновения жизни в Алипете: узкий пещерный проход, шуршание за спиной. Он не мог понять, что Алиса пришла к твердому убеждению о своем убийце двухтысячелетней давности. Ошеломленный, заинтригованный резким Алисиным неприятием, Мол гонялся за ней по всему теплоходу, стараясь появляться там, где была она: на палубе так на палубе, в нижнем баре так в нижнем баре, в музыкальном салоне. Она умело уклонялась как от встреч, так и от разговоров. “Бабские уловки!” — злился Мол, но уклончивость эта подогревала его желания.
16.
Между тем они неуклонно приближались к своей заветной цели — к Алипету. Стоит ли доказывать, насколько реальная жизнь далека от жизни воображения, стоит ли твердить, что не возродить прежнего Алипета — с его неповторимыми ароматами, древними тайнами, с его нездешним очарованием?.. Но вряд ли найдется человек, который рискнет утверждать, что сами земли, дремучие леса, искристые водопады, огромные пирамиды, холодные горные реки, загадочные пещеры не хранят в себе отголосков прежнего…
Четверо на борту “Эльдорадо” возвращались в Алипет два тысячелетия спустя… Что ж, им можно только позавидовать. Многие согласились бы на свидание со своим давним прошлым, но где и когда назначить ему рандеву?..
По мере приближения к Алипету многое менялось и на борту “Эльдорадо”, причем, менялось как бы исподволь и так естественно, что все происходило как бы само собой.
Час от часу становилось все жарче, и в последний день путешествия по морю уже в десять утра палуба раскалилась, и лишь свежий ветерок с моря приносил пассажирам отраду. Каюта превратилась в душную коробку, поэтому Алиса, выбравшись из нее с проворством хитрого мышонка, устроилась на палубе, в выгодном закутке, удобном в двух отношениях: во-первых, он был затянут особо плотным тентом, а, во-вторых, там помещался славный гамак. Было у закутка и третье достоинство, пожалуй, самое главное: он находился на отшибе, и ставший в последние дни особенно навязчивым Мол вряд ли догадался бы сюда заглянуть.
Покачиваясь в гамаке, Алиса блуждала взглядом среди дальних облаков и дымок, которые нравились ей, ибо напоминали очертания величественных пирамид, загадочных пещер. “Я плыву к тебе, Алипет”,— шептала Алиса, с нежностью вглядываясь в лазурную даль.
Надо сказать, что и Алиса, и остальные пассажиры “Эльдорадо” за эти дни слегка изменились внешне. Они быстро и сильно загорели, как объясняла Лилия — “на воде”. Из-за жары часто отказываясь от еды, они заметно похудели, стали поджарыми, и движения их приобрели большую динамику. Осунувшиеся лица поражали выразительностью и темпераментом. Под испепеляющими лучами солнца осветлились их волосы. Дей по-прежнему осталась беловолосой, короткий ежик Двина словно засеребрился, а вот прически Мола и Алисы приобрели восхитительный оттенок старинной меди: медное “карэ” у Алисы и медная грива у Мола. “Как у льва!” — смеялась Лилия Дей, и в ее голосе сквозило восхищение.
Однако, не обращая внимания на нотки восторга в тоне Дей, Мол постоянно выслеживал Алису, и это не на шутку уже пугало ее. Но не хотелось сейчас поддаваться пустым страхам, прислушиваться к подсказкам памяти. Хотелось грезить наяву, рассеянно глядя на дальние очертания облаков…
…И вот там, в дальней дали, Алисе почудился взгляд притягательных синих глаз, а из глубины памяти выплыло: Алхимик… Синие глаза на мгновение показались Алисе самыми любимыми на свете — но греза быстро отлетела…
Убаюканная морем, Алиса задремала, и пробуждение ее было ужасным. Казалось, сам дьявол налетел на спящую, смяв ее, разрывая ее легкие прозрачные одежды. Очнувшись в шоке, Алиса попыталась стряхнуть с себя отвратительные ласки Мола, но он был настойчив, и ей пришлось защищаться чем попадя: она отталкивала его кулаками, била жгутом, который еще за минуту до этого прискорбного налета представлял из себя ажурную широкополую шляпу с трепетной шифоновой розой на боку.
Апогей схватки сопровождался только сопением, кряхтением и глухими звуками шлепков, и лишь когда борьба поутихла, Алису словно прорвало:
— Подонок! Грязная свинья! Это ты усыпил меня хлороформом!
— Что-о?!
— То-о-о! Чуть большая доза — и я бы сыграла в ящик!
— Клянусь — не я. Парни из “Золотого гроша” — поверь!
— Да! Так я тебе и поверила — убийце! — последнее ударное слово она выбросила таким истошным воплем, что у Мола буквально подкосились ноги, и он осел в гамак, глядя на обвинительницу громадными, безумными сейчас, глазами.
— Али-и-ис! Ты соображаешь, что кричишь?! Какой я — убийца!
— Подлый и хитрющий! Ты заманил меня в пещерный переход и там, в темноте, в самом узком месте, где и без того дышать было тяжко, ты задушил меня!
— Ты обалдела?! — задохнулся от негодования Мол. — Когда я задушил тебя?!
— Тогда! Две тысячи лет тому назад! Надеялся, что не вспомню, да? А я вот вспомнила! Память у меня, слава богу, крепкая!
— Если память у тебя крепкая, — с истеричной дрожью в голосе начал Мол, — то вспомни прежде всего, как я любил тебя: больше жизни, больше всего на свете! Об этом ты забыла? Как я мог убить тебя при такой любви?!
— Мог! Мог! — как заведенная, выкрикивала Алиса. Мол терпел. Когда она замолчала, в их закутке и во всем мире воцарилась тишина, нарушаемая только нежным плеском волн, которые словно шептали: самое главное на свете — шелест вздохов, звук поцелуев, тихие ласковые слова…
Привлеченная отголосками скандала, к деревянной перегородке, скрывавшей за собой гамак, быстро и неслышно подошла Лилия и замерла в напряженной позе подслушивающего. На ней были легкие — три ремешка — похожие на древнеалипетские, сандалии и длинное просторное платье, подобное сари, персикового цвета. По мере приближения к Алипету осанка Лилии стала еще горделивее, в лице появилось надменное выражение. Но любой, увидевший ее сейчас, от души пожалел бы Лилию. Внимая словам Мола, она на глазах из величественной женщины превратилась в убогое существо.
— Али-и-ис, богом клянусь… — попытался продолжить Мол.
— Не божись, не поможет, — обрезала та.
— Неужели ты и вправду веришь, что любящий человек может убить любимую?..
Судорога ревности исказила лицо Дей.
— Недаром же говорят, — пустилась в рассуждения Алиса, — ненавижу и люблю. Недаром. Люди знают, что это — совместимо. Страсти встречаются в своей наивысшей точке и там легко заменяют друг друга.
— Чушь, — выдохнул Мол. — Тебе не надо опасаться меня. Вспомни, Алис, мы ведь были хорошими друзьями…
Не в силах более слушать, Лилия Дей резко повернулась и пошла в музыкальный салон.
ЧАСТЬ IV
МИЛЫЙ АЛИПЕТ, ДРЕВНЯЯ МОЯ РОДИНА…
17.
Застав Двинского, как всегда, за роялем, поглощенного своей единственной богиней — музыкой, Дей пробормотала: — Черт те что, не теплоход, а комок страстей! — но Двин не расслышал.
Музыкальный салон в эти дни скорее напоминал салон географический, ибо повсюду: на самом рояле, на журнальном столе и даже на паркете были разложены карты Алипета — древнего и сегодняшнего. Не первый день путешественники выверяли маршрут, по которому пустятся, оказавшись на алипетской земле, склоняясь к поездке на джипах в самую глубь страны, туда, в заповедную сердцевину, где сосредоточены Земли Джарда, как они значатся на древних картах, — огромные массивы земель, где имеется: Водопад Джарда, Пещера Джарда — на самом деле целая система огромных пещер, в которых можно, как утверждают знатоки, затеряться навсегда…
— Нужно окончательно выверить и принять маршрут, а они где-то шляются, — раздраженно бросила Дей, на что Двинский миролюбиво и с готовностью откликнулся:
— Нет проблем, Лили! Я сейчас позову их.
— Будь любезен.
На закате, когда солнце, малиново-огромное, загадочное, величаво опускалось к морю, готовое через несколько часов утонуть, Алиса стояла на палубе и смотрела в даль. Грандиозность картины покорила ее. Алисе никто был не нужен, и она вовсе не собиралась никого призывать, но вдруг, по какому-то наитию, она закричала:
— Алипет!.. Алипет…
Крик был настолько громким, что на палубу сразу сбежались все. Каково же было их удивление, когда они не увидели на горизонте ровно никаких очертаний.
— Померещилось, — решили спутники.
Но Алиса не ошиблась. Сердце верно подсказало ей. В те минуты, когда солнце вошло в море наполовину, на огненном фоне нарисовались сизые силуэты пирамид.
Дрогнуло Алисино сердце. Прошлая, давняя жизнь в Алипете принесла ей волшебную любовь и… трагическую гибель. Что-то сулит ей новый виток судьбы в Алипете?..
18.
Семь суток пробирались путешественники к своей цели — к Землям Джарда, пять суток ехали на джипе, последние двое суток шли пешком, продираясь сквозь непроходимые, казалось, заросли диковинных кустов. Разве они не знали, что идут не столько к сокровищам, сколько к новым испытаниям, опасностям, неожиданностям? Конечно, знали, но шли.
Шум Водопада Джарда первым расслышал Двин с его музыкальным слухом. Двин предложил:
— Давайте сделаем последний привал. Судя по всему, до водопада дойдем часов через семь.
— И там уже разобьем бивуак, — поддержала Лилия.
Развели костер, вскрыли консервы. Перекусив, повели неслышную беседу. Никто ни к кому не лез в душу, хотя каждого волновал вопрос: а что удалось вспомнить уже здесь, на месте? Но ни один не спешил с признаниями, поэтому разговор вертелся вокруг древнеалипетских легенд — тем более что это было близко к волнующей теме.
— …Да, существует много версий, почему во все названия входит слово “Джард”,— рассуждал Двин, наполнившийся в этих краях какой-то новой жизненной энергией: все его интересовало, все возбуждало любопытство.
— Видимо, Джард был главой какого-то племени, — предположил Мол.
— А я склоняюсь к тому, что это все-таки название необычного, неизвестного нам камня, — сказала Дей. — Ведь не знали же мы до поры до времени о существовании сказочного изириса. Прислушайтесь: “изирис, джард” — эти названия вписываются в один ряд.
— Но в слове этом чувствуется одушевленность, — возразила Алиса.
— Древние алипетцы одушевляли драгоценные камни, — с еле заметным раздражением пояснила Лилия.
— Согласна. Но мне все же кажется, что Джард — это древнее животное — огромное, похожее одновременно и на льва, и на тигра.
Мол ласково улыбнулся, Лилия фыркнула, Двин пожал плечами, сказав:
— Пока можем лишь предполагать. Многие тайны раскроются перед нами уже через несколько часов — я чувствую.
— Твои слова — да богу в ухо, — бросила Дей.
19.
Водопад Джарда покорил их своей титанической мощью. Многотонные массы воды с громоподобным гулом низвергались из поднебесья на огромном пространстве. Словно бушующий океан повернули вертикально. Бурливым потоком воды неслись вдаль, образуя в окрестностях множество бухт и заливов, благодаря которым местность, и без того своеобразная, превращалась в экзотически-неповторимую.
В нескольких километрах от водопада брали свое начало гигантские пещеры Джарда, у которых, видимо, были тысячи входов, и открытых, и искусно замаскированных природой: например, за каким-то валуном, или в дебрях колючего кустарника — в общем, подчас в самых непредсказуемых местах. “Входов сотни или тысячи, но есть ли выход?..” — размышляла Алиса о возможном коварстве природы. Стоило лишь взглянуть на извилины горных хребтов — и каждый непреложно понимал, почему редкие экспедиции сюда, снаряжавшиеся долго и тщательно, терпели крах… “Конечно, мы снабжены радиотелефонами, электронными “поводырями”,— успокаивал себя Мол, — но поможет ли оборудование?” Весело подставляя лицо под брызги водопада, которые долетали и за тридевять земель, Двин насвистывал в такт гулу: ему было хорошо здесь, пещеры не пугали, водопад бодрил. С прищуром опытного бизнесмена глядя на диковинную местность, Лилия Дей, казалось, взвешивала свои шансы с учетом колоссальных возможностей такой великой бизнесменши как дикая природа.
Отыскав удобное место, на берегу маленькой бухты, разбили бивуак: две двухместные палатки, “ресторан ”Изирис” на вольном воздухе под тентом.
Итак, путешественники, помолодевшие, взбодренные свежим ветерком с водопада и ледяными его брызгами, достигли своей цели. Вот они — Пещеры Джарда. Где-то в их дебрях, за семью печатями, покоятся сокровища древних зингов, о которых не устает сплетничать мир. Много лет мир сплетничал и снаряжал экспедиции, а потом и рукой махнул — бог с ними, с сокровищами, где их добыть, если участники экспедиций, археологи и просто искатели кладов, возвращаются из Алипета изнуренными, усталыми, раздраженными и на все вопросы твердят одно: сокровища эти — блеф, бросьте болтать или сами поезжайте туда, в мрачные, душные, опасные переходы пещер, куда легко войти, но выйти откуда ой как трудно…
“Почему мы решили, что свою тайну Пещеры откроют нам?” — потягивая сок грейпфрута, размышляла Алиса. — И у других экспедиций были компасы-индикаторы, снаряжение было не хуже, а физическая подготовка — куда лучше. Конечно, мы жили здесь когда-то. Это наша земля, она должна помочь своим детям. Наитие должно подсказать мне!.. — Но пока наитие подсказывало Алисе: будь начеку, не расслабляйся, опасность вокруг тебя. Вплотную приблизившись к месту своей прошлой жизни и… прошлой смерти, Алиса хотела во что бы то ни стало наверняка определить своего убийцу и тогда… Тогда видно будет. Раньше времени нечего загадывать. С потаенной опаской поглядывая на своих спутников, она понимала, что здесь, на месте, каждый из них вспомнит какой-то фрагмент прошлого — но будут ли они все искренни после этого, поделятся ли своими открытиями друг с другом?..
Не забывая о том, что ей прежде всего следует наблюдать за собственными реакциями на окружающее, Алиса приметила, как волнуют ее запахи Алипета. Вот и сейчас ее поманил аромат сиреневых, похожих на гиацинты цветов, которые буйно росли на кустарнике, колючем, цепком, заполонившем собой берег заливчика неподалеку. Пользуясь тем, что Двин осматривал один из входов в пещеру, Дей переодевалась, а Мол — опасный Мол — укреплял палатку, Алиса приблизилась к манящему ее кустарнику. “Гиацинты” разных сиреневых оттенков, от бледного до густо-лилового, дивно пахли. Хотелось войти в их заросли и забыться, уснуть… На счастье, Алиса вблизи заметила лазейку в, казалось бы, непроходимом кустарнике. Ловкой ящерицей скользнула вглубь и через несколько шагов очутилась возле двух каменных плит, которые образовали подобие сиденья, даже эдакого каменного трона, прогретого солнцем и со всех сторон плотно окруженного “гиацинтами”. Сладостный запах одурманивал, и Алиса почувствовала непреодолимое желание присесть. Каменный трон готовно принял ее в свои объятия, и Алиса сразу же задремала…
…Во сне или наяву — и потом не могла сказать с уверенностью — маленькая рабыня со сладчайшей яркостью увидела несколько эпизодов своей прошлой жизни, и видение это многое прояснило для нее.
ЧАСТЬ V
ВОСПОМИНАНИЕ АЛИСЫ. НАЕДИНЕ С ПРОШЛЫМ
20.
Приют Благовоний, сводчатый полутемный зал, был наполнен благоуханиями и странными звуками: в его стены были вделаны амфоры, издававшие звуки, в которых томительная мелодия сочеталась с шумом водопада. Элегия нравилась фараону, возлежащему на низкой широкой тахте. Заканчивался сеанс массажа. Высокий мускулистый раб более часа разминал могучее тело фараона. Наступал черед рабыни Алисы. Она умащивала тело фараона пахучими кремами и бальзамами. Двин любил легкие Алисины руки. Наслаждаясь мягкими поглаживаниями и сладостной мелодией, фараон захотел усладить и свой взгляд. По его приказу раб-мастер вошел в Приют Благовоний с чудесным ожерельем в руках.
— Ожерелье для несравненной Лилии — жены фараона! — возвестили слуги.
Ярко блеснули в полутьме камни изириса, выбросив синие, зеленые, золотые снопы искр.
— Ты хороший мастер, Мол. Я награжу тебя, — лениво сказал фараон. В этот миг легкие пальцы коснулись его плечей, и Двин поймал своей лапой руку Алисы. Подобно камням изириса ревниво блеснули глаза Мола. Алиса заметила, но Двин и ухом не повел. Он захотел наградить и Алису за усладу. План быстро созрел в его голове, и он приказал Молу:
— Раб, надень ожерелье это на рабыню. — Тот молча повиновался. Послушная малейшим желаниям фараона, Алиса скользнула вдоль его ложа и присела перед Двином, чтобы он мог полюбоваться ожерельем.
— Это твое ожерелье, рабыня, — объявил Двин, чем немало удивил и Мола, и Алису, из которых ни он, ни она ничем не проявили своего замешательства — фараону угодно.
Раздался шелест одежд. В Приют Благовоний навестить мужа вошла Лилия. Увидев ожерелье на смуглой шее рабыни, Лилия брезгливо поморщилась, не унижаясь, однако, до вопроса. Зная крутой нрав Лилии, Двин сам поспешил разъяснить, не без смекалки:
— Милая Лилия, в ожерелье, сработанное для тебя, вселились злые духи. Я не мог позволить им терзать тебя. Я приказал рабу изготовить для госпожи новое ожерелье, которое превзойдет испорченное в красоте и изяществе.
Мол покорно склонил голову — медная грива его волос понравилась Лилии.
— Ты — умелый раб? — надменно спросила она.
— Готов служить тебе, моя госпожа, — вместо ответа сказал он властительнице, но взгляд исподтишка бросил на Алису, и это не ускользнуло от наблюдательной Лилии. Неужели медноволосый, высокий, темноглазый Мол принадлежит этой рабыне?..
— …Значит, ты готов сработать новое ожерелье? — спрашивала раба Лилия, полулежа на огромном обтянутом изумрудной парчой диване.
— Готов, моя госпожа.
— А в прежнее на самом деле вселились злые духи или просто фараону захотелось подарить его этой гибкой, как ящерица, рабыне? — дерзко спросила Лилия, прекрасно зная, что раб не в силах ответить на такой вопрос. — Отвечай, не бойся.
— Я не из трусливых, — неожиданно сказал Мол, вскинув голову так, что на смуглый лоб упал медный завиток, которым невольно залюбовалась госпожа. — Рабыня должна изгнать темные силы из ожерелья, или они подчинят рабыню.
— Мне кажется, — многозначительно начала жена фараона, — что пока эта рабыня подчинила кое-кого? — вопросительно посмотрела на Мола и быстро спросила: — Она твоя любовница? Отвечай!
— Нет!
— Но ты хотел бы этого?
Раб промолчал.
— Чего бы ты хотел, Мол? Скажи мне, и я сделаю.
Раб молчал. Рискуя навлечь на себя гнев.
— А ты — упрямый раб, — восхищенно сказала Лилия. — Изготовь для меня невиданное в Алипете ожерелье — Ожерелье Джарда — и ты станешь моим любимым рабом.
“Неужели не понял?” — провожая его задумчивым взглядом, размышляла Лилия.
В углу, в напольной вазе, курились палочки благовоний — их аромат подсказал жене фараона, что делать дальше. Ей нужны свежие кремы, и никто не подумает ничего лишнего, если она вызовет эту рабыню — Алису, ведь она помогает Алхимику изготавливать его снадобья.
Как только Лилия вновь увидела быструю гибкую Алису, волна ревности захлестнула ее сердце: кто бы мог подумать, что ревность эта направлена вовсе не к фараону — его жирное тело давно перестало волновать жену.
— Ты принесла мне свежий бальзам для ног?
— Да, госпожа.
— А для рук?
— Вот, моя госпожа, — левой рукой поддерживая поднос, правой Алиса указывала на темные склянки. Когда слегка наклонялась, камни изириса вспыхивали.
— Не страшно тебе ходить в заколдованном ожерелье?
— Так было угодно фараону.
— …Или ожерелье это греет тебя любовью того, кто его сработал? — с еле сдерживаемым гневом спросила Лилия, и хитрая Алиса сразу раскусила и ход ее мыслей, и подтексты. “Э-э-э! — подумала рабыня. — Здесь надо быть поосмотрительней,” — а вслух сказала с заметной робостью: — Любовь Мола направлена совсем не на меня.
— Есть другая?! — вскрикнула Лилия. — Кто же она?
— Страшусь сказать. — Алиса потупила взор.
— Не бойся, — прошептала Лилия, сгорая от желания узнать имя той, которой принадлежит полюбившийся ей раб. — Ну не бойся же, говори своей госпоже.
Потоптавшись на месте, Алиса еще глубже понурила голову и еле слышно пробормотала:
— Госпожа, ты сказала, что ожерелье изготовлено с любовью…
— К кому же?!
— Но разве ты забыла, госпожа, кому оно предназначалось?.. Прости меня, госпожа.
Еле сдерживая свое ликование, Лилия бросила: — Пустое болтаешь, рабыня, — но на запястье Алисы благодарно надела золотой браслет. — Но я ведь забыла объяснить рабу, каким должно быть ожерелье. Ступай за ним, Алиса. Приведи его сюда. Или нет. Приведи его в Зал Изириса.
Алиса вздрогнула: Зал Изириса со сказочным богатством расположен в Большом Дворце, и дорогу туда знали лишь самые приближенные слуги.
— Прости, моя госпожа, я плохо знаю дорогу туда.
— Ах, какая же ты неловкая! — воскликнула Лилия и заколебалась. Принимать Мола в своем будуаре было опасно. Кроме того, он должен увидеть ее на фоне чудных сокровищ, сосредоточенных в Зале Изириса. Девчонка, конечно, лжет: Мол пока не влюблен в Лилию, опытная женщина, Лилия это прекрасно понимает. Но он может влюбиться в нее и забыть всех Алис на свете, если увидит Лилию в сказочной оправе драгоценного зала. Нужно доверить тайну перехода туда девчонке — такова воля провидения.
— Пойдем, — приказала она. — Я покажу тебе путь, и ты приведешь раба из Малого Дворца в Большой.
И они пустились в путь. Жена фараона прекрасно ориентировалась в хитросплетениях подземного лабиринта, ибо принимала деятельное участие в разработке схемы переходов из Малого Дворца в Большой.
О заманчивые ходы подземелья! Таинственные, причудливые ходы, ведущие из Малого Дворца, уютного, приспособленного для жизни, в Большой Дворец, предназначенный для ритуальных действ, для приемов, предназначенный для прославления перед спесивыми иностранцами величия сказочного Алипета. Чего стоил один лишь Зал Изириса!..
На Алису он произвел чарующее впечатление, и теперь она возвращалась восвояси с тем, чтобы отыскать Мола и доставить его пред очи Лилии в дивный Зал Изириса. Опасаясь, что рабыня запутается в хитросплетениях поворотов и лазеек, Лилия вручила ей “путеводные четки”, где гагатовые бусины обозначали повороты направо, нефритовые — повороты налево, а коралловые — потайные лазейки, на первый взгляд незаметные в полумраке. Черные гагаты, зеленые нефриты и красные кораллы образовали удивительное сочетание: словно волчья ягода на ветке.
“Четки ”волчья ягода”, — прошептала Алиса, расправляя плечи после очередной лазейки, как вдруг почувствовала чью-то ладонь на своей спине. Вздрогнув, она закричала и стремительно оглянулась. Перед ней, тяжело дыша, стоял Мол. Глаза пылали в полумраке подобно камням изириса. Сильными руками он прижал Алису так крепко, будто вдавил себя в нее. Пытаясь вырваться, она почувствовала влажность губ и дерзость его языка…
Скользнули на землю четки, бусины которых столь тщательно перекидывала Алиса во время перехода. Став от ярости вдвое сильнее, рабыня избивала жесткими кулачками бронзовое тело дерзкого раба, выкрикивая:
— Пусти!.. Да пусти же! Я должна тебе сказать!.. По велению Лилии!
Даже чудодейственная фраза “по велению Лилии” пролетела мимо раба, предавшегося своей страсти, горящего желанием во что бы то ни стало завладеть Алисой. Но не так-то это было легко с ней — увертливой, гибкой, ненавидящей. Отхлестав Мола по щекам, Алиса наконец получила передышку, во время которой успела сообщить тоном, не предвещающим ничего хорошего:
— Налетел, как джард! Исцарапал?!
— Да нет же, нет!
— Как я теперь покажусь Лилии?
— Я не поранил тебя!
— Она повелела Привести тебя…
— Как — “привести”? Я сам дойду.
— Ты не понял! В Зал Изириса! Ну что, дойдешь сам?
— Конечно нет, Алиса! Дорогу туда знают лишь избранные слуги!
— Почему не спрашиваешь — зачем? — бросила Алиса.
— Я знаю, — с достоинством ответил Мол. — Мастеров зовут в Зал Изириса только затем, чтобы показать какую-то драгоценность, которую нужно скопировать.
— Вот и ошибся.
— Нет, не ошибся. Ты же знаешь, Алиса: Лилия повелела мне изготовить Ожерелье Джарда. Значит, хочет показать эскиз.
— Эс-киз! — фыркнула Алиса.
— Да, — торжественно сказал он. — Ты одна насмехаешься над моим мастерством ювелира, а вот Лилия…
Увидев, что работящий Мол может основательно пострадать от собственной слепоты, что настроенный на новую интересную работу, он не воспримет намеков истерзанной страстью Лилии, Алиса пожалела его. Смирив гнев, она начала речь.
— Выслушай меня, Мол. Никто не сомневается в тебе как в ювелире. Ты, несомненно, изготовишь Ожерелье, которое прославит твое имя далеко за пределами могущественного Алипета. Но жена фараона зовет тебя не затем, чтобы показать эскиз. Если она начнет разговор с Ожерелья, пусть и это не обманет тебя. Жена фараона Лилия — могущественная Лилия — влюбилась в тебя…
— Нет! — воскликнул Мол, словно его несогласие могло отменить это чувство.
— Да, Мол. Да. Любовь господ, к сожалению, не может миновать нас, рабов.
— Это тебя не может миновать! Это в тебя влюблен фараон Двин!
— Оставь, Мол, — устало возразила Алиса. — Двин просто использует меня. И я не могу воспротивиться — я рабыня. А вот Лилия — поверь моему женскому чутью — влюбилась в тебя. Знай это, Мол, и пойдем в Зал Изириса.
— Но я не хочу! Я не желаю, Алиса! Мне не нужна ее любовь! Что за адское наказание — любовь старой жабы!
— Ты неблагороден, Мол, — отрезвила его рабыня.
— А я не господин! Благородство для меня необязательно!
— Благородство обязательно для всех, Мол, для каждого алипетца. Помни это, Мол, и пойдем.
Водопад красок, блеска, мастерства, прелести неземной — вот каким предстал перед смиренным рабом Молом легендарный Зал Изириса.
Сквозь золотые струи литья, в которое были вделаны тысячи драгоценных камней, пробивались причудливые ветви подсвечников, изящные ладони тысяч полок, где разместились вещи: ларцы, вазы, сосуды, амфоры, наполненные мерцанием дивных драгоценностей. Инкрустированные перламутром и камнями полы были устланы пятнистыми шкурами и мягкими коврами.
Пожалуй, лишь водопад Джарда производил на Мола такое же могучее впечатление. Потрясенный сказочным каскадом, раб не сразу заметил в дальнем углу, на шелковых подушках, ожидавшую его Лилию. Бледная, встревоженная, она взирала на него издалека… Почему во взгляде ее поселился оттенок страдания?..
Может быть, в последнюю минуту она поняла свою ошибку: не стоило принимать возлюбленного в Зале, где сама она терялась в круговерти блеска вещей… А, может быть, всегда и единственно верным женским чутьем Лилия поняла, что все краски мира не могут соперничать для Мола с прелестью гибкой, как ящерица, Алисы?.. “…В подземном переходе, там, где тяжело дышать и трудно пролезть, он пытался овладеть Алисой…” — горько подсказал Лилии внутренний голос…
Но стареющая жена фараона не могла смирить свою страсть.
Зачарованным жестом она поманила раба к себе…
…И Мол пошел туда.
Он ступал так медленно и осторожно, как будто в углу сидел самый большой и могучий зверь всех частей света — огромный джард.
— Я принес тебе Ожерелье Джарда, госпожа.
— Ты великий мастер, Мол.
— Прикажешь положить его в ларец?
— О нет, нет! Надень его на меня! — не в силах сдержаться, Лилия привстала с изумрудного парчового дивана, готовая прильнуть к Молу. — Ты работал над ним сорок семь дней!.. — И прошептала страстно: — Отрывая у меня часы, в которые я могла бы ласкать тебя…
Надевая Ожерелье на шею Лилии, Мол коснулся ее дрябнущей кожи и невольно вздрогнул. От Лилии не укрылась эта деталь. И впервые за полтора месяца их любовной связи жена фараона не сдержалась, с безумной горечью выговаривая Молу: — Конечно! Ты хотел бы коснуться ее шеи! Я знаю: ты выслеживаешь ее в коридорах дворца, ты крадешься за ней, ты дышишь одной ею! Несколько раз ты пытался овладеть ею! И лишь ее изворотливость спасала ее от твоих притязаний! Она не любит тебя! Она презирает тебя! А ты вновь и вновь крадешься за ней!.. — Лилия перевела дыхание. — Хотя разве я вправе осуждать тебя за это?! Ты не любишь меня, а я, однако, вновь и вновь зову тебя к себе. Каждый раз зарекаюсь звать и… зову! Что за наваждение такое?! Когда и кто сможет избавить меня от него?! Сколько жертв я принесла на алтарь, сколько молитв вознесла к небесам, и к водопаду Джарда — и все напрасно — нет исцеления от этой страшной болезни, имя которой — любовь.
Прекрасно сознавая, что Мол вложил в Ожерелье Джарда всю силу любви к Алисе, Лилия не могла отвести взгляда от чудного творения. Тонкие, темно-коричневые ремешки из кожи джарда образовывали вязь, в которую были вплетены и вделаны камни изириса. Все алипетцы издавна знали: нет прочнее кожи и шкуры джарда. Мех джарда сохранялся веками, изделия из его кожи не могли обветшать. Могучее животное обладало всем тем, о чем мог лишь мечтать человек: сказочным долголетием, огромной силой, вековой гибкостью мускулов и свежестью кожи. Прожив долгую-долгую жизнь, любой джард и после смерти служил хозяевам: оставались его ларцы, ремешки. Его шкура украшала жилище. Но любой джард всегда переживал несколько поколений своих хозяев.
Услышав тяжелые, мягкие шаги своего любимого зверя, Лилия подумала: “Я состарюсь, совсем одряхлею… а Джа, мой Джа останется по-прежнему сильным, — вздохнула и вдруг приободрилась: — Но и Алисе не бывать вечно юной. И она — состарится. И она — одряхлеет, — Лилия вздрогнула. — Но пока…”
Зеркало отразило ее в Ожерелье Джарда. “Если бы Джа мог хоть частичку своей свежести передать мне…” Припоминая заклинания колдунов, Лилия вдруг вспомнила, что какая-то часть энергии все же может перейти от одного к другому. Сомнений быть не должно. Надо дать Алисе поносить Ожерелье. Чем черт не шутит — а вдруг… А вдруг Алиса сумеет зарядить Ожерелье своим очарованием юности. А вдруг потом опять надетое на Лилию Ожерелье потянет к себе дерзкого, упрямого, но самого желанного и любимого Мола…
От нетерпения Лилия хлопнула в ладоши не раз и не два. Явившейся служанке быстро приказала: — Вызови рабыню из лаборатории Алхимика, да поживее!
21.
…Сладостный запах цветов, похожих на гиацинты, одурманивал, и пробуждение Алисы было медленным… Отходя от сна-видения, она, однако, прекрасно помнила и сознавала все пришедшее к ней во время этого странного забытья.
Многое было подсказано Алисе таким необычным путем. Многое.
Итак, здесь, где они расположились бивуаком, берут начало Пещеры Джарда, которые, как выяснилось в видении, через километры подземного лабиринта завершаются огромным Дворцом — о нем, кстати, никто и никогда не упоминал. А там — Зал Изириса. Именно там — сказочные сокровища, о которых не устает сплетничать мир. Пройти туда можно, если… Если отыскать четки “Волчья ягода”. Алиса уверена: пальцы ее вспомнят по ощущению, пальцы подскажут, а гагатовые, нефритовые и коралловые бусины поведут вперед лучше любого поводыря. Следует пошататься по пещерам здесь, поблизости, ведь, судя по всему, две тысячи лет назад Алиса обронила “Волчью ягоду” недалеко отсюда.
Теперь о самом главном: о жизни и смерти. Видимо, с Мола подозрения можно снять. Лилия — куда опаснее. Она ревновала Мола до обморока. В ревности Лилия могла переступить грань и удушить Алису в одном из переходов, тем более, что сделать это было ей столь легко: послать рабыню из Малого Дворца в Большой или обратно и — пуститься вослед. Лилия могла убить. Могла. Напрашивается вывод: держаться от нее подальше. Но тут опять загвоздка — Алиса даже поерзала на теплом каменном “троне”: Лилия единственная изо всех них прекрасно ориентируется в подземном лабиринте, ведь он был сооружен чуть ли не по ее схемам. Лилии не нужны четки, она спокойно пройдет в Зал Изириса сама, когда… когда вспомнит… Но, может статься, уже вспомнила и только делает вид перед спутниками, что узнавание еще впереди?..
Можно сделать вывод: воспоминания приходят к каждому из них своим, самым доступным путем. Это основывается на особенностях психологии. Рациональная, могущественная Лилия вспомнит многое, блуждая по пещерам. Мол вспомнит, играя камнями — он был мастером. Двин вспомнит по звукам, по этим странным пещерным звукам — недаром его “Элегия зингов” казалась всем в Нивелии странной, что ж тут удивительного, ведь это мелодии древнего Алипета. Саму Алису пленяют запахи, тоже объяснимо — ведь она помогала изготавливать бальзамы, кремы и притирания Алхимику в его лаборатории. Вновь перед ее мысленным взором проплыли синие глаза, мягкие медовые волосы…
— Алис! Алис! — врезался в наваждение голос Мола.
“Принес черт!” — возмутилась она, однако, вспомнив, что он, как выходит, не покушался на ее жизнь, сразу перестала сердиться. Однако, встречаться с Молом не хотелось, хотелось одной побродить по близлежащим пещерам, и Алиса, спрыгнув с “трона”, юркнула между кустов, в сторону, противоположную той, откуда ее звал навязчивый Мол.
…Да будут благословенны заросли “гиацинтов” и каменный “трон”, подарившие ей память!
ЧАСТЬ VI
О ВРЕДЕ КУПАНИЯ…
22.
Найти четки “Волчья ягода” на такой огромной территории — вот уж именно что иголку в стоге сена — размышляла Алиса в подземелье. Самый реальный путь — следить за Лилией. Ухватить ее первые шаги, а дальше Алиса сориентируется сама.
Огибая опасно нависшие сталактиты, Алиса услышала шорох и насторожилась.
…Шаг туда, откуда раздался шорох, еще шаг…
Выглянула из-за укрытия сталактитов, и волнение сразу отпустило ее. С радостным выражением лица, вдохновенно прислушиваясь к загадочным звукам пещеры, стоял Двин. Мелодия пещеры, которая складывалась из посвистов сквозняков, из отдаленного гула водопада, еще из каких-то необъяснимых звуков, напоминала его “Элегию зингов”. Пусть потешится, улыбнулась Алиса. Ей было приятно, что ее теория о воспоминаниях подтверждается — значит, она не ошиблась.
День становился все жарче. Уже не спасала свежесть водопада. Мужчины разомлели на солнце. Казалось, они уже не хотят не только купаться, не только есть, но и самих сокровищ древних зингов не хотят — жа-а-арко, ду-у-ушно…
— Неужели вы не хотите окунуться, лежебоки? — весело спросила Лилия.
— Ты шутишь? — заныл Двин.
“Как весело спрашивает, не иначе как вспомнила, — сообразила Алиса. — Теперь за ней глаз да глаз”. Купаться не хотелось, но Лилию ни в коем случае нельзя было упускать из поля зрения, и Алиса готовно откликнулась:
— Поплавать в заливе водопада, да что может быть лучше?
— Лучше может быть лишь укус крокодила, — ехидно заметил Мол, вяло отбиваясь от Лилии, которая пыталась поднять его. Видение Алисы опять подтверждалось: там, в Нивелии, Лилия была довольно холодна к Молу, а здесь прошлое все больше довлело над ней. “Дураки! — в сердцах обозвала мужчин Алиса. — Вот найдет Лили ход к Залу Изириса и — скроет. А потом вернется в Нивелию, наймет…”
— Так пошли, Алис? — оторвала ее от раздумий Лилия, уже шагавшая к заливу, и Алиса устремилась за ней.
“Не-ет, Лили, не удастся тебе одной исследовать подземелье — я начеку.”
“Когда же ей надоест? — возмущалась в душе Алиса, наблюдая, как Дей с видимым удовольствием прыгает в воде, приседает, ложится на спину, отдыхая, а потом вновь плывет. — Чемпионка, чтоб ее! Да я уже устала!”— Но Лилию Дей никакая усталость не пронимала. Или сознание того, что скоро она завладеет всеми сокровищами отдельно от этих дурачков, давало ей лишнюю энергию? Как бы то ни было, сама Алиса устала, даже нахлебалась уже, когда неожиданная волна — привет от водопада Джарда, — докатилась до залива. “Не дай бог утонуть!” — подумала Алиса: а что? разве так уж редко судьба подшучивает над людьми. Казалось бы, несколько усилий — и они обретут сокровища зингов, и тут…
Тем более для Лили ой как выгодно было бы “потерять” Алису. Стало страшно. Опасность — показалось Алисе — прямо-таки витала в воздухе, несмотря на то, что он был напоен ароматом солнца, брызгами водопада, блестками на воде. Надо быть бдительной…
…Лилия Дей, сильная, мускулистая, приближалась к Алисе. Вот возьмет сейчас за голову, с силой опустит под воду и… продержит там три-четыре минуты. Оглянувшись по сторонам, Алиса увидела, что помощи ждать неоткуда, гул водопада заглушит любые крики, следует надеяться лишь на свою увертливость. Оттолкнувшись от подводного валуна ногами, Алиса стремительно отплыла от Дей. Лилия — за ней.
— Игра в салочки? — с нервозным смешком уточнила Алиса.
— Она самая, — многозначительно заметила Дей и спросила: — Ты умеешь отдыхать на спине?
“На-кась, выкуси! — подумала Алиса. — Лечь на спину, чтоб ты меня сей же час угробила — жди!” — а вслух сказала: — Я не люблю мочить волосы.
— Но у тебя же не такая грива, как у меня. Карэ легко сохнет. “Вот гадюка, просто настаивает, чтоб я легла на спину, и тогда…”
Продолжая опасную игру, Дей скрылась за каменным уступом, и вдруг стремительной торпедой выскочила оттуда, так что Алиса еле успела отпрянуть. Этот трюк она повторила три раза, чем окончательно измотала Алису. “Пора уходить, я устала, теперь ей ничего не стоит утопить меня, пора уходить.” От усталости нарушилась координация движений, ноги скользили по подводным камням. Если Лилия сейчас заметит это, тогда плохи Алисины дела. Взяв себя в руки, Алиса сосредоточенно, из последних сил, переплывала от уступа к уступу, скорее туда, к берегу, задыхаясь, растрачивая последнюю энергию, скорее к берегу — от страха, от гибели.
Выйдя на берег, Алиса никак не могла выровнять дыхание, но в душе торжествовала: попробуй-ка теперь, Дей, утопить меня — что, не вышло?
Устремив победный взор на залив, Алиса ждала коварную. Тогда ты удушила меня, теперь — хотела утопить. Но не учла, что теперь я вооружена прошлым опытом, и меня не так-то легко…
“Никак не накупается, лошадь!” — фыркнула про себя Алиса, и в ту же секунду острое озарение пронзило ее: да не собиралась Дей никого топить! Напугав Алису, она переключила ее внимание и… улизнула подлая!..
Алиса побежала по берегу, надеясь, что грива Лилии мелькнет за каким-нибудь уступом. Не тут-то было!
Дей исчезла.
23.
Сначала мужчины восприняли это как шутку, причем, Двин — с благодушием, а Мол — с раздражением.
— Побегает-побегает, и вернется, — хохотнул Двин.
— Ну ка-ак же, чтоб Дей, и без выпендрежа, — протянул Мол. — Все эти ее побрякушки, все эти длиннополые наряды — все рассчитано на эффект. И даже глупые выходки!
“Ну не-е-ет, она далеко не глупа, и вы знаете это не хуже меня, — подумала Алиса. — Не вас удивляет Лили, а просто рыщет сейчас на свободе. Верно, уже сориентировалась в лабиринте и гарцует теперь прямо к Залу Изириса — как говорится, без дороги, напрямик,” — Алиса чуть не захныкала от досады: ведь знала же, что нельзя ее упускать, и — упустила. По-дурацки, глупо, смешно — упустила!
Несмотря на то, что мужчины не высказывали этого, впрочем, как и Алиса, они тоже что-то обдумывали, — в общем, смутные подозрения зародились у каждого в душе.
— Трое одного не ждут, — с детской непосредственностью приняв свое решение, приступили к обеду. То ли от жары, то ли от перенасыщения организма консервированными продуктами, аппетита не было: паштет отдавал металлом, суп предстал безвкусной похлебкой, а котлеты — пресной жвачкой.
“А на десерт — горькие размышления,” — думала Алиса, потягивая кислый лимонный сок.
— Когда явится, будем бойкотировать, — буркнул Мол.
— Как? — удивился Двин.
— Очень просто: не разговаривать, — бросил Мол.
— Было бы с кем, — урезонил его Двин, — слушайте, ведь могло и случиться что-то.
— С ней?! — Алиса вложила в реплику всю силу негодования.
— Хорошо, подождем, — согласился Двин.
Ждали два часа. Лилия не появилась. Пришла пора начинать поиски. Осматривая то место у залива, где они купались, Мол задумчиво проронил: — Вообще-то вы очень долго купались.
— Думаешь, могла устать? — уточнил Двин.
— Естественно.
— И тогда…
Все подумали об одном: чрезмерная усталость, эйфория плавания, стоило неудачно нырнуть и — удар о выступ, да если еще виском… Потеря сознания. Неуправляемое тело выплывет из залива, а там бурливые воды водопада понесут его все дальше и дальше…
Мужчины скисли, и тогда Алиса бодро пообещала:
— К вечеру появится. Она жива и здорова. Я знаю. Я чувствую.
Дей не вернулась ни к вечеру, ни наутро. Через сутки стало ясно, что с ней произошло самое худшее.
Лилия Дей утонула.
24.
— Невыразимо горько, что мы начинаем с такой потери, — сказал Двин через сутки за завтраком, когда кусок никому не лез в горло.
“Да-а, — подумала Алиса, — пришли за находками, а действительно начали с живой потери, ужасно…”
— …Теперь надо постоянно держаться вместе, — рассуждал Мол. — Давайте выработаем форму поисков. Я предлагаю следующее. Двое с полным снаряжением заходят в пещеры, углубляются туда, а один — постоянно на входе, страхует. Регулярная связь по радиотелефонам. Осторожность. Если какой-то шорох — предвестник обвала — сразу назад. Достаточно с нас и одной жертвы, извините за кощунство.
— Разумно, разумно, — поддакнул Двин.
“Значит, мне придется тащиться в тандеме с кем-то — неохота”,— вздохнула про себя Алиса, а вслух сказала: — Я тоже согласна.
— Что ж, тогда приступим, — скомандовал Мол. — Двин на страховке, мы с Алис — в поход.
— Нет уж! — резко, сознавая, что совершает бестактность, брякнула она. — Мы с Двином — в пещеры, ты — на страховке.
— Да не все ли равно! — взъелся Мол. — Я согласен!
Конечно, Алисе хотелось сразу оторваться от Двина, но чувство опасности удержало ее. Почему, собственно, они решили, что Дей утонула, ведь они еще ничего не знают об этой местности. Да, они читали об Алипете, но теория далеко отстоит от практики. А если Дей укусила змея? А если на нее напало какое-то животное? И на первых порах Алиса отходила от Двина разве что метров на десять-пятнадцать. Но дальше — больше. Сколько заманчивых проломов встречалось на пути, и всюду хотелось заглянуть, ведь, в отличие от своих спутников, Алиса теперь четко представляла себе первую цель поисков — четки “Волчья ягода”. Кроме Алисы, эта нитка разноцветных бус никому ничего не скажет, но для нее эта находка будет первым шагом в Зал Изириса, поэтому бывшая рабыня смотрела по сторонам во все глаза: вдруг да заалеет коралл, или матово блеснет гагат, или зазеленеет нефрит — вот бы была удача!..
Но случай не выпадал.
Они бродили часа два, и вернулись ни с чем.
— Затея начинает казаться мне пустой, — признался Двин. “Еще бы! — подумала она. — Если бы не воспоминание о ”Волчьей ягоде”, в этих десятках километров лабиринтов вообще бы нечего делать!..”
— Нет, Двин, ты не прав, — сразу оборвал его Мол. — Ты и сам говорил, что начинаешь кое-что припоминать…
— …Но лишь какие-то блестки, и то — когда слышу гул пещер…
— Ну и что? Из блесток-фрагментов рано или поздно сложится целостная картина! Стоит мне взять в руки камень — и я тоже начинаю припоминать. Давайте искать любые следы: камень, цепь, любая мелочь — могут оказаться ключом к открытию! И поведут за собой!
В этот день они выходили в пещеру четыре раза, впустую. Перед пятым выходом Алиса философски заметила:
— Первый день поисков еще ничего не значит. Будем искать неделю, другую. Будем искать месяц. И не будем отчаиваться. Победа не дается сразу.
Мужчин взбодрил ее деловой настрой, и в пятый раз они пустились в путь усталые, но в приподнятом состоянии духа. “Надо верить, что найдешь, и тогда обязательно найдешь”,— поощряла себя Алиса, всматриваясь в темный тоннель, как вдруг…
…Как вдруг ей показалось, будто что-то проблеснуло там — мельком. Алиса рванулась вперед, скачком обогнула каменный выступ, следующий, наклонилась и…
Неужели померещилось?..
Нет, Алиса могла поклясться, что ей не привиделось — впереди светлым всполохом… промелькнула грива Лилии Дей!..
Значит, Лили не погибла. Она просто затаилась. И ждет своего часа? В одиночку ищет сокровища? Возможно, она настолько четко вспомнила схему проходов к Большому Дворцу, что теперь ей нечего делать со своими спутниками. Делиться Лили не желает. Она желает заполучить сокровища древних зингов, одна, и полностью.
Стоит ли говорить обо всем мужчинам?.. Лучше выждать. Время покажет, какие тайны следует раскрыть, а какие — оставить себе.
Итак, Лилия Дей жива. И по-прежнему опасна.
25.
Прежняя недавняя жизнь Алисы, то есть: нудная контора, скудные обеды, переполненные автобусы — отлетела куда-то, забылась. И даже последующие, более увлекательные, эпизоды ее жизни, связанные с фирмой “Золотой грош”,— тоже истаяли в тумане прошлого. Единственно реальной была теперь пещерная жизнь — постоянные вылазки в лабиринт. Чуткие уши: где шорох? не предвещает ли он обвал? “Я Алис” — “Я Двин” — “Как слышно?” — “Далековато забрались” — “Индикатор показал маршрут” — “Держитесь северо-западного направления. Как меня слышно, Алис?” — “Слышу хорошо, Двин”…
Так и не рассказав мужчинам, что Дей жива, внутренне опасаясь ее, Алиса тем не менее упорно “покоряла” пещеры, надеясь когда-нибудь — в какой-то счастливый миг! — зацепить хоть краем глаза нитку бус — самых любимых бус на свете — четки. Где-то рядом находилась коварная, вероломная Дей, но чувство страха напрочь отошло от Алисы. Со времени мнимого исчезновения Лилии прошло трое суток. Судя по тому, что один рюкзак с провизией пропал — незаметно для мужчин, но заметно для Алисы, Дей еще не нашла Зала Изириса, но, подкрепляя себя консервами, видимо, надеялась сделать это в ближайшее время.
Пора бы уж провидению сжалиться над Алисой и подбросить ей какой-нибудь сюрприз.
Видимо, судьба вняла просьбам Алисы. Правда, сюрприз ее был жесток.
26.
Чрезмерные нагрузки, и физические, и психологические, сказались, и на пятый день вылазок Алисе настолько надоели и переклички, и коллективизм походов, что она засунула поглубже во внутренний карман куртки радиотелефон и быстренько оторвалась от приставучего Мола: юркнула за один из выступов, Мол даже не заметил.
Представляя, насколько опасна может быть Дей, Алиса проверила нож, висевший у нее на ремне (как и у всех участников экспедиции), и рванулась в глубь пещер, взбадривая себя ею же придуманным девизом: сокровища джарда, мол, не для трусов!
…Еще не поздно было отказаться: и от этого девиза, и от дерзкой мечты — но…
…Как назвать то чувство, что непреодолимо тянет человека вперед, к лишениям и дьявольским опасностям?..
…Она лежала в узком темном тоннеле, головой к выходам из пещер — значит, шла по направлению к бивуаку. Возможно, хотела встретиться с друзьями.
Она лежала ничком, с разметавшейся гривой светлых волос.
Тихонько охнув, Алиса села на каменный выступ. Но вскоре взяла себя в руки и подползла к Лилии. Включила фонарик. Дрожащими руками поправила волосы мертвой Лилии Дей и вскрикнула…
На шее мертвой было ожерелье. Темно-коричневые ремешки кожи и вплетенные в них камни изириса. Сломленная двумя потрясениями, Алиса зарыдала. Она плакала бурно, неутешно, как ребенок. Выплакав какую-то часть стресса, утерла лицо носовым платком, перевела дыхание.
Итак…
Она нашла сокровища древних зингов. Но она мертва теперь.
Она умерла с этой тайной.
Отчего умерла Лилия Дей? Ответить на этот вопрос сейчас, одной, Алисе было не под силу. Скрывать происшедшее Алиса не имела права. Неловко вытянув радиотелефон из глубокого кармана, Алиса вызвала в тоннель своих спутников.
ЧАСТЬ VII
ПОДОЗРЕНИЯ
27.
Кто мог предвидеть, что они увидят Ожерелье Джарда при таких роковых обстоятельствах?
— Все-таки она умерла позже, чем показалось нам, — прошептал Мол.
— Отбилась от нас, — пожал плечами Двин, приподнимая мертвую Дей. — Мол, помоги.
Когда они приподняли тело, сразу поняли, отчего умерла Лилия: на шее остались багрово-сизые следы насилия. С минуту все находились в шоковом состоянии. Наконец Алиса выдохнула:
— Удушена.
— Но кем?! — не сдержался Мол. — Здесь же никого нет!
Последняя фраза прозвучала, конечно, по меньшей мере странно: нет посторонних, имел в виду Мол, но трое спутников Дей — налицо. Воцарилась напряженная тишина, в которой, казалось, зависли взаимные подозрения. Ведь теоретически каждый из них, встретившись в пещере с Лилией, мог притаиться, а затем настигнуть ее в тоннеле…
— Постойте! — решительно сказал Двин. — Давайте повнимательнее рассмотрим Ожерелье Джарда. Может быть, в нем все дело.
Спутникам, несомненно, хотелось, чтобы дело разрешилось столь просто и естественно, но… Даже при первом взгляде на ожерелье, которое свободно болталось на шее Лилии, стало ясно: приплести сюда украшение не удастся. Вот если бы оно подобно ошейнику стягивало горло, тогда… Но ожерелье болталось. Тяжело вздохнув, Двин, с помощью Алисы, протащил его через голову мертвой, причем, ее волосы цеплялись за украшение, словно и после смерти Лилия Дей не хотела расстаться с украшением, которое так долго и упорно искала, чтобы погибнуть в нем.
“А я ведь тоже тогда, две тысячи лет назад, умерла именно в нем, примерно в таком же узком темном тоннеле, — подумала Алиса. — И меня задушили. — Она вздрогнула от странной, чудовищной догадки: — Неужели судьба настигает каждого, хотя бы и спустя тысячелетия? Если Лилия тогда не пожалела меня, значит, рок не пожалел и ее, пометив в том же самом месте той же расправой!.. Вот это да-а!..”
Легко сказать: судьба, рок, фатум. Но рок сам по себе не налетит сзади, не вонзит в спину нож, не метнет копье, не задушит. Любой рок, фатум приобретает определенные черты человека — насильника, убийцы, чудовища.
Так кто же задушил Лилию Дей?
Спутники боялись встретиться взглядами.
28.
Когда после страшного потрясения вернулась ясность мысли, каждый из охотников за богатством думал об одном: Дей нашла сокровища Джарда. Дей была в Ожерелье. Ожерелье Джарда подсказало ей путь.
Поздним вечером они решили хорошенько отдохнуть за ночь, оправиться от всех переживаний, а утром выступить в поход. Засыпая, Алиса страшилась, что мужчины будут настаивать на том, чтобы она надела Ожерелье и, подобно Ариадне, повела их. Надеть только что снятое с убитой Ожерелье — при этой мысли Алису передергивала нервическая судорога.
— В конце концов, — на ночь глядя успокоительно пробормотал Двин, — нельзя отрицать такой возможности, что где-то в дебрях бродят аборигены — а почему нет?
— Но мы ни разу никого не заметили! — со злобой бросил Мол.
— Дорогой мой, так на то они и местные жители, чтобы умело маскироваться, не показываться на глаза пришельцам!
— А что? Возможно… — Алиса словно ухватилась за успокоительную версию: а как иначе? иначе не уснешь. Если постоянно думать о том, что убийца, способный повторить все, лежит поодаль от тебя, — не уснешь.
Мол саркастически крякнул. Алиса вздохнула. Двин засопел.
29.
Среди ночи Алиса проснулась, будто кто-то толкнул ее в плечо. Ей предстала довольно неприятная сцена. Метрах в двадцати от ее спальника на корточках сидели мужчины и перешептывались. При слабом свете фонарика в их руках посверкивали камни изириса.
“Сговор!” — мелькнуло в голове у Алисы. Надо сказать, что подобная сценка не понравилась бы ей и раньше, а уж теперь, при тяжко складывающихся обстоятельствах — и подавно…
Между тем мысль Алисы работала не с ночной, а с поистине утренней ясностью. “Слу-у-ушай, дорогуша: а если они заранее сговорились и решили устранить женщин? Тогда сокровища — на двоих. Вернувшись же в Нивелию, так легко оправдаться: путь тяжкий, а женщины: сами знаете, так неосмотрительны, так любопытны: одна, мол, утонула, другая брякнулась с утеса, к примеру…” Цепенея от страха, Алиса прислушивалась. До нее долетали лишь обрывки фраз.
— …вспомнила… …возвращалась…
— …конечно… поджидала… ориентируется…
— … почему-то от меня…
— резонно… а потом… напала…
Сначала Алисе не удавалось выудить смысл из разрозненных слов, но затем, в один прекрасный миг (хотя, честно говоря, далеко не прекрасный!) отрывистые нашептывания вдруг приобрели совершенно четкие очертания.
Догадавшись обо всем, Алиса чуть не вскрикнула в голос. Сомнений не оставалось — они подозревали ее, Алису! Они шептались о том, что она, Алиса, якобы выследила Лилию, а затем напала на нее в тоннеле. Именно поэтому якобы она и сбежала от Мола, а потом — совершив убийство! — вызвала их на место происшествия и вела себя как ни в чем не бывало.
Она — убийца?!
Задохнувшись от обиды и негодования, Алиса хотела вскочить и крикнуть: “Эй вы, подлецы! Я не убивала!” Но инстинкт самосохранения взял верх, и Алиса лежала притаившись. При таких хитросплетениях обстоятельств гораздо разумнее промолчать, хоть это и невыносимо, выяснить, каковы дальнейшие планы заговорщиков и тогда уже решать, как действовать дальше. Да, положение, как говорится, хуже адмиральского…
ЧАСТЬ VIII
НОВОЕ УБИЙСТВО?..
30.
Пробираться следом за двумя, вошедшими в сговор, — непростая задача. Слава богу, у Алисы уже накопился “пещерный опыт”. Приходилось держаться шагах в двадцати от них, но не более: иначе в этой полутьме можно упустить.
Надо же, придумали — саркастически усмехнулась Алиса — Мол напялил на себя женское украшение и, видимо, успешно — злилась Алиса. Камни изириса подсказывали своему бывшему мастеру дорогу. Лишь иногда он останавливался на перепутье в недоумении: направо, налево или вперед? Тогда Двин предлагал сделать привал. Получаса для памяти Мола оказывалось предостаточно, и подлая двойка вновь трогалась в путь. Алиса как нитка за иголкой — за ними.
Шли уже часов пять. За это время сделали четыре привала. Силы убывали — во всяком случае, у Алисы. Становилось все тяжелее дышать, и она боялась, как бы ее сопение не долетело до чутких ушей Двина. Пот заливал ее лицо. То и дело вытирая лоб платком, Алиса молила всевышнего: пусть сделают основательный привал, чтобы можно было прикорнуть с часок, иначе ей придется бросить все к чертовой матери и вернуться.
Алиса, конечно, не ожидала, какая чудовищная встряска уготована ей уже в ближайшие минуты…
Если бы она могла предвидеть, она бы с особым вниманием всматривалась вперед.
Но никому не дано предвидеть…
31.
Все произошло в какие-то мгновения. Страшно. Неожиданно. Непредсказуемо.
Вяло приподняв руку, чтобы в очередной раз отереть пот со лба, Алиса вздрогнула от дикого крика. Мол закричал, как смертельно раненный зверь.
Ошеломленная от испуга, Алиса взглянула вперед, а там… Блеснуло лезвие охотничьего ножа. Это Двин, идущий за Молом, пырнул его! Алиса закричала так страшно, как сам застигнутый врасплох Мол.
С поразительной быстротой и ясностью в ее голове созрело понимание: Двин — преступник. С виду такой вальяжный и мягкий — убийца на самом деле. Он выследил и задушил Лилию. Не зная сейчас, что Алиса тащится за ними, он пырнул Мола, считая, что до сокровищ уже рукой подать. Двин — преступник. А не она, как решил несчастный, доверчивый Мол…
Делать нечего — она уже выдала себя криком. Теперь предстоит поединок с мощным Двином. Это ее конец.
Из состояния оцепенения ее вывело странное замешательство впереди.
— Алис! Помоги! — крикнул Двин, как будто вовсе не совершал покушения на убийство. Отряхнув страх, Алиса с новыми силами подскочила к нему.
Удивительная картина предстала перед ней. На шее тяжело дышавшего Мола было рассечено Ожерелье Джарда.
— Оно душило меня… — прохрипел Мол.
32.
О! Это был удивительный привал!..
Мало того, что все трое ели бутерброды и потягивали сок в закутке, затерянном где-то в середине пещер Джарда! Мало того, что минуты назад произошло настоящее открытие! Самое главное — воцарилась прежняя атмосфера взаимного доверия, подозрения спали ненужной пеленой.
— …Я понял все в этот трагический миг, когда петля захлестнула горло, — продолжал свой рассказ Мол. На его шее алела рана от острого охотничьего ножа, которым так вовремя воспользовался, казалось бы, неповоротливый Двин, надрезав всего один ремешок. — Ожерелье джарда обладает удивительной способностью сжиматься и разжиматься через определенные промежутки времени…
— Примерно через пять-семь часов, — вставил Двин.
— Представляете?! — в тоне Мола просквозило восхищение. — Ожерелье со своим биологическим ритмом!..
— Собой восторгаешься? — съехидничала уже оправившаяся от потрясений Алиса. — Ведь это ты изготовил его тогда.
— Ничего я не восторгаюсь! — возмутился Мол. — Наоборот, я удивляюсь коварству прежнего Мола! — совершенно чистосердечно продолжал он: — Ведь мастер подарил Ожерелье Джарда жене фараона! Соображаете?! Хотел убить таким иезуитским способом ни в чем не повинную женщину!
— …А убил рабыню, — подхватила Алиса и добавила хрипло: — То бишь меня.
— Как это?! — не понял Двин.
— Очень просто! — Алиса пожала плечами. — Жена фараона передала ожерелье своей рабыне: ей хотелось, чтобы частица юной энергии вселилась в драгоценность и таким странным способом вошла в нее, стареющую — все суеверия, суеверия!.. Так мастер, сам того не желая, расправился не с женой фараона, а с… — Алиса чуть не брякнула: “с любимою”, но вовремя спохватилась и прикусила язык. Мол понял, но тактично промолчал.
— Извините за бестактность, а чем же ему так допекла жена фараона? — поинтересовался Двин. Алиса уклончиво промолчала, а Мол тихо, как бы извиняясь, пояснил:
— Допекла своей сумасшедшей любовью.
— Что ж, и такое бывает, — вздохнул Двин. Алиса еле удержалась, чтобы не хихикнуть. Мол опустил глаза. Сочный, красный порез на его шее, подсвеченный фонариком, выглядел зловеще.
— Слушай, надо бы еще раз йодом обработать, — предложила Алиса.
— Десять раз обрабатывать царапину?! — возмутился Мол. — Не переживай, на мне все как на собаке заживает.
— Но Ожерелье теперь надену я, — благородно заявил Двин, — иначе тебе так натрет рану — завоешь.
— Дви-и-ин, — мягко вступила Алиса. — И какой же прок с того, что ты наденешь Ожерелье? Ты вспоминаешь лишь по звукам, поверь мне. Лучше всех вспомню дорогу я, если… Если надену его.
Прекрасно осознавая, что на воображение Алисы сейчас ложится двойной груз: в прошлой жизни ее задушило это коварное ожерелье, полчаса назад Ожерелье совершило попытку убийства уже сейчас: в современной жизни — мужчины хотели избавить Алису от страшной ноши. Но Алиса, отринувшая страх (”Сокровище Джарда — не для трусов”) — была непреклонна.
Ожерелье в прошлой жизни было передано ей.
Ей самой и идти с ним. Навстречу Сокровищам.
— Алис! Знай: я постоянно начеку. Буду страховать, — надежно предупредил Двин.
— И я тоже, — подхватил Мол. — Если оно надумает дурить.
— Пустое! — с показной беспечностью откликнулась Алиса. — Поверьте: ему не удастся меня задушить… вторично.
ЧАСТЬ IX
ПРОЩАЙ!..
33.
После середины пути наступил своеобразный перелом. Это были уже не прежние душные, темные ходы нудного лабиринта — это была целая страна, подземная страна, где своды становились все выше, проходы — все шире, где дышалось все вольнее и вольнее. На пути встречались миниатюрные водопады, радующие глаз многоцветьем брызг. На пути попадались ручьи, которые удавалось просто перешагивать, но уже встречались и реки, которые пока удавалось переходить вброд.
Отрадно было душам путешественников, не знавших такой экзотики в этой, современной жизни. Легкими крыльями касались их воспоминания. “Что-то приятное было связано с этим утесом”,— подсказывало сердце Алисе, и в воображении проплывали синие глаза. Странно, но она не могла ясно вспомнить облик своего прошлого возлюбленного — Алхимика… Только ощущение: нежность словно гладила сердце своей мягкой ладонью.
Все бы хорошо, но… Мол терял силы. Через несколько часов после ранения рана загноилась. Вскоре поднялась температура.
В уютном месте, на берегу подземного ручья, сделали привал. Не чувствуя прохлады, Мол сгорал от внутреннего жара.
— …Мне уже не увидеть Зал Изириса… — прошептал он сухими губами с такой уверенностью, что Алиса чуть не зарыдала, но сдержалась и даже сумела спросить, подпустив бодрости в тон:
— Ты вспомнил, Мол?! Ты вспомнил Зал Изириса? Значит, все будет в порядке!
Усмехнувшись, Мол попросил: — Поклонись от меня Залу Изириса.
— Брось, Мол! — довольно резко оборвал его Двин, не желая принимать трагичность случившегося. — Кому как не тебе, мастеру, дойти до Зала Изириса и увидеть свои творения! Вот восстановишься часов за пять-шесть и — двинем!
— Вы — двинете, — упрямился больной. — Следи за Ожерельем, Двин. Я завещаю тебе заботу об Алисе. Следи за ним, обещаешь?
— О чем речь! Только мы пойдем все…
— …Не думайте, я ни о чем не жалею. Искренно. Я был счастлив в этот походе. Я умираю счастливым…
Алиса заплакала. Двин, зажав ладонями уши, начал раскачиваться из стороны в сторону.
— …Это только кажется, что мы охотились за сокровищами, — из последних сил, уже в полузабытьи, шептал бывший мастер. — Неправда… Мы шли на свою бывшую родину… Мы любили ее… Мы были счастливы… Но мы не поняли, что это сокровища охотились за нами…
Смачивая его сухие губы, Алиса внимала последним словам Мола: —…Похороните вместе с Лили… Я раскаиваюсь в том, что тогда замышлял убить ее. За это Ожерелье отомстило мне, пусть по-другому, всего лишь заражением крови, но — справедливо. Я умираю из-за своего коварства… двухтысячелетней давности. — Он сумел даже улыбнуться. Он был мужественным человеком. Алиса недооценила его: и тогда, и теперь. Язык стал непослушным. Двину и Алисе пришлось приникнуть к его лицу, чтобы разобрать самые последние слова: — Прости, Лили… Прощайте.
Ранее державший себя в руках Двин вдруг завыл и, уронив свою голову на мертвое тело, прохрипел: — Прощай!..
34.
— …Ожерелье Джарда убило уже двоих, — приглушенно говорил Двин. — Я не хочу драматизировать, Алис, но сейчас Ожерелье на тебе. Прошу тебя: как только ты почувствуешь неладное, сразу скажи, или дай знать жестом, или…
— Хорошо-хорошо, Двин, о чем речь, я не маленькая, успокойся ради бога, — увещевала Алиса, чувствуя, что Двин практически вошел в состояние депрессии, и его надо поддержать. — Лили и Мол завещали нам найти сокровища. И мы найдем их, Двин.
— Да, разумеется, — прохрипел он, и судорога улыбки исказила его лицо, когда он добавил Алисину присказку: — А ведь они — не для трусов.
ЧАСТЬ X
ДЖА! ДЖА…
35.
Они шли и шли. Делали привалы. И опять шли. Перепрыгивали через ручьи. Обходили обвалы. Переплывали реки. За все время пути Алиса так и не встретила “Волчьей ягоды”, а, впрочем, четки были теперь уже не нужны — Ожерелье Джарда оказалось хорошим проводником: интуиция подсказывала Алисе, куда держать путь.
Перед тем, как сделать тот дивный — трагический! — поворот, перед тем, как обогнуть последний утес, сердце дрогнуло — подсказало Алисе: пришли.
Они завернули за угол и…
Чудное зрелище предстало их взору — длинный тоннель, выложенный камнями изириса, тоннель, ведущий в зал этого камня. А там, вдали, в Зале — пиршество соцветий бриллиантов и золота, искристые потоки, как у водопада Джарда…
Только когда они подходили к концу тоннеля, Двин смог выдохнуть победное: — Мы у цели!
Но как только он произнес эти заветные слова…
Страшнее того, что произошло после фразы Двина, Алиса никогда не видела в своей жизни. Чудовищный, нелепый сон — сказала бы она, но это было трагической явью.
В мгновение ока из Зала Изириса выскочил страж — огромный стремительный джард. Одним прыжком он подмял под себя Двина. Последнее, что увидела Алиса перед обмороком, была яркая, алая кровь…
Когда Алиса очнулась, то с ужасом увидела, что джард, неподвижный, но готовый к прыжку, стоит поодаль и не сводит с нее хищных глаз. Стоило Алисе пошевелить пальцем, как он сразу угрожающе зарычал. Значит, она обречена на неподвижность. Между тем, почувствовала Алиса, биоритм кожи джарда диктует ожерелью свою волю — и Ожерелье медленно сжимается у нее на горле.
Да, с горькой иронией подумала она, — кто бы мог предположить, что невинная мистификация закончится такой трагедией. Так или иначе всех их убил джард. Вот он стоит неподалеку, стережет свою последнюю жертву — и эта жертва — она. Именно ей на долю выпала самая страшная смерть, независимо от того, кинется ли на нее животное или сомкнется на шее предательское кольцо…
Алиса повела взглядом и вдруг… В стороне увидела четки “Волчья ягода”, никому не нужные теперь. Усмехаясь, повела взгляд дальше и сразу же впала в беспамятство, узрев труп Двина.
Очнулась вновь — “Господь не дает смерти!..” — от оклика.
— Джа! Джа!.. — звал кто-то приятным голосом. Или ей почудилось?.. Нет.
— Джа! Джа…
Высокий человек в светлом длинном хитоне, с медовыми волосами, успокаивал джарда.
“А ведь это и вправду Джа, — вспомнила Алиса о некогда любимом звере, — Джа…”
Будто почувствовав, что она пришла в себя, человек обернулся. Доброе выражение лица, синие глаза — Алхимик!
Мягко приблизившись к ней, он склонился, погладил ее по щеке и спросил:
— Ты очень испугалась, Алис? Не бойся, я с тобой.
Алиса ошеломленно распахнула глаза, не понимая: где она? что с ней? и в каком она тысячелетии?..
ЗАПАДНЯ XX ВЕКА
Роман
Романтический детектив
…Они поманили Лисия нездешней гармонией.
Силы земли и неба воплощались в них. Забытые гроты сочетались с отвесными скалами, по граням которых проскальзывали ввысь легкокрылые башни, улетали золотые иглы шпилей. И все эти причуды давнего мастера обрамляли одну-единственную, но несказанную по мощи стихию — Время. Его драгоценное Величество было заключено в радужном стеклянном шаре, где зависли синие мошки цифр и вздрагивали нервные паутинки стрелок циферблата.
Часы заветной старины выставлялись как приманка для дуры-публики перед аукционом, который простучит дробным молотком в ближайшее воскресенье.
Когда по утрам Лисий плелся в скучную, пыльную до удушья, до астмы контору, часы-замок поднимались древним миражом за хаосом стеклянных дверей и витрин, играющих утренними бликами и стремительными, пролетными отражениями свежих красок и жестов нивельцев.
По официальным бумагам и по жизни Лисий Тучков значился и пребывал рядовым гражданином Нивелии — страны, которая… раньше всех… выше многих… дальше некоторых…
Возвращаясь домой, когда солнце краснело от натуги и осознания бессмысленности еще одного дня, Лисий чувствовал себя гремучим змеем, чье вымороченное набрякшее тело нескончаемо тащится по мягкому асфальту. Судьбой отпускалась ему поистине титаническая усталость, такую не грех испытать и министру, но вот жалованье разнилось от министерского также, как отличается поместительный кошель титана от мизерного кошелька пигмея.
Те цены, что дыбились на табличках аукционных вещей, располагали Лисия к бредовым мыслям: уж не окурил ли кто зловещий салон магазина опиумом или гашишем? — рядовой гражданин Нивелии был не силен в наркотиках, он их никогда не видел, как не видел и: Средиземного моря, джунглей, не фальшивого жемчуга, Парижа, колибри, натурального без вытяжки кофе, Мирей Матье живьем — да мало ли чего еще не видел и не нюхал “средний нивелец”. Если бы ему сказали, что ананасы растут прямо из земли, подобно кочанам капусты, он бы высмеял невежду — Лисию грезились ананасовые рощи, из чего вы можете заключить, что и в ананасах он силен не был. Мощь его воображения и сила разума находили применение в другом — в умении распределить свои доходы так, чтобы выкроить к ужину два пучка майской редиски, или изловчиться на килограмм болгарских помидоров, или отжулить у финансового рока пятерку на посещение видео-салона — с безалкогольным коктейлем, целомудренными страстями и сбивчивым синхронным переводом, из которого при желании все-таки можно, не спорьте, извлечь хотя бы приблизительную нить сюжета. Английского, французского, а также испанского, хинди и японского Лисий не знал: его взращивали для Нивелии, а не для каких-то там… всяких там чужедальних берегов.
Предначертанность исконной нивельской судьбы оправдывалась: Лисий за свои сорок три года никуда “за пределы” и не выезжал. Вот только однажды почти случайно — при трагическом стечении обстоятельств — его послали на самый юг Нивелии — но об этом надо вспоминать без спешки, задумчиво, изредка вздыхая и потягивая из бокала терпкую настойку. Тогда, в те две недели, он был сильным. Тогда он был стоиком. Прошлой осенью. А сейчас, заразившись конторской сонливостью, одурев от едкой пыли, съежившись от мизерного жалованья, вновь стал амебой, вновь превратился в расплывчатое нечто — оно.
Уже не Лисий Тучков остановился у стеклянных дверей художественного магазина, а разбухшее безвольное существо, эдакое Лисие Тучково, которое захватным взглядом втягивало в себя праздничный храм времени, громоздившийся на специальной мореного дуба подставке за прилавком.
Имитированная давним мастером скала напомнила Лисию то единственное место в Нивелии, где он был сильным, где был он несгибаемым и… нежным.
С этим воспоминанием тяжко жилось: с ним не совмещались затхлая контора, учитывание каждого гроша, привычка к вечным унижениям; Лисий умертвлял воспоминание, а оно, воспользовавшись любым пустяком, воскрешало самое себя, живыми яркими красками воссоздав Пещеру Волхвов.
— … Шепните — и мы услышим вас, — тихо упрямо повторяли спасатели в микрофоны. Готовый спуститься в расселину — лишь бы донесся шепот — вместе со всеми ждал подземных шорохов Лисий.
Он приехал сюда на второй день после того, как в Вопле Демона — вдыбленном природой южном районе Нивелии — взбунтовались горы. Страшен и человеческий бунт, но бунт гор с гибельными обвалами, раскаленными лавами, с запредельной сатанинской беспощадностью — смертелен.
— … Соберите остатки сил, и шепните, — заклинали спасатели израненную Пещеру Волхвов, в переходах которой, между рухнувшими глыбами, в трещинах, томились, страдали, ждали помощи и умирали люди, пустившиеся в беспечный вояж, чтобы восхититься ожерельем сталактитов; прервавшие вояж, чтобы, испив по-древнему дикую чашу страданий, умереть в чреве земли.
Если бы кто-то из них сумел выдавить хоть один слог — Лисий, в юности баловавшийся альпинизмом, был готов ринуться на зов: перед спасателями лежала карта Вопля Демона, на которую быстрой рукой нанесли раны гор, а пунктиром прострелили возможные маршруты помощи, человечьей помощи тем, кого земля удерживала в своем чреве.
… Сообщили: там были туристы с Ликуй-острова, — сказал старший, и в воображении Лисия прокрутился радужный диск: далекий, кажется, тропический остров с ребячьим призывом в названии — Ликуй! — ананасовые рощи, маслиновые, легкие веранды с бамбуковыми занавесками, где сухие фаланги бамбука, перешептываясь… Зашуршало, будто шорох бамбука донесся с Ликуй-острова. И спустя месяцы Лисий не мог избавиться от бредовой мысли, что это он, своим лихорадочно-ярким видением островного уголка, магически притянул тот шепот. Замерев, старший победным жестом вскинул вверх руку: слушайте все! в Пещере Волхвов — жизнь. В оцепенении надежды спасатели смаковали шорох, заклиная его: продлись, продлись словом, слогом, если не сможешь — хотя бы звуком.
Из незнакомых теперь, загадочных израненных глубин пробилась тень детского — женского? — голоса.
— … ан-да… — Или “ам-ба”?
Ждали. Приемные устройства засекли квадрат. Старший прочертил по карте маршрут — Лисий кивнул: в расселину на поясе, там — через боковой лаз. Ждали три полновесных секунды — шепот не повторился.
— Ребенок, — сдавленным больным голосом сказал пожилой спасатель. — Играют когда в казаки-разбойники, амба — значит конец…
Лисий глянул. Последнее, что увидел он на поверхности, — седину пожилого. Скользнув в расселину, Лисий уносил это впечатление — дымчатое пятно седины, теплоту слов старика о детских играх.
— С богом! — донеслось сверху: старший сулил ему могущественного попутчика, недра пещеры сулили неизвестность.
Пронырнув через боковой лаз в подземелье, Лисий начал тягаться в сноровке и упрямстве со всей Пещерой, что после трагедии превратилась в ад с ухищрениями каменных головоломок, с неожиданными гильотинами сталактитовых лезвий, с кипящими котлами усталой лавы. “Еще не амба, парень,” — шептал Лисий, пробиваясь к благородному квадрату земли, сохранившему жизнь “воробышку”. По логике последнего наземного впечатления детской игры в “казаки-разбойники” Лисий призывал непроходимые обвалы расступиться перед ним; раза два возмечтал обратиться в птицу, чтобы пролететь под сводом, раза три — в крота, дабы протянуться в нечеловечески узкую лазейку — эти уловки взбадривали его, заставляли его иронизировать над своей слабостью и тем самым приводили к мелким, по шажочку, победам, венцом которых явился заветный угол Пещеры Волхвов. Когда до “мальчишки с амбой” оставалось шагов пять — не земных, размашистых, а подстерегаемых подземным коварством, выверенных, скованных — Лисий дал себе зарок: если не накроет здесь, не раздавит вместе с мальчишкой, если вытащу его — усыновлю, перед богом клянусь — усыновлю; Вопль Демона перетряхнуло так, что родственников у него наверняка не осталось — усыновлю! жена с дочерью, конечно, будут против: нас прокормить не можешь, а туда же… А пошли они обе в задницу! — усыновлю парня.
Измываясь над Лисием, неуклюжим презренным земным червем, Пещера Волхвов вместе с тем начинала оценивать его бычье упорство, нахрап, и уже расплачивалась с ним золотом опыта, придав ему дар звериного чутья: спасатель проскальзывал через гибельное место за пол-секунды до нового обвала, вжимался в стену наскальным рисунком, а потом вновь фанатично полз вперед.
Чутье, дарованное ему Пещерой, подсказало: здесь! — когда он увидел подобие маленького грота, образованного одичалыми камнями. Успокоившись после ярости бунта, остыв, валуны и сколы пещерных стен сложились в мирный грот с неопасным, будто отшлифованным, лазом, куда мог протиснуться Лисий, вдруг оторопевший в конце сатанинского пути: а если он полз к неживому?.. Вползать в “грот”, но очутиться в склепе, рядом с мертвым?..
…После секундной заминки ринулся туда…
Внутри грота лежала… женщина… Небольшая, худая — скудненькая, как сразу нарек ее Лисий. “Почему в длинном платье?” — поразился он. Ровный мерцающий круг света от фонарика выявил — брюки. На свет она приоткрыла глаза, в которых стояла дымка.
— Вы видите меня? — спросил он, не задумываясь над содержанием вопроса: важно было утвердить в этой звериной по степени одичалости Пещере присутствие второго человека, возвестить: к первому, израненному, изнуренному, наконец-таки дошел второй, сильный, принесший избавление.
Женщина не ответила — отсветы конца мира, свидетелем чего она явилась, еще довлели ей, вплетаясь в полубредовые, полупамятные видения. Дымка стелилась над женщиной, над недавним демоническим прошлым Пещеры Волхвов. Ее бред, который часы назад стервенился гибельной явью, излучал энергию такой силы, что Лисий на минуту вместе с ней оказался в гибельном сгустке стихии: горели камни, дымились и рушились своды, погребая под собой грезы, надежды, упования. Вместе со скудненькой они заново перестрадали минуту апокалипсиса…
Кровавый бунт стихии выдохся. Притихла Пещера Волхвов, прислушиваясь к себе: жива?..
Отгремел рокот, погасли огни, истаяли дымы…
А в этом углу Пещеры камни даже успели притвориться эдакими миролюбивыми существами, которые ласково жмутся друг к другу, привнося в мир покой, тишину, благоденствие, умащивая собой нору для живого человека, создавая каменное, но уютное ложе для этой страдающей женщины, в чьих глазах так и будет теперь клубиться дымка, загадочная для наивных, не прошедших сквозь ад.
Наверное, она была контужена, а, может статься, просто не могла выйти к Лисию из недавнего прошлого, отмеченного трагедией поистине античной грандиозности, — во всяком случае, скудненькая ни жестом, ни мимикой не отозвалась на приближение спасителя. Пожалуй, только дымка дрогнула в ее глазах, когда Лисий присел на край ее каменного ложа. Вложив непосильную задачу — вытянуть ее из воронки полузабытья — в обыденные действия, он отстегнул от набедренного пояса флягу с терпкой витаминной настойкой, отвинтил крышку, обнажив предусмотрительно заготовленное подобие соски для младенца, и с несвойственной ему аккуратностью, даже бережностью вложил соску в приоткрытый рот скудненькой. Шершавые сморщенные губы жадно обхватили подношение — влага пришлась кстати. Наблюдая за подопечной с заботливостью няньки, Лисий почувствовал, что вместе с настойкой в женщину медленно, но цепко, капля за каплей, вливаются свежие силы, пока ничтожные, воробьиные, но — силы; поэтому, когда она захотела вытолкнуть соску языком, он не дал: даже если он совершал насилие, то во благо. После кормления с мягкой ретивостью сиделки Лисий быстро оценил ее самочувствие: странное потустороннее состояние вызвал, очевидно, нервный шок или что-то вроде этого — Лисий не силен был в медицине. Кроме контузии или шока его обеспокоила левая рука с небольшой раной, из которой сочилась кровь. Когда Лисий разрезал рукав и залил рану йодом, скудненькая охнула. Он поморщился от сочувствия, но посчитал вздох добрым предзнаменованием: подопечная обретала реакции живого человека, выкручиваясь из темной смутной воронки забытья. Подмигнув ей, Лисий шепнул, скорее всего для себя:
— Ну что, еще не амба? И я говорю: не амба, выкрутимся!.. — Пока забинтовывал рану, не заметил, как она ожила. Очнулся, когда на него порывисто наплыло:
— Ан-да…
Вскинулся:
— Что?..
Под его радостным взглядом рассеялась дымка, обнажив ее медные, с кошачьей рыжиной, глаза.
— Анда, — повторила спасенная, и Лисий вдруг с легким сердцем понял, что это никакая не “амба”, означающая крайнюю степень отчаяния, понял, что скудненькая настаивает не на жаргонном слове, а на своем имени.
— Ты — Анда?
Ее прозрачное лицо продернулось гримасой слабой улыбки.
— Да…
По краткому “да” он еще не уловил, что…
— Я — Лисий.
— Лись-ий.
Отметив про себя странную заминку, допущенную ею в имени, он свалил это на контузию. И только когда Анда прошептала:
— Лыцарь, — вместо “рыцарь”, наконец, понял, что ее речь отягощает — или украшает — несильный, не всегда заметный акцент. Нельзя сказать, чтобы “лыцарь” очень уж польстил ему, но стало приятно. Лисий даже удивился: такая наивность и — тепло. В замешательстве спросил:
— Ты — иностранка?
— Нет, — заупрямилась Анда.
— Нет так нет, — с готовностью согласился он, как соглашаются со всем у ложа тяжелобольного: лишь бы не дергался. — Хочешь еще настойки?
Мизинец Анды уже гулял по его набедренному поясу с целым арсеналом спасительных средств: кроме фляги, в его ячейках нашли себе приют охотничий нож, шнур, запасной фонарь (основной Лисий удачно вставил между валунами); на металлическом кольце был закреплен брелок спасателя — металлическая бляха с выгравированным именем — на всякий пожарный, от греха, ведь в разрушенной Пещере не на проспекте, всякое может стрястись, по брелку потом можно опознать… Последний привлек Анду как яркая игрушка ребенка. Женщина погладила брелок, попыталась отстегнуть слабыми пальцами, а когда не удалось, попросила жалобно:
— Дай мне.
Отстегивать брелок запрещалось по правилам безопасности, но что значили эти сомнительные правила в сравнении с Пещерой, с катастрофой, наконец, в сравнении с подземными испытаниями Анды, прошедшей здесь, за несколько часов огонь, вываренной здесь в трех щелоках — что значил запрет в месте, где природа не оставила для себя никаких запретов?
Разжав металлическое кольцо, Лисий снял брелок и вложил его в ладонь Анды.
— Спасибо, Ий, — она поцеловала брелок. Шокированный сентиментальным проявлением чувств, он поправил пояс, тронул нож, укрепил флягу. Заметив, что суетится, разозлился на себя: в конце концов, что особенного в том, что истерзанная, раненая и, видимо, чересчур эмоциональная — до экспансивности — женщина благодарит спасателя пусть таким непривычным для него образом? Куда хуже было бы, если бы полезла целовать руку — не приведи господи.
— Спасибо, Ий, — повторила она, положив ему на грудь ладонь, как раз в том месте, где была расстегнула рубашка.
— Как ты сказала: Ий? — попытался он увильнуть от того впечатления, которое произвело на него это незначительное, казалось бы, прикосновение.
— Ий, — повторила Анда.
Ее мизинец юркнул между створок рубашки и ласковым ужом пополз по его груди. Пресекая опасную вылазку мизинца, Лисий заключил ее прыткую ладонь в свою и сказал отечески-наставительно:
— Надо нам решать, Анда, когда выбираться отсюда. Пока, думаю, рано.
— Рано, — смиренно подтвердила она, вздохнув для пущей важности, но из-под полуприкрытых век, оттуда, где плавилась медь, вдруг вылетела искра и прожгла ему щеку. Лисий вздрогнул. Анда поежилась. Подумал: умеет сконцентрировать энергию, что ли? Шутка йога? — черт бы ее побрал! Уже следующая реплика Анды убедила его: спасенная и в самом деле кое-что умеет. Конечно, это было простым совпадением, но его смутная догадка о наваждениях и еще черти какой чепухе неожиданно воплотилась в ее вопросе:
— Здесь жили волхвы… раньше?
— В сказках они жили-поживали, — с суровым практицизмом ответил Лисий: пусть выбросит из своей головы, замороченной бредом, всякую дурь. Видимо, его невысказанное желание было принято Андой, потому что она начала отрешенно рассматривать фантастические своды. Вдруг страшная догадка смяла ее, и Анда прошептала:
— Здесь теперь… огромная могила…
Вновь ощутив себя спасателем, Лисий приказал ей:
— Вето!.. На эту тему я накладываю табу, все.
— На все запретные темы табу не наложишь, Ий, — многозначительно подсказала Анда, но, повинуясь воле спасителя, ласково добавила:
— Но я согласна, Ий, согласна.
Только сейчас догадавшись, какую часть его имени она выбрала для себя, он отдал должное ее оригинальности:
— Друзья всегда усекали концовку, оставался “Лис”, а ты — наоборот: помиловала опальный последний слог.
— Я и в своем имени помиловала концовку.
— А как — полностью?
— Помпезно.
— Все-таки?
— Не скажу, — опять заупрямилась по-детски. Идя на поводу у ребячливых эмоций, вдруг капризно сообщила: — Анда проголодалась.
Прытко вернувшись к роли спасателя, Лисий отстегнул от пояса небольшой металлический контейнер, в котором бутерброды могли сохраниться пять суток. Пережевывая бутерброд с мягкой консервированной ветчиной, видимо, заново оценивая предпринятое Лисием во имя нее, спасенная раскаялась в своей строптивости и ласково возвестила миру, который воплощался для нее сейчас в этом темноволосом мужчине:
— Диаманда.
— Никогда не слышал такого имени. Диана — знаю.
— Она изящна?
— Кто?
— Эта Диана.
— Богиня Диана, наверное, изящна и ловка — с другой Дианой не посчастливилось познакомиться. Лисий спохватился: — Но “Диаманда” еще полнозвучнее.
Довольно уместная похвала ее имени польстила Анде, но все же она уточнила:
— Не показалось помпезным?
— Нет.
Почувствовав, что обсуждение ее имени затянулось, характеризует хозяйку с самой нежелательной стороны гипертрофированных амбиций, Анда поиграла брелоком.
— Ты профессиональный спасатель, Ий?
— Сомневаешься в том, в надежных ли ты руках? — Лисий выпалил это машинально, но Анда воспользовалась его оплошностью с плутовским проворством, уточнив:
— А разве я — в твоих руках? — причем, сумела вложить в вопрос такой подтекст, что Лисий стушевался. Благо, раздражение всегда действовало на него как сила собирательная, поэтому, еще раз проверив свою экипировку, посоветовал ей тоном отца-наставника:
— Поспи часок и — двинем.
— Уснешь здесь — так холодно, — проскулила Анда, вовсе ничего плохого не подразумевая, но он вдруг взбесился:
— Мне надоели твои скабрезные намеки! — выпалив обвинение, так прянул головой, что ударился о каменный свод “грота”, и застонал. Далекая от мстительности, Анда сморщилась в сочувственной гримасе, посетовала:
— Больно…
Застыдившись истеричного всплеска, Лисий объяснил:
— Куртку пришлось сбросить, был очень узкий лаз. Хлебни еще настойки — согреешься и быстрее уснешь.
Обрадовавшись, что не поссорились, Анда предложила:
— А давай вместе выпьем. За успех нашего избавления! Как это у вас говорится — на посошок!
“У вас, — отметил про себя Лисий. — Точно нездешняя.” Мысль о посошке пришлась ему по душе. Более того, если говорить честно, он восхищался жизнестойкостью Диаманды. На его глазах происходила сказочная — а он отвык от сказок — метаморфоза: в сыром холодном подземелье, страшном своей трагической памятью, маленькое существо — а Лисий воспринимал это существо как частичку недавней трагедии — превращалось из потерянного жалкого комочка, в котором еле удерживалась живая душа, в бодрое веселое создание. Так уж случилось, что именно здесь, в неприютной пещере, ему выпало наблюдать триумф извечного женского начала: способная творить новую жизнь сейчас как бы заново рождала самое себя.
“Откуда такая жизнестойкость?” — недоумевая, разве что не спросил вслух Лисий — спасатель, рискующий остаться без работы, ведь титаническое дело спасения, возвращения себя к жизни забрала в свои руки спасаемая. Страх показаться неделикатным уберег его от нетактичного вопроса, но, как это часто бывает в маленьком замкнутом помещении, вопрос словно завис в воздухе. Уловив его, Анда вроде бы безадресно прошептала, на самом деле — ответила Лисию:
— Бог дает силы.
Окаянный безбожник Лисий усмехнулся: если под богом понимать изначальное, женское, вечное — тогда да. Приподняв слабую еще руку с жестяным стаканчиком, Анда хотела произнести тост, но…
О чем намеревалась сказать, слегка коверкая речь забавным акцентом, эта полутаинственная женщина, свалившаяся на него с небес, вернее, до последней капли сил ожидавшая его в преисподней?.. Об их украденной у судьбы невероятной встрече? О грядущем избавлении?
…Но своды Пещеры судорожно качнулись, и убогий жестяной стакан встречи выпал из ее руки, да и сама рука опала, как подрубленная ветвь. В тот же миг с предательским злорадством к ее глазам метнулась дымка катастрофы и застыла там, но ненадолго, потому что через несколько секунд была погребена тяжелыми смертельно уставшими веками.
Диаманда впала в забытье. Лисий рванулся к ней, еще не осознавая происходящего вокруг. Все многообразие мира, жестокого порой, было для него сейчас темной пустотой, в которой пламенем свечи горело одно пятнышко — тонкое прозрачное лицо Анды. “Я сглазил, я сглазил,”— приговаривал несуеверный Лисий, для которого раньше — ни бога ни черта.
Поймав себя на беспомощных причитаниях древней бабки, умолк. И тогда в тишину властно вступил новый гулкий звук — рокот взбудораженных каменных пластов. Пещера Волхвов вздрогнула от тягостных воспоминаний.
Если бы Анда пребывала в сознании, она подсказала бы несведущему в мистике Лисию, что это заметались по сырому подземелью призраки волхвов, сетуя, колдуя, прорицая…
Агония Пещеры длилась секунды, но что-то случилось со Временем, потому что секунды эти сделались объемными, наполнившись ужасом древних волхвов, осознанием Лисием утраты десятков жизней — и еще двух, нечеловеческим воплем протеста, который удушила едкая пыль руин.
Ошеломленному Лисию казалось, что перед ним, воочию, воплотился крах мира, не сумевшего прийти к своей гармонии, не нашедшего золотых пропорций в сочетании и противоборствах страстей…
Мир рухнул.
Когда рассеялась едкая пыль краха, Лисий увидел, что их лаз на волю — пуповина освобождения, упование на спасение — их лаз завален.
Сознание беспомощности раздавило Лисия. И он решил умереть. Он лежал на каменном ложе рядом с незнакомой по сути и самой близкой из всего мира женщиной — Андой — и призывал смерть, в любом обличье: будь то рухнувший свод или яростный столб огня — ему было все равно, если речь идет о стремительном конце, лишь бы не тягостное пустынное томление медленного ухода. Существовал и еще один способ ухода рывком — самоуничтожение, и Лисий воспользовался бы им, если бы не слабая свеча Андиной жизни, еще тлевшая рядом. Он не мог закончить свой путь предательством. Оставалось ждать милости судьбы — Лисий усмехнулся — садистской милости…
Итак, предстояло сгнить здесь, в волчьей яме, — это неостроумное открытие показалось Лисию истиной и он возился с ним, перелицовывая на разные лады в болезненном воображении, пока рядом не раздалось детское причмокивание: Анда втягивала воздух — просила пить или уже наслаждалась медовой влагой в солнечном “неземном” сне? Не стоило гадать, потому что вторая истина, главная, истина жизни, цепкой до самого конца, истина надежды открылась ему просто и зримо. И он начал заботиться об Анде, в истовости сиделки утопив горечь. Снял рубашку, скатал ее в подобие валика и долго устраивал валик в ее изголовье, все не находя самой удобной, на его взгляд, формы. Заметив, что сквозь повязку просочилась кровь, перебинтовал левую руку. Даже поправил камни в изножье. Но венцом его забот явилось кормление безжизненной Анды. Лисий не знал, можно ли это, когда человек в забытьи, поэтому проделывал все с величайшей осторожностью, следя за реакцией Анды, за соской, то и дело подправляя ее.
В конце концов ухищрения неуклюжей няньки повлекли за собой неожиданные результаты.
Кокон заботы, сплетенный им вокруг Анды, отогрел не только ее, но и Лисия заключил в свои объятия, неожиданно подарив ему совершенно новые, не знаемые ранее ощущения. Это было странно — бредово? — но Лисий вдруг почувствовал себя оригинальным человеческим существом, которое осилило сочетание, казалось бы, несовместимого, а именно: обладая явным мужским началом жесткости, силы, напора, вдруг приняло в свое лоно извечную женскую суть зарождения жизни.
С материнским упованием на милость природы он взглядывался в свое дитя — Анду — и просил неведомую вселенскую душу: дай ей жизни… дай ей еще жизни, немного, чуть-чуть… Лисия не смущало противоречие, которое обязательно томило бы, будь он в нормальном состоянии: зачем же силиться выжить, чтобы через час-другой все равно умереть и, возможно, непредсказуемой мучительной смертью?..
Впервые в жизни его вдруг отпустили сомнения, покой положил свою теплую руку на его душу, и Лисий с радостью решил — пусть она потеряет со мной последние силы и умрет, не поняв смерти. Лисий поцеловал Анду, и она приоткрыла глаза.
— Усни, — попросил он.
— Анда проснулась, — заупрямилась она.
— Усни.
— Нет… Я люблю тебя, Ий.
Тени волхвов заскользили по Пещере, сужая свой круг, сердцевиной которого было каменное ложе с двумя подземными гостями. Втянувшись в их колдовское кружение, Лисий и впрямь почувствовал себя неземным сказочным Ием — чародеем, способным магически убаюкать Анду — для забытья, для нового счастья. Зная пульс каждого камня этой Пещеры, этого грота, хозяева владений не стали скупиться и наконец раскрыли тайну: влажные своды, сумрачные валуны — лишь оболочка, обманчивая своей угрюмостью скорлупа, под которой пульсирует живая душа. Выстрадав катастрофу, прожив испуг, волхвы с небывалой нежностью к двум гостям — мужчине и женщине — обнажили трепетный пульс теплого измученного существа — Пещеры.
Пещера Волхвов баюкала Лисия, вернее — Ия, Ий убаюкивал Анду. Смутно повинуясь колдовскому ритму, ощутив его как ритм огромной Земли, Анда прошептала в полубредовом наитии:
— …Земля должна родить нас…
Ощутив себя с Лисием двуединым существом, Анда смутно поняла, что наконец-то гармония достигнута, что ее метания по жизни не были напрасны, они несли ее сюда, для соединения с Ием — второй, равной, столь же важной частицей ее самой. На несколько мгновений угодив в волны вселенского ритма, Анда поняла главное, и теперь нельзя было это главное утерять. Пусть в полубреду, но Анда увидела, познала, что Земля — странно, необъяснимо — хранит сейчас в своем чреве гармоничное существо, которое должна выродить, выпустить в жизнь, иначе — катастрофа, иначе там, на поверхности — погибнут, задавят друг друга, задохнутся от жестокости.
Ей словно показали на туманном слайде: непостижимая по своим размерам утроба Земли, а в ней, под спудом вражды, нелепостей, под спудом надежд и ликований — дву-сердечное, дву-единое существо, в котором Анда узнала себя и Ия.
Если Земля умертвит это создание — тогда конец. Всему. Но Земля должна родить.
— … Должна выпустить… На дорогу…
Наконец к Анде пришел ритм дороги — Лисий улыбнулся — ритм, который задал он. К черту страдания. Он, Лисий, проложил ей дорогу — солнечную, в туманном мареве. И Анда приняла ее. Анда едет вместе с ним, он — в седле, он — с драгоценной ношей — Андой, на раскаленной от зноя и счастья дороге.
Ничего другого не надо.
— Лыцарь, — прошептала Анда, всей душой принимая сказку Ия: волшебного коня, покачивание в седле, томительную, но сладостную пыль их дороги…
Когда через какое-то время, неопределенное, Анда очнулась от полусна для яви, то все поняла сразу: дорога померкла, они по-прежнему в сыром угрюмом подземелье, никакая сила не вывела, не вытолкнула их наружу, никакая сила не предприняла столь важной для двоих замены подземной жизни на надземную. Видимо, сказалась цепкость Земли — понимала Анда — привыкшей захоранивать в себе тайны, клады, усталых от жизни людей. Раз завладев добычей, недра уже не выпускали ее. Ий с Андой — сегодняшняя добыча, теплокровный клад, незримая тайна, и должны остаться здесь. Что ж, надо молиться, принимая и такой поворот событий, благословляя минуту встречи с Ием в подземном царстве волхвов…
Никогда до этого (а если заглянуть вперед, то никогда и после) Лисий не видел молитвы, равной Андиной по исступленности: болезненная мимика маленькой женщины, ее жесты, в которых Лисию чудилось странное преломление древних ритуалов — казалось, завораживали даже волхвов.
Где и кем был услышан этот зов? Но нет сомнений в том, что он был услышан. Пещера вздрогнула. Лаз открылся.
С тех пор… С тех пор Лисий никогда… В общем, больше Лисий никогда не видел Анду. Да и сам он с тех пор ни разу уже не был Ием — чародеем, способным… Мысли прерывались от обиды, воспоминания ловчили — пользовались каждой лазейкой, чтобы пробраться в душу, но он сам умертвлял их. Пыльного конторского раба давило воспоминание о своем, пусть быстротечном, сумасшедшем могуществе. Нет, не просто давило — унижало. Истерзанному кусошным существованием Лисию действительность часто представлялась теперь перевернутой с ног на голову, и он воспринимал как нечто унизительное не свою галерную жизнь, а свое заветное воспоминание. Значит ли это, что он постепенно глупел и, как многие нивельцы, медленно, но верно переходил в состояние кретинизма?.. Вот мы и дошли до оскорблений, так часто сотрясающих самый воздух нивельский в магазинах, метро, парикмахерских, присутственных местах: “идиоты”, “кретины”, “шизофреники”, а иногда и представители других родственных когорт, например, материнских, смачно мельтешат то тут то там — взбадривая приунывших нивельцев, вдохновляя их на новые трудовые подвиги.
Положа руку на сердце, надо признать, что Лисий не был подвержен затемнениям рассудка. Его несчастье как раз и состояло в том, что в безумном доме, на одичалой улице, в неприютной Туре, столице Нивелии, которую он по-прежнему, по-детски любил, Лисий оставался в трезвой памяти и здравом рассудке. Трезвую память нужно уметь обжуливать, и он исхитрялся в арифметике. Сложив сорок три года до и десять месяцев после Пещеры, Лисий противопоставил эту вечность без Анды нескольким часам жизни с ней. Ему казалось, что вечность победила. Но, думается, не вечность, а самая жизнь победила его.
Загнанный в угол… Загнанный в угол, он и не представлял себе, что судьба не оставит его в этом углу в покое, а возьмет да и обрушит этот самый угол на него.
Много позже Лисий уразумел: помпезные часы-замок, предназначенный для аукциона, судьба использовала как приманку — пусть чернильный раб взглянет на это сооружение, когда потащится на галеру, именуемую конторой, — взглянет, очнется и… авось вспомнит Пещеру Волхвов.
Как судьба загадала, так и вышло, по-другому никогда и не бывает. Он взглянул, он рванулся к часам. До аукциона оставалось три дня, и желающим разрешалось опробовать будущие покупки не только на глаз, но и на нюх, на зуб, на ощупь. Однако, космическая стоимость часов-замка всех держала на подальках, и только избраннику Лисию змий-искуситель нашептывал: подойди… ну смелее… ближе, ближе… не дрейфь… еще ближе.
Часы магнетически притягивали. И Лисий льнул к ним. Раньше говаривали: бес попутал, вот именно бес, бесенок, выскочивший неведомо откуда, и зацепил локтем те подвески, которые скользнули на каменную плиту, зазвенев погребально, прощально. Стайка нивельцев, по выражению продавщицы, “пяливших зенки на антиквариат”, издала такой стон, будто на их глазах не подвески разбились — хрустнула голова дрессировщика, доверчиво положившего ее в пасть льва.
Пасть захлопнулась, жизнь сожрала Лисия, слопала-таки.
Горестная арифметика услужливо совала в нос: если пить и есть на женину зарплату, а Лисиеву целиком перевести на сберкнижку, если не покупать не токмо штиблет, шляп и всяких прочих роскошеств, но даже эскимо, если отсечь и без того редкие кафе, вернисажи, если урезать себя в… — а может, тогда лучше сразу лечь и помереть?
— Вот он, глянь, ценитель антиквариата приперся! — каждый вечер вопила теперь жена угрюмой дочери, взбивавшей прическу перед диско. Дочь косила на отца лихорадочно-бордовым взглядом (румяна скул почему-то переходили в кровавый вопль краски на веках) и бурчала с ненавистью:
— Проходи, дядя, свободен… Другие детям дачи, “Жигули” покупают, а этот!.. — Словно кофемолкой, она перемалывала его взглядом в порошок, в пыль.
— Щас скажет: уста-ал! — прогнозировала жена. — Щас на тахту!
— Ему теперь не на тахту, а вон — вагоны разгружать на станции, — тоном изнуренной жизнью старухи советовала дочь и добавляла с крайним презрением: — Нумизмат!
Прозвище и жене пришлось по вкусу.
— Эй, нумизмат! — кричала она из кухни. — Тебе теперь и ртом и ж… надо хватать — да! Иначе до смерти не расквитаешься!
…Если еще и в самом деле подрабатывать на товарной станции — сейчас август — если ходить хотя бы раза два-три в неделю разгружать, то месяцев через девять, к маю, может, и удастся вылезти из долговой, волчьей, ямы.
И правда, как брюхатая баба, ровно девять месяцев вынашивал Лисий те подвески, родив их к майским праздникам. По расчетам, к Лисию должно было прийти облегчение, когда нахрапистая толпа, заменившая свои головы растрепанными креповыми цветами, все гвоздиками кровавого происхождения, закупорила улицы так, что Туре не продохнуть. Увидев, как Тура зашлась в астматическом удушье, Лисий ощутил то же самое. Разрешение от долгового бремени не принесло ему облегчения, даже наоборот, словно усугубило его состояние.
С балкона высотного здания, где уединился Лисий, понукаемый страстным желанием хоть на часок-другой отречься от жены и дочери, открывалась панорама Туры, охваченной грандиозным по своему лицемерию карнавалом, на котором кучно, там и сям, — все лозунги да маски кумиров толпы. С содроганием вглядываясь в Туру, в больную Туру с закупоркой вен-улиц, в Туру с гнилостной кровью, Лисий неожиданно почувствовал ту же прокисшую кровь и в своих артериях. Было жаль Туру, было жаль себя.
Наверное, он душевно надорвался, девять месяцев просидев в долговой яме, — иначе чем объяснить его бредовые ассоциации и мысли на балконе? Он подумал, например, что сейчас навсегда прощается с дивной Турой. Вслед за тем он подумал, что так прощаться не следует — в суматохе дикарского карнавала. Нужно прийти сюда часов через пять, когда прорвется нарыв, когда вытечет все гнилостное, когда город размягчится в покое.
На закате Лисий так и сделал. Розовая от заката Тура медленно кружилась вокруг него, прощаясь. В эти минуты она принадлежала ему — ему одному. Дивная мерцающая Тура отдавала ему теплоту древних камней, угасающий перезвон редких колоколен, сентиментальную нежность летящих балконов. Принимая от нее все дары, приношения и подачки, вбирая в свою душу ее акварельные краски, ее вздохи, стоны, ее трепетное кружение, Лисий благодарил ее за то чувство, которое она дала ему испытать — сладостное чувство властелина, Лисий обещал бережно перенести все оттенки этого блаженства туда, куда он направится утром… Ему нечего скрывать от Туры: да, он решился… Тура глянула ласково, розово: неужели подступил такой край? Лисий пожал плечами: нет, он не ощущал безвыходности, его решение, видимо, все же логическое завершение дороги, начало которой там, в Пещере Волхвов, а конец… Конец будет завтра, через часы верст, через версты часов — причем, уловка с часами-замком тут ни при чем, уверяю вас, Тура, ни при чем. Просто, взвесив все “над” и “под”, он, Лисий, выбрал “под”, хотя тогда, целую вечность назад, им с Андой казалось, что нет жизни слаще, чем жизнь там, “над”…
Его решение испугало Туру, он видел, но ничего не мог поделать с собой. Значит, так суждено, значит, подземная жизнь оказалась для него столь пленительной, что он не вынес жизни надземной — милостиво простите своего раба, Тура…
Он собрался в свой путь (в свой трагический по общепринятым человеческим меркам путь) очень просто, снарядив себя обыденными причиндалами загородной прогулки: сапоги, рюкзак, куртка — все болотной расцветки. Не одобряя витавшего над отцом духа вояжа, дочь пробурчала громче обычного, в расчете на мать в кухне:
— Вот пристрелит какого-нибудь зубра в заповеднике, до гроба не расквитаетесь… — Она бы, несомненно, “ржала до сшибачки”, если бы ей шепнули, что этим “зубром” отец наметил самое себя. Слабак. Рохля. Всегда, особенно после “несчастья”, поддерживая армейский порядок в мыслях и делах мужа, помыкая им как своим денщиком, жена твердо знала, что едут с сослуживцами копать колодец на дачном участке. Если бы, к примеру, не дочери, а ей шепнули насчет других его планов, она бы “упала — не встала”: “Чтобы любовниц на природу вывозить, надо на левом кармане денюжки иметь.”
Лисию же теперь деньги были ни к чему.
На железнодорожную станцию размеренной походкой шел черноволосый мужчина… единственный в мире мужчина, которому уже не требовались деньги. Во все времена, при всех режимах проезд туда — бесплатно.
Быстрая мелькающая дорога суетливо метала перед Лисием подходящие места — спутанный кустарник около железнодорожного полотна обещал близкие заросли, за которыми вдруг да проблеснет весенним, майским, ликованием река — Пра, Выпь или Есь — какое бы имя она ни носила, Лисий все равно не узнает его, да это и не важно, последнюю реку своей жизни он может окрестить как ему вздумается — перед своим окончательным освобождением от над-земной жизни он наконец вымучил это право идти, куда поманит, остановиться там, где сбрендит.
На одной из станций было безлюдно, поэтому Лисий и сошел. За месяцы долгового расчета, когда его всегдашнее рабство превратилось уже в наглядное, особенно циничное, мелочное до унизительности Лисий сделался мизантропом. Честно говоря, уже после тридцати пяти в этом отношении стало нехорошо, в автобусе он начал остро чувствовать жгучий запах пота — и уже не взгляды, не улыбки, как раньше, были главным, а этот одуряющий ненавистный запах.
Даже сейчас, удалившись на сотню верст от Туры, найдя свою реку, он шарахнулся от случайного человека, идущего навстречу по берегу. А через несколько метров выяснилось, что человек был вовсе не случаен: на поляне нахальными заплатами били в глаза оранжевые палатки, и конфетти походной жизни: кострище, банки, веревки, тряпки — замусорило берег, облекаясь в новую для Лисия обиду.
Они опять оскорбляли его, эти странные люди… Все атрибуты их нищенской жизни были созданы для того, чтобы унижать его, мучить… Оставалось последнее прибежище — река, небесную гладь которой… они пока, из-за студености воды, не решались попирать своими телесами. Песчаные трамплины легко столкнули Лисия к весенней воде, пахнущей какими-то свежими терпкими растениями. Сладостные майские ароматы издавна казались Лисию загадочными: как будто где-то в тайной стороне расцветали невидимые благоуханные гроздья, и можно было услышать их запах, тонкий, еле уловимый, но увидеть самые гроздья невозможно было ни под какие зароки. Душа Лисия скользила по мягкой глади реки. Еще секунда-другая, и он бы вошел туда, чтобы освободиться, как вдруг…
— Па! — бухнул сверху истовый вопль. — Мужик наше пиво шарит! — На верхнем песчаном трамплине переминался с явным желанием забежать за куст хилый подросток с большим мокрым ртом. “Даже их дети, и те — кретины,” — стукнуло в голову Лисию, и он резко взял с места по берегу.
И вот наконец он все-таки ушел от них всех. Шагая по глухому желанному лесу, хрустел ветками так, будто молол их не сапогами, а челюстями. Сердце подсказывало ему, что уже скоро он обретет свою реку. Холм, с которого Лисий должен был увидеть ее, брал начало в лесной чаще, там, где яма со скудным прахом прошлогодних листьев. Затем холм протягивал самое себя между сырыми усталыми дубами и вдруг неожиданно легко возносился сухой прогретой макушкой на простор.
С этого холма и суждено ему было увидеть то место, где так удивительно обошлась с ним судьба…
Надолго задержавшись на макушке холма, Лисий со странным чувством обозревал окрестности. Горстка заброшенных одичалых домов, окаймленная подковой реки — Дикий Хутор — раз и навсегда окрестил подброшенное судьбой место. До вознесения на холм Лисий исподволь начал продумывать детали ухода: в воображении уже серел камень… Камень-единомышленник, призванный уйти туда вместе с Лисием, а вернее — помочь Лисию наконец-таки избавиться от на-земной жизни. Таинство ухода отвергало суетность, поэтому Лисий так долго ехал и шел сюда. Краешек земли и воды найден. Откуда же это странное чувство, что впервые за свои сорок с лишним он вдруг нашел уголок, где легко не только умереть, но и… жить?
Не уходить… Жить… Вон в том приютном доме, похожем на сараюшку. Разводить костер. Искать какие-нибудь овощи на заброшенном огороде. Итак, — удивлялся Лисий, — проехав и пройдя сотни верст чтобы умереть — остаться жить? На Диком Хуторе?
…Если бы Лисий спервоначала задумывал побег — не самоубийство, а именно побег в глушь, в безвестность, в анонимность существования, и готовил бы его с сугубым тщанием, и тогда побег не осуществился бы с той удачливостью, которой придало ему провидение.
По первому июньскому теплу весело приживался нивельский беглец на Диком Хуторе, что готовно платил ему оброк: от сада — железной крепости крыжовником, дробью смородины, от огорода — застарелым сочным луком.
“…Вот я и заделался помещиком,” — подтрунивал над собой Лисий, обходя владения, богатые всем тем забытым, детским и счастливым, что раньше так редко приходило в странных ласковых снах.
Дикий Хутор оставили работящие, мастеровые люди, оставили — бог им судья. И даже, скорее, не судья, а плакальщик.
В сарае помещалось много разнообразного столярного инструмента, не нужного неумелому Лисию, как казалось сначала. Белоручка Лисий полюбил входить в “мастерскую” и прислушиваться к тонкому запаху старинных лаков.
Полюбил сидеть на крыльце долгими летними сумерками. В эти часы жизнь становилась объемной. И нежный ветер был ее ощутимым дыханием. Беглец смотрел на закат и ему казалось, что и его, Лисия, сердце плавится сейчас там, в огненном сгустке… Каждый вечер закат манил неразрешимой, щемящей душу таинственностью, и дикий хуторянин испытывал острое чувство того, что раньше жил во враждебном мире и вот только теперь пришел — пробился, прополз, чудом просочился — в свой мир, который он сам, Лисий, и создает каждую минуту. С точки зрения здравого смысла ощущение было ненормальным, хвастливым, но от этого оно не теряло своей божественности.
Однажды, сидя на крыльце, Лисий раскладывал пасьянс деревянных брусков, приноравливая их друг к другу, иногда скрепляя клеем их стенки, как вдруг заметил, что под его руками — “руками создателя!” — шутил над собой — появляется какое-то интересное сооружение…
…Минут через десять оно показалось отдаленно знакомым…
…А еще через некоторое время оно сложилось в подобие тех часов, похожих на замок… и на Пещеру Волхвов.
Так Лисий вспомнил Анду.
Мир, сотворенный самим Лисием из Дикого Хутора и заката, был хорош, и никто и ничто более не нужно было Лисию. Запущенный сад, приютное крыльцо, прожигающий себя закат — все и вся вокруг согласовывалось с желаниями беглеца. Ему было достаточно этого сада, этого крыльца, этого хутора. Ему было достаточно себя самого, и он с ласковой иронией окрестил себя “самодостаточным человеком”. Практически он вел натуральное хозяйство — и это в конце двадцатого века! Подумать только: он, Лисий, сумел перехитрить весь остальной мир.
Единственное, кого ему не хватало — вот именно не “чего”, а “кого” — так это Туры…
Изредка подчиняясь сентиментальному, по его мнению, порыву, Лисий брел на холм — возвращал себе минуты прощания с Турой. Стоя на холме, можно было выждать-выпросить у облаков, чтобы их кромки прочертили абрисы самого дорогого миража…
Забывая одергивать себя, Лисий вновь видел Туру…
— …Я так любил вас, Тура… — шептал всегда в прошедшем времени, несмотря на то, что не ушел, остался здесь длить на-земную жизнь. Шептал в прошедшем времени, потому что Тура осталась в том времени, в том, нивельском, мире.
Во время одного из таких “сентиментальных вояжей” Лисий неожиданно заподозрил вдали село. Это случилось в августе. Небеса в дальней дали вдруг дрогнули и раздвинулись, чтобы хоть на мгновение просверкнуло для дикого хуторянина золотое зерно церковной маковки.
Так Лисий отогрелся перед осенними холодами.
В селе, на базаре и в магазинах, он понял, что ненависть к нивельцам прошла, мучительный острый запах их пота больше не тяготил его. Теперь по воскресным дням Лисий отправлялся на ярмарку и удачно продавал не только овощи, но и деревянные игрушки, которые наловчился мастерить и которые нравились покупателям, ибо всегда содержали в себе пусть небольшой, но секрет. Словом, к морозам нивельский беглец оделся, обулся во что бог послал — а посылал он в сельский магазинчик одежду мешковатую, но прочную, запасся рыбными консервами и кое-как помирился с остальным миром — купил телевизор, не ахти какой, но свободный, умеющий работать без подключения в сеть. Наконец милостиво сняв проклятие с нивельского мира, Лисий иногда через небольшой экран пускал его к себе, правда, небольшими порциями, не давая тому зарываться.
…Со времени побега прошло восемь месяцев. И теперь уже без боязни сглаза можно было признаться, что он обжился на Диком Хуторе. Лето и осень каждого легко несут на своих плечах, а вот зима сама забирается к тебе на закорки и тут уж — выноси… Городской житель, Лисий неожиданно ловко скатал зиму в ладонях, как снежок — и весело зыркал огонь в его печи, терпко пахли развешенные по стенам пучки трав, с кряхтеньем сохли бруски для игрушек, иногда мяукал телевизор — впрочем, его мяуканье было самым незначительным из всего.
Праздники “самодостаточного человека” не совпадали с общими, нивельскими. Когда сограждане толпами бегали по Туре, Лисий обычно сопел, выдалбливая какую-нибудь лунку “секрета” в деревянной шкатулке. Лишь для одного праздника сделал сердечное исключение — ведь в ту ночь к Земле прикоснулся предпоследний год уходящего века…
Разбросав на низком столе — доске на двух пнях — всевозможные яства, как-то: пареную репу, соленые грибы, моченый терн в каких придется плошках — Лисий смаковал первобытность своей трапезы. Плоды побега были поистине царскими: вольное дыхание, любимое ремесло, душевный покой вместо конторской истерии, смолистый запах стружек вместо общественного смрада — ощущение жизни в ее сочности, спелости… За это стоит выпить. Лисий поднял кружку самодельного вина. И вдруг ему захотелось, чтобы его торжество увидела Нивелия. Засветив телевизор, он победно глянул на этот нивельский лик. Оттуда ему ответно показали крошево из масок, серпантина, новостей, роялей, улыбок, причем натянутых.
— Сочувствую, — сказал им всем, навсегда застрявшим в капкане. Глядя на суетный нивельский лик, самодовольно усмехнулся — им никогда не удастся затащить его обратно в капкан: — единожды понюхавший вольности — им не товарищ… Слабо разбиравшийся в юриспруденции, Лисий смутно помнил, что исчезнувший нивелец признается “без вести отсутствующим” через полгода — а это уже полная свобода: лишение всех прав, документов, автоматический развод с женой — полное растворение в небытии.
…И он вновь и вновь ликующе поднимал перед электронным нивельским ликом победную кружку янтарного вина…
После диких воплей нивель-музыки телевизор затрясло в лихорадке новостей: крушение — бал — взрыв — круиз — захват — гол!.. Пребывая в состоянии блаженной расслабленности — теперь уж меня не достанете! — Лисий, ерничая, даже послал воздушный поцелуй какой-то богатой туристке, прибывшей в Нивелию на встречу нового года. Женщина сверкала украшениями, как заснеженная ель под солнцем, и смешно тараторила — по-нивельски, но с легким акцентом. Почти не слушая, Лисий наслаждался музыкальным ритмом ее фраз — легким летящим ритмом…
Протянув руку, женщина показывала какое-то украшение — медальон? — которое под светом казалось просто бликом. Телевизионщики готовно приблизили камеру и выбрали такой ракурс, чтобы…
Лисий вскрикнул. В одно мгновение разверзлись полы его избы, и он рухнул в тар-тарары — в подземелье, в Пещеру Волхвов. Но Анда все протягивала к нему его брелок — брелок спасателя, который выманила тогда, потому что была совсем слабой… Теперь новая живая искристая Анда, потрясая его брелком, предъявляла свои права на него. Его опять заманивали в нивельскую ловушку!.. Сразу взъярившись, Лисий опрокинул стол — бухнуло, потекло, смешалось — показал ей фигу и площадно выругался. Последнее, что он услышал перед тем, как щелчком умертвил телевизор, был тихий шепот Анды:
— Если вы слышите меня, Ий…
— Не слышу! И слышать тебя не желаю! — кричал он почерневшему лику, только что предпринявшему подлую попытку выманить Лисия из его уютной приветной жизни туда…
…Жестко растираясь снегом, прожигающим тело, Лисий стоял на морозе обнаженным. Истерика прошла. Явь была куда устойчивее его смешного детского страха. Он стоит в своем дворе, рядом со своим домом, забившимся в тайник между холмами, лесными водами также надежно, как забивается муравей под кору дуба — огромен столетний дуб, пойди-ка найди мураша… Пусть попробуют найти и его!.. Ведь для Нивелии он, Лисий, — такой же муравей, муравьев в ней — бессчетно, а следовательно и — безлюбовно, ненужно… Более полугода назад какой-то там мелкий чиновник при невыясненных обстоятельствах покончил с собой — есть вопросы? Выяснять обстоятельства? Да бросьте, кругом мафии, коррупция, террор, развал — еще есть вопросы? Где труп? Да мало ли где: под водой, под землей. Нивельская земля богато удобрена трупами. Вдова хотела бы поплакать над могилой? А что, больше вдове не над чем поплакать, пусть сходит на братское кладбище… И вопрос исчерпан.
Нате-ка, выкусите: человек растворился — не достанете.
…И все было бы хорошо, если бы не это наваждение…
Стоило Лисию заняться самым обыденным делом: пересыпать крупу, например, — как, воспользовавшись шуршанием, к нему проникал шепот: если вы слышите меня, Ий…
Этот таинственный зов — да будь он проклят — обладал мистической силой — мог облечься в любой звук: в трение напильника по доске, в мышиную возню, не говоря уже о зудливом шепоте сухой травы, пучки которой каторжно повинно висели вниз венчиками, однако, раскаяние их было притворным, от легчайшего дуновения начинали шипеть, так что пришлось подвергнуть их остракизму — вынести в сарай.
Кроме пучков травы, обнаружилось еще одно существо, призванное изводить Лисия. Вскоре после новогодней ночи хвастливо-ярким зимним днем самодостаточный хуторянин шел по лесу, как вдруг отринутая от чащобного стада, отдельная ель, которая раньше казалась ему сиротой, ослепила его сотней бликов — с женским коварством, с ухищрениями льдисто-стразовых подвесок. Ель протягивала ему сотни бликов-брелоков, что вспыхивали даже под закрытыми веками, пока Лисий брел назад вслепую. Теперь приходилось делать крюк по лесу, лишь бы не затронуть то место. Конечно, он всегда мог предусмотрительно миновать свой личный “бермудский треугольник”, дабы не пропасть за грош, но наваждение с бликами на этом не кончалось. И наруже: взблеснет ли сосулька под лучом солнца, и дома: выскочит ли из печки проворная не в меру искра — все брелок, все она протягивает его — просит о помощи? издевается? молит — но о чем?..
Простите, господа и товарищи нивельцы, но он теперь не простачок, его не привадишь, как прежнего Лисия, приманкой часов-замка, не подманишь и ласковым мерцанием нивельского лика. Твердо веруя в то, что впрок учится противостоять любым нивельским ловушкам, Лисий стал чаще озарять избушку мерцанием экрана, напряженно впиваясь в миражи нивельского окна, но… Анды больше там не видел.
По весне тяжко дышалось, медленно ходилось, безрадостно работалось — неизвестно отчего. Впрочем, Лисий вспомнил: согласно общему мнению нивельских докторов, по весне обострялись все хронические заболевания и слабела память. Если бы… — сетовал Лисий. Перевернув свою жизнь, он, видимо, перевернул и ее законы: лично у него память по весне почему-то обострилась, да так обострилась, что не дай вам бог.
Не справляясь ни с звуковым — шорохи, шепот — ни со зрительным — смертельные блики — рядами, Лисий начал хиреть, подло превращаясь из самодовольного самодостаточного человека в раздраженного отшельника: ломаные движения кузнечика, прогорклый волчий взгляд, комариная зудливая надоедность — в общем чувствовал себя копилкой всех природных дисгармоний, а это самое худшее.
Однажды мартовской ночью он проснулся от собственного натужного сырого дыхания и понял: если завтра не предпримет чего-то, могущего переломить его обветшания, то конец.
Выбранный им день ежился от промозглой стужи, от бесформенности надежд, от скудости земли, воды и небес, притиснутых к сумрачному лесу. Подумав о Лисии Тучкове в третьем лице, восхитившись несгибаемой волей вышеназванного, дикий хуторянин не сумняшеся направился к “бермудскому треугольнику” — погибнуть или выжить. Готовно предоставив себя штампу яркого впечатления, Лисий внес себя в центр золотого сечения, на перепутье ослепительных лучей, и заранее согласился: пусть так… пусть ее магия… он теперь не отрицает… пусть побежден, смят, унижен — он идет признать свое поражение, а там видно будет.
На месте же оказалось, что по-весеннему нищенский день и в нее вцепился мертвой хваткой — ничего не осталось от прежней по-женски блистательной ели, полы ее сырых ветвей обвисли, угрюмость заступила место обаяния. Ожидая увидеть победительницу, Лисий был шокирован.
Что с ней? Почему яркую праздничность ее облика вытеснила влажная угрюмость? Заместив Анду в своем воображении близким живым символом, Лисий язычески уверовал, что Андины боли и напасти проявятся в подавленности намокших ветвей, в болезненном подрагивании игл — как отражаются в лиловости зеркала дремучие круги под глазами смертельно больного от жизни человека.
Или послать запрос?.. Туда, откуда светит нивельский лик. Непритязательный запрос “среднего” нивельца, с неминучими грамматическими ошибками, с сумбуром в изложении: как та, которая, вот та которая с Ликуй-острова — и в слово “Ликуй” обязательно всадить “е” в серединку — пусть посмеются.
Господи, подскажи, — взмолился Лисий — подскажи господи, что делать? Как унять самое себя? Чувствовал: его внутреннее смятение прочной сетью захватило все мирные предметы. До этого благостные послушные, теперь они выходили из повиновения, впадая в ярость или заходясь в истерике. Чего стоит хотя бы тот случай, когда рубанок вдруг поднялся на дыбы и ранил большой палец, оросив брусок тягучей тоскливой кровью.
Наверное, именно этот запрос, замешанный на крови, на боли — запрос души — и достиг странной цели, и опять парадоксально, непредсказуемо.
Ужимки нивельского лика поражали Лисия безграничным, но каким-то стылым разнообразием. В эту разно-мордость, разно-вещность да подбросить бы сердечной милоты… поверите ли нет, но настороженным весенним вечером ему взяли да подкинули долгожданной “милоты” — поверили? А Лисий в первые секунды не поверил своим отвыкшим от созерцания лицемерия глазам.
Развлекая всех, выжимая слезу из самых затурканных, на экране стремительно и сочно разыгрывался фарс, заочным участником коего был… ваш покорный слуга — Лисий подался вперед, но влезть в экран и пресечь действо ему не удалось. Правда, место покорного слуги замещал камень — глыбистый, самодовольный, в общем, такой, каким и надлежит быть надгробному камню: необработанный, угловатый, а серединка стесана для увековечения имени и дат.
Быстро уловив ироничность происходящего, ну-ну, Лисий наглядеться не мог на своего необычного, скажем прямо, заместителя. Версия Лисиевой жены — простите, безутешной вдовы — была безукоризненной, с ее точки зрения. Оказывается, Лисий почил в бозе из-за сердечной недостаточности. Провалиться тебе совсем — Лисий присвистнул — “его ранимое сердце” — а как же быть с ее собственным прежним диагнозом: “какого лешего тебе, хряку, подеется?”
В общем независимо от Лисия, независимо от стрекозьей слабости или бычьей мощи его сердца, на престижном нивельском кладбище вершилось представление, центром которого были скорбящая вдова и… Анда. “Ну зачем ты там?” — раздраженно шепнул он Анде, испытывая сильное, тягостное желание заключить в свои ладони нежный блик ее тонкого лица — лица неуловимого для Лисия, как неуловим для человека солнечный зайчик — Лисий застонал.
Из хаоса креповых цветов, вычурных памятников, захлебных слов: “спасатель милостью божией…” — “ринулся первым…” — тонким свечением (так обычно выскальзывает тихое солнце осеннего сада) выплыло лицо Анды… Потерянный поворот ее головы — сердечная недостаточность — тающий подбородок — сердечная недостаточность — лиловые тени Пещеры Волхвов под глазами, над верхней губой — недостаточность ее жизни без него, сердечная недостаточность утери его… И ровно за мгновение до того, как ловушка жалости захлопнулась бы за Лисием, он сумел, рванувшись, выхлестнуть себя из нее. Вздичившись, гаркнул прямо в нивельский лик:
— Како-ой бомонд! Ангелы, шляпки, цветы! Швырнул туда, в фарсовую пестроту…
— Вы то-олько гляньте — что за лэди Тучкофф!.. горсть мороженой клюквы. Побитый ягодной дробью экран не дрогнул.
— Что за патрицианка!
Плюнул в пол.
— … То-омность! Скорбь… в пределах приличия! Сразу устав от нежданной вспышки ярости, лениво выплеснул на экран бокал настойки — уже просто так, шутки ради, с саркастической улыбкой недоверия: а та-то, тоже хороша — туристка — все вояжирует от нечего делать — никак на приключения не нарвется — вот и обвели вокруг пальца! Мадам Тучкофф только попадись — обстрижет.
Мерцая притухающими кладбищенскими красками, экран тихо оплывал янтарными каплями подобно догорающей свече.
— Вообразили!.. Ишь ты… Как же — жди: сейчас воскресну! — от избыточного негодования нашептывал Лисий, стоя за базарным полком. Его сосед по базарному месту, мужик по кличке Сортир, уже десять лет спекулирующий унитазами, самодовольно воспринимал невнятные реплики отшельника как полное согласие с его, Сортировыми, речами.
— Репетеры… Я-то сначала: что за репетеры такие? А бродяги! Стянуть где чего! Распорушить! А я бы тех репетеров, будь я нивельская власть, взял бы за…
Смутно воспринимая детали казни рекетиров, предлагаемой народом в лице Сортира, Лисий никак не мог унять воспоминаний, оживленных вчерашним, поэтому воспользовался единственно доступным душевно-лекарским средством — рассказать любому, как придется, лишь бы самый больной гной выпустить, хоть кое-как прорвать нарыв. Нет, Сортир не смотрел вчера телевизор, что правда то правда — одну пустоту гоняют, и дамочек не видел, нет, а и правда — такие чудные бывают, их бы по зорьке растолкать да заставить бы корову подоить — тогда бы ни хохолков этих на пустых головах, ни голых задниц — ага, уж он-то, Сортир, пусть не академик, а порядок бы навел живо, в два счета. Суровый жизненный приговор человека из народа настолько по душе пришелся Лисию, что он сам подхватил обличение дамочек в шляпках, в бликах сережек, в трухе пустых словес и бурливо вещал до тех пор, пока не заметил угрюмого удивленного взгляда Сортира, обозначающего не иначе как: спятил дядя. Усеченный народным взглядом, Лисий умолк. Тогда Сортир, перемявшись с ноги на ногу, звериным чутьем уловив отголосок боли и смятения Лисия, буркнул единственное, все разъяснявшее:
— Бабы…
Одно одного не легче: словно олицетворяя бешенство Лисия, в телевизоре взъярился красный цвет. Часто экран заливало алым, как глаз разъяренного быка. А то вдруг алый притворялся букашкой, долго сидел где-то в уголке, и вдруг стремительно пробрасывался по экрану, за мгновение превратившись из крошечной букашки в жирного удава — не так ли и вдова Тучкова, пригорюнившись, дождала своей звездной минуты и развернулась во всю нивельскую мощь?..
Неужели он, Лисий, ничего не предпримет?..
Между тем алый, рассыпавшись на целое стадо колорадских жуков, заставил все стадо отбивать бесновато-торжественный ликующий стэп.
И можно ли что-то предпринять?..
Собой, своими выдумками, иллюзиями, планами судьбу не подменишь; как всегда, тайники Лисиевых воображения, памяти и опыта приоткрылись во сне, переплелись неведомо, непознано — и проснулся их хозяин — а, может быть, их холоп? — с уже готовым решением.
Расчистив и протерев стол, дабы не просолить письмо или не вымочить его в вине, принялся за сочинительство, выступая в веками апробированной роли некоего “благожелателя”.
После мучительных потуг — натуральная жизнь отдалила его от чернильного этикета — вышло ничего себе, можно даже сказать — любезно вышло, без грубостей в сторону госпожи Сойль, ибо хамство, затаенное в жаргонных словечках, явно метило в другую “госпожу” — гражданку Тучкову собственной персоной.
Итак:
“Уважаемая госпожа Сойль!
Друг покойного — да будет земля ему пухом! — Лисия Тучкова приветствует Вас на нивельской земле и спешит сообщить, что супруга покойного, будем говорить прямо: гонит Вам туфту (пардон). Лисий не был сердечником. Он, сердешный, смазав пятки сбежал от этой грымзы и покончил с собой в дальнем забытом богом краю Нивелии, так что попытки разыскать его следы или его труп ни к чему не приведут. Диаманда (извините не знаю Вашего отчества)! Могила, на краю которой безутешная вдова проливает крокодиловы слезы, — пустая яма, погребальная доска — фикция, а сама вдова — окончательная стерва после всего этого. Судя по ее ласковым ужимкам, направленным на Вас, она хочет здорово потянуть с Вас — так не поддавайтесь. Такие, как она, вряд ли попадались в фауне Ликуй-острова, ведь Вы отделены от мира. Мой Вам совет: возвращайтесь-ка к себе. Поверьте старому мизантропу: нет в мире ничего лучшего, чем уединенные острова.”
Ладненькая вышла эпистола, во всяком случае, Лисий был доволен. Обороняя себя даже от намека на “хлопоты по поздней дорожке” (ведь с Анды станется!), сделал убедительную приписку:
“Переезжая от одной внучки к другой, письмо опущу на первой же станции” — Ну что — съела? Старичок, внучки — а до этого — погребальный камень — тут и сам черт ногу сломит. Так что прощай, Анда, не обессудь. Чувствуя, что вместе с письмом отлетит от него то изнурительное, докучливое и щемящее, что теребило сердце, предвосхищая счастье освобождения, Лисий даже ласково тронул письмо и… спохватился: почерк!.. И какая безделица могла похерить такую великолепную операцию. Пусть он адресует послание на нивельское ТВ лично Сойль, но где гарантии, что вояжерка не покажет бумажного гонца вдове.
За бутылку портвейна Сортир переписал эпистолу, кряхтя как при запоре, — получилось отменно коряво, по-стариковски, по-сплетенному — но, черт побери, жизненно! Достоверно!
А главное — Лисий вздохнул — предостерег эту лопоухую против выжиг, не дав ей в руки ни малейшей зацепки для поисков — вот так-то: ни малейшей…
Дома его ожидал неприятный сюрприз: те прохиндеи, которыми стращал Сортир, нанесли Лисию визит. Взять ничего не взяли, но самый дом терзали и гадили с изощренностью полоумных — будто по дому проползло, опрастываясь, доисторическое чудовище.
Долго не мог уснуть, видимо, переживал из-за “гостей”. Как только смежал веки, на темном неземном по глубинности фоне сразу вспыхивал яркий блик, быстро обретающий прямоугольную форму, и как Лисий не чурался открытия, приходилось признать, что это форма конверта, будь он проклят.
Чтобы не поддаться, Лисий распахнул веки, и так они и коротали время — апрельская светлеющая ночь и изнуренный Лисий, хрипло прошептавший рассвету: — Господи, освободи меня… — видимо, от непрошеных нашествий.
Вытравив из своего оскорбленного жилища скверно-следы доисторического чудовища, дикий хуторянин решил подстраховаться.
Для этого он прошпионил по своим владениям уже не Лисием, а хитрым и гораздым лисом и вынюхал самый “тонкий” подход (где тонко, там и…) — то место, где они решили бы прорвать цепь его ухищрений, состоявшую из заборов, проволоки и всякой всячины. Именно там, на перешейке между старой заскорузлой до железной крепости ветлой и линялым боком сарая, суждено было воплотиться его причудливой для горожанина выдумке.
Выродки явились сюда в обличье доисторического чудища, так пусть же им будет отмеряно той же мерой — приговорил Лисий — с которой в человечьем обществе подходят к дикому зверю.
Земля, сросшаяся с паучьими корнями ветлы, не поддавалась……Вот также ему не поддавалась жизнь — не просто жизнь, а такая, которой он желал. Что дала ему судьба? Всего одну страну — Нивелию, и всего один век — двадцатый… правда, любимый им век, век, которому скоро исполнится тысячу лет. Разве так бывает, чтобы веку сравнялось тысячелетие?.. По его, Лисиеву исчислению, — бывает: его любимый двадцатый век уже на смертном одре… Век умирает. Нивелия вырвала его, Лисия, душу. Туру, которую он любил как женщину, пришлось отдать им.
Земля силилась, упиралась.
…Если ему предписан вселенной еще какой-нибудь дальний век — тридцатый, например — то вряд ли ему опять даруют тогда Туру…
Лишь апрельская влажность смягчила ее, зимнюю, не умеющую забыть, что она — зимняя — и земля начала разверзаться, с тяжкими потугами. Ей показалось, что, затосковав о под-земной жизни, Лисий выкапывает, вымаливает для себя пещеру. Ты ошиблась, уверил Лисий, это всего лишь “волчья яма”.
Конечно, капкан “волчьей ямы” был не тем творением, которым от души восхитился бы Лисий, но все же его титаническими усилиями, его кровью земля именно в этом месте оскалила пасть, чтобы поглотить злобу, паскудство, мерзость в обличье “гостей” Дикого Хутора.
Он мог бы сочинить дифирамб в честь волчьей ямы, которую умастил поверху сплетеньями ветлы, припорошил гнилью прошлогодних листьев. Те поскользнутся на коричневом тлене; проваливаясь, по-кабаньи проломят ветки, обнажая агрессивные сучья — и посыпется по Дикому Хутору сухой треск прогоревшего нивельского костра… Но не за садистскую ярость капкана воспел бы Лисий волчью яму — а только за одно-единственное, полубредовое — за ее похожесть на тайник. В детстве, которое — как теперь понимает Лисий — наиболее смыкалось с интуитивными разгадками неземных побуждений души, Лисий чувствовал себя счастливым, если обладал какой-то тайной. Душа томилась, и самым коротким путем к ликованию казался тогда путь овеществления — создания тайника, иначе маленький Лисий не справился бы с непостижимостью грез. Он мог заключить в свой тайник самую безделицу, ведь суть была не в этом…
Вновь, почти сорок лет спустя, став обладателем тайника, Лисий испытал странное, бредовое ощущение: ему повержилось, что он может спрятать там… дикое, необузданное чувство, которое не сумело отлететь ни со временем, ни с письмом…
Беспокойно кружа ночью по саду, Лисий услышал прокатистый треск, усмехнулся: а вот и кабан… К утру погляжу.
…Хоть бы еще раз увидеть Туру — а тогда… Еще раз завладеть ею. Единственный из нивельцев, он умел вознестись над Турой — балкон, холм, любое другое подручное возвышение, какая разница! — приласкать это тысяче-лабиринтное истерзанное существо и послать свое сердце в ее призрачный дивный храм…
Ночью Тура и сама льнула к нему.
А к утру…
“Кабан” посмотрел на него затравлено — восторженно? — и сказал нежно-пресеченным голосом:
— Я провалилась, Ий.
— Вижу.
— А что же делать?
— Или вылезти. Или остаться.
— Вылезти. Пожалуйста.
Улыбка пролетела по лицу Анды. Лисий наклонился, взял ее за запястья и легко выдернул из ямы.
— Как репку, — ликующе выдохнула она и сразу испугалась, не заметив на Лисии встречной радости.
Ей все нравилось, и все забавляло ее, ей по душе пришелся его сочный пахучий мир деревянных игрушек, пучков забытых трав, глиняных кружек, — в общем, самодостаточный мир Лисиева отшельничества очаровал ее, как, усмехнувшись, определил про себя Лисий. Анда хрустела, сорила, разливала, крошила — и все весело, счастливо, сама себя игриво величала “свинюшкой” — кокетничала, наверное — ладно, пусть… И все бы ничего, но… сам Лисий вдруг захирел.
Дело в том, что мир его реальности был слишком своеобычен: гостья же — незваная пришелица — почувствовав лишь лубочную сторону этого мира, вторглась в него, нарушив гармонию другой, заветной, его части. Но Лисий и в душе не хотел обвинять ее — во имя Пещеры Волхвов, во имя неповторимого; поэтому, приняв вину, он объяснил себе: ему, именно ему самому не дался этот переход Анды из мира грез в его реальность.
Как только в его душе прозвучал безмолвный тягостный приговор, остановилась и карусель Аидиного ликования. Легкий до этого бокал сырым куском глины плюхнулся на стол из ее рук. Горько провалились глаза.
— Ты разлюбил меня, — тоном открытия сказала Анда.
Произнесение вслух слов о любви Лисий считал кощунством: неуловимое, эфемерное так и должно оставаться невыразимым — попранное словами, оно отлетает. Очевидно, гримаса боли и отрицания прожгла его лицо, потому что Анда возразила:
— Нет, неправда. Ты любил. Там.
В этот миг Лисий вновь оказался в Пещере Волхвов. Еще не осознав, с Андой или без нее, он сказал заклиная, сказал, чтобы не остаться там навсегда:
— Там — за пределами земного. А запредельное уже не властно здесь.
Анда положила изнуренную голову на стол, как на плаху.
Умоляя о жизненном повторе, Анда не умела или не хотела понять, что биссирование любой, драматической или счастливой, ситуации невозможно, потому что фальшиво, жизнь — не цирк, не коррида, не… Но Анда настаивала с упорством помешанной — как? И в нее уже проникла нивельская категоричность? — а Лисий по-прежнему был рыцарем.
Он, конечно, не предполагал, до какого безумия может довести Анду женская склонность к лицедейству, но судьба смилостивилась над Лисием, послав его на холм. Если бы он столярничал в сарае или хлопотал в огороде, они могли бы застать его врасплох, они — целая армада, нет, не рекетиров, а приглашенных Андой сопровождающих — с телевизионными камерами, треногами, шнурами. Очевидно, замышлялась идиллическая сценка: “вновь обретшая жизнь со своим спасателем”…
Он стоял на холме, и картина предательства разворачивалась перед Лисием во всей своей гнусности. Видимо, Анда опасалась новой встречи наедине после неудачной; может быть, надеялась встряхнуть его суматохой, а, может статься… — впрочем, Лисия никогда не интересовали мотивы предательских деяний.
“Воистину патетическая ситуация”,— усмехнулся Лисий, чтобы хоть каким-то отвлечением помочь выжить своему сердцу, по которому полоснула молния. Следующая мысль была тягостной и смутной, была она о Нивелии, о том, что страна эта ухитрилась отнять у него все, даже грезы.
Неспешно спустившись с холма одному ему ведомой тропой, Лисий подошел к Дикому хутору не там, где они распахнули ворота, наводнив поместье гвалтом, а там, где “вражьим проискам” предоставлялась волчья яма. Еще немного и… эта госпожа вспомнит о ней, так что “Поспешай, почтенный”,— понукал себя Лисий. Приходилось лишь удивляться его собственной прозорливости — сгодился-таки и наружный лаз в сарай, сгодились и те мелочи, хранившиеся в сарае, что казались навсегда бесхозно брошенными. Странно, за время хуторской жизни ему случалось ладить всякую всячину, от мышеловок до сундуков с секретом, а вот факел — никогда. Несмотря на это факел получился добротным — пусть теперь покажет себя в своем огненном деле…
Отсиживался у Сортира — нет, так не годится: клички — для базара — в общем, отсиживался у Горломясова. Тот одобрил сразу. Им фильмы срамные снимать в укромных местах, а нашему брату страдать? Судил-рядил: с одной стороны, конечно, — поджог, с другой — никому не во вред, сухоперые теперь чесанули — аж пятки сверкали, да и поджог еще доказать надо, а будет ли кто доказывать на Лисия? Поместье жальче жалкого, души нет: вдруг дотла?
Лисий не мог объяснить, что оскверненное место надо очищать огнем, и только поднимал на Горломясова глаза, подернутые пеплом.
На следующий день, понюхав на базаре, Горломясов вернулся с целым коробом утешительных новостей: не боли головушка — Лисия даже не хватились, подгорел только сарай, и тот притушили, а киношные черти улепетнули с концами. Счастливое избавление отпраздновали черносмородинной наливкой и…
…И все бы ничего, но…
…Но приблизившись вечером — помоги, господи — к Дикому хутору, Лисий почувствовал, что войти в поместье — что-то не пускает, пресекает путь — не сможет.
С того апрельского дня и месяц, и другой, и третий Лисий жил у Горломясова — и месяц, и другой, и третий… Когда гость изредка ловил на себе тревожный, но соболезнующий взгляд хозяина, то невольно соглашался с ним: конечно, он, Лисий, видимо и впрямь странный человек, не от мира сего, что уж тут… Учуяв свою неловкость, Горломясов заводил бурливо, веско:
— … Ты не думай. Живи здесь пока живется. Пользуйся всем. Мне с тобой веселее. И ты не думай. Бери все, попросту — пользуйся.
— Я пользуюсь, — соглашался Лисий, не выпуская из рук деревянной работы.
Ни лето, ни осень не сняли запрета на вход в поместье. Казалось, проклятью не будет положено конца. Дикий хутор стоял как заколдованный, не подпуская к себе.
Посланный провидением, желанный, отторгнутый — единственный в мире клочок земли, к которому Лисий сумел приладить себя, свою жизнь, до этого унизительную, гиблую — клочок земли с вольным дыханием, с заветной мыслью, слетевшей в час заката: кто? из каких неведомых далей? выманил Лисия на эту землю, в этот век, в эту страну?..
Так уж случилось, что его, хозяина, страстно повлекло к себе, на Дикий Хутор, не благостным летом, не хворобной осенью, а стылой зимой — магической новогодней ночью, обкатывающей нулями второе тысячелетие.
Родной холм готовно приподнял Лисия над окрестностями, погруженными в тайну волшебной ночи — синей, звонкой, с кисеей лунного света. Еще один год, всего один, последний в умирающем веке… Согрев, как птенца, Дикий Хутор в ладони, ночь протянула его Лисию, и он ответно устремился к этому сердечному дару — то бегом с холма, то скользя по наледям, падая, задыхаясь…
Ледяное скольжение, морозное дыхание обновило его, сделало гибким, упругим; подобно лунному свету, Лисий мог просквозить сейчас по ветхому пологу волчьей ямы и не…
Провалился с льдистым хрустом, весело провалился, со смехом, не ушибся — лишь рассмеялся. Мягко приняв в свое лоно хозяина, тайник укрыл его быстрыми тенями, удивил запахом прелых листьев, сочившимся из-под наледи. Увлекаемый желанием притронуться к умершим листьям, он царапнул комок наледи, как вдруг его пальцы коснулись чего-то глянцевитого на ощупь.
Тонкая, обвитая рваной ленточкой свеча сиротливо протянулась сквозь Лисиевы пыльцы. “Свеча по имени Анда”, будто независимо от него мелькнуло в голове. Догадка, несомненно, была верной: тогда, целое тысячелетие назад, “госпожа Сойль, квартировавшая в этой яме”, обронила ее… или нарочно подсунула с какими-нибудь завиральными мистическими целями — с нее станется. Забывшись, Лисий медленно повел указательным пальцем по ласковой восковой коже. Вдруг отдернул палец: еще не зажженная свеча обожгла. Помянул черта и вздохнул одновременно — вздох сыро, натужно отлетел в прозрачную ночь. Поколебавшись, все-таки оживил свечу.
Худая, словно больная, восковая пленница горела будто с надрывом — вздрагивая огнем и каплями воска — горела погребальной свечой, как понял, почуял Лисий — свечой прощания с его любимым двадцатым веком.
Другие будут прощаться с этим веком по-другому — кто с бравадой, кто с грустью, кто в панике, по-другому — за накрытыми столами, в снопах бесноватых фейерверков; другие пусть прощаются с этим веком по-другому, Лисий прощается сегодня, сейчас. Другие нарекут этот век кровавым деспотом, террористом — да мало ли можно придумать кличек безответному титану. Обзовут одичалым волком. Обзовут вампиром, в отместку за то, что двадцатый не стелился им под ноги.
Огненная капля воска прожгла Лисию палец, и Лисий ощутил, как ему мало свечного огня. Проворно выбравшись из тайника, он с неутолимой жадностью начал таскать из сарая хворост и набивал им ненасытную пасть волчьей ямы с долгой тоской и надеждой.
Когда пасть забурлила огнем, Лисия прожгли нестерпимые взаимоисключающие догадки: любимый век был для него божьим даром; был бесовской приманкой; или все-таки странной, дикой, непознанной волчьей ямой?
Накопив яркости и мощи, огонь переселился в Лисия, и теперь алые глаза Лисия неотрывно смотрели на бездонный темный зев — Нивелии? Земли? Века?
Манящий зев гипнотически втягивал в себя огненного Лисия, обещая счастливый новый случай возродиться в какой-нибудь дальней дали времени и пространства. Но зачем ему эта искра удачи, если он преданно, до боли в сердце, любил свой единственный, двадцатый, век?.. Он, Лисий, не умел естественно, вольготно, в согласии с природой и людьми, жить в этом веке — но разве счастье жизни заключалось лишь в согласии? И разве изнурительные, томящие душу противоречия не были той же гармонией, пусть не понятой и не принятой Лисием…
Он не сможет жить в другом веке, даже в ближнем, двадцать первом. Он обращается к провидению с мучительной надеждой навсегда остаться в своем, двадцатом.
ЛОВУШКА ДЛЯ МАРИАННЫ
Роман
Продолжение телесериала “БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ”
Авантюрный детектив
ЧАСТЬ I
ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО
1.
“О боже! — взмолилась Марианна. — Что предпринять? Промолчать? Отказаться? Или…”
Письмо от незнакомца — плотный лист голубой бумаги с серебряной орхидеей в углу, явно из дорогого магазина — лежало на зеленом малахитовом столике для корреспонденции и манило к себе. Чей-то глупый розыгрыш? Не похоже… Марианна присела на пуфик и перечитала строки, которые взывали к ее душе:
“…Умоляю Вас откликнуться на мою просьбу и срочно прилететь в Париж”.
Кому-то понадобилась ее помощь. Но, видит Бог, она не знает человека, чья подпись стоит в конце нежданного послания — Эдмон Мэй. Кто это — Эдмон Мэй?
В дверь ее будуара осторожно постучали.
— Марианна, ты отдыхаешь? — раздался ласковый голос Луиса Альберто.
— Одну минуту, милый, — откликнувшись, Марианна стремительно спрятала конверт в шкатулку для рукоделия. Вовсе не желая вновь иметь секреты от Луиса Альберто — ох уж эти секреты, сколько крови они попортили ей в истории с потерянным и драматически обретенным Вето, — Марианна однако почувствовала, что этот конверт лучше спрятать.
Отворив дверь, Марианна приникла к мужу, и он покрыл ее лицо быстрыми теплыми поцелуями.
— Ты скучала без меня?
— Если я скажу “нет”, то это будет неправдой, я всегда скучаю по тебе, Луис Альберто, — искренно призналась она, увидев, что такое откровение по-прежнему, несмотря на долгие годы совместной жизни, приятно мужу.
— Готов оправдаться! — весело заявил он. — Три часа моего отсутствия принесли семье Сальватьерра прекрасный контракт! Марианна, поверь — лучший контракт за всю мою деловую жизнь — контракт с фирмой “Лепелетье корпорэйшн”! Твой муж скоро станет миллионером! Вот уж когда я побалую и тебя, и Марисабель всякими женскими погремушками!
— Не погремушками, а побрякушками, — улыбнулась Марианна и сразу повернула разговор в нужное ей русло: — Кстати, о женских утехах. Я давно хотела слетать в Париж дня на два на три, обновить свой летний гардероб. Как ты на это посмотришь, будущий миллионер?
— Посмотрю с большим одобрением! — радостно согласился Луис Альберто. Тонкий человек, заботливый муж, Луис Альберто и сам хотел намекнуть Марианне — единственной, любимой — о том, что после всех переживаний, после вулкана страстей, пережитых семьей Сальватьерра в истории с Вето, Марисабель и Джоаной, пришла пора отдохнуть. Он просто в восторге от ее идеи! Париж! Город золотых снов, благоуханных каштанов, искристых коктейлей и, конечно же, восхитительных нарядов для изящных сеньор! А самая изящная сеньора мира — “мисс мира, мисс Вселенной!” — это несомненно его Марианна!
— Кандидатура далеко не юной сеньоры выдвинута на звание “мисс мира”, — улыбнулась Марианна шуткам мужа. — Как-никак, а уже — тридцать семь.
— И всего-то! — возразил Луис Альберто. — Да в тридцать семь, если хочешь знать, можно начинать жизнь сначала!
Оба засмеялись.
Засмеялись, потому что ни он, ни она не могли даже предположить, какой магический смысл заключен в словах Луиса Альберто… Если бы они могли знать… Но кому дано предвидеть будущее?…
— Так когда ты хочешь лететь?
— Завтра, если ты позволишь.
— Я позабочусь о билете.
— О нет! — поспешно сказала Марианна, потому что билет от Мехико до Парижа был уже вложен рукой незнакомца Эдмона Мэя в таинственный конверт — билет на завтрашнее утро.
Билет в неведомое будущее, которое вовлечет Марианну в столь удивительные события, о каких она и подумать не могла, сидя в уютном розовом будуаре…
Между тем Луис Альберто продолжал развивать свою мысль:
— …В общем, для семьи Сальватьерра начался сезон летних вояжей. Марисабель и Вето блаженствуют теперь на Гавайях, милая женушка — в блистательном Париже. Конечно, там душновато сейчас, под тридцать. Но мы — ловкая, проворная семья Сальватьерра! обманем саму природу! Марианна закажет сногсшибательные наряды у Кардена, потом пришлет мне телеграмму с признанием в любви. Я явлюсь в Париж с букетом роз и умыкну свою возлюбленную на Таити!
Очевидно, всевидящая Судьба смеялась, слушая, как весело планирует будущее любимый нами сеньор Луис Альберто.
2.
Над Парижем стояло знойное марево. Золотая дымка стелилась над известными всему миру парижскими крышами и каштанами. Самые очаровательные существа на свете — парижанки — невзирая на возраст шли по Елисейским Полям в мини. Не позволив себе мини, Марианна облачилась в изящное маркизетовое платье — желтое, с золотой нитью, с мелкими черными цветами. Изысканная шляпа из золотистой итальянской соломки дополняла ансамбль: загнутые вниз поля прикрывали лицо от яростного солнца, гроздь черного винограда украшала тулью.
Загорелые мужчины среднего возраста, а иногда и нахальные юнцы заглядывались на смуглокожую эффектную женщину, скорее всего мексиканку, которая словно прогуливалась по несуетной боковой улочке между старинными особняками — на самом деле шла к месту свидания с незнакомцем, умолявшем о встрече.
Рандеву было назначено Марианне в кафе “У Франсуазы”, которое оказалось небольшим, но уютным заведением, где в деревянных лабиринтах прятались маленькие столики на двоих — незнакомец, видимо, рассчитывал на доверительную беседу.
“Подожду не более пяти-семи минут”, — решила Марианна, усаживаясь за столик, на котором в темно-зеленой вазочке богемского стекла благоухал букет крошечных, с ноготь, роз необычного лилового оттенка.
Снимая с головы шляпу, она и не заметила, когда он появился. Казалось, незнакомец возник на соседнем стуле словно из-под земли. Смуглое, обветренное лицо со шрамом на правой щеке. Грива бронзовых волос.
“Похож на льва”, — невольно отметила про себя Марианна, а незнакомец уже представлялся:
— Добрый день, сеньора Марианна. Извините, это я рискнул побеспокоить вас спустя столько времени. Я Эдмон Мэй.
— О каком времени вы говорите? — с оттенком неудовольствия спросила Марианна.
— О тех тридцати двух годах, что мы не виделись с вами, — сказал Эдмон.
Марианне не стоило особых трудов подсчитать, что Мэй намекает на какую-то их встречу чуть ли не в младенческом возрасте в пять лет. “Что за странные убогие шутки!” — возмутилась она и почти с негодованием уточнила: — Значит, в последний раз мы встречались с вами малютками на ранчо моего отца?
— Ваша девичья фамилия — Вильяреаль? — вместо ответа терпеливо спросил Эдмон Мэй.
Марианна гордо промолчала.
— …По мужу вы — Сальватьерра, — продолжил Мэй. — Сеньора Сальватьерра…
— Вы правы. Я — Вильяреаль до замужества, позже Сальватьерра. Вы не ошиблись. Так что изложите мне ваше дело, если оно у вас есть, а я начинаю сомневаться, изложите в двух словах. — Марианна тронула шляпу, намекая: если Эдмон Мэй продолжит свои игры — она соберется и уйдет.
— Поверьте, сеньора, я не нахальный шутник, что домогается внимания красивых женщин. Я хочу попросить вас о помощи, но для этого я должен раскрыть вам тайну вашего происхождения.
— А в моем деревенском происхождении кроется тайна? — с сарказмом спросила Марианна, приходя в уверенность: “Какой-то вымогатель”.
— Да. Вы не Вильяреаль.
— А кто же я? Дочь вождя африканского племени? — Марианна издевалась, не скрывая этого. — Или русская княжна?
— Ваша настоящая фамилия — Лепелетье, — спокойно сказал Эдмон Мэй, а Марианна усмехнулась. — Вы — дочь “шоколадного короля” Жерара Лепелетье, который умер семь лет назад.
— И за эту “тайну” я должна вам отвалить, — Марианна специально использовала в своем лексиконе жаргонное слово, — солидную сумму — в песо, или во франках, а, может, в долларах? Что предпочтете, господин Мэй?
— Мне не нужны деньги, — постарался не заметить оскорбления Эдмон Мэй. — Мне, моему другу Антуану Дамиани и еще одной особе нужна ваша помощь, сеньора Марианна.
— Скажите мне наконец, что вам нужно, и мы распрощаемся.
— Я предполагал, что вы можете мне не поверить, поэтому захватил с собой вот это. — Ловким движением Эдмон Мэй словно колоду карт раскинул по столу газеты, на каждом экземпляре которых красовались различные портреты… самой Марианны!
Не сдержав удивления — где? когда? кто? — столько фотографировал ее? Ее, не любившую фотоснимков? — Марианна порывисто схватила ворох газет.
Она — на яхте. Но у нее нет яхты!
Она — на вечернем коктейле! В каком-то невообразимом платье-чешуе! Но у нее нет такого экстравагантного наряда!
Изумили и подписи под фотографиями, везде — Эстер Лепелетье. Все снимки — в разделе “Светской хроники”.
— Вы никогда не слышали фамилию Лепелетье? — сочувственно спросил Эдмон Мэй, на что Марианна растерянно ответила:
— Нет… — Но сейчас же в памяти всплыли слова Луиса Альберто об очень выгодном контракте, кажется, тогда прозвучала эта или сходная фамилия. Неужели кто-то интригует против Луиса Альберто? Взяв себя в руки, Марианна тихо сказала:
— Я все поняла! Эти газеты — фальшивки. Но во имя чего они сделаны? Если вы хотите чем-то шантажировать меня, то почему под фотографиями значится другое имя?
— Это имя вашей сестры, — шепотом сказал Эдмон Мэй. — Я глубоко сожалею о том, что нарушил размеренный ход вашей жизни, но жизнь вашей сестры — Эстер Лепелетье — сейчас в смертельной опасности… Никто не может принудить вас, заставить помочь, но…
То ли тихий голос незнакомца, то ли мягкая интонация, с которой были произнесены последние фразы — но что-то тронуло Марианну. Сердце ее дрогнуло. Душа подсказала: провидение опять столкнуло ее со странными, необычайными обстоятельствами, судьба вновь уготовила ей сюрприз…
— Вам надо расслабиться, — мягко подсказал Эдмон Мэй. — Может быть, виски?
— Нет.
— Тогда посоветую коктейль “Огни Парижа” — некрепкий, с запахом миндаля.
— Пожалуй, да…
3.
Пока Эдмон гнал своего красного “Ягуара” к Монмартру, Марианна, слушая его рассказ, размышляла о хитросплетениях людских судеб, о дорогах, которые выпадают на долю близких людей: милые, родные Вето и Марисабель сейчас “исследуют” Гавайи, Джоана и Карлос совершают свадебное путешествие по Европе, а она сама…
Сама она мчится к знаменитому островку вольности и искусства — к Монмартру — и слушает удивительную историю… о себе самой. Сказку? Легенду? Чью-то затейливую выдумку? Или все-таки правду?..
По версии Эдмона Мэя, Марианна родилась в богатейшей семье Лепелетье. Тогда, много лет назад, Жерар Лепелетье гремел по всей Франции как “шоколадный король”, добившийся себе и своей семье “сладкой жизни” богачей. Это потом к шоколадкам прибавились в фирме заводы, стройки, земли… Жерар Лепелетье, француз, был женат на испанке, которая подарила ему двух прелестных смуглых близняшек — Эстер и Марианну… Малышки были очаровательны: шустрые, веселые, с солнечными бесенятами в темных глазах, с дерзкими каштановыми кудряшками. Не случайно потом одну из них — Марианну — похитили… Большое горе выпало на долю Лепелетье. “Шоколадный король” все ждал, когда же запросят выкуп за маленькое сокровище, он готов был отдать “пол-царства” за дочку. Но требование выкупа так и не последовало. Говорят, что бонна, сопровождавшая коляску с близняшками в Тюильри и не уследившая за одной из двойняшек, потом волосы на себе рвала, да поздно…
Марианне нужны доказательства?… Она их увидит.
В своей студии-мастерской их встретил известный в среде художников Антуан Дамиани, прославившийся мягкостью и какой-то внутренней теплотой своих акварельных портретов, натюрмортов и пейзажей.
Его мастерская, две стены которой представляли из себя огромные окна с видом на Париж, сразу и навсегда поразила Марианну. Как в сказочном ларце, здесь всему нашлось место: стояли шелковые китайские ширмы, валялись шкуры медведя и леопарда, в двух больших аквариумах резвились красочные рыбки… И отовсюду на Марианну смотрела она сама — Марианна — каштановые локоны, синие глаза… Если верить Эдмону Мэю, то это — Эстер Лепелетье, возлюбленная Антуана Дамиани.
А сам Дамиани, очень худой, черноволосый, являл собой классический тип художника с Монмартра, как их представляла Марианна: в просторной бархатной блузе, но без берета. Он сразу бросился к ней. Потом остановился в двух шагах от нее и забормотал сбивчиво:
— Не верю… Эстер?… Ты разыгрываешь меня?… Эдмон, это она? Нет? Вы на самом деле — сестра? Да объясните же мне, черт вас побери!
— Я же обещал тебе разыскать и привезти двойняшку Эстер, — спокойно напомнил Эдмон. — Я сдержал свое обещание. Да не смотри ты на сеньору Марианну как на призрак с того света, это в конце концов просто неприлично!
Когда Антуан, взвинченный, экзальтированный, кое-как успокоился, и усадил гостей за чашкой кофе с пирожными, Марианне наконец стала ясна суть его просьбы…
Дело в том, что избалованная, взбалмошная Эстер Лепелетье, путешествуя в тропиках, подхватила редкостный вирус. Болезнь испортила ее кровь. Как объясняют специалисты, изменилась сама формула крови. Эстер похудела, ослабла. Ей назначили постельный режим в одной из элитарных клиник для богачей. Но ни отдых, ни лекарства не помогают. Необходимо срочное переливание крови, и врачи сбились с ног в безрезультатных поисках донора: нужной Эстер крови нет. И вот, когда Антуану уже казалось, что близок конец, что сам Бог не сможет спасти его Эстер, неожиданно вызвался помочь его ближайший друг — охотник и путешественник Эдмон Мэй, работа над чьими портретами доставила столько радости Антуану. Так вот: Эдмон начал говорить какие-то странные вещи о том, что якобы у Эстер есть сестра, причем не просто сестра, а двойняшка. Соблюдая осторожность, Антуан уточнил все у больной Эстер как бы между прочим. Да, подтвердила та, в далекие-далекие времена у нее была сестра Марианна, действительно близняшка, которую похитили с целью получения выкупа, но очевидно не сумели хорошо содержать и малышка, скорее всего, умерла. Во всяком случае, и мать, и отец лет десять искали ее и оба, умирая, были уверены, что вторая дочь давно ждет их на небесах.
— Слава Господу, вы живы! Вы живы, мон андж (мой ангел)! — выкрикивал Антуан, пожимая через сервировочный стол руки Марианны, так что она даже пролила кофе, а Эдмону пришлось шлепнуть бесцеремонного друга по рукам.
— Вы спасете ее! — то ли умолял, то ли приказывал Антуан. Мон андж! Мон ами! Вы спасете Эстер — и я буду вашим рабом навеки!
4.
Разве могла Марианна отказать?
О Боже, оказывается, у нее есть сестра, оказывается, Марианна родилась не в далеком мексиканском штате Гуанохато, а в самом сердце Европы — в Париже — просто голова идет кругом.
Что же делать?
Смешной вопрос самой себе! Конечно же, помочь сестре, помочь Эстер!
— Когда необходимо переливание крови? — спросила Марианна Антуана, и он рухнул перед ней на колени:
— Сегодня же! Сейчас же, мон андж!
Красный “Ягуар” за четверть часа домчал их до гостиницы, где остановилась Марианна. Ей показалось, что этот странный день вместил в себя пол-жизни: свидание с незнакомцем “У Франсуазы”, удивительные открытия, визит на Монмартр, а что еще предстоит? Ведь летний день долог…
И еще проблема: для переливания крови нужно лечь в клинику. Как объяснить все Луису Альберто? Может быть, ее удивительное прошлое так и должно остаться лишь ее прошлым. Нужно ли нагружать мужа новыми заботами?
Ее ангел, как посчитала Марианна, не спал в этот день: в гостинице лежала телеграмма от Луиса Альберто: “Милая Марианна! К великому сожалению, дела удерживают меня в Мехико. Надеюсь, ты не будешь скучать в блистательном Париже, если я задержусь дня на три. Сходи в роскошный ”Максим”, навести Лувр, погуляй по Булонскому лесу — три дня промелькнут как единый миг, а там и я подъеду.
Крепко обнимаю тебя и не выпускаю из этих объятий.
Твой навеки Луис Альберто.”
Само провидение избавило ее от лишних разбирательств и объяснений, обрадовалась Марианна и сейчас же послала мужу ответную телеграмму:
“Уже навестила Лувр, уже погуляла по Булонскому лесу, но впереди еще столько чудесного. Буду скучать. Но это не помешает мне и ”Максим” посетить, и заказать пару лишних платьев.
Шлю тебе из Парижа воздушный поцелуй и улыбку.
Всегда твоя Марианна.”
ЧАСТЬ II
ВО ИМЯ ЭСТЕР
5.
“Итак, судьба продолжает одаривать меня”, — подумала Марианна, когда “Ягуар” остановился перед коваными на старинный лад воротами частной клиники Брикмана, и сердце Марианны на мгновение замерло от тягостного предчувствия — ведь сеньора Сальватьерра прекрасно усвоила, что за все подарки судьбы в конце концов приходится дорого расплачиваться, а ей отмерено полной мерой: сначала возвращен любимый сын — нежный, порывистый, благодарный Вето, теперь — сестра, Эстер… Это имя носила женщина, ныне уже покойница, во что бы то ни стало желавшая отобрать у нее Луиса Альберто. Теперь же оказывается, что имя “Эстер” таит в себе не только коварство и жестокость соперницы, но родственную близость, кровную привязанность сестры.
Частная клиника располагалась в модернизированном старинном замке, вокруг которого простирался поистине роскошный сад — обособленный мирок со своими затерянными аллеями, благоуханными цветниками, небольшим озером с гротом.
На веранде, выходившей в розарий, Марианну встретил сам доктор Брикман — небольшого роста, полноватый, черноволосый господин, речь которого несмотря на драматичность момента была пересыпана шутками.
— Я ждал донора, а мне привезли вторую чудесную пациентку. Ну скажите, милая Марианна, за что такое счастье старому Брикману?
Усадив Марианну в кресло, доктор стал серьезен. Предстоит по сути тяжелая, сложная операция, как бы это получше объяснить несведущей в медицине Марианне: у Эстер Лепелетье в общем-то должна быть произведена практически полная замена крови. Сеньора Сальватьерра готова выступить донором, если формула крови совпадет? Тогда за дело.
Два быстрых умелых медика здесь же взяли у Марианны необходимую для анализа кровь. Пока ждали результата, доктор Брикман объявил гостье о своем решении: в любом случае не знакомить пока Эстер с Марианной, ибо еще не известно, как подействует это, пусть радостное, потрясение на мадам Лепелетье, ослабленную болезнью. Но доктор Брикман не злодей и, конечно же, он позволит сейчас Марианне взглянуть на сестру, оставшись незамеченной. Для этого они воспользуются медицинским глазком, через который наблюдают за пациентами сиделки.
“Глазок” на деле оказался небольшим окошком, которое в палате было зеркалом, больные были предупреждены и быстро привыкли к необходимому соглядатаю.
Задыхаясь от волнения, Марианна приникла к окну… И сразу почувствовала себя точно в бреду… Не каждому в его жизни приходится увидеть подобное, далеко не каждому…
На больничной койке с разметанными по подушке каштановыми локонами лежала… она сама!.. То же самое лицо. Тот же взгляд синих глаз. То же самое очертание губ. И что особенно поразительно — даже длина волос — такая же, как у Марианны. Полное, не поддающееся здравому рассудку сходство.
Кажется, Марианна тихо застонала от этого потрясающего душу впечатления, ведь Брикман — старый опытный врач — ласково прикоснулся к ее руке и прошептал:
— Ничего. Вы привыкнете. Это поражает в первые секунды, зато потом принесет много радости. Поверьте мне: я знаю близнецов — это счастливейшие люди — такое родство душ, такая любовь и взаимовыручка — немногим на Земле дано.
Результаты анализа как бы подтвердили магическое впечатление: полное совпадение формулы у Марианны Сальватьерра и Эстер Лепелетье.
6.
Ее предупредили, что возможны сильная слабость, потеря сознания, бред и дали пятнадцать минут для прогулки по розарию перед операцией.
На благоухающем сказочном Островке Роз Марианна быстро отыскала скамеечку и присела. Сжимая в руках маленькую икону, начала молиться. Когда вышептывала последние слова сердечной молитвы, подул ветер, и начался никогда невиданный Марианной ураган розовых лепестков. Алые, желтые, сиреневые лепестки кружились возле нее, тихо опускаясь на волосы и плечи…
Марианна и не заметила, как Эдмон Мэй остановился неподалеку и зачарованно наблюдал за этой дивной Царицей Роз, которая восседала на своем троне в райском саду…
— Вы все со мной, милые… — шептала Марианна. — Все будет хорошо, вот увидите: Эстер останется с нами, она не уйдет отсюда. Она не сможет уйти, я не позволю ей… Я сильная. Я росла на ранчо. У меня здоровая дерзкая кровь. Она вольет в Эстер новые силы. Я не расстанусь теперь с Эстер. И вы поможете мне. Вы все со мной, родные: Луис Альберто, Вето, Марисабель… Вы со мной сейчас…
— … И я с вами, Марианна!.. — невольно прошептал завороженный не только красотой, но и благородством Марианны Эдмон.
От неожиданности Марианна вздрогнула, стремительно обернулась.
— Ах, это вы, Эдмон!
“Похожий на льва”, он стоял неподалеку и смотрел на Марианну таким восхищенным взглядом, что она смутилась…
Какие-то странные ассоциации промелькнули в воображении Марианны… То ли залитая солнцем круглая поляна, то ли ярко освещенная прожекторами арена цирка… Лев… Настоящий лев со своей бронзовой гривой…
— Я хотел бы просить у вас прощения за то, что внес в вашу жизнь новые неприятные заботы…
— Да как вы можете так говорить, — мягко прервала его Марианна. — Вы помогли мне обрести сестру. Вы дали мне возможность выполнить мой родственный долг. Я благодарна вам, Эдмон.
Сама того не желая, она с такой теплотой произнесла последнюю фразу, что испугалась. Настороженно взглянув на Эдмона, Марианна словно утонула в том ласковом потоке, который он направил на нее. Ей казалось, что она знает его — с этим шрамом на щеке, с гривой неподатливых волос — уже целое тысячелетие. Ей показалось, что она помнит его…
Смутная догадка о тайне, которой владеет Эдмон, пронзила Марианну: как он мог найти ее? Ведь никто не смог. Значит, ему было изначально что-то известно…
Будто прочитав ее мысли, Эдмон Мэй сказал:
— Когда отхлынут все тревоги, я буду держать перед вами, Марианна, ответ. Я осознаю это.
— Какой ответ! Что вы! Вы ни в чем не виноваты, Эдмон, на все воля Божья…
— Но слишком часто проводниками Божьей воли на земле выступают люди.
— Вы хотите сказать, Эдмон, — недостойные люди?
— Разные люди, Марианна. Слабые. Или сломленные обстоятельствами. Но это длинный разговор. И он у нас впереди.
— Хорошо, — быстро согласилась Марианна. — Я вижу, что доктор Брикман делает мне знаки с веранды, пора.
Последнее, что услышала Марианна, покидая Остров Роз, были слова Эдмона Мэя: — Я счастлив. Я нашел вас.
ЧАСТЬ III
ВЫ ПОХИЩЕНЫ, МАДАМ
7.
… Сначала Марианна будто плыла по теплому морю. Потом лежала на берегу на раскаленном песке. Было томительно, душно, над ней склонялись люди, чьи руки в перчатках постоянно находились в движении…
… Потом ее несли куда-то…
… Еще она помнит долгую-долгую дорогу.
Сквозь дебри забытья и бреда все равно к Марианне пробивалось понимание того, что она помогает сестре. И Господь посылает им, двум близняшкам, разлученным и наконец вновь соединенным, сил и радости.
Поведя взглядом по бревенчатому потолку, Марианна поняла, что очнулась, и сразу вспомнила все: частную клинику, Эдмона, операцию, Брикмана.
— Что с Эстер? — прошептала она.
— Мадам пришла в себя! — раздался ликующий возглас. Он принадлежал худенькому, вертлявому мужчине с обезьяньим лицом, который прыгал вокруг ее тахты. Марианна обнаружила, что лежит уже не в клинике Брикмана, а, скорее всего, на загородной вилле, стилизованной под охотничий домик: оленьи рога на стенах, старинные мушкеты, бревенчатые стены.
— …Позвольте представиться. Меня зовут Андре. А вот тот в углу, жирный поросенок, — Андре показал на толстого, вялого мужчину, сидевшего на табурете, — он — Пьер.
— Операция прошла удачно? — слабым еще голосом спросила Марианна.
— О да, мадам! — весело откликнулся Андре, ловко манипулируя на столике кофейником и чашками. — Поздравляю вас со счастливым избавлением, мадам Лепелетье! Я сам, своими ушами-лопухами слышал, как Брикман оценил эту операцию — экстра-класс! Для вас все складывается удивительно удачно, мадам Лепелетье! А теперь минуту внимания и спокойствия. Сообщаю вам, мадам, что вы похищены. Да. Но куда похищены! На прекрасную загородную виллу! И всего на денек-другой.
— Перестань болтать, скажи условие, — пробурчал из угла вялый Пьер.
— О да, мадам, вы можете погостить здесь, пока не подпишете чек всего на пятьдесят тысяч долларов. Но что такое для вас, мультимиллионерши, пятьдесят тысяч — это все равно что для меня десять центов! Как видите, мы предпочитаем американские доллары…
Собравшись с силами, Марианна решила наконец прояснить ситуацию:
— Вы ошиблись. Я не мадам Лепелетье.
— Конечно-конечно, вы ее горничная, — захихикал Андре. — Все в полном порядке, мадам. Даже сервис будет на уровне ваших привычек. Как вы любите, утром — горячий шоколад.
Он поставил чашку на поднос.
— Но я по утрам предпочитаю крепкий чай, — прошептала Марианна.
— О-о, тогда в шею надо гнать этих мерзких газетных писак! Растрезвонили в “Светской хронике”: горячий шоколад!
“Наверное, Эстер любит шоколад, — подумала Марианна. — Больше не буду спорить. Даже к лучшему, что похитили меня, ведь Эстер ослабла после операции… Интересно, насколько опасно данное предприятие?” — Видимо, лекарства еще продолжали свое воздействие на организм, ведь Марианна почти не ощутила страха, более того: когда услужливый Андре суетливо поставил перед ней чашку крепко заваренного “Липтона” с ароматом жасмина, даже одобрила:
— Что может быть чудеснее жасминного чая летним утром?..
Андре хлопнул от восторга в ладоши и быстро записал что-то в блокнотике.
— Вы стараетесь запомнить мои привычки, Андре?
— Я хочу — с вашего разрешения, мадам, — проучить этих лгунов из “Светской хроники”: нечего подсовывать доверчивому читателю горячий шоколад для Эстер Лепелетье вместо обожаемого ей жасминного чая!
— Вы правы, Андре. Итак, я похищена, — весело подвела итоги Марианна. — Что вы со мной собираетесь делать: мучить? убить?
Андре выпучил глаза и протестующе замахал руками:
— Что вы такое говорите, мадам, Господь с вами! Кто перед вами?! Воры? Грабители? Да нет же! Перед вами — порядочные, достойные люди, верующие, добрые, справедливые, но — захотевшие чуть-чуть подработать!.. Или это возбраняется теперь?
— Это никогда не возбранялось, — улыбнулась Марианна, неожиданно ярко представив себе Эдмона Мэя: вот он стоит перед ней в розарии, и грива буйных волос словно горит на солнце. — Вы знаете, Андре, а меня уже похищали, однажды в детстве…
— Ой! Вы бы рассказали!
— Я ничего не помню.
— Жа-а-аль. Видимо, папаша Лепелетье отвалил тогда похитителям щедрой рукой!.. — помечтал о прошлом Андре.
— А он был очень богатым — Жерар Лепелетье? — простодушно поинтересовалась Марианна, на что Андре в восторге упал на ковер, бил ногами воздух и истерично выкрикивал:
— В “Светской хронике” я прославлю вас, мадам, за ваше чувство юмора! “Мадам Лепелетье как бы походя уточнила, насколько богат был ее отец, оставивший, как знает любезный читатель, оставивший ей многомиллионное состояние”!
8.
Диким вепрем мчался по больничному саду Эдмон Мэй.
Дело в том, что поначалу и сам Мэй, и Брикман были просто удивлены: Марианна, еще слабая, никого не предупредив, покинула клинику. Это показалось странным, но объяснимым: некоторые плохо переносят самую мысль о том, что пребывают в больнице, им хочется на волю. Эдмон бросился вдогонку за беглянкой в ее гостиницу. Но там ничего не знали. Подобная загадочность показалась Эдмону более чем подозрительной, и он спешно вернулся к Брикману, а тот за считанные минуты до появления Мэя обнаружил у себя записку, в которой похитители уверяли, что не причинят вреда мадам Лепелетье и будут заботиться о ее содержании у них в гостях ровно столько, сколько сама мадам пожелает…
… Между тем романтичный Антуан Дамиани, укалывая шипами свои длинные пальцы, плел для Эстер, сидевшей рядом с ним на той самой скамеечке в розарии, венок из желтых роз, поминутно восхищаясь то розами, то Эстер, то Марианной.
— … Ты просто — избранница Судьбы, Эстер! Получить в подарок такую сестру, как Марианна, — счастье. Более всего я ценю в людях самоотверженность. Наступает минута, когда вы должны наконец… увидеть друг друга, обнять, расцеловаться! — Антуан восторженно потряс венком из роз. — Обе вы уже достаточно окрепли…
Внимая своему давнему — иногда надоедливому, иногда забавному — любовнику, Эстер усмехнулась про себя: “Весенний болван!” Ее роскошное кимоно, в которое были вплетены десятки цветов, казалось, испускало радугу — и бабочки, привлеченные этим “Цветником”, кружились возле Эстер, но особенно докучали пчелы.
— Надо сказать Брикману, — пробормотала она.
— Пригласить его на прием в честь Марианны? Ве-ли-ко-леп-ная идея!
— Надо сказать о том, — резко перебила Эстер, — что здесь не пчельник! И я плачу Брикману не за пчелиные укусы!
Огромными от удивления глазами Антуан посмотрел на Эстер. Уж кому-кому, а ему слишком хорошо была знакома крайняя раздражительность Эстер. Ох как быстро она умела впасть в истерику, начать швырять вещи, оскорблять… Но раздражаться сейчас, в такой радостный день полного, как уверил их Брикман — исцеления? это было непонятно Антуану.
— Марианна похищена! — крикнул Эдмон, увидев Эстер и Антуана. — У Брикмана записка от них. Видимо, потребуют выкуп.
— О святая дева Мария! — запричитал Антуан. — Какое несчастье!
— Ай, брось! — отмахнулась от него как от назойливой пчелы Эстер. — Обычное дело с похищением, вымогательством и другими скучными вещами!..
— Похитители приняли ее за вас, Эстер, — пояснил Эдмон, намереваясь быстро уйти и приступить к выполнению задуманного: объехать кое-какие злачные места, где могут отыскаться следы похитителей, хотя, конечно — велик Париж…
— Неужели иначе?! — сардоническая усмешка тронула губы Эстер. — Нищих красть не будут!
Трудно сказать, содержался ли обидный для Марианны подтекст в этом заявлении Эстер, но Эдмон своим чутким сердцем уловил его: Марианна — просто “нищая” по сравнению с ней, купающейся в роскоши Эстер Лепелетье — злоба и досада охватили Мэя, и он сурово обронил:
— Но почему-то в критических ситуациях толстосумы вынуждены обращаться к нищим за помощью! — намек прозвучал столь ясно для всех, что Эстер сдалась:
— О Боже, Эдмон! Я вовсе не хотела никого обидеть. Я благодарна Марианне за ее кровь. Мы как бы вновь породнились с ней, — улещала она своенравного и крутого — не сравнить с размазней Антуаном! — Мэя.
— … А если уж о богатстве, — продолжал тот, — то Марианна владеет небывалым по нынешним тяжким временам сокровищем — великой отзывчивостью, способностью сострадать, и не просто сострадать — слезы лить умеют многие, — а готовностью действенно помочь!
— Золотое сердце, — прошептал Антуан и крикнул вслед уходящему другу: — Где тебя искать, если что?
— Не беспокойся обо мне. Подумай лучше о Марианне.
ЧАСТЬ IV
КОВАРНЫЙ ХОД
9.
… Более всего Эстер заело не то, что ее практически отчитал Эдмон Мэй, преподнеся ей лекцию о благородстве нищеты и порочности богатства, и не то, что Антуан с готовностью подпевал другу — более всего ее раздосадовала их реакция на сам факт похищения: ведь по сути опасность угрожала ей и только ей — Эстер Лепелетье. Эта свалившаяся на их головы неизвестно откуда Марианна была ни при чем — “пала жертвой обстоятельств”, как говорят в подобных случаях. Однако, и Эдмон, и милейший Антуан упорно делали вид, что не понимают проблемы и, приняв на себя роль освободителей, метались в поисках украденной.
Ну похитили — что с того?
Едва лишь разберутся в том, что им в руки попал не бриллиант “ЭСТЕР”, а фальшивка “МАРИАННА”, как сию минуту вышвырнут вон.
Саму Эстер похищали семь раз. Эстер знала правила игры. Никогда не подписывала чек более чем на сто тысяч. Никогда не подписывала чек сразу — тянула, играла на нервах похитителей, ибо знала: игры играми, но за ней — настоящая сила — деньги. Огромные деньги. И если похитители сделают любой неверный шаг, их уберут одного за другим: сначала — рядовых исполнителей, затем среднее звено координаторов кражи, а “на десерт” — и самих организаторов.
Лет десять при Эстер находился Жан — “мальчик для поручений” — довольно мерзкий на вид неопрятный детина с сальными волосами и лошадиной физиономией. Как паук, он держал в своих грязных лапах концы всех нитей, которые вели к различным группам вымогателей. Самое большее — через двое суток после похищения — он уже знал, куда надо стремиться за хозяйкой — и ни разу не ошибался. Эстер и платила ему за этот его небольшой, негромкий, но четкий бизнес.
Не ведая о деликатных миссиях Жана, Эдмон и Антуан должны были наперебой предлагать ей защиту и охрану, предостерегать ее, Эстер Лепелетье, от опасности, а они твердили одно и то же: Марианна-Марианна… Сразу отошло на второй, на третий, на пятый /!/ план счастливое исцеление Эстер — о нем даже не упоминали. Ее возлюбленный и его друг дуэтом пели: “О, Марианна!”.
А Эстер не привыкла находиться на задворках событий, и она сумеет отомстить тем людям, которые переакцентировали внимание всех и вся — на себя. Эстер умеет мстить. Она вовсе не зла, не коварна, но в нужные моменты может проявить силу воли.
… Такие странные мысли занимали мадам Лепелетье по дороге домой, на виллу “Терри” (уменьшительное от Эстер) из клиники Брикмана.
10.
Одна единственная “Терри” — умилилась Эстер — осталась верна хозяйке и встретила ее прежней роскошью, уютом и преданностью.
Горничная прослезилась от счастья, увидев госпожу, и доложила, что бассейн наполнен теплой морской водой.
… Обнаженная Эстер плавала в теплом бассейне, а дурашливый Антуан вместо того, чтобы восхищаться ею — русалкой! феей! богиней! — метался по парапету, приговаривая:
— Ну почему они не требуют выкуп? Почему?!
У него не хватало ума сообразить, что похитителям не нужно требовать выкуп. Приняв Марианну за Эстер, они добиваются ее подписи на чеке, а у той не хватает ума подписать чек: подпись, естественно, не совпадет — и “великомученицу”, Эстер усмехнулась, Марианну сразу не то что отпустят — вышвырнут, узнав о подмене.
…Наслаждаясь чашечкой горячего шоколада, Эстер сидела в столовой, представляющей из себя круглый зал с витражными окнами, сквозь которые пробивалось разноцветное солнце и красными, синими, желтыми, зелеными кусками ложилось на блестящий паркет, на пуховый, дивных узоров, ковер, на прекрасный мебельный ансамбль красного дерева.
Хозяйка роскошной виллы, она любила побыть в одиночестве, сосредоточиться — особенно перед важным решением. Отдохнув, позвонила в колокольчик и дала знак горничной пригласить Жана.
Всеведущий Жан не умел следить за собой, не умел делать комплиментов и не владел еще тысячей секретов политеса, но зато обладал одним бесценным качеством: сохраняя полную секретность, контролировал ситуацию.
В тот момент, когда Жан, по ее приглашению, развалился в кресле, Эстер своим тонким чутьем угадала, что он, как всегда с удовлетворением отметила она про себя — в курсе событий — да, таким людям стоит платить. Таких людей стоит отмечать. Таких людей стоит держать при себе.
С ним Эстер Лепелетье, блистательная Эстер, чувствовала себя раскованно, позволяла фривольные выражения и жаргонные словечки.
— …Ты, старый навозный жук, уж конечно, все знаешь!..
— О чем вы, хозяйка? — Жан, к удовольствию хозяйки, состроил до того подобострастную и тупую физиономию, что она от души расхохоталась.
— Я — о двойниках.
— О-о, мадам Лепелетье, двойников содержат все уважающие себя лидеры всех режимов: и демократы, и монархисты, и коммунисты. Вы тоже, — его мокрые губы тронула довольная усмешка, — решили завести двойника?
— За меня решила Судьба, — многозначительно уточнила Эстер. — Но мой двойник неожиданно пропал.
— Всякая неожиданность в Париже имеет свое обоснование, хозяйка.
— То “обоснование”, что выпало нам сегодня на долю, дорого мне обойдется?
— Не думаю. Нынешние похитители — ребята средней паршивости. Кроме того, можно подсказать им, что находка не такая уж ценная, как им показалось — двойник, — пренебрежительно сказал Жан, уловив настроение госпожи — и его госпоже это пришлось по душе: медленно, исподволь, подбираясь к зерну беседы, Эстер сказала:
— … Я ведь не политический деятель. Баллотироваться на пост президента не собираюсь. Мне как бы и ни к чему двойник…
Стараясь понять хозяйку как можно точнее, Жан впился в нее взглядом: от его понятливости всегда зависел размер вознаграждения.
— Двойник, действительно, вроде как бы и ни к чему, — осторожно заметил он, — но сестра…
— О ля-ля, Жан! Сестра — когда воспитываются вместе, день за днем едят, спят, гуляют бок о бок… — Эстер закурила длинную серебряную сигарету. — А когда столько лет жизни — да, что от тебя скрывать, Жан! — почти сорок лет прошло без сестры, поверь: двойник падает на твою голову как кирпич! — она сделала красноречивый жест, и Жан от радости, что наконец-то все понял, загоготал.
— … Для нее, конечно, — продолжала Эстер, уже нервно расхаживая по залу, — такая сестра — находка. Эта извечная унылая песнь: родственники! их материальные заботы! Начнет тянуть из меня, потом — будем откровенны, Жан, — начнет судиться, делиться — такова уж подлая людская порода!..
— И не говорите, госпожа! — готовно поддержал он. — Лучше вырастить в своей ванне пару крокодилов, чем иметь парочку ненасытных родственников.
Поощрив его чарующей улыбкой, Эстер сказала:
— Ну, видишь, ты еще лучше меня разбираешься во всех родственных штучках!
— Как не разбираться, мадам! Эти гиены меня совсем заели!
— А теперь заедят и меня, — с покорностью жертвы подвела итоги Эстер и жестко взглянула на своего “защитника”.
А уж он, зная свою службу, не подкачал: сразу вскочил на ноги и от души заверил:
— Не заедят, мадам!
— Да что ты, Жан! Заедят…
— …А вот и не удастся им! Я у вас — на что?!
Испугавшись продолжения, Эстер схватила со стола плотный конверт, в котором содержалось вознаграждение за то чудовищное, что предложила Эстер своему подручному…
Удивительны, непредсказуемы хитросплетения СУДЬБЫ…
Получив загадочное письмо, Марианна, поколебавшись, полетела навстречу неизвестности: будущее, в котором содержится какая-то тайна, манит нас, всегда манит, хотим мы этого или не хотим…
Странное письмо подарило ей Париж, Эдмона Мэя и — что самое дивное! — родную сестру!.. Можно ли было ожидать дивную встречу, прожив на свете около сорока лет?…
Ей пришлось пострадать за сестру, но это святое страдание. Марианна благодарила Провидение за то, что ей была дана возможность спасти Эстер.
Кто же мог подумать, что Эстер — захваченная обидой, ненавистью, сознанием своей единственности в мире, жаждой сатанинского мщения — столь чудовищно “отблагодарит” доверчивую Марианну?…
Сердце замирает, когда думаешь о том, что может выпасть теперь на долю любимой Марианны…
ЧАСТЬ V
Я НАЙДУ ВАС, СЕНЬОРА МАРИАННА
11.
…Тем временем Марианна, не подозревающая, что в лице родной сестры обрела сатану в юбке за своими плечами, вела почти политическую дискуссию с Андре и Пьером.
— …Давить надо вас, заевшихся гадов, — бурчал Пьер с ненавистью, а Андре сразу корректировал мнение своего компаньона:
— Пьер имеет в виду, мадам Лепелетье, что богатым людям следовало бы почаще думать о необеспеченных собратьях, в целях своей же безопасности.
— Однажды уже был правильный расклад, — продолжал Пьер, — гильотина, конфискация и раздел их имущества между работягами.
— Однако Франция все равно потом вернулась к монархии, — возразил Андре, — а в России этот дележ привел к тому, что сейчас страна, некогда могущественная, идет к полному краху.
— Да-да, — сочувственно поддержала Марианна, — я слышала, там голодают! Это ужасно… Подумать только: в конце двадцатого века цивилизованные люди — и голодают…
— Вам-то что за дело до этого! Вы-то обжираетесь!
— Стыдись, Пьер! Ты разговариваешь с дамой!
— А почему дама не стыдится своего вопиющего богатства?!
Почему дама не идет даже на малейшие уступки: и всего-то просим подписать чек на пятьдесят тысяч — безделица для миллионерши! А она вцепилась в свои гроши! Жизнь готова отдать, но не кошелек!
“А, может, и вправду — подписать этот пресловутый чек? — подумала Марианна. — В банке сразу же увидят, что подпись не соответствует подписи Эстер — и все само собой разъяснится…”
12.
В тот момент, когда Марианна принимала решение о чеке, Эдмон Мэй, мысленно подгоняя своего “Ягуара”, переезжал из одного бара в другой, расспрашивая и прислушиваясь к разговорам: Эстер Лепелетье была популярной фигурой и какая-то странная история то ли с ее исчезновением, то ли с похищением не могла пройти мимо ушей завсегдатаев веселых мест: карточных шулеров, девиц для нежных утех, бойких на перо журналистов и прочих и прочих…
… И куда бы ни стремил своего “Ягуара” Эдмон, он ехал к ней… К своей — чего уж скрывать от самого себя! — к своей… любимой. К Марианне.
На пыльной, душной дороге, маня его за тысячу верст, сквозь знойное марево — утренней звездой — Эдмону светило нежное, чудесное лицо Марианны…
Видевший многое, Эдмон, путешественник и охотник, странствовавший немало в своей жизни, заново познакомившись с Марианной (а он помнил ее пятилетней девочкой), — словно забыл все: и бурные ночи на Таити, и призывное мельтешение рулетки в Монте-Карло, и золотые пляжи в Канне, и пьянящее благовоние Гавайских островов…
Прекрасно знающий жизнь, Эдмон понимал, что сейчас Марианне практически не угрожает опасность: похитители в мечтах о поживе будут заботиться о похищенной и беречь ее пуще зеницы ока. Но его сердце влюбленного с трудом переносило то, что возлюбленная лишена свободы. С каждым мгновением он все больше хотел видеть ее лицо с бархатным взглядом синих глаз, с бронзовой россыпью каштановых волос…
Он не мог больше жить без этого лица.
“О Марианна!..” — невольно шептали его губы.
Он наслаждался вышептыванием этого имени — словно пил дивный целительный бальзам.
Он хотел слышать ее голос, ибо голос этот звучал для него божественной музыкой.
Исколесивший полмира, во многом пресыщенный впечатлениями, Эдмон Мэй и сам не подозревал о существовании в своей душе тайников, в которых до времени спрятались его романтичность и новые, свежие силы для Любви…
О Марианна! Откликнись. Пришли, если сможешь, весточку.
Я не могу без тебя, Марианна.
“Я найду вас, сеньора Марианна!”
Я найду тебя, любимая.
13.
Подписывая чек, Марианна, конечно, не могла не опасаться, как разовьются события. Ведь похитители, обнаружив у себя “Двойник” вместо “Подлинника”, могли прореагировать по-разному. Но Марианна осознанно пошла на риск. Надо было разрубить гордиев узел. Слишком многие сейчас, понимала Марианна, волнуются за нее: и Эстер, и Эдмон, и Антуан. А что подумает Луис Альберто, явись он в гостиницу и не застань нигде жену?…
После того, как Марианна оставила на чеке свой легкий росчерк, на душе у нее стало спокойно и даже весело, тем более что Пьер — ворчливый и злой — вскоре куда-то отъехал (“Проверить чек”, — поняла она) — а приветливый Андре, приободрившись, начал взбивать оригинальные коктейли.
— … Прошу отведать, мадам. — Он поставил перед ней высокий бокал, в котором горячий шоколад чередовался с банановым желе, сиропом киви и слоями фисташков. — Мое личное изобретение под названием “Ночь в тропиках”!
Мадам отведала — и пришла в восторг.
— Да вы настоящий Чародей Коктейля, Андре! Вы могли бы сделать как бармен головокружительную карьеру.
— Спасибо, мадам, спасибо.
— Я серьезно.
— Куда уж серьезнее, мадам. — В ответ сказал о чем-то своем Андре. — Жизнь серьезна и учит нас быть такими.
— Но даже серьезная жизнь не вытравила из вас, Андре, оптимизма и задора.
— Спасибо, мадам. Давно уже никто не был так добр ко мне, как вы.
Почувствовав парадоксальность ситуации (похищенная хвалит похитителя), оба засмеялись.
А между тем напряжение росло…
“Что они предпримут, обнаружив, что я не Эстер, а так называемый двойник? — думала Марианна. — Очевидно, это не вызовет восторга. Ну хорошо: Андре — человек незлой и сдержанный, но реакция раздраженного, вечно недовольного Пьера непредсказуема…”
14.
Тем временем Жан, верный цербер Эстер Лепелетье, который сразу после похищения пошел по верному следу, отрабатывая свой хлеб, гнал синий “Пежо” с двумя на все готовыми молодчиками к “охотничьему домику”, где ничего не подозревавшие Марианна и Андре дегустировали следующий коктейль “Улыбка юной Мальвины”…
Очень многие в эти минуты находились в пути… Причем, цель у них была одна — найти Марианну.
Не обладающий такой обширной, как у Жана, сетью агентов, Эдмон Мэй, опирающийся лишь на своих многочисленных друзей, тоже почти напал на след, но до выявления конечной цели — охотничьего домика — был еще далек. Ему предстояло несколько телефонных звонков и заездов…
Притормозив красного “Ягуара” у телефонного автомата — сколько раз твердил себе, что надо установить аппарат в машине, а все руки не доходили! — Эдмон позвонил Антуану Дамиани — тот, находясь на Монмартре в своей мастерской, с нетерпением ждал вестей и с жаром проклинал Эдмона, если последний долго молчал.
— Ну как, Эдмон?! Нужна моя помощь? Давай я подскочу к тебе!
— Слушай, помолчи хоть полминуты. Дай мне сказать.
— Я подъеду к тебе, куда прикажешь!
— Прикажу тебе пока сидеть на Монмартре и не отлучаться, ты можешь мне понадобиться.
— Есть новые сведения?!
— Кое-что есть. Меня вывели на странную фигуру, некоего Жана, подозрительного типа, которого я ищу сейчас. Но знаешь как это бывает в Париже: и в “Короне” его видели сегодня, и в “Золотом саду” видели, и в “Раю на дне” мелькал — а точных его координат пока не удается обнаружить.
— А вот я бы тебе помог, Эдмон!..
— Нет, — сурово, будто предчувствуя, насколько важно сейчас пребывание на месте Антуана, сказал Эдмон, — мне нужен человек на связи, притом такой порядочный и надежный, как ты… — он дал отбой.
Польщенный такой характеристикой своей персоны, Антуан взмахнул руками, покачал головой: “Ну что поделаешь с этим Сорви-Головой Эдмоном!” — рухнул в кресло и выпил стопку “Наполеона”…
Весело насвистывая — о странность для его угрюмой натуры! — подгонял свой коричневый “Ситроен” и Пьер…
Итак, Судьба и самая Жизнь любимой Марианны поставлены на карту… Поставлены на карту ее родной сестрой Эстер… В борьбу незримо вступили Демон Зла, покровительствующий Эстер, и Ангел, опекающий Марианну…
Так хочется, чтобы победил Ангел…
Но всегда ли в жизни Провидение оказывается сильнее Демона Зла?
Далеко не всегда…
И нам сейчас надо молить Бога за Марианну.
“Я найду тебя, Марианна”, — словно в бреду шептал Эдмон, не замечая ни бешенной скорости “Ягуара”, ни мелькающих за окном пейзажей…
Много лет я шел к тебе, родная.
Я шел к тебе не для того, чтобы потерять…
Я полюбил тебя еще мальчишкой. Ты была маленькой прелестной Шоколадкой, когда моя мать, Азалия, принесла тебя к нам в балаган, и я сразу полюбил тебя, сразу и навсегда…
Любящее сердце Эдмона Мэя летело быстрее “Ягуара”, быстрее ветра, быстрее вздоха — ведь впереди вместо солнца ему светило лучезарное лицо МАРИАННЫ…
ЧАСТЬ VI
ЛОВУШКА
15.
Едва лишь возле домика заурчал мотор, Андре проворно выскочил из комнаты, оставив Марианну одну. Кто же приехал?…
Выглянув в окно, Марианна увидела, как Пьер — а это был он — что-то объяснял Андре. К удивлению Марианны, оба вернулись к ней в прекрасном расположении духа… “Неужели милая Эстер нашла их и дала за меня выкуп?” — подумала она, и слезы умиления, слезы восхищения сестрой навернулись на глаза Марианны. О Боже, сколь часто мы бываем слепы, оценивая поступки наших родных и друзей…
Конечно, Марианна и предположить не могла, что ее подпись сработала, а между тем это оказалось именно так: генетика преподнесла близнецам сюрприз, который распространился не только на их внешность… Никто в банке даже не усомнился в подписи мадам Лепелетье. А слух о ее похищении сюда не проник, хотя уже витал в менее достойных местах, а именно: в барах. Парадокс жизни: посетители менее достойных мест иногда — и даже частенько! — показывают себя более осведомленными, ловкими и приспособленными к различным козням Судьбы.
Искренне радуясь за свою подопечную, Андре ликующе объявил:
— Вы свободны, мадам!
— Как?!
— Как птица, мадам! Как вон то облако, которое летит, куда захочет!
— О, так это прекрасно, Андре! Сейчас я приведу себя в порядок — и поедем. У меня есть десять минут?
— Сколько угодно, мадам! Хоть час. Не торопитесь, мадам. Все будет чудесно, мадам! Какая вы умница!
В эти секунды Жан и двое его молодчиков, припарковав машину неподалеку, подбирались к охотничьему домику, соблюдая профессиональную осторожность.
Жану стоило лишь взглянуть на окно, как он сразу же увидел в нем мелькание знакомого силуэта — “двойник” его хозяйки сновал по комнате.
— Ну, ребята, птичка в ловушке, — сказал он подручным. — Вам остается посторожить, дождаться удобного момента, когда два ее телохранителя отвлекутся, и спокойно сделать свое дело.
— Ты что, Жан, первый год нас знаешь?! Не обижай.
— Да это я так, к слову. Вот задаток. Ну, ребятки, я отбываю. Бонжур!
16.
С легким сердцем напевая праздничную мелодию Шопена, Марианна, ничего не подозревая о скрытой за кустами смертельной опасности, собиралась в дорогу — а ехать она решила прежде всего… к Антуану в мастерскую. После заточения ей почему-то сразу захотелось на этот Островок Вольности. Не в гостиницу, не в клинику Брикмана, а именно туда — на прелестный, прославленный во всем мире как уголок веселых и добрых людей — Монмартр. И она решила подчиниться своему желанию, не зная, как это повлияет на ее Судьбу…
Еще ей захотелось срезать веточку в саду — на память о своем забавном приключении. И если бы Марианна подчинилась этой прихоти, то…. Но она, слава Господу, раздумала: некогда, надо спешить к друзьям. Весьма довольные и летним днем, и мадам Лепелетье, и просто жизнью, Андре и Пьер с большим почетом эскортировали драгоценную “мадам Лепелетье” к своему коричневому “Ситроену”, на что в кустах тихо чертыхнулись — операция усложнялась! — и поспешили к синему “Пежо”, который, на счастье, оставил им предусмотрительный Жан.
… На шоссе синий “Пежо” мчался за коричневым “Ситроеном”, удерживаясь на приличном расстоянии от него, дабы преследуемые не заметили этого — чего они, кстати сказать, вовсе и не могли заметить, потому что Андре с Пьером пребывали в состоянии эйфории от полученной огромной для них суммы в пятьдесят тысяч долларов, а Марианне и в голову не могло прийти, что за ней могут следить.
17.
Невозможно описать, как удивился и обрадовался эмоциональный Антуан появлению у него в мастерской Марианны. В первые секунды он даже принял ее за Эстер, хотя Эстер практически не появлялась у него.
— Ты, Эстер?!
— О нет! Марианна.
— Марианна! Откуда?! Как?! О благодарение небесам! Марианна! Мы все мечемся в поисках! О святый Боже! Хоть бы позвонил Эдмон! Располагайтесь, Марианна! Надо принять ванну! Да не молчите же! Рассказывайте! Где вы были? Что с вами стряслось?!
Тронутая столь бурной и неподдельной заботой, Марианна принялась за свое повествование, не подозревая, что у подъезда, ведущего в мастерскую-студию, двое в синем “Пежо” мечтают продолжить это повествование, а, вернее, завершить его…
— Считай, птичка в клетке.
— В клетке-в клетке! Жан тоже так говорил там, около охотничьего домика! А она упорхнула!
— Ну уж отсюда не упорхнет, некуда.
— Как некуда?! Париж велик!
— Париж становится тесен, когда мы с тобой беремся за дело. Никуда она не денется, выйдет когда-нибудь, не сомневайся. — Такой беседой двое молодчиков, подручных Жана, коротали время, поджидая свою жертву — Марианну.
… А она в эти мгновения остановилась перед одним полотном Антуана, не замеченным ею во время первого визита.
По круглой арене цирка шествовал красавец лев с огненной гривой, за которую вцепились двое детей, сидящих на львиной спине: мальчик лет восьми с такой же, как у льва, гривой бронзовых волос, и девочка лет пяти с россыпью светло-каштановых локонов. Арена была освещена прожекторами, и ослепительность этого света была передана Антуаном с такой искусностью кисти, что Марианне захотелось потрогать алый бархат арены, захотелось погладить девочку по ее шелковистым волосам и ласково потрепать за его вихры мальчишку. Какая-то теплая волна нежности прихлынула к душе Марианны, когда она смотрела на эту картину. И почему-то сразу вспомнился Эдмон Мэй — “похожий на льва”…
— Что вы такое рассматриваете? — поинтересовался Антуан, выскочивший в зал из своей мини-кухни при мастерской. — А-а, это, — многозначительно протянул он.
Уловив в его тоне интригующие нотки, Марианна сразу поинтересовалась:
— А вам чем-то особенно дорога эта картина?
— Ну, как сказать… В общем-то она особенно дорога Эдмону.
— Чем же?
— Видите ли, Марианна… — Антуан колебался, стоит ли рассказывать. — Эдмон — необыкновенный человек…
— Мы всегда считаем своих друзей удивительными, — возразила Марианна, со страхом чувствуя, что ее сердце забилось при упоминании имени Эдмона. Что за чушь! Малознакомый человек! Это все нервы. Так нельзя.
— Нет, это не дружеское одолжение с моей стороны — такая характеристика. Он ведь на самом деле объездил весь мир и заметьте: не всегда на автомобиле и самолете. Он путешествовал на верблюдах — а это, доложу я вам, — зловредные и богатырски сильные существа. Он охотился на слонах в Индии. Он выслеживал в пампасах бизонов. Ловил обезьян для зоосадов в джунглях. Но и эти его похождения — не самое главное. Эдмон — человек редкостной души. Вы бы видели, как он взвился, как он ринулся на помощь, когда похитили вас, сеньора! — любезный Антуан при этих словах наклонился и поцеловал руку Марианны, а она вспыхнула, словно девочка: ей показалось, что чувствительный Антуан прочитал ее мысли об Эдмоне, которого ей так хотелось увидеть…
— … Эдмон и сейчас в поиске, — как бы невзначай продолжал Антуан. — Молю Бога, чтобы он скорее позвонил.
— Да-да, конечно, — смешавшись, согласилась она. — Тратить энергию на поиски уже найденного — обидно. Конечно, лучше бы ему позвонить…
— О! Не сомневайтесь, он не замедлит. Я у него здесь на связи. Так вернемся к интересующей нас работе. Дело в том, что Эдмон родился в своеобразной семье — семье бродячих циркачей. Его отец был сильным человеком — укротителем диких зверей. Был много раз ранен ими. И погиб на арене…
Марианна охнула.
— … Простите, Марианна, но прошлого не изменишь.
— Это вы меня простите, Антуан, — нервы…
— … А мать Эдмона — Азалия — потрясающая женщина, сейчас уже старуха, — жива. У нее чудесная крохотная квартирка здесь, неподалеку. Старуха, она так и не состарилась, доложу я вам. Видите ли, у Азалии — цыганская кровь, а они — не стареют — цыгане, они — вечные дети… Что-то от этой детскости сохранилось и в суровом Эдмоне. Этот мальчик на полотне, как вы уже догадались, — Эдмон.
— А девочка? — поинтересовалась Марианна.
Но в это мгновение в дверь студии позвонили.
Антуан открыл. На пороге стоял молодчик из синего “Пежо”.
— Я из “Черного кокоса”, — назвал молодчик бар, что поблизости. — Вы заказывали бренди и сигареты? Я принес.
— Нет-нет, вы ошиблись, — сказал Антуан и закрыл дверь, но и минуты разговора было достаточно для визитера, чтобы убедиться: будущая жертва на месте.
18.
— Что ж, мне пора, — засобиралась Марианна минут через десять после визита, на который оба они не обратили никакого внимания — засобиралась навстречу своей… смерти?
— О! Как будет расстроен Эдмон, когда позвонит! — посетовал Антуан. — Я и сам удивляюсь его молчанию: он не звонит вот уже целый час!
— Ничего. Гостиницу вы знаете. А мне пора. Туда мог приехать мой муж. Он обещал. Просто дела задержали его в Мехико. Кроме того, там может быть телеграмма и от моих детей. Они у меня отдыхают на островах. Тоже потеряли меня и, видимо, волнуются. — Марианна чувствовала, что говорит сбивчиво, неубедительно, что ее большое желание — увидеть Эдмона Мэя — сквозит во всех ее пугливых фразах — от этого она заторопилась еще больше…
Она уже подошла к двери.
Она уже переступила порог…
…За которым…
…Ее ожидало…
УЖАСНОЕ…
…Но в эту самую секунду…
… Зазвонил телефон!
Это был Эдмон Мэй. Его любящее сердце удержало Марианну от последнего рокового шага.
— Это ты, Эдмон! — восторженно завопил в трубку Антуан. — А у нас — сюрприз! Для тебя! Здесь Марианна! Да! Здесь! Она! Сама нашлась! Да! У меня! Даю трубку! Она хочет уходить!
Когда Марианна взяла трубку и чуть слышно сказала:
— Добрый день, Эдмон, — то услышала его ровный, приказной голос:
— Вы и шага не сделаете без меня, Марианна.
— Но… я…
— Вы слышите меня. Я запрещаю вам выходить на улицу. Сейчас я за городом. Около того охотничьего домика, где, видимо, недавно…
— Да-да, была я!
— Так вот: вы дождетесь меня.
— Но…
— Обещайте мне.
— Я не знаю… — растерянно сказала Марианна.
— Вы дождетесь меня.
— Хорошо, — сдалась она.
После этого Эдмон повторил свое приказание Антуану, и тот заверил друга, что уж теперь-то он не выпустит Марианну, ибо она стала слишком лакомой приманкой для всяких мошенников. Более того, ожидая Эдмона, он не только не выпустит из своего плена Марианну, но и позвонит Эстер, обрадует ее, пригласит к себе — и они все вместе — Марианна, Эдмон, Эстер и он, Антуан, — закатят грандиозный пир в его мастерской, пир, о котором еще долго будут вспоминать старожилы Монмартра…
19.
Высокое напряжение этого насыщенного дня сказалось на Марианне, да и переливание крови дало себя знать: она совсем ослабла. Заметив это, предупредительный Антуан бросил на диван за ширмой разноцветные, расшитые изумрудными драконами подушки и одеяло.
— Умоляю вас, Марианна, отдохните полчасика. Чтобы встретить Эстер и Эдмона — новой, свежей, полной сил и энергии!
Доводы Антуана были столь естественны и убедительны, что с ними нельзя было не согласиться: какая радость Эдмону и Эстер увидеть перед собой замученную, вялую Марианну? Надо отдохнуть.
Пока Марианна отдыхала за ширмой, Антуан набирал код телефонного номера Эстер. Наконец-то, через десять минут, ответила горничная:
— Нет. Мадам нет дома. Что ей передать? Нет. Не знаю.
От досады Антуан даже швырнул трубку. Великолепный план встречи двух любящих сестер срывался!.. Он живо представил себе, как было бы чудесно: как закричала бы от радости Эстер, услышь она, что Марианна — нашлась, что Марианна — жива и невредима, что за несколько дней прочно вошедшая в их сердце Марианна, любимая Марианна — вновь вместе с ними!
А виновница торжества уснула сразу же после того, как ее усталая голова коснулась подушки… По изумрудному шелку разметались каштановые локоны, столь похожие на локоны девочки, что сидела на спине могучего льва…
20.
Пробудилась Марианна от голоса Эстер.
Эстер! Милая… она прилетела, как только узнала, что сестра нашлась, — с теплотой подумала Марианна, быстро протирая глаза и собираясь выйти из-за ширмы.
— … Легко же распоряжаться чужими средствами! — кричала Эстер.
— Но, уверяю тебя — это недоразумение, — увещевал ее Антуан.
— Тебе бы, дорогой, такое недоразумение! Оно обошлось мне в пятьдесят тысяч!
— Но благодаря этим ничтожным пятидесяти тысячам ты вновь обрела сестру!
— Спасибо! Но уж слишком дорого!
— Да что с тобой, Эстер! Ты будто невменяема сейчас!
На удивление быстро, несмотря на сонное состояние, Марианна поняла все: оказывается, ее подпись в банке приняли за подлинную. Вот почему Андре и Пьер так довольны: их операция прошла как по маслу… Знай это Марианна, она никогда не стала бы подписывать чек… Но кто мог подумать, что и подписи сестер совпадут?
Желая как можно быстрее все объяснить Эстер, Марианна вышла из-за ширмы, что вызвало крайнее удивление Эстер.
— Ах, так ты — здесь, дорогая сестрица! Вот уж в истинном смысле этого слова — дорогая! — завопила Эстер и далее не дала сказать Марианне и слова, продолжая кричать: — А вы, оказывается, уже спелись!.. Неплохо! Одна — подписывает чеки! Другие — с распростертыми объятиями принимают мошенницу! Но я докажу! У меня сильнейшие в Париже юристы! Так просто вам меня не обвести вокруг пальца!
Рванувшись к двери, она распахнула ее ногой, оттолкнула Антуана и уже у лестницы продолжала грозить: — Я выставлю вам штраф в тройном размере — и вы заплатите как миленькие!
Марианна и Антуан впали в столбняк.
Марианна осела в кресло.
Антуан же так и стоял на пороге, не веря ушам своим. Какая-то сумма — вовсе небольшая для миллионерши Эстер — оказалась роковой в ее отношениях с родной сестрой, с друзьями. Пребывая в шоке, Марианна и Антуан никак не могли взять в толк происшедшее.
Тяжелыми шагами всегда такой легкий Антуан вернулся в студию и сел прямо на паркетный пол.
Дверь была распахнута.
21.
…Один из молодчиков, тот, что стоял у входа в подъезд, дал второму сигнал: слышен стук каблуков. Какая-то дама, возможно, интересующая их — сейчас станет ясно — даже не воспользовалась лифтом — бежит по лестнице… Внимание. Готовность.
Надо сказать, что до этого занятые лишь теми, кто выходил из подъезда, молодчики не обратили внимания на входившую туда даму, тем более что Эстер, не желая быть узнанной на Монмартре, закрыла лицо шляпой.
Сейчас же, сбегая по лестнице, находясь от злобы в невменяемом состоянии, Эстер сорвала с себя шляпу.
Отдавая смертельное распоряжение Жану, она и предположить не могла, что, в силу удивительного сходства с сестрой, может сама оказаться жертвой. Сознание своей исключительности, неподвластности обстоятельствам зашорило ей глаза.
— Она, — кивнул головой один из нанятых Жаном по указке Эстер, а другой не заставил себя ждать — прыжком леопарда выпрыгнув из машины, нанес Эстер смертельный удар по голове…
Так Эстер оказалась в собственной ловушке, которую приготовила для Марианны…
Как говорят в народе, “Ангел Марианны не спал в эти минуты”.
Провидение вновь спасло любимую Марианну…
22.
С бешеным криком:
— Марианна! Марианна! — в студию ворвался Эдмон Мэй.
И Марианна, и Антуан вяло подняли на него глаза, когда Эдмон, застыв на пороге, хрипло прошептал:
— Марианна — убита. Моя жизнь — кончена.
Антуан, вздрогнув: “Эстер! Любимая!..” — показал:
— Вот она.
— Я жива, — тихо сказала Марианна.
И тогда обычно хладнокровный Эдмон Мэй хрипло сказал:
— Убита… Эстер. — Затем медленно, как во сне, будто не веря себе и опасаясь страшного пробуждения, Эдмон приблизился к Марианне, притронулся к ее руке, притронулся к ее лицу, цепенея от безумного счастья…
Наконец прошептал:
— Жива…
ЧАСТЬ VII
ИСПОВЕДЬ
23.
Никто, конечно, не ожидал, что после таких бурных потрясений далее развернутся события еще более удивительные…
…Нет, Эстер не убили. Судьба на сей раз оказалась милостива даже к “двойнику” Марианны. Но рука палача тяжелым ударом — тем ударом, который волей Эстер был направлен на Марианну и лишь Волей Провидения отведен от нее — повредила мадам Лепелетье затылок, и теперь Эстер вновь лежала в клинике Брикмана, а Марианна неотлучно находилась при ней.
Осталась ли бы Марианна рядом с грешной сестрой, узнай она истину? Чудовищную истину? Вполне возможно, что осталась бы и продолжала бы выполнять свой долг, ибо по жизни Марианну вели Добро, Вера, Благородство — столь редкостные в наши суровые времена и тем более ценные качества души щедрой и безбрежной в своей любви к ближнему.
Затаив дыхание, Марианна с тревогой всматривалась в “свое” лицо на подушке — мертвенно бледное лицо Эстер с оттенком синевы. Лицо, из которого жизнь словно ушла на время. Чувствовалось, что ранее неподвластная козням Судьбы Эстер Лепелетье находится сейчас на грани между Жизнью и Смертью, на той грани, которую ей так нетрудно в эти роковые часы переступить, чтобы душа отлетела… в Царствие Небесное, как считала Марианна.
Но на самом деле, как мы знаем, эту грешную душу не приняли бы в раю — и целую вечность томиться бы ей в сатанинской преисподней, вместе с другими великими грешниками…
Любовь Марианны и заботы врачей удержали Эстер в цепи живых. И вновь Марианна, во второй раз, подарила грешной сестре свою целительную кровь.
Десятки датчиков были подведены к казавшемуся безжизненным телу Эстер, врачи и медсестры колдовали над ней день и ночь, а Марианна пугливо, с болью смотрела на Брикмана: неужели я потеряю сестру, которую нашла только что? Возьмите мою кровь, возьмите мое время — сон, отдых — распоряжайтесь всем, что принадлежит мне, — но не пускайте сестру туда… — молили бездонные синие глаза Марианны, и Брикман, обычно терпеливый Брикман, иногда не выдерживал и убедительно шептал ей:
— Поверьте, сеньора Сальватьерра, сказать, что мы делаем все возможное, было бы неверно, потому что мы делаем сейчас и невозможное, но… мы не боги, сеньора Сальватьерра!
Долг перед семьей — перед родными Луисом Альберто, Вето и Марисабель — отступил сейчас на второй план, потому что, как явствовало из их телеграмм, они были пусть заняты, пусть подвержены каким-то делам и суете, но — самое главное, благодарение Богу, они были живы и здоровы… Занятый своими делами (и самое интересное в том, что дела эти, как вспомнила Марианна, связаны с мексиканским отделением фирмы Лепелетье), Луис Альберто прислал телеграмму с просьбой подождать его еще дней пять — и Марианна отбила ему беззаботную телеграмму, не желая в столь скудных посланиях разъяснять столь странные, запутанные жизненные обстоятельства, в которых она и сама до конца не разобралась: впереди был разговор, обещанный ей Эдмоном Мэем, разговор о давнем ее похищении.
24.
Только что вернувшись из клиники Брикмана — где Эстер пока так и не пришла в сознание — Эдмон и Антуан выпили для бодрости по бокалу мартини, но лучезарный, рубинового цвета мартини не взбодрил их, расстроенных, и Эдмон, уложив Антуана отдохнуть, варил кофе для двоих на маленькой кухоньке, что примыкала к студии.
Упрекая себя в бездушии: ведь Эстер так плохо! — Эдмон не мог сдержать теплой волны счастья, поднимавшейся со дна его души: полчаса назад он видел Марианну! — этим все сказано.
По совету матери, старой многомудрой цыганки Азалии, Эдмон смешал несколько сортов кофе для изысканности вкуса и экзотичности аромата. Подобно Азалии колдуя над медной туркой, он не отходил ни на шаг от божественного напитка, зная его дурной, вспыльчивый характер: чуть измени кофе во время приготовления и он сразу же, разъярясь, выплеснется, а тогда уж это не кофе, а коричневая бурда, тогда уж начинай колдовать сначала…
Он слышал с кухни, как позвонили в дверь студии, как Антуан расслабленно от горя — он по-прежнему любил эту взбалмошную, эту часто унижавшую его ведьму Эстер! — спросил по динамику, кто там.
— Это я, господин Дамиани! Это я! — раздался громкий, неинтеллигентный мужской голос.
— Да кто — вы? — с тихой досадой переспросил Антуан.
— Я! Я — Жан Дюкло!
— … Извините, я не помню вас.
— Вы вспомните, господин Дамиани — как пить дать — вспомните, когда увидите! Я — на поручениях у мадам Лепелетье!
— Хорошо. Заходите.
Мельком заглянув в студию с кухоньки, так что вошедший даже не заметил его, Эдмон увидел неряшливого детину с лошадиной физиономией и непромытыми волосами: и как изысканная капризная Эстер могла прибегать к его услугам? Не мое дело — решил Эдмон и продолжал возиться с кофе: следовало уследить тот момент, когда кофе начнет подниматься — и сбросить в турку щепотку соли — для пикантности вкуса.
— Я к вам по делу, господин Дамиани, — хрипел детина, которому Антуан предложил кресло и горячительные напитки на выбор. Естественно, мартини и ликерам Жан предпочел двойную порцию виски. Заглотнув “Блек хос”, Жан покачал головой и признался: — Вот уж не знаю, с чего и начать.
— С конца, — горько посоветовал Антуан, хотя даже не предполагал, о чем пойдет речь: может быть, этот Жан — да, он видел его у Эстер раза два, вспомнил Антуан — напал на след подонков, покушавшихся на жизнь Эстер?
— Мадам Лепелетье тяжко ранена. Но, поверьте, господин Дамиани, я не виноват.
“Значит, Эстер содержала его для страховки, — понял наконец Антуан. — И как я сразу не догадался? А вообще-то держать при себе эдаких ”представителей народа”, людей дна… — наверное, неплохой ход со стороны Эстер — но, к несчастью, и это ей не помогло…”
— Так ты был телохранителем у мадам?
— Оно почти так. Я выпью еще?
— Конечно-конечно. Так почему же ты не сопровождал ее в тот роковой день?
— Да, как вы помните, господин Дамиани, я редко сопровождаю ее. У меня была другая задача, другой маневр, так сказать. Я был у нее, как говорится, на всякий случай… — Жан хлебнул еще.
“Э-э, да эдак ”представитель народной гущи” опорожнит мой бар”! — с иронией подумал Антуан, пытливо глядя на “телохранителя”, не сохранившего здоровья Эстер: зачем же он припожаловал?
— Ищу вашей защиты, господин Дамиани. Я не виноват. Госпожа не поверит. Но я не виноват. Я все сделал как надо.
“Боится, что после покушения Эстер откажется от его услуг”, — понял Антуан, а Жан продолжал довольно несвязно — речь его была косноязычна, засорена жаргонизмами. Слушать его было неприятно, и Антуан с трудом подавлял какую-то органическую неприязнь к этому малому.
— Она как пить дать теперь расправится со мной, — с придыханием сказал Жан.
От такого неожиданного поворота в разговоре Антуан даже фыркнул:
— Кто?! Эстер? — он чуть не захохотал: хрупкая, утонченная Эстер — против этого бугая? Она — расправится? Она — любящая свежие пармские фиалки, обожающая Шуберта, рыдавшая, когда ее любимый дог Фредди повредил себе лапу?
В ответ на фырканье и гримасы Жан посмотрел на него тяжелым взглядом и тихо сказал:
— Вы не знаете ее, господин Дамиани…
“Ну конечно! — даже восхитился такой наглостью Антуан. Я не знаю Эсти! Я — выносящий на своих артистических плечах все ее капризы! Я ее не знаю! А он — знает! Наглость этих простолюдинов переходит все границы! Я не знаю Эсти!..”
Щедро отхлебнув виски, Жан между тем продолжал хрипеть: — Однажды в баре “Рояль” одна несчастная девица, Мари, в общем, “цветок асфальта”, по пьянке опрокинула на платье госпожи Лепелетье бокал шампанского… Не нарочно, а по пьянке. Но госпоже показалось, что нарочно…
“И долго еще мне выслушивать этот бред?” — устало подумал Антуан, покосившись на кухоньку: Эдмон не хочет выходить, ну и прав по-своему: пришел человек его любовницы, ему, Антуану, и мучиться с ним. “Пусть хлебнет еще, и выпровожу, под предлогом того, что надо работать…”
— …Наутро девица, эта самая Мари, погибла под колесами автомобиля…
— Ну что ты плетешь, Жан? — фамильярно укорил Антуан. — На что ты намекаешь? Мало ли девиц в Париже попадает под машину?
— Не знаю, много или мало, а только знаю крепко: если кто, упаси Бог, становится на пути госпожи, — тому несдобровать, клянусь. Как вышло и с этой госпожой. С ее двойником.
— С каким двойником?
— Ну, с приезжей госпожой.
— Ты имеешь в виду сеньору Сальватьерра? А что с ней вышло?
— А то! — огрызнулся вдруг Жан и неожиданно для Антуана впал в истерику. Никогда ранее не видевший истерики у таких здоровых крепких ребят, как Жан, Антуан опешил. А Жан между тем вопил, вскакивал, бегал по студии и плакал — настоящими слезами!
— А то! — кричал он задыхаясь. — А то, что мне теперь не жить! Она порешит меня! Как хотела порешить эту свою сестру! Ведь это я по ее велению нанял двоих! И они повели ту от самого охотничьего домика! Кто ж мог знать, что черт попутает карты и что госпожа в бешенстве сама кинется к вам сюда, а та[1] тоже сюда подъедет! Кто ж их, шальных, разберет! Еще похожи, как две свечи — не отличишь, черт бы их побрал! А я знал?! Я знал, что она сама припрется сюда — сама себе на погибель?! Я знал?! А теперь она, как пить дать, с меня взыщет! Угробит! Не-е, она не пожалеет. Меня? Не пожале-е-ет! Сестру родную не пожалела — где уж меня, болвана, пожалеть! Вот я и молю вас, господин Дамиани: вы ее дружок, заступитесь за меня Христа ради! Растолкуйте ей, что не виноват я — черт все запутал!..
И по мере того, как Жан, всхлипывая и хрипя, вновь и вновь повторял детали страшной истории, чудовищная суть преступления прояснялась и для Антуана, который огромными глазами смотрел на Жана как на выходца с того света, как на посланца Ада, и для Эдмона, который, забросив свой кофе, залив плиту, осел на пуфик и так и сидел в кухоньке, не умея совладать со своими впечатлениями…
Многое в жизни видывал Эдмон Мэй, многое слыхивал бывалый путешественник и охотник, но чтобы такое…
Исповедь Жана произвела на обоих друзей столь тяжкое впечатление, что долгое время — и после ухода страшного вестника — они сидели молча, а потом пили не чокаясь — как по покойнику…
Они взяли друг с друга слово молчать. Ничего не говорить Марианне, ибо для ее тонкой, нежной души демоническая правда может стать губительной. Не всякое сердце выдержит. Сестра наметила ее в качестве жертвы. Сестра выступила ее палачом. Причем, та сестра, которой Марианна отдала свою кровь…
Надо молчать. О таком немыслимо сказать.
ЧАСТЬ VIII
ЗОЛОТАЯ МАГИЯ
25.
… И вновь Марианна сидела на заветной скамейке в розарии, что примыкал к больничному саду. От терпкого аромата белых роз, чьи прозрачные лепестки ложились на лист письма, кружилась голова.
Стоял дивный солнечный день.
“…Ангел мой, сеньора Сальватьерра!
Не нахожу себе места в сем подлунном мире с той самой минуты, как увидел Вас. Улыбка Ваша, голос Ваш долетают до меня за несколько тысяч километров. Ваши коралловые губы снятся в ночи. Ваши волосы… О них хочу сказать особо. Свои прекрасные блестящие волосы Вы, очевидно, моете жасминным шампунем, поэтому сей чудный запах преследует меня и томит…” — Марианна засмеялась: проказник Луис Альберто, соскучившись, прислал ей длинное “любовное послание”, чем немало развеселил Марианну — и улыбка блуждала по ее губам впервые за эти тяжелые дни переживаний, связанных с одним-единственным — здоровьем Эстер. Каково ее дыхание? А цвет лица? — чутко присматривалась и прислушивалась в эти дни Марианна, не докучая Брикману лишними вопросами, и сегодня была вознаграждена: Брикман сам объявил ей, что анализы у Эстер улучшаются, надежда на выздоровление стала реальностью. Правда, на сегодня он не уменьшил дозу снотворного для Эстер — пусть поспит, это целительно, но на завтра ее будут выводить из летаргического состояния. В общем, завтра Эстер придет в себя.
Поистине чудесный выдался сегодня день!
“…Милые дети наслаждаются своим независимым путешествием, — читала Марианна о Вето и Марисабель, — и лишь изредка шлют в отчий дом коротенькие телеграммы, почтовые штемпели которых свидетельствуют об изысканном вкусе ребятишек: здесь и Канн, и Монте-Карло”, — она вновь улыбнулась: в этих словах просквозили воспоминания Луиса Альберто о его бурной молодости — ведя в былые времена рассеянную жизнь, которую так не одобрял его отец, Луис Альберто побывал во всех злачных местах Европы.
Увлеченная забавным посланием, Марианна и не заметила, как поодаль от нее, на тропинке между кустами, остановился Эдмон — остановился, любуясь ею…
Каштановые локоны Марианны будто клубились в потоке солнечного света — и ему, влюбленному, показалось на мгновение, что на голове возлюбленной — золотая корона, испускающая радужные лучи во все стороны.
… На золотом троне в каком-то затерянном сказочном саду сидела его Марианна — его принцесса. Легкая улыбка проскальзывала по лицу Марианны подобно нежному лепестку — так он скользит по заколдованному озеру…
Его бы воля — Эдмон взял бы на руки эту хрупкую, ненаглядную принцессу, спрятал бы в своих объятиях и увлек бы на край света — подальше ото всех.
У него есть и облюбованное место, куда он с ликованием в душе и с дивной ношей на руках отправился бы не задумываясь, презрев установившиеся нормы размеренной мещанской жизни. Когда-то, десять лет назад, Эдмон купил в океане, на островке Благодарения небольшую виллу, отвечавшую однако самому изысканному вкусу: похожий на маленький дворец сказочный дом, по фасаду которого золотом змеится название: “Шоколадка” — так в далеком детстве прозвал он кудрявую девочку — Марианну, которая оказалась для него единственной в мире…
Когда Эдмону бывало не по себе, когда он попадал в переделки, легкое, как мираж, видение помогало ему выжить: бежевых оттенков вилла на острове, со всех сторон омываемом океаном, маленький дворец с забавным названием — “Шоколадка”… Вот куда он увлек бы свою принцессу — на ее виллу, поименованную ее детским прозвищем. Но помнит ли она странное детство? Азалию?…
Глядя на Марианну, Эдмон вдруг почувствовал необычное состояние, которое мог бы выразить двумя словами: кружение сердца… От прохладных дуновений кружились лепестки роз, от его восхищения кружился золотой трон, на котором восседала Марианна, в воздухе кружились радужные искры счастья — и кружилось его сердце…
Он всегда любил ее. И не его вина, что не мог найти ее раньше.
Через заросли джунглей, через штормы океана, через годы и расстояния он шел к ней…
И вот конец пути. Марианна — перед ним.
Его бы воля — он пришел бы к ней с огромным букетом пунцовых роз. Красные розы — символ любви. Эдмон знает, что каждая женщина душою своей чувствует язык цветов. Оттенок его роз на протяжении долгого пути сгустился. От силы его чувства к Марианне, от тягот и страданий, от продолжительной разлуки красные розы Эдмона стали пунцовыми. Его бы воля — он возложил бы эти розы к ее ногам.
Розы для Марианны…
Но он не посмел сегодня принести этот букет. Ведь Марианна может отвергнуть его цветы. Она может сказать ему, что за те годы, пока он шел к ней, она привязалась к другим людям, и для Эдмона не осталось места в ее сердце.
Сердце Марианны… оно вдруг замерло, а потом учащенно забилось. Марианну вдруг постигло состояние, которое она могла бы выразить двумя словами: кружение сердца… Читая веселое письмо от милого Луиса Альберто, она поймала себя на мысли, что вспоминает о другом человеке…
Марианна подняла голову от послания, и увидела этого другого человека в нескольких шагах от себя. И эти несколько минут оба испытывали кружение сердца…
Чтобы преодолеть неловкость — а оба одновременно ощутили непреодолимую тягу друг к другу — Марианна с преувеличенным оживлением стала рассказывать Эдмону о своей семье, суетливо вынимая из сумочки фотографии: вот Марисабель еще крошкой, а вот Вето с Марисабель за столом, а вот и Луис Альберто в биллиардной…
Эдмону стоило лишь взглянуть на фотографию соперника — Луиса Альберто, как он сразу же понял, что знает его. Да, это тот самый парень — Луис Альберто, с которым лет двадцать назад они были даже дружны в небольшом курортном местечке Боле, где Луис Альберто умыкнул у Эдмона его легкую временную подружку — кажется, Изабель, да-да, Изабель…
Были какие-то временные женщины, временные жилища — с горечью подумал Эдмон, и в суете этой непостоянности он потерял Марианну, так и не найдя ее, а этот ловкий Луис Альберто соединился с ней. И теперь Эдмон стоит перед чужой женой Марианной чужим для нее?
26.
С радостью, но и с затаенным трепетом приняла Марианна приглашение Эдмона навестить его мать — Азалию. Его намеки на причастность к тому давнему похищению, когда Марианна была еще крошкой, да и сам он был ребенком, навевали какие-то странные воспоминания, с которыми Марианна пока не могла справиться из-за их непроясненности.
Сидя в своей маленькой парижской квартирке, старая Азалия ждала детей… Специально для этого приема она облачилась в длинное бархатное платье цвета граната, покрыла свои черные, с проседью, волосы бархатной гранатовой косынкой, — и представляла собой, надо признать, величественное зрелище — древняя, многомудрая цыганка, явно не чуждая магии. От волнения Азалия перебирала янтарные четки и вздрогнула, когда Эдмон своим ключом начал открывать дверь.
— Ты пришла ко мне, моя девочка, — были ее первые слова, обращенные к Марианне. — Он наконец нашел тебя…
А Марианна, будто сразу все вспомнив, кинулась к Азалии, ведь когда-то они так любили друг друга. Целуя старые руки Азалии, Марианна сразу узнала ее перстень — огромный перстень с черным камнем, которого в детстве она даже побаивалась, хотя доставалось им по затылку дерзкому Эдмону, а ей — никогда.
— Ты помнишь меня, моя девочка, — глубоким сочным голосом шептала Азалия, гладя водопад шелковых волос Марианны — и Марианна, словно в волшебном фонаре, видела картинки своего детства, где она — рядом с Азалией, рядом с Эдмоном и с отцом Эдмона… Альбертом! Она все вспомнила! А возле них — звери. Большие львы.
— Да-да, ты права, Марианна, — кивала Азалия, — у нас были львы, и Альберт был хорошим дрессировщиком, но… нам не везло. Стало быть, Бог наказывал за то, что украли тебя у Лепелетье. Твой родной отец был шоколадным королем, и Эдмон за это, и за смуглость сразу прозвал тебя Шоколадкой. Не думай, мы вовсе не хотели никакого выкупа за тебя. Просто как только я тебя увидела, я сразу сказала себе: она будет моей, я сразу полюбила тебя как родную дочь. Украсть тебя тоже было не просто: над вами с сестрой тряслись все слуги, но я была проворнее ваших слуг — и украла тебя! На скачках, когда все увлеклись заездом. Правда, Эдмон помогал: отвлек твою бонну криками и гримасами — тоже озорник был. А ты не плакала. Ты сразу полюбила меня. Вцепилась вот в этот перстень…
— Я помню его… — прошептала Марианна.
— А Альберта помнишь? — ласково спросила Азалия. — Это хорошо, что помнишь… Он ведь погиб прямо на арене, наш Альберт… Больной лев бросился на него…
— Не надо, мама, — приказал Эдмон, и Азалия, кивнув, продолжила: — Эх, как славно бы мы жили, если б злой рок не преследовал нас!.. Вы оба — и ты, и Эдмон — были такими озорниками. Совсем не боялись львов. Бывало, схватитесь за их гривы…
— Так вот что нарисовал Антуан… — догадалась Марианна.
— Да, по моим рассказам, — просто сказала Азалия. — Антуан умеет рисовать. Он передал даже то тепло и веселье, которое царило в балаганах, где мы выступали. В маленьких балаганах, и в больших цирках. Нас везде привечали с нашим праздничным номером… — Глаза Азалии затуманились от воспоминаний. — А потом пошла черная полоса невезений, горя… Мы гастролировали по Мексике, когда Альберт заболел какой-то диковинной инфекцией. Лев и кинулся на него, потому что Альберт ослаб. Львы терпят только сильных, им только и подчиняются. Как ослаб — лучше уйди с арены. Альберт не захотел. И погиб. Заболела и ты, моя крошка. Везти тебя дальше — значило обречь на смерть. А мы хотели жизни для тебя, веселья, счастья. Тут немного повезло. Семья Вильяреаль согласилась оставить тебя, хоть и навсегда, у них не было своих детей. Но мы — ты слышишь?! — оставляли тебя на время! Кто ж знал, что не сможем вернуться за тобой? Это было в штате Гуанохато. Мы не взяли за тебя — ты слышишь, Марианна? — ни единого песо. Мы не продавали тебя, так и знай. Хотели спасти. Эдмон тогда заразился от тебя, и тоже захворал, но он был куда сильнее — мальчик, да и старше, сам выкарабкался. Но после бреда забыл название провинции, где мы тебя оставили, а я специально не говорила: без Альберта дело наше захирело, больного льва пришлось подстрелить. Мы с Эдмоном не смогли бы тебя прокормить… Ты вправе обижаться на меня, моя девочка…
— Нет-нет! — воскликнула Марианна, — я помню, как было хорошо, когда все мы были вместе. Нам с Эдмоном так нравилось выступать, как настоящие артисты! Я все вспомнила…
— Вот и хорошо, что не винишь никого, — кивнула Азалия, — жизнь сложнее, чем кажется на первый взгляд… Но — поверь мне — я всегда хотела найти тебя.
Я тосковала по тебе, моя девочка…
— Я верю…
После этих слов они обнялись и вместе заплакали.
Что ж это такое?! И откуда это? — недоумевала Марианна.
Магия?
Колдовство Азалии?…
Ведь цыганки, ни для кого не секрет, владеют тайнами души.
Или колдовство самой жизни?
Рок?
Фатум?
Приходит таинственное письмо из далекого славного Парижа, увлекает Марианну вроде бы в простой недолгий вояж — а, как оказалось, на самом деле вовлекает Марианну в новую жизнь, затем ставит ее на грань жизни и смерти, спасает, уводит из-под гибельной опасности и дарит Любовь…
Причем, Марианна никогда не забудет, что задержал ее в студии Антуана, уже на смертельном пороге, — звонок Эдмона, приказ Эдмона ждать его. И теперь ей кажется, что она ждала его и знала его всю жизнь — да что там жизнь! — века!
Она помнит, как она сидела, замерзая и кутаясь в шкуру дикого леопарда, около первобытного костра и ждала-ждала-ждала Эдмона… С охоты… Гремел гром, вход в пещеру закрывала стена ливня, сквозь которую взблескивали молнии, диковинно отражаясь на темных сводах пещеры, а Марианна чутко прислушивалась: не раздастся ли шум и треск сучьев — не возвращается ли Эдмон?…
И он приходил. Она помнит. Он обязательно возвращался. Всегда возвращался.
Вот так и сейчас. Словно она долго-долго сидела у костра, а его очень долго — целые века! — не было. Охотился ли он? Или путешествовал? Как и положено настоящему мужчине, открывал новые земли?
В воображении Марианны неожиданно проплыл какой-то чудный остров с маленьким дворцом, остров, со всех сторон омытый лазурными водами океана, остров, на который вдруг захотелось сбежать, уехать, улететь, уплыть…
Всегда покорная долгу, Марианна уже чувствовала себя без вины виноватой перед семьей, перед Луисом Альберто. Значит, надо дождаться той минуты, когда Эстер придет в себя и — бежать, бежать отсюда. Домой-домой-домой!
Пока Марианна тщетно пыталась найти ответы на неразрешимые вопросы, вновь вставшие перед ней, Азалия, задернув у себя в квартирке плотные бордовые шторы, сидела перед зажженными, слегка чадящими свечками за круглым дубовым столом, на котором в большой чаше богемского стекла на поверхности воды плавал пепел от сожженных ею на пламени свечей волос Эдмона и Марианны. Проворная Азалия незаметно для детей сумела состричь у них по крошечной пряди — для ее ведовского дела и такой пряди было достаточно…
В эти мгновения Эдмон, мчавшийся на красном “Ягуаре”, вдруг почувствовал, что ему нужны тишина, покой и уединение. Он съехал на обочину, вдоль которой росли раскидистые каштаны, и безвольно положил голову на руль. Что ему предпринять? Если такие вопросы раньше и вставали в его жизни, он всегда знал ответ на них. До этих роковых событий что-либо предпринять для Эдмона значило метнуть нож точно в цель, или спрыгнуть со скалы в бурлящий поток, или промчаться на бьюике сквозь пламя — и Эдмон не задумываясь — метал, прыгал, мчался.
Впервые в жизни сейчас он столкнулся с проблемой, которая тяжким бременем легла на его душу.
Казалось бы, он по-настоящему полюбил женщину — и надо добиваться ее ответной любви. Но он знал, что Долг и Чувство уже вступили в борьбу в душе Марианны, и не оставалось сомнения, что долг, конечно же, победит в этой неравной борьбе…
Что делать?
Вновь похитить ее?
Умыкнуть на остров Благодарения?
Держать там возлюбленной пленницей? Пленницей-повелительницей? Нет. Это невозможно.
Выхода нет. Впервые в жизни нет выхода.
Но если она, Марианна, помнит его, Эдмона, сквозь тысячелетия, — может быть, уже в этом заключается прощение для нее?
Ведь она помнит его не только у костра тысячелетней давности, но и около рыцарского замка.
… На огромном поле вот-вот начнется рыцарский турнир. “Похожий на льва” рыцарь перед тем, как ринуться на поединок, приподнимает тяжелое забрало шлема и смотрит на нее долгим любящим взглядом. И она, сидящая на трибуне, посылает ему — Марианна помнит! — воздушный поцелуй…
Золотая магия закружила наших любимых героев? А, может статься, все-таки Любовь — настоящая Любовь?… Каждый из нас, сам вдруг оказавшись в жизни в подобной ситуации, перед выбором между чувством и реалиями жизни, мечется и ищет ответ на сложный вопрос: что делать? отдать себя на волю чувства? Или растоптать его, вспомнив о долге?
И кто из нас знает ответ на этот неразрешимый вопрос?…
Видимо, никто.
И мы также, как Эдмон и Марианна, полагаемся тогда на Провидение…
Итак, пусть сама Жизнь разрубит гордиев узел страстей, любви, ненависти, мстительности, надежд, мечтаний…
ЧАСТЬ IX
ГОСПОДИ! ПРОСТИ ИХ, ГРЕШНЫХ…
27.
Наконец Эстер выплыла из того страшного омута, в котором находилась много томительных часов. Бред ее — помнила сама Эстер — был ужасен, словно уже побывала в преисподней, отвечая за свой тяжкий грех.
С этой мыслью — “Я великая грешница” — она и пришла в себя. Никогда раньше Эстер и помыслить не могла о раскаянии: так легко катилась ее бесшабашная веселая жизнь. Тем глубже было ее теперешнее раскаяние.
Ее тусклый от слабости взгляд остановился на лепных сводах потолка, словно хотел проникнуть — и не мог — туда, в высь. Потом Эстер медленно перевела взгляд на… лицо Антуана. Именно ему — по-прежнему влюбленному “в эту ведьму” — посчастливилось оказаться около ее постели в миг пробуждения от кошмаров.
— Все позади, Эсти, — ласково прошептал Антуан и погладил ее по руке.
— Позади тягчайший грех, Тони, — еле промолвила Эстер сухими губами, но возлюбленный расслышал ее.
— Тебе лучше, Эсти, а это — главное.
— Главного вы… никто не знаете… Это я — виновница…
— Мы знаем, Эсти… Мы все знаем. — Антуан понимал, что лучше сразу поставить Эстер в известность о том, что ее страшная тайна давно перестала для всех быть тайной.
Они бессвязно, с напряжением сил, поговорили об этом, и Антуан постарался отвлечь больную.
На цветочной подставке черного стекла в темной вазе стояли любимые Эстер пармские фиалки.
— Ты только взгляни на них — Эсти! Сколько свежести! А какое дивное благоухание!
— Позови Марианну, — тихо попросила она в ответ на его призывы вновь порадоваться жизни и цветам.
Вовсе не спеша выполнить ее просьбу-требование, хотя Марианна находилась здесь, рядом, в розарии, Антуан попытался подсунуть больной Фредди — ее любимого дога. Еле удерживая сильного прыткого Фредди за поводок, Антуан постучал в стекло, и Эстер, увидев любимца через стеклянную дверь, улыбнулась ему улыбкой-гримасой тяжело больного человека. Фредди неистовствовал, и они с Брикманом с трудом оттащили его в заднюю комнату.
А когда Антуан вернулся, Эстер вновь настойчиво попросила, скорее приказала:
— Позови Марианну.
Опасаясь и того, и другого, и третьего: и того, что само появление Марианны может вызвать у больной шок, и того, что разговор сестер сейчас нежелателен, и того, что врач не советует — Антуан, не привыкший перечить своей госпоже — сдался.
Едва Марианна переступила заветный порог — слезы раскаяния потекли по мертвенно бледным щекам Эстер, впервые за всю ее жизнь — слезы раскаяния…
— Я — великая грешница, Мари. Не знаю, сумею ли я хоть когда-нибудь искупить свой грех.
В ответ Марианна, давно уже раскрывшая для себя тайну Эстер, ласково гладя сестру по рукам, по волосам, целуя лицо, шептала:
— Ты жива, родная, — а это главное. Я простила тебя, Эсти. Ты столько страдала. И в страданиях этих — уже искупление. Господь нас не оставит.
“Нас!” — ликующе прозвучало в душе Эстер. После всего Марианна не отделяла себя от сестры, она сказала: нас!..
— Какая счастливая, — прошептала Эстер вослед Марианне, и услышавший это Антуан встрепенулся, подсел к больной и тихо сказал:
— О нет, Эсти, она очень несчастна.
— Что ты говоришь, Тони!.. Марианна показывала мне фотографии Луиса Альберто, Вето, Марисабель… Там столько радости, тепла, дружбы и любви.
— Любви… — прошептал Антуан. — Любовь настигает нас внезапно. Просто озорной крошка Амур выпускает стрелу, — он сардонически усмехнулся. — И все.
— О чем ты?
— Марианна и Эдмон полюбили друг друга, — в тоне его просквозило глубокое сочувствие. — Ты только представь, Эсти, что значит для такой женщины как Марианна, которую по жизни всегда вел Долг, что значит для нее это чувство в таких обстоятельствах. Даже страшно подумать.
Он закрыл лицо руками.
Через полчаса Эстер неожиданно попросила Антуана пригласить к ней, если возможно, тетушку Азалию. Они не были коротко знакомы, виделись раза два, случайно, и просьба слегка удивила Антуана, но, поразмыслив, он решил, что Эсти в своем желании выздороветь хватается и за соломинку: ведь Азалия известна как знахарка, какими-то чудесами исцеляющая недуги.
ЧАСТЬ X
ЗАГОВОР
28.
Как только величественная Азалия приблизилась к постели больной, та, открыв глаза, вдруг почувствовала облегчение: постоянная изнурительная головная боль куда-то ушла…
— Я была невнимательна к вам, тетушка Азалия, — прошептала Эстер. — Я искуплю свою вину…
— Ни о чем не беспокойся, моя девочка, — тихим, завораживающим голосом приказала Азалия. — Я помогу тебе.
Тогда Эстер открыла глаза и чистосердечно призналась:
— Но я попросила прийти вас, тетушка, не ради себя…
Посовещавшись минут десять, женщины торжественно пригласили Антуана, и Азалия чуть слышно — ведь сообщение не для чужих ушей — объявила ему, что они втроем составят заговор…
— … А тебя, Антуан, мы назначаем руководителем нашего заговора.
От такой чести Антуан, надо признаться, — опешил.
— Марианна — твоя, — уже не раз говорила Эдмону Азалия. — Ты знал ее гораздо раньше ее мужа. Марианна — твоя перед Небесами. И звезды показывают: быть вам вместе.
Сердце Эдмона замирало, когда он слышал эти сладостные речи матери, которая, как гласила молва, как никак — а была колдуньей.
Так в чем же состоял сей заговор?
Многомудрая Азалия и неглупая Эстер повернули дело так, что тщеславному как и все мужчины Антуану уже казалось, что этот хитроумный план зародился в его гениальной голове.
Перед каждым из участников заговора стояла своя задача. У Азалии — изготовить вкусное, но крепкое снотворное, у Эстер узнать все подробности жизни Марианны, у Антуана — арендовать и подготовить к пути спортивный самолет и яхту.
Все трое были движимы искренней любовью к Марианне и Эдмону, все трое чистосердечно хотели помочь, поэтому каждый удачно справился со своим участком работ по подготовке заговора.
— Дети заслуживают две-три недели покоя, — говорила Азалия. — Сами они не посмеют истребовать у Судьбы эти дни, так что в этом должны им помочь мы. Они вправе на покое разобраться в своих чувствах.
29.
Как и в любом более или менее удачном заговоре далее все делалось быстро и решительно.
Антуан предупредил одного из основных участников авантюры — Эдмона — за полчаса до событий, и Эдмон — была не была! — согласился использовать этот единственный для него шанс.
Празднуя выздоровление Эстер, Марианна, Эдмон, Антуан и Азалия собрались у ее постели и распили две бутылки великолепного “Бордо” начала девятнадцатого века. Причем, в бокал Марианны, как вы уже догадались, было подмешано снотворное Азалии.
Предложив Марианне прогулку на спортивном самолете, Антуан доставил ее и Эдмона на маленький аэродром, где серебристый “Чижик” уже поджидал путешественников.
— Жду вас часа через три! — крикнул сквозь шум винтов Антуан, зная, что лжет: по замыслу друзей, Марианна и Эдмон отправлялись в далекое путешествие…
Через пять часов Эдмон бережно перенес бесценную свою ношу — спящую Марианну — на яхту, которая ожидала их, по заказу Антуана, на морском побережье…
А через десять часов Эдмон уже умело вывел белоснежную яхту в открытый океан и взял курс на остров Благодарения.
Вечером следующего дня Антуан встретил в аэропорту прилетевшего из Мехико Луиса Альберто и со скорбной физиономией сообщил ему, что Марианна поскользнулась на лестнице, упала и разбила голову. В ответ на бурную реакцию Луиса Альберто он заверил мужа, что самое плохое — позади, Марианна уже пришла в себя и ждет его.
В тот миг, когда Луис Альберто бросился к постели Эстер с возгласами:
— Марианна? Как же это? Ну что ты? — а Эстер с ласковой улыбкой заверила его:
— Ничего, милый, все пройдет. Ты приехал! — настоящая Марианна, ничего не подозревая, мирно спала под тентом на палубе быстрой, легкой яхты…
…А через неделю, открыв глаза, Марианна — во сне? или наяву? — узрела остров из своего видения — дивный скалистый остров, по уступам которого катились искристые радужные потоки водопада, обрамленного свежей изумрудной зеленью пальм и плюща, дикой розы и папоротника.
Дивный скалистый остров с маленьким бежевым дворцом, по фасаду которого золотой змейкой вилась надпись: “Шоколадка”…
— Ой, что это? — воскликнула Марианна, чувствуя на своем лице соленые брызги чудесного волшебного сна. — Я проспала, наверное, часа три…
Эдмон улыбнулся. Как спящая красавица, Марианна почивала куда больше, чем три часа…
— Что это? — еще раз спросила любимая, весело указывая на остров своей мечты, который так легко и сказочно вырос перед ней.
И тогда Эдмон, устремив на принцессу любящий взгляд, в котором блаженство смешивалось с болью, тихо сказал:
— Это остров Благодарения. Я назвал эту виллу твоим детским прозвищем — Шоколадка…
— Шоколадка?! Остров Благодарения?
— Да, Благодарения Небесам за то счастье, которое наконец-то послано нам…
КАЗНИТЬ ПАЛАЧА
Роман
Психологический детектив
Юлия. В Нивелии так тяжко жить, мама…
Хриза. Нивелия гибнет от злобы.
Ей нужно было проникнуть — ввести себя — в салон Еремеевой-Алазанской. Для чего — Хриза пока не говорила ей. Но Юлия знала, что даже эфемерную паутину спиритических сеансов они раскидывают сейчас в надежде завлечь паука или залучить муху, траектории выползок либо перелетов которых не минуют салона — вожделенного…
…Енного — ибо Еремеева-Алазанская известна как покровительница искусств. А где искусства — там и новаторские проявления. А то, чем занимались Хриза с дочерью, угодило в самую середину между традиционализмом и авангардом, если понимать искусство широко.
Хриза и Юлия увлеклись делами… С одной стороны, житейскими, с другой — не совсем обычными…
Занимаясь приготовлением завтрашнего спиритического сеанса, Хриза заканчивала плетение полуневидимой, паутинчатой сети, которая, рея под потолком, незаметная для гостей, послужит иллюзиям лучше любых современных устройств. Пока мать колдовала над легкой нитью, Юлия рылась в небольшом, с посылочный ящик, сундучке. Таких сундучков мало осталось, разве что в уютных домах, не одержимых модой.
О сундучке стоит рассказать подробнее и с нежностью, ведь от него самого лучилось тепло. Обшитый со всех сторон старинными открытками, словно простеганный, он был бестолково наполнен всякой всячиной, мелочи сплетались в нем, породнясь; разноцветным миражем клубились нитки, шнуры и лоскуты, так что стопка открыток под этим облаком казалась незыблемой твердью.
Любуясь пасьянсом открыток, разложенных на тахте, Юлия вопросительно посмотрела на мать.
— Что-нибудь эдакое, рождественское — огни, девочка в капоре, поземка, свеча в окне… И загадочная надпись, — подсказала Хриза из кресла.
Через Юлины руки потек ручей открыток. Вдруг она остановила его словом: “Вот”. Зимняя, но теплая сцена привлекла ее внимание: сквозь заснеженные елки лучились огни, маня и обещая… Обратная сторона открытки была пуста и готова принять на себя ползучую тяжесть любой надписи.
Хриза медлила с диктовкой, вспоминая женщину, которой предназначена эта безобидная западня во время гадания. Той было за пятьдесят. Соединяя в себе детскую и старческую беспомощность, Ася много суетилась. Вызвав перед глазами зрительный образ маленькой, пугливой Аси, Хриза заметила вслух.
— Натура, несомненно, романтическая. Видимо, полжизни — одни мечтания.
— Тогда что-нибудь о далеком зове: услышь меня, вспомни меня…
— Да… Вечный мотив ожидания. — Хриза невольно погладила шелковистую сеть, подбирая магическую фразу, затем стряхнула с себя легкое оцепенение и продиктовала — “Если ты не ищешь меня, то как найду тебя я?..”
Легкой рукой записывая материнскую фразу, Юлия похвалила:
— Изящно, — хотела отложить открытку, но задержала ее. Конечно, фраза была из тех сентиментальных, которые они щедро заготавливали для спиритических сеансов. Словам о каком-то поиске следовало тут же отлететь от Юлии, но они — не улетали, пригрелись в ее душе. “Если ты не ищешь меня…” — ласково повторял чей-то голос, и Юлия перебирала открытки, хотя давно могла бы уже заточить их обратно в сундучок. Ей странным казалось, что какое-то воспоминание медленно подползает к ней, не ведая, какую тропинку избрать, чтобы стать желанным. Вот-вот она вспомнит о чем-то давнем, несбыточном…
Разноцветными птицами кружились перед ней открытки. Солнце укалывалось о шпили башен, хижина пряталась в дебрях буйного сада, из окон старинного обманного авто напряженно выглядывали мальчик и девочка. Но куда теперь уедешь на таком авто? Юлия усмехнулась и сейчас же невидимая птица клюнула ее в сердце — отчего? Забрав взглядом отрочески надменные лица мальчика и девочки, Юлия не могла отрешиться от них, и уже сердилась, и досадовала на прилипчивое впечатление, как вдруг… Узнала самое себя и того мальчика из древнего, словно века прошли, лета.
На обратной стороне открытки с ученической тщательностью были обозначены время и место действия, имена. Но странное ощущение, что сюда просится надпись: “…Если ты не ищешь меня…” — вдруг полонило Юлию.
К спиритическому сеансу они всегда готовились как к театральному действу. Лицедейская частица, заложенная в каждом живом существе, ликовала в них. Свое жилище — в сущности убогую стереотипную двухкомнатную квартиру — Хриза с Юлией волшебно преображали.
Малознакомые люди приходили сюда, к ним, за тайной…
— В их жизни так мало благородного, так много плоского, примитивного и уж совсем нет самого главного — тайны… — еще в детстве объясняла дочери Хриза. И Юлия, снедаемая жалостью, сочувствовала пришельцам, а иногда, подспудно, скрытно, презирала их.
— Старайся пробудить их к жизни, — советовала мать, — сразу включай забытые ими или вообще непознанные чувства. — И они устилали полы пучками сушеных трав — запахи обладали особенным свойством: творить грезы; и они драпировали окна непроницаемой материей — холодное существование, которое в газетах именовали “прекрасной действительностью”, не могло просунуть сюда жесткое рыло.
Под потолком развешивали шелковистую сеть, спуская вниз нити, которые могли сослужить добрую службу магии: принести гостю сюрприз, погладить его — да мало ли придумок можно выкрутить…
Ася должна была появиться с минуты на минуту, маленькая, пугливая Ася. Случай послал ее Хризе, когда та занималась целенаправленными поисками человека, вхожего в салон Еремеевой-Алазанской. В Музее искусств, в забытом, наполненном стареющим зимним солнцем зале Ася ютилась напротив “Головки цветочницы”, которая загипнотизировала ее совершенством формы. Нежная одухотворенность Асиного лица, в свою очередь, заворожила Хризу. “Надо обласкать ее”,— подумала Хриза, еще не подозревая, что эта женщина держит в своих ладонях столь нужную Хризе тропку туда, в элитарный салон…
— Везде подделки, а здесь — оригинал, — сказала тогда Хриза для знакомства, и Ася вздрогнула — и это почти животное смятение было визитной карточкой постоянного страха, постоянной готовности к новым бедам…
— Приходите к нам, — сердечно предложила Хриза. — Мы с дочерью будем ждать вас.
И Ася пришла на чашечку кофе. В бурую жидкость предусмотрительно капнули терпкого коньяка, и вскоре беседа потекла дружественно и вольно. Тогда-то и призналась Ася, что ее жизнь не так одинока, как это кажется соседям и сослуживцам, в частности, она обогащается посещением интересного общества, где собираются неординарные люди.
“Салон” — догадка пронзила Хризу, и она предостерегающе глянула на дочь: теперь важно не спугнуть удачу, не ломить напролом. Юлия поняла и не спугнула.
Вечером Хриза с Юлией обсуждали ситуацию.
— Салон, — утвердила Хриза: — Пусть она не назвала, я знаю — салон, чую. Интуиция.
С детства Юлия верила в интуицию матери. И сейчас не сомневалась.
— Надо расположить ее к нам поосновательнее, — рассуждала Юлия, — а потом попросить ввести меня.
— Нет. Просить ни о чем не будем. Просьба испугает ее. Ася из тех, кто постоянно задается лишними вопросами: зачем, почему. Лучше воздействовать на ее романтическую сторону.
— Сеанс?
— Думаю, самое лучшее. Пусть ей подскажут свыше.
В дверь мелодически позвонили. Ася вступила в жилище и сразу оробела от загадочности обстановки. Там, внизу, на скучной улице, жмурился серый невзрачный вечер, а здесь… Темнота ослепляла, на мгновение вырывая из реальности. Густые запахи, насыщенные полем, лесом, садом, растворили гостью.
Не давая ей опомниться, Юлия взяла Асю за руку и повлекла в глубь бездонной норы, на огни свечей… Так было задумано: Хриза отодвигала себя на задний план во имя Юлии. Юлия встретила гостью, Юлия перелила тепло своей руки в нее — это запомнится, это останется…
Когда дочь предположила, что лучше самой матери первой войти в общество салона, Хриза отмела это предложение, отмела небывало резко, с поспешностью, потому что даже Юлии не хотела до времени раскрывать тайну, которая влекла ее, неудержимо влекла к Еремеевой-Алазанской… Есть события, о которых нужно молчать. Молчать месяцы, молчать годы. Долго молчать, чтобы потом одержать реванш.
Ухищрения этого спиритического сеанса могли ошеломить человека и с более сильной нервной системой, чем у Аси.
Погасли свечи, на комнату упал мрак. Крошечные огни наподобие южных светлячков замельтешили где-то вдали. Во тьму втекла нежная перезвонная музыка. От виска по щеке к подбородку Аси проскользил чей-то невесомый жест. Еле различимая круглая столешница начала вращаться. Еле слышный голос прошелестел над ухом: “Если ты не ищешь меня, то как найду тебя я?..”
— Не бойтесь, Ася, спрашивайте, — подбодрила Хриза. — Спрашивайте — ваш час!
В смятении, не зная, верить или нет, но, по логике эмоциональной натуры бросаясь в слепую веру, Ася почти вскрикнула:
— Искать?
— Да-а… — прошелестело в ответ.
— Где?
Ответа не последовало, но через несколько мгновений лопнул вздох, как по морской гальке прошуршало: сал… салон? А потом воркованием проскользило: Ю-лия…
Прощаясь, Ася нервно теребила шаль, кутая горло, косила взглядом и все повторяла монотонно:
— Нет-нет, спасибо, я пойду… Я должна все это пережить, передумать. Не обижайтесь, я пойду. Я дома, лягу, буду думать, вспоминать. — Она вновь открыла сумочку и проверила, на месте ли открытка, что попалась ей под руку во время сеанса. Ася выпросила ее, несмотря на уверения хозяек, что бумажка — пустяк.
Открытка с елками, огнями, со странными словами, заключающими в себе обещание и побуждение, была на месте.
Юлию расстроило неожиданное, почти истерическое желание Аси ускользнуть. Закрыв дверь за гостьей, а вместе с тем и за упущенной возможностью, она сказала:
— Почуяла неладное. Побоялась, втравят во что-нибудь. Полетела вспугнутой синицей.
Хриза зажгла свет, делая комнату праздничной, и объявила:
— Ничего подобного. Заинтригована. И в нужном нам направлении. Подсказки “духа”, открытка — вот увидишь, какие богатые фантазии на этом разрастутся. Пари?
— Давай! Шоколадный набор!
— Да где ты его найдешь?
— А почему я? Ты! — Юлия была уверена, что на сей раз мать ошиблась: Ася не то что не проторит им дорожку в салон, но никогда больше не придет сюда.
Как обычно, час перед сном был заповедным. Хриза и Юлия уединились каждая в своей комнате: первая прилегла на тахте под китайским фонариком с книгой французских детективов, вторая примостилась в кресле под торшером, розовый свет которого лизал своим щенячьим языком… открытки и фотографию, цветную, тоже похожую на открытку. Из окошка старинного, бутафорского, конечно, авто выглядывали…
Юлия не могла успокоиться, вновь и вновь переворачивала фотографию и заново удивлялась надписи. Там кроме даты и имен содержалась договоренность о встрече через многие годы, точнее через семь лет. Запись была сделана семь лет назад. На Юлином экземпляре писал этот мальчик, на его — Юля.
Годы назад, в детском лагере отдыха, они поклялись друг другу, что встретятся спустя семь лет, весной, а именно — тридцатого марта.
Его звали… Имя празднично выделило его изо всех. Оно потрясло пятнадцатилетнюю Юлию своей избирательностью. Его можно было окликнуть на многолюдной площади, и на этот зов, есть уверенность, оглянулся бы он один.
Его звали Дионис. Необязательно прибавлять фамилию — Басов, но тогда, семь лет назад, Юлия живо скрестила и перетолкла опознавательные знаки избранника и нарекла его — Дис-Бас.
“Дерзай”, лагерь отдыха, приник к берегу синего южного моря. Густыми непроглядными вечерами, в которых круто замешивались запахи и звуки, самый старший, первый, отряд пробирался горными тропами к своему костровому месту — в середине расчищенной площадки избушкой возвышалась куча хвороста, вокруг которой кольцевались длинные низкие лавки. Языки буйного костра жалили ночь. Она, отпрянув, встала за спинами у сидевших, которые переживали самые романтические и болезненные месяцы, дни своей жизни: детская наивность и прямота уже растаяли, но изнуряющий зной повседневности, тупорылой, жестокой, еще не высушил души…
Блики, тени и всполохи играли в путаницу — свет-тьма-полутон — загадочность… Костер казался Юле клокочущим сердцем южной ночи. Там, за диаметром круга, за огненным алым сердцем, приветно мелькали Юле дорогие черты: карие, восточного упрямства, глаза, двинутый вперед подбородок — дерзость взгляда, смешанного с огнем, и вместе с тем туманность влекущего взгляда, затянутого пеленой дыма, мечты, ночи… Дионис…
Уже неделю отдыхали они в “Дерзае”, но не было сказано друг другу и нескольких слов. Они ничего не знали друг о друге и ничего не нужно было знать, только бы видеть, только бы смотреть, ловить прямой или ускользающий, ошеломленный, застенчивый, любимый взгляд. Непостижимая, никем не разгаданная тайна завладела тогда Юлией: незнакомый человек вдруг — стремительно, за миг — стал главным во всем и везде. Любимые ею горы и море теперь обретали свое величие и веселье, только если невдалеке был он, если можно было не рукой — взглядом дотянуться.
В плоскости взглядов, перекрестных, поначалу пугливых, затем долгих, прирученных, проходила теперь самая главная, сокрытая от других колдовская их жизнь — Диониса и Юлии.
Сквозь костер Юлии мерцало Дионисово лицо. Оно вобрало в себя все тона, запахи и шорохи южной ночи. В нем одном сосредоточилось для нее все в этом мире. Ничего не обдумывая, Юля поняла, что в эту ночь не вернется в палатку, останется здесь, с костром или с его пепелищем, если погаснет. Ничего не слыша, уловила, однако, что Дионис сегодня — костровой…
Когда отряд начал строиться, как обычно при передвижении по горам, в цепочку, Юлия ускользнула в заросли. Хруст и шорохи уходящих стихали, а она все сидела в засаде, которая с каждой секундой прочнее превращалась в ловушку для нее, потому что выйти оттуда к Дионису… Выйти молча… или выйти со словами: я тоже осталась — не было сил. Остатки мужества и решимости убывали, Юлия сникала, и вдруг, необъяснимо, куст привиделся ей капканом, из которого надо выпрыгнуть во что бы то ни стало. Цепкие колючие щупальца веток потянулись к ней с ненасытной жадностью, и Юлия вытолкнула себя на волю наперекор им!
За миг до этого казалось, что будет сложно, тягостно, что потребуется масса сбивчивых оправданий, что Дионис смутится, что… Но в свои пятнадцать Дионис, ее Дис, был мужчиной. Он поднял глаза и окутал ее непроницаемым для волнений коконом взгляда. Стало легко, будто дым костра приподнял и понес ее…
С этим человеком она должна встретиться… Юлия чуть не застонала, поправляя себя: должна была бы встретиться сегодня, вернее, уже вчера, потому что перевалило за полночь, потому что еще несколько минут назад было тридцатое марта, а теперь уже тридцать первое. Встреча не состоялась, и никогда больше не наступит вчерашнее, тридцатое марта, и никогда ни одни часы в мире не пробьют пяти вечера, тех пяти, когда они с Дис-Басом должны были… пойти навстречу друг другу… или он — встать при виде ее… или она — улыбнуться ему… Никогда — трагичность определения смяла и полностью подчинила себе Юлию, но почему? Ведь она почти забыла Дис-Баса. Конечно, не сразу. В первый год жила надеждой: позвонит, напишет, объявится. Но они поклялись друг другу не видеться семь лет и Дис остался верен жесткой клятве, более того, не полагаясь на женскую натуру, не дал ей своего адреса.
Не окликал ни письмом, ни открыткой. Однажды Юлия два часа брела за юношей, который со спины был похож на Диса, слегка похож — и этого оказалось предостаточно для того, чтобы идти, семенить, улавливая оттенки полузнакомых поворотов головы. Линия щеки тоже просилась в воспоминание. Дис…
Его лицо вставало по утрам в ореоле солнечного марева. Его лицо всегда готово было отразиться в любой, осенней ли, весенней, луже, да что там в луже — пролитого на столе чая, капли молока было достаточно, чтобы он сразу ожил, и усмехнулся смолистыми глазами, и звал… Куда?..
Все воспринималось через память о нем, о той ночи, ни одно впечатление не уберегалось от него: прогулка и — он, жесткость вагонной полки — и он, мелькание, завывание диско — и он. Малопохожие парни, если шли или сидели вдалеке, принимали его обличье — а впрочем, у нее рано испортилось зрение…
Это наваждение длилось три года. А потом его смахнула какая-то добрая сила. За эти годы у Юлии появилась тягостная привычка вынимать из тайника фотографию со старинным авто и подолгу терзать себя ею. Так вот однажды, спустя три года, она достала магическую фотографию и… Увидела надменное мальчишеское лицо, постороннее, отчужденное… Что значило после трех лет рабства ощутить в душе эту свободу, эту вольность — поймет лишь тот, кто сам холопствовал, а потом — высвободился!..
С тех пор фотография удостаивалась чести увидеть свет только разве во время Юлиных игр с самой собой в сентиментальность, в утонченность чувств. Дис-Бас, костровое место, заросли около него были дале-оким прошлым милой, юной, изящной женщины — как оценивала во время таких туров воспоминаний Юлия себя от имени наблюдательного третьего лица. Это самое наблюдательное третье лицо, плод ее фантазии, знало, что у очаровательной молодой особы есть прошлое, и прошлое это начинается там, где кружились над ними то ли искры потухающего костра, то ли яркие южные светлячки…
Но вот уже несколько лет ни шороха, ни звука не доносилось до нее из тех зарослей и даже во сне не вспыхивали забытые светлячки.
Почему же сейчас при мягком свете торшера, сквозь надменное чужое мальчишеское лицо неожиданно проявилось другое — нежное и мужественное одновременно, лицо забытого Дис-Баса и вместе с тем Дис-Баса нового, незнаемого, ведь Юлия осознавала, что не видела его уже семь лет, и теперь он другой. Другой?.. Но и прежний, тот, растворившийся в ночи, растворившийся в ней… Пробираясь сквозь напластования Юлиного опыта, мудрости, хладнокровия, безразличия, воспоминание проворно плело над ней свою паутину. Юлии стало тепло, ласково…
Очнувшись, она попыталась сбросить с себя наваждение: это все спиритический сеанс. Приготавливая его и погружаясь невольно в надуманную таинственность, она отяготила себя излишними впечатлениями, которые повлекли бред воспоминаний и грез.
Волноваться не нужно, долго это не может продлиться с ней. Хороший английский детектив — достойная замена пустым иллюзиям. Юлия решительно сунула фотографию в кипу открыток стеганого сундучка, взяла приятную на ощупь книгу в дорогом переплете и…
Дальнейшие действия совершались ею как в забытьи, с лихорадочной поспешностью, будто кто-то посторонний снимал с нее ответственность — во всяком случае, так позже Юлия оправдывала себя перед собой.
Такси вальяжно разворачивалось в ночи. Юлии оно показалось непростительно медленным. Подскочила, юркнула внутрь. Усвоив, что ехать к Выставке шедевров, таксист глубокомысленно кивнул. Всю дорогу молчали. Приближаясь к огромной территории Выставки, уточнил, к какому дому причаливать. Когда услышал, что к боковым воротам, попытался было возразить, что давно заперты, а потом бросово мотнул головой: мне-то что, остановлю, где скажешь, хоть у центральных ворот, хоть у боковых, и не с такими сдвигами народ возил: жизнь тяжкая — сдвинешься, не то что к Выставке шедевров ночью такси погонишь — к Лувру попросишь подвезти — вот так-то, жизнь тяжкая…
Огромная территория Выставки смотрелась нездешним сказочным миром: подживленные разноцветной подсветкой, мерцали белые туши павильонов, вазоны фонтанов поднимались дымчатыми призраками. Юлии не терпелось проникнуть в этот заповедный, отделенный от нее высоким металлическим забором мир, но и центральные и боковые ворота намертво замкнули свои пасти.
— Эй, кто-нибудь! Ну хоть сторож какой-нибудь! — взывала Юлия по направлению оцепеневшего пространства с каменными громадами. — Фу ты ч-черт! Да пустите же! — Привыкшая к быстрым уловкам, сразу добавила воплем: — Я там, у Каскадного фонтана, браслет с кораллами потеряла!
Ее зов, ее малая ложь растворились во мгле, и Юлия побежала вдоль забора, твердо зная: там, где закрыты официальные ворота и калитки, всегда найдется неприметная боковая лазейка. Жизненный опыт подсказал верное — после двухсот шагов пробежки два прута ограды были разомкнуты ровно настолько, чтобы в этот прогал могла пролезть изящная молодая особа, одержимая среди ночи забытой мечтой. Юлия уже иронизировала над собой, но до сих пор ничего не могла поделать со страстным желанием пробраться туда, к Каскадному фонтану…
Смешение подсветки с воздухом ночи породило подобие легкого тумана над миром Выставки. Обстановка была такой, будто ее специально сотворил для Юлии умелый декоратор, для ее странного побуждения, для ее необычных поисков. Все сейчас казалось возможным, даже то, что там, у фонтана, ее — безумно, фантастически — ожидает Дис-Бас…
Но чуда не случилось, Каскадный фонтан без воды был мертвым и возвышался горным хребтом с многочисленными уступами.
Ничего и никого. Пустота и гулкость. Только обстановка таинственности подавала Юлии слабую надежду: Дис был не таким, как все. Даже если все в его жизни переменилось, он мог прийти — не стал ждать?.. Или спрятался где-то здесь, поблизости, чтобы в конце концов выйти и удивить ее?.. Тогда она и сама явится достойной партнершей в этой игре. Со свойственной ей проворностью она юркнула за боковой выступ соседнего павильона.
За долготерпение и смекалку наконец была вознаграждена. В отдалении послышались тихие легкие шаги. Гулкий мир Выставки словно взвешивал их в своем пространстве.
“Вот он и пришел, Дис… Мой Дис… Чужой Дис”,— умиротворенно подумала Юлия, не выглядывая из-за укрытия, стараясь продлить очарование мечты, которая сейчас, сию секунду, достигается осязаемо…
— Эй, — раздался тихий, с трещиной голос.
“Нет!”— чуть не крикнула Юлия, отрицая возможность появления кого-то другого, ненужного. И усилием воли заставила себя выйти туда… к сторожу.
Разочарование за один миг утомило ее настолько, что пришлось присесть на каменную ступень фонтана — пронзительно холодную. От усталости не хотелось даже сплетать легенькую байку про коралловый браслет хлипкому, тоже усталому от жизни сторожу в длинном темном балахоне.
— Заблудилась? — вместо крика, что был принят на улицах и в автобусах, почти ласково спросил Балахон.
— Ага, заблудилась, — вяло повторила Юлия, безвольно опуская голову, как вдруг…
Надпись, сделанная малиновым мелком у подножия фонтана, просверкнула для нее молнией. Еще не успев схватить суть, Юлия поверила, что этот малиновый росчерк — для нее.
“Я буду ждать тридцатого апреля”,— обещала малиновая вязь. Если об ожидании и о тридцатом числе (есть закономерность), тогда конечно же это привет от него!.. Но почему без подписи?..
Проследовав глазами, как ведомый за ведущим, за взглядом Юлии, сторож достал из недр балахона темную тряпку и со словами:
— Сделать что ценное — нет их, а нагадить — они здесь, — стер малиновую молнию.
Юлия не стала рассказывать матери о том, как, мастеря ловушку с открытками для Аси, попалась сама. Хриза поняла бы ее, но Юлия чувствовала, что не надо пока расторговывать эту маленькую тайну о Дисе, о семи годах, Юлии хотелось какое-то время поберечь этот секрет для себя. Наверное, судьба отомстила ей за то, как легко она начертала для доверчивой Аси: “Если ты не ищешь меня, то как найду тебя я?..” И получилось: недоверчивая Юлия впала в смятение, а “доверчивая Ася” не поддалась.
Прошла уже неделя, а “доверчивая Ася” так и не появилась у них.
В субботу Хриза вынесла к полднику нарядную коробку конфет под названием “Бал”, и обе развеселились.
— Даешь бал по поводу проигранного пари? — лукавила Юлия.
— Я думала, все просчитала верно, но, увы, Ася вывернулась из моих расчетов. — Хризе никогда не изменяло спокойствие и присутствие духа.
— Удачно она вывернулась, — сказала Юлия, рассматривая шоколадную мозаику конфет в золотистых обертках. — И где ты достала? Ведь в магазинах даже карамели нет, не то что… — повела головой на шоколадное изобилие.
— В магазинах нет не только карамели, но и мяса, колбас, рыбы, креветок, пирожных и прочих гастрономических излишеств, — шутила Хриза, разливая чай в тонкие, костяного фарфора, чашки. — Однако это никого не может освободить от долга чести. А долг проигранного пари я таковым и считаю.
В те секунды, когда говорилось про фиаско в пари, в дверь позвонили.
— Ася! — поспешно объявила Юлия, показывая матери свою интуицию и одновременно признавая победу Хризиной мудрости.
Угадав к чаю, Ася засмущалась. Но ее, сегодня особенно нарядную, пахнущую духами, усадили, обласкали, забаловали.
— Я чувствую себя именинницей, — растрогано сказала гостья, а хозяйки подумали — Юлия: “А она — с сюрпризом!” Хриза: “Наша взяла!”
— Сегодня ветрено, — посетовала Ася. — Я всегда боюсь теперь ветреных дней: как бы не занесло какого-то радиоактивного облака, ведь знаете, как сейчас… Дождь пройдет, и голуби лысеют.
— Никогда не видела! — удивилась Юлия.
— И не дай боже вам, Юленька, увидеть. И не дай боже почувствовать. Вот я, например, — живой барометр.
— Сейчас все — ходячие барометры, — подхватила Хриза.
— Для меня, например, не надо объявлять в газете о магнитных бурях, — прильнув душой к понятливым собеседникам, продолжала Ася. — Все эти бури — во мне самой.
Как обычно, беседа подчинилась стереотипной внутренней логике. Магнитные бури — плохое самочувствие, даже отвратительное самочувствие: камни в затылке, дрожь и слабость в коленях, страх в душе. При такой неуверенности в себе лучше, конечно, жить в деревне. Несомненно, на вольном воздухе, в деревянном домишке, стены которого дышат. Жить-жить там, чем погибать здесь, в бетонных склепах или под землей, в метро. Вы заметили, что там совсем не стало воздуха? Безусловно, все заметили. Раньше хоть нагоняли туда откуда-то какой-то, чуть ли не озон, а теперь там один угарный газ. Когда-нибудь вздремнешь там, покачиваясь, — и не проснешься.
Три собеседницы просто-напросто упивались темой транспорта. Из метрополитеновых подземелий выскочили наконец наружу, в автобус. Тут уж досталось на орехи не самому автобусу, а его пассажирам: хамовитым и почему-то всегда очень толстым.
“Если мы сейчас еще пересядем на трамвай, — подумала Юлия, закипая, — мое терпение лопнет”. А Хриза, улучив удачный поворот разговора, мягко перевела его от обсуждения дикарских повадок пассажиров к любованию тонкими движениями души.
— … Такая редкость встретить сейчас деликатного человека… “Мама начала подбираться к салону, — отметила про себя Юлия. — Но если Ася не захочет… А вообще-то: видали мы этот салон! Не получится, и черт с ним! Единственно, там, конечно, клиентура. Но мы и так без дела не сидим”.
— …Как только я увидела вас, Ася, я сразу, поверите ли, почувствовала человека одного круга…
— Верю! И я — то же самое!
— А потом и Юлия мне сказала: какая милая женщина, вот бы нам подружиться! — Хриза выжидательно посмотрела на дочь, и та глубоко кивнула в ответ.
— Ну просто мои мысли! — в экстазе выпалила Ася. — В унисон!
— Только дружба, только взаимовыручка, тепло, поддержка и могут еще спасти нас в этой тяжкой, давящей жизни, — воодушевленно наставляла Хриза. — Вот ты впал в депрессию: и день серый, и будущее серое, и завтрак невкусный, и все на свете — подлецы, но приходят друзья, ты смотришь на них и… — Даже привыкшую к этому Юлию речь Хризы увлекла теплом и верой “Мама, конечно, прирожденный вития…”
Умело созданная Хризой атмосфера благожелательности привела наконец к тому, что Ася медленно и торжественно проговорила:
— Дорогие мои, я хочу ввести вас в один дом…
Первоначальная цель была достигнута. Хриза сверкнула на Юлию быстрым победным взглядом.
Итак, Ася пригласила пойти с ней в ближайшую среду — подобие приемов они устраивают именно по средам — к значительным и интересным людям — Еремеевым, вернее, даже к Еремеевой-Алазанской, потому что она — душа этих “сред”, а он, несмотря на его головокружительный пост, там, дома, все-таки — при ней. Патриция Петровна, по наблюдениям Аси, всегда рада новым знакомствам с неординарными людьми.
— Юлия с удовольствием пойдет с вами, — заверила Хриза.
— А вы?
— Я думаю, что в такие места не стоит заходить гуськом. Вы появитесь с Юлией — это будет уместно. Можно даже прибегнуть к маленькой простительной лжи, что она будто бы ваша племянница, — легко, весело рассуждала Хриза. — А я, без обид, появлюсь позже на неделю-другую. И для меня потом мы можем придумать какое-то оригинальное появление. Ведь там любят мистификации?
— Еще бы! Как и во всех обществах, где собираются интеллектуальные люди, — Ася и не пыталась скрыть своей радости, удовлетворения от того, что здесь все схватывают на лету.
Кроме того, Ася слишком долго жила одна, и не могла не оценить нежданный сюрприз судьбы в виде “родственницы”, пусть даже вымышленной, ведь в жизни как бывает, скажешь — и сбудется, слово потянет за собой событие, а родство — больше понятие сердечное, чем кровное.
Благодаря за заботу, Юлия чмокнула “тетушку” в щеку. От Хризы не ускользнуло, что Ася вдруг смутилась. Но в смущенье ее привели не щенячьи Юлины ласки, а…
— Не знаю, как вам сказать, — промямлила Ася, — тем более, вы упомянули о нелепости походов гуськом…
— А-ася, — укоризненно протянула Хриза, — нам с Юлией всегда и обо всем можно сказать напрямик. Вы нам верите?
Хризины формулы о добре и вере — давно уже заметила Юлия — действовали безотказно.
— Верю. И поэтому скажу. — Ася замялась, подбирая слова. “Закопалась как курица в навозе, — обругала ее про себя Юлия и понукнула: — Ну же!”
— Много лет я лелеяла свое одиночество. Вы знаете, в отличие от многих, я ценю одиночество. Но вот недавно… Совершенно неожиданно, когда я была в гостях у старинной приятельницы, ко мне подсел мужчина. И пошел провожать. И потом ждал у подъезда, на следующее утро. Это так удивительно!
— Что же тут удивительного? — улыбнулась Хриза. — А-ася, если бы в нашем обществе было чуть больше джентльменов…
— Да их совсем нет! — буркнула Юлия.
— …Но если бы они были, вам давно бы уже не давали покоя…
— Но мой возраст…
— Возраст женщины — ее обаятельность, ее чары, — не унималась Хриза.
— Да, но… — Ася уже нервничала, было заметно и раздражение. — Но ему всего лет двадцать пять!
Лица у обеих слушательниц вытянулись. Хорошо еще, что Юлия не присвистнула — водилась за ней эта мальчишечья манера. Хриза быстро нашлась — как всегда. Улыбаясь ласково, без тени насмешки, она вольготно вскрикнула:
— Мало ли подобных примеров дружбы, любви, обожания — в истории, в искусстве!
— Ай да те-о-отушка! — восторгнулась в душе Юлия и скроила при этом такую гримасу, что Хриза сделала ей страшные глаза.
— Вы думаете, Хриза, что этого не надо стесняться? — поинтересовалась с надеждой.
— Ничуть. Этим надо гордиться!
— У меня к Диме чисто материнская снисходительность. Он пока еще так плохо ориентируется в этой жизни. Его нужно опекать, подсказывать ему…
— Вы — благородная душа, вот что я вам, Ася, скажу, — Хриза ласково похлопала ее по руке.
— Я хочу помочь ему. В наше время погибнешь без связей. И я хочу повести его к Еремеевой-Алазанской. Знаете, там словно между прочим завязываются такие полезные знакомства, столько всего… Как вы думаете, наверное, самое удобное — нам с Юлечкой и Димой пойти втроем?
“Ай да те-о-отушка, — повторила Юлия. — Да еще с двумя племяшами!”
— Прекрасная мысль! — подытожила Хриза.
Уходя, Ася задержалась у двери и церемонно пригласила их на завтра к себе на чашку кофе.
— Если Юлия по-прежнему хочет стать моей “племянницей”, я должна кое-что рассказать вам, обязательно, поверьте: это важно.
Захлопнув за гостьей дверь и выждав, пока шаги удалились, Хриза покачала головой.
— Она не так наивна, как казалось. Не могла найти лазейки, как протащить к Алазанской своего молодого любовника, а тут подвернулись мы.
— Подвернулись, — усмехнулась Юлия. — Меня можно представить племянницей, а его — племянником — нельзя?
— Там, Юленька, народ тертый. Вот ей и выгодно притащить вас вдвоем.
— Нас?! — Юлия повела плечом. — А она не боится, что этот ее Дима будет сравнивать, когда мы с ней окажемся рядом.
— Об этом Ася пока не думала. Ей важна ее репутация в салоне.
— Дело ее может многое потерять.
— Ю-уля, я уверена: тебе этот жиголо совершенно не потребуется.
— Да это я так! — смягчилась Юлия. — Тетка она не злая, и я ей плохого не желаю.
— Кроме того, Ася оказывает нам услугу, не забывай, — мягко подсказала Хриза.
— Мама, ты не обижайся, у каждого, конечно, есть идея-фикс: один мечтает развести ананасы на подоконнике, другой — съездить на сафари, а у тебя идея-фикс — этот салон. Я понимаю: связи, страховка и денежная и моральная, но ни один салон…
— …Не стоит излишних усилий? Я согласна, Юленька, не получится — и не надо, — Хриза пропела это с такой беспечностью, что… Юлия насторожилась: слишком часто беззаботностью прикрывают важное. Не скрывается ли… — но интересная тема следующих материнских фраз увлекла Юлию в сторону.
— Надеюсь, ты, как и я, принимаешь приглашение на чашку кофе? — спросила Хриза.
— Можно сходить, а…
— Можно и не ходить, да? Напрасно ты так думаешь.
— А ты, мама, по-другому?
Забравшись с ногами в кресло, Хриза задумчиво сказала:
— Думаю, немного найдется в Нивелии семей, подобных этой…
— Какой? — Юлия, что бывало редко, не могла сейчас уследить за материнской мыслью.
— Асиной.
— Ася — одна.
— Осталась одна. А вообще она — из удивительного рода Архалуковых.
Итак, Хриза упомянула о Нивелии…
Они жили в стране… Не будем называть ее страной чудес — назовем ее Нивелией.
Сколько Юлия помнит себя, столько они с матерью переезжали из одного нивельского города в другой. Нельзя сказать, что путешествовали — скорее, скитались, непреодолимо, однако, приближаясь к главному городу Нивелии — Туре. Два года назад Тура стала местом их обитания.
— Архалуковы? — переспросила Юлия, напрягаясь: сонм отрывочных, книжных, разговорных воспоминаний и ассоциаций пронесся у нее в голове. Своеобычная фамилия медленно всплывала из океана слышанного, но забытого. — Что-то чуть ли не… — замолчала, опасаясь попасть впросак.
— Да-да, — подбодрила Хриза. — Давний аристократический род.
— Там еще театр был крепостной и масса романтических историй…
— Например?
— Думаешь, блефую? Я на самом деле помню, когда-то в каком-то музее нам рассказывали о медальоне с изумрудом — кажется, Архалуковых…
— Ну, таких тонкостей я, старая гадалка, не помню, но должна сейчас признать, что воспитание я дала тебе отменное, — Хриза лукаво заулыбалась, — в любой светской болтовне ты будешь парить!
Материнская манера разговора — непринужденная, часто с иронией — нравилась Юлии с детства. Вырастая, начиная оценивать пагубность времени, вернее, его влияния на людей, Юлия с восторгом отмечала, что мама не стареет. И сейчас, наблюдая “старую гадалку” в длинном атласном халате, свернувшуюся в кресле калачиком, Юлия, несмотря на дочернюю привязанность, могла как бы отстраниться: перед ней сидела темноволосая женщина восточного, загадочного типа. Как она разнилась с теми особами женского пола, которые мерили нивельские улицы широкими гражданскими шагами, которые с кряхтеньем залезали в агрессивные автобусы и потом страстно боролись там за сидячее место.
Если бы поставить сейчас перед Хризой золотистый восточный кувшин, над ним обязательно появилась бы колдовская дымка. Она окутала бы Хризу и увлекла ее назад, в затворничество, в тайну…
— Так мы идем завтра к Асе Архалуковой? — Хриза отвлекла дочь от сказки. Но та не ответила на вопрос, а в такт своему тягучему взгляду протянула:
— Хри-и-иза, а ведь ты — загадочная женщина. Именно поэтому мужчины теряют из-за тебя голову.
— Стараюсь казаться таковой, — шутливо отозвалась Хриза, — но годы, усталость, обширность опыта мешают и безжалостно старят. Так мы идем завтра?
— Идем, — мимолетно согласилась Юлия, чтобы продолжить медленно и значительно: — Не-ет, ты не стараешься казаться. И вообще тщетность ненужных усилий тебе незнакома. У тебя колдовская натура…
— Дождалась комплимента! Еще ведьмой назови.
— Ты не ведьма. Ты волшебница, — улыбнулась наконец дочь, но не сдалась, добавив: — И у тебя есть… Есть у тебя — тайна.
Хриза вздрогнула, но сейчас же смягчила неожиданное впечатление смехом.
Находясь под обаянием полузабытых легенд об Архалуковых, Юлия была разочарована. Во-первых, дорога от метро до Асиного дома протянулась унылым серым лабиринтом с препятствиями: на каждом перекрестке, около многих домов одержимые нивельцы и их механизмы крошили асфальт, прокладывая на глубине канал.
— Мама, ты заметила: в Туре всегда что-то копают. Копают и копают…
— Только при раскопках можно найти клад.
— Архалуковых, например. Кстати, я думала, все они удрали за границу.
— Как видишь, нет.
— А может, сочиняет, а? — искренне засомневалась Юлия.
— Не думаю. Хотя — посмотрим… — Даже будучи в чем-то уверенной, Хриза не облекала свое мнение в категорическую форму. Тем более не сделала бы этого сейчас, потому что в последнее время в Нивелии, а особенно в Туре, появилась странная мода. Простые нивельцы, чьи деды пахали землю, а бабки пекли блины, не зарясь на господское добро, начали выдумывать себе увлекательные родословные, в которых дедов-пахарей и плотников заменяли на князей и графов, а бабок-стряпух выряжали в кринолины. И, надо сказать, эти непритязательные, на скорую руку состряпанные легенды для некоторых нивельцев оказались трамплинами, откуда взвивалась ввысь около-какая-нибудь карьера.
Разочарование дорогой получило свое горькое развитие и перед домом, девятиэтажным монстром с чугунными глазницами и общей злобной повадкой.
— Кажется, войдешь в подъезд, и он там слопает тебя своими ступеньками-клыками!..
— Не стоило и ожидать барских хором.
Конечно, Юлия не была столь наивна, чтобы воздать Архалуковой архалуковское — в смысле жилья. Но отголоски сказок, изредка звучавшие в Юлиной душе, если не настаивали, то робко просили отличить Асин дом от других — какой-то незначительной теплой мелочью.
— Хоть бы завитушку карниза или фонтанчик, — капризно сказала Юлия и в ответ на Хризин снисходительный взгляд пожала плечами: а вообще, мне-то что… Не оставалось надежды и на квартиру. Юлия знала тесноту бетонных сот.
— Многие неудобства иногда выкупаются самой атмосферой жилища, — напомнила Хриза.
Ее слова стали пророческими.
В каморке царил тот уют, который лишь недавно после вековых потрясений начал возвращаться в Нивелию.
Упоение воспоминаниями властвовало в этой комнате без голых стен. Пока Юлия и Хриза рассматривали цветник всевозможных небольших фотографий, картин, вышивок, Ася хлопотала на кухне, покрикивая оттуда:
— Присядьте, отдохните, я сейчас, я быстро.
Как только сели на древний — спинка кокошником — диван, старинный мир с его многообразием, изяществом и деликатностью заключил гостей в себя, и плен этот был приятен и матери, и дочери. Сквозь оконца шоколадного буфета, похожего на готический собор, кроме посуды, мерцали вещицы, о назначении которых Юлия не могла даже догадаться. Современный человек, она вдруг почувствовала свою убогость в нищей привычке пользоваться повседневно десятком вещей — и все с утилитарной целью.
Почувствовав Юлину заинтересованность, Хриза прошептала:
— Когда я росла, все это заклеймили мещанством.
— Не знаю, мне нравится это “мещанство”.
— Мне тоже. Нищенский быт уродует человека.
В этот миг идиллию забытого мира разрушил грубый звук: где-то рядом, но не на кухне, упало что-то тяжелое. Неприятное ощущение, пронзившее Юлию и Хризу, объяснялось тем, что грохот раздался рядом, это был не “соседний”, а какой-то здешний звук, но ведь вся крошечная комната ютилась вокруг них как на ладони.
На помощь в разгадке стремительно пришла хозяйка. Впорхнув в комнату, Ася подлетела к темному, чащобных цветовых сочетаний, гобелену, висевшему вертикально, откинула его, обнаруживая под ним дверь в соседнюю, смежную, комнату.
— У меня ведь здесь еще чуланчик! Взгляните.
Заинтригованные гости поспешили “взглянуть на чуланчик” и… были вторично удивлены. В смежной комнате, уж совсем скудной по размерам, на полу, спиной к гостям, сидел крупный мужчина, продолжая рыться в развалах старых книг.
— Это моя вина, моя рассеянность! Дима! — суетилась Ася. — Даже не представила. Дима! Познакомься.
Однако “книгочей” не выказал прыти в желании познакомиться. Он был из тех — как сразу безапелляционно определила для себя Юлия, — в ком телеса довлеют интеллекту и эмоциям. От пренебрежения ко всему свету лишь слегка повернув голову, Дима косанул на пришельцев недружелюбным взглядом исподлобья, над которым пещерно нависли спутанные темные волосы, и медленно, с медвежьей вальяжностью, поднявшись, проронил:
— Оч-чень приятно, — им. “Читай: пошли вы к черту”— перевела про себя Юлия. И: — Мне пора, — выразительное, по емкости тождественное римским изречениям — “мне пора” — Асе. Теплые кольца ее суетливого внимания словно закружились вокруг него. Это со смущением отметили обе гостьи, но каждая — на уровне своего возраста. “Не дай бог на старости лет завести себе такое!..” — думала Хриза, сочувствуя попавшей в западню и предостерегая себя. “И на кой он ей сдался”,— с юношеским размахом отвергала ненужное Юлия.
Но после ухода Димы Ася с таким тщанием пыталась сгладить болезненное впечатление на тему “Стареющая барышня и жиголо”, что Хризе пришлось узурпировать хозяйские полномочия. Взяв разговор в свои руки, она перевела его на Архалуковых, вызволив тем самым Асю из пучины смущения. А вскоре сумела вклинить и собственные интересы, спросив шутливо:
— Ну как, могла бы Юлия претендовать на фамильное сходство?
— О да-а! — восхищенно объявила Ася, и Юлии стало приятно. — В ней есть то качество, о котором у нас столь редко упоминают, — породистость.
Хриза фыркнула и вдруг захохотала с тем упоением, какого никогда прежде не обнаруживала в смехе. Юлия наблюдала за ней с удивлением. “Вот тебе, пожалуйста — материнская необъективность налицо, — сетовала Юлия. — Обрадовалась, что ее дочь — породиста!..” Удивленно поглядывая на Хризу, Ася поправляла кофейные чашки и салфетку.
Наконец гостья успокоилась, и они принялись творить “фамильную легенду” Юлии. Сочинение сказки так увлекло всех, что три часа будто облеклись в какие-нибудь десять — двадцать минут… Время невесомо, когда нам хорошо…
— Думаю, и вам, Хриза, нужно найти свое место в этой легенде, — увлеченно предложила Ася. — Давайте решим!
— Не беспокойтесь, и для меня найдется место, — заверила Хриза. — Я, конечно, появлюсь в салоне Алазанской. И сделаем мы это тоже оригинально. Но чуть позже.
Когда вышли из гостей, Хриза поздравила Юлию с княжеским титулом, а потом спросила:
— Как тебе ее жиголо?
Закатив глаза, Юлия не сдержалась в гневе:
— Отвратителен, как все содержанки.
Наваждение не только не отпустило Юлию, но теперь постоянно преследовало ее. Она стала думать о Дис-Басе слишком часто. На улицах в прохожих мужчинах искала новый его, не знаемый ею облик.
Записка на асфальте, обещавшая встречу, малиновой молнией вспыхивала перед ней в ночи: “Я буду здесь…”
— Кто ты — Я?
Прекрасно понимая, что фонтаны на Выставке шедевров — место постоянных встреч, Юлия убеждала себя не приписывать авторство записки Дис-Басу, давно потерянному, — иначе разочарование будет оглушительным. Разум подсказывал: успокойся, забудь, сердце рвалось: хочу видеть, хочу прикоснуться!..
Она требовала от судьбы этого свидания, с горечью осознавая, что судьба не подчиняется людской воле как ни умоляй ее — судьбу… Человек действия, Юлия не могла долго оставаться лежачим камнем, тем самым камнем, под который не течет вода.
Незадолго до этих событий, с удовольствием “плутая” по старинным переулкам Туры, Юлия натолкнулась на забавную вывеску: “Ищейка”.
— У вас что, частное сыскное агентство? — спросила, войдя в маленькую, обшитую деревянными панелями конуру.
— А вы не шутите, — ответил ей лысый, с головой, как бильярдный шарик, предприниматель. — Вот привезем сюда из Японии компьютеры — узнаете наших!
— Все болтают о компьютерах, — неуважительно заметила Юлия. — Только никаких грошей на них не хватит! Где денег возьмете?
— Найдем где! — беззаботно отпарировал Шарик. — Вы и дадите. Когда вам понадобится кого-то разыскать.
Тогда Юлия ответила на слова Шарика смехом. Теперь воспринимала их как пророческие. Не прошло и двух-трех недель, а ей уже понадобились услуги “Ищейки”. Жаль, Юлия не помнила названия переулка. Бродить пришлось долго, пока наконец на углу не мелькнуло что-то похожее: “Стол заказов”, узкий, для одного, тротуар и — золотистая вывеска с прикрепленными для бравады ошейником и цепочкой: “Ищейка”!
— …В обычном адресном столе вам сказали: только по прописке? — смеялся Шарик. — И вы удивились? А чему удивляться? Для них всех одни бумажки и существуют! Вы же знаете, как у нас принято! По прописке!
А если человек — уехал и выписался! В другом месте обязан срочно прописаться, да? Но жизнь ведь сложнее предписаний и инструкций — правда, барышня? Вот так-то, и вам “Ищейка” сгодится — увидите!..
— Вы беретесь? — радостно спросила Юлия, привыкшая, что везде ей отказывают.
— Мы не беремся — мы найдем, — Шарик голосом подчеркнул разницу между посулом и делом. — У нас, вы сами знаете, за все-о берутся, и с успехом, с энтузиазмом разваливают! А почему?
Расхожая фраза, кочевавшая по автобусам, очередям и метро, сразу вывалилась из Юлии:
— Хозяина нет.
— Вот. — Обрадовался Шарик, а ей стало неудобно оттого, что машинально повторяет стереотипное. — Вы юная, вы не знаете, какое это ликование, какая ответственность — иметь свое дело.
— Знаю.
— Знаете созерцательно, со стороны. А я чувствую сейчас на своей потрепанной шкуре — это, на минуточку, две разницы!
— Знаю-знаю, — ласково утвердила Юлия. — Мы с мамой давно имеем свое дело, — сказала с таким достоинством, что он был ошеломлен.
Юлия не лгала. Сколько она помнила себя — столько они с матерью занимались своеобразным, иллюзорным делом: лицедействовали в жизни.
— Только мираж, только грезы могут помочь людям, когда им тяжко, — изредка повторяла Хриза.
И они ехали к одинокой старухе, чья горделивость простерлась настолько, что ей захотелось изобразить счастливую семью перед дальними родственниками, которые наконец-то разыскали ее.
Они играли роли соседей, родственников, друзей.
Если нужно было что-то внушить впечатлительному человеку, проводили спиритические сеансы, где Хриза в последнее время доходила до такого совершенства в области наитий, что казалась уже не иллюзионистской, а волшебницей.
Их занятия требовали частых переездов — и они путешествовали по всей Нивелии. Перемены всегда были главным лейтмотивом их жизни. Школы, классы, города, поселки мелькали перед Юлией, рано начавшей понимать, что в Нивелии, где жизнь трудна и люди часто угрюмы, они с матерью представляют из себя каких-то не по-нивельски свободных, вольных людей — веселых, кочующих…
Ни перед кем они не раскрывали своей души, но иногда власть предержащие чиновники просто чуяли загадочность, исходящую от матери и дочери, — и тогда на них устраивали облавы.
Однажды в забытом богом Кулемске в их маленькую квартиру пронзительно, со смаком позвонили и потребовали открыть именем закона.
— Ничего не бойся, — предупредила Хриза десятилетнюю Юлию. — Мама все сделает как нужно. Главное не пугайся, а мы за себя постоим.
После этого Хриза громко и четко спросила:
— У вас есть ордер на обыск?
— Мы те щас такой ордер покажем, — ответили ей из-за двери такими развязными голосами, что Юлия закаменела, но, глядя на мать, восстановила в себе гордость. А Хриза большими шагами прошла в комнату, распахнула окно в ночь и стала звать на помощь ясным и гулким в тишине голосом. За дверью упали ругательства и по лестнице покатился камнепад дикарских шагов.
С тех пор Юлия не боялась никого и ничего. Спустя годы Юлия спросила у Хризы:
— Ты была уверена, что кулемчане помогут нам?
— Я была уверена, что — нет, — с улыбкой ответила та: — Помочь себе можем только мы сами.
— А это — уже афоризм, — пошутила в ответ Юлия, заново оценив: ночь, беззащитная женщина с ребенком, напор хамства под личиной власти и — бесстрашие… Бесстрашие в том углу, где привыкли дрожать и бояться…
С семи до двадцати лет Юлия с матерью объездила всю Нивелию, не заезжая, однако, в столицу, Туру, куда Юлии хотелось более всего. В Туру хотелось, но в Туру было нельзя, потому что там требовался вид на жительство, называемый “прикреплением”.
— …Если бы у нас было это самое прикрепление, — заныла однажды Юля в десятый или в сотый раз. И тогда Хриза села перед ней, лицом к лицу, с суровым взглядом — и грянуло наставление, столь редкое в жизни Юлии.
— Запомни, Юля: пустые прожекты все равно что пустые консервные банки. Старайся избегать слов: “если бы…”, “хорошо бы…”, “хоть бы…” Привыкай не “быкать”, а действовать. Законы и инструкции всегда будут все запрещать тебе. Но там, где закон поднимется непреодолимым забором, всегда найдется лазейка — боковая, неприметная, для сметливых людей. И тогда — не стесняйся. Не мы с тобой виноваты в том, что зажаты в тиски. Нам не дали выбора: ни в месте жительства, ни в питании, ни в одежде — ни в чем. Но мы — люди, и поэтому, несмотря на железную хватку чиновников, будем делать свой выбор. Ты поняла меня?
Юлия поняла.
Юлия поняла, потому что были не только слова — было уже, пусть маленькое, детское, но прошлое, прошлое с ночным зовом в распахнутое окно, с камнепадом враждебных шагов на лестнице…
— Я обещаю тебе: мы поедем в Туру, когда ты вырастешь.
— А как же — прикрепление?
— Я покажу тебе, что любые бумажки, даже со всякими печатями, грифами, бумажки, которые здесь возвели в ранг божественных, ничто. Ты научишься выходить победителем в бумажных битвах.
— Научусь, — прошептала в ответ Юля. А ей тогда было только десять.
Здесь вступает в действие закон магических цифр в жизни…
Ровно через десять лет они прибыли в Туру.
Юлии уже минуло двадцать, но все равно — многое из того, что было связано с добычей прикрепления и квартиры, Хриза подвергла фигуре умолчания. Они не развивали между собой тему взятки и человека, посредника, передавшего ее в отдел прикреплений. Была взятка, был посредник — и этого достаточно: обстоятельства в Нивелии стадом диких бизонов нападали на человека, сминая, затаптывая его порядочность, чувство собственного достоинства.
Как серая летучая пыль разъедает очарование летнего дня, так и полузагадочная история их прибытия в Туру первые месяцы томила Юлию, а потом отлетела.
Все — терзания, унижения, страх — все выкупала собой Тура, дивная Тура…
Истаптывая ее улицы, проспекты и переулки, Юлия пила Туру как терпкое старинное вино, которое доступно не каждому; недоступно, например, тому, кто в бешеной скачке упирается взглядом в спины нивельцев, натыкается грудью на острые локти нивельцев… О эти локти — жесткие, агрессивные. О эти жесты нивельцев — расхристанные от вечной усталости, одичалые от вечной борьбы…
Если же — как в детских “волшебных картинках” — потихоньку, аккуратно снять с общего вида пелену озлобленности, то на первый план выплывает сказочный остров — Тура. Ее крыши, маковки соборов и церквей, шпили, ротонды летят по небу — легкие, веселые. Или небо подбрасывает их на своей голубой ладони?
Тура снизу, если стоять на ее асфальте, — крепка, камениста, богата. Тура сверху, если взобраться на вершину чего угодно, — порывиста, нежна и хрупка: может улететь, может растаять…
Странное творилось с Юлией, когда ей удавалось взобраться на балкон высотного здания. Одновременно она чувствовала себя и повелительницей, ощущая панораму Туры подолом своего царственного платья, — и рабыней, готовой прильнуть к величавым стопам… В этом городе ей и Шарику, Шарику и ей предстояло найти Дис-Баса, единственного мужчину. Подобно четкам перебирая взглядом бесчисленные окна, балконы, эркеры, Юлия знала душой: он где-то здесь, рядом, стоит протянуть руку, воспоминание, желание — и она найдет его.
“Если ты не ищешь меня…” — “Я ищу тебя, Дис-Бас. Жди”.
Между тем наступила среда — день приема у Еремеевой-Алазанской. Не зная точно, чего хочет Хриза, Юлия забросила крючок просто так, на удачу.
— А ты, мама, затеваешь крупную мистификацию!.. — глянула многозначительно, претендуя на осведомленность. Не тут-то было, Хриза не поддалась.
— Что выйдет, там посмотрим. Сейчас тебе важно войти в салон…
— Войти и…?
— На первое время составить впечатление об этой паре — Алазанской и самом Еремееве.
— И только? — удивилась Юлия.
— Этого вполне достаточно, — успокоила Хриза. — Поплавай среди сливок нивельского общества. А там видно будет. Произведи впечатление. Хотя… ты произведешь его независимо от того, захочешь или нет.
В свои двадцать два года Юлия выглядела совсем юной. Хрупкая, с матовой кожей. Порывистая, с летящим взглядом и детски тонкими запястьями. Ее можно было бы поместить на одно из старинных полотен — из тех, где живописцы льстили оригиналам — и полотно не прогадало бы от такой модели.
— Ехать в гриме? — спросила она у матери. Юлия всегда называла косметику гримом, подчеркивая, что вовсе не украшает себя, а — гримируется, как актриса, готовясь создать определенный образ.
— Желательно яркий грим. И вечернее платье, — как всегда мягко подсказала Хриза. Ее ласковый тон не провоцировал на грубости и противостояние, и Юлия принимала ее желания без надломов и срывов.
Когда Ася заехала за ней со своим жиголо, Юлия была готова.
— Вы просто фея, Юленька, — уже в машине пропела Ася очередной комплимент, на что спутник лишь презрительно хмыкнул — это, кажется, пришлось Асе по душе.
Сначала Юлия подумала, что этот таракан — поддельный пустячок, заморская игрушка из тех, которые подкладывают к вящему удовольствию толстосумов. Но таракан — она назвала его Усатиком — после минутного лицемерия, когда застыл в постной мертвой позе, вдруг ожил, пустив в ход свои многочисленные шустрые ножки. Паясничая, Усатик поплелся по темному полю стола к громоздкой вазе с фруктами. “Лицемер и обжора”,— обозвала его Юлия, которой до чертиков надоело сидеть в этом удобном поначалу кресле, ласково улыбаться и кивать, когда к ней подводили людей для знакомства — вообще было тошно чувствовать себя диковинной обезьянкой, на которую пялят глаза.
Если бы умелый живописец поверил картину этого салона золотым сечением, несомненно, центром, притягивающим всеобщее внимание, вычислялась бы она — Юлия, — она не хвастается, просто надоело.
— …Вижу привезли заморскую княжну, — комплиментничал виртуоз, недавно выгребавший своими сильными пальцами клавиши из рояля: слухи, пускаемые Асей, уже достигли его оттопыренных музыкальных ушей. “Легенда” срабатывала, Архалуковы оживали, Юлия кивала, а Усатик уже осваивал узорчатое фарфоровое подножье вазы.
Хозяева тоже, если употребить высокий, салонный штиль, не оставляли ее своим вниманием: Алазанская в третий раз настаивала на том, чтобы Юлия с сегодняшнего вечера бывала у них постоянно, а сам Еремеев шутливо и преувеличенно громко требовал корвалол, намекая на сногсшибательное впечатление, произведенное на него экзотической прелестью Юлии. Гости смеялись и вновь подходили к ней. Усатик, возомнив себя альпинистом, цеплялся худенькими ножками за узорные выступы: остов вазы, видимо, казался ему Эверестом.
— …Нет, это глупости! — доносился зычный голос Патриции Петровны Алазанской. — Всяких группировок, всяких союзов может быть множество, я согласна, но кулак должен быть единым — вы меня понимаете?
Жиголо Дима посматривал по сторонам. “Ловок подлец”,— думала Юлия, наблюдая за тем, как Усатик прилепился снизу к вазону.
— …Патлатых я не терплю. Лохмы распустят и бренчат на трех струнах… — прорезал салон трубный глас Патриции Петровны.
“С такой жить — в окно выпрыгнешь”,— посочувствовала Юлия Еремею Васильевичу, увидев, как он тщится везде и всюду смягчить категоричность суждений жены, набрасывая на колючки ее фраз покрывало умиротворенных высказываний. Эдакий утишающий всех вальяжный человек. Чиновный, но без снобизма, с милым обаянием всеприятия, понимания. Полноват, но движется легко. И его собственная улыбка витает вокруг него десятком улыбок — опыт благожелательного поведения, выучка, закалка — поняла Юлия.
Дуэт из двух стареющих женщин спел томительную песню. Жиголо Дима все посматривал по сторонам. Усатик наконец-таки оседлал прошлогоднюю меднокожую грушу.
Неожиданно попав в периферию взгляда Асиного шер ами, Юлия с быстротой искры показала ему язык. В ответ он также стремительно скорчил обезьянью рожу. Оба намека были взаимно правильно поняты. Ее: вряд ли тебе здесь выгорит, его: сама, как в балагане, ждешь, кто на тебя клюнет, мартышка. Обменявшись мимическими любезностями, оба успокоились, мысленно послав друг другу: “Болван!” — “Сама балда!” — спасибо за внимание. “Нужно помочь ему”,— решила Юлия и отколупнула ногтем кусочек груши, тем самым обнажив для Усатика доступ к медоточивому источнику. Усатик благодарно взбрыкнул и присосался к сладкой ране.
Какие-то ласковые женщины покатили на звенящих столиках коктейли. Сам Еремей Васильевич подал Юлии высокий темный бокал с бурей напластований, пузырьков и вишен в нем.
— Неотразимой.
— Благодарю. — Несмотря на комплимент, Юлия не почувствовала никаких поползновений со стороны хозяина — только учтивость да опека сродни отеческой — слава богу. Из распахнутого в весенний вечер окна потянуло подтаявшим, с привкусом льдинок, воздухом. Вид из окна не давил бетонными чудовищами — обещал весну, ветви, синеву и ожидание… “Если ты не ищешь меня…” — Юлия стряхнула с себя наваждение. “А почему бы не угостить Усатика коктейлем?” — зачерпнув пластмассовой соломиной, посадила каплю в воронку груши: угощайся, друг.
— Что вы делаете, Ю-у-уленька? — просквозил над ухом тихий Асин голос. Она присела рядом, быстро погладила Юлию — родственницу! — по руке, по-родственному опять же поправила складку на ее искристом шарфе, опять тронула за руку. “Все-таки много в ней лишнего: шорохов, жестов, — подумала Юлия. — Но все равно она добрая, ладно”.
— …А сейчас что: сварят две рельсы, обтянут колючей проволокой — вот вам и долой фашизм! Да так и я могу! Какой тут талант?! Ну что, я не права?!
— Абсолютно правы!
— Ну какой тут талант?! Если у них — талант, тогда и у меня — талант!.. — Высокое мнение гудело затронутой рельсой.
— Не судите ее строго, — советовала-просила Ася. — Осудить легче всего. У них своя трагедия в прошлом. Ребенок…
— Умер? — догадалась Юлия по драматическому тону.
— Хуже, — выдохнула Ася. — Но об этом — не сейчас, как-нибудь потом, потом…
Сочувствуя другим, Ася не забывала и о собственных горестях: Дима ни разу за вечер не подошел к ней, не сел рядом, не… Облокотившись на подоконник, подставил всем свою спину, большую, непроницаемую — презрительную? Всем — пусть, но за что — ей, Асе?… “За то, что заводишь содержанок, — мысленно ответила на безмолвный вопрос Юлия. — Ты, проницательная, чуткая, с архалуковской генетикой, неужели не ощущаешь, как он мелок, ненужен тебе?” — “Тебе, Юленька, такой юной, экзотической княжне легко выносить смертный приговор человеческим отношениям” — “Я не претендую на роль палача да и вовсе не хотела бы… А вообще-то, живите все, как знаете”.— “А ты, Юля, знаешь — как?” — “Когда я с Хризой — знаю”.
“Когда я с Хризой… А разве я бываю без нее?..”
— Конец света. — С презрительной гримасой доложила она.
— Весь салон — конец света? — улыбнулась Хриза.
— Весь! — отсекла Юлия театральным жестом. — Без исключений. — И погнала теннисные подачи хлестких характеристик: — Алазанская — гильотина, падает, не различая, на какую шею. Еремеев — барсук в своей норе, утепляет, умащивает, жирует. Твоя Ася — безобидный сквознячок. Ее жиголо — мизантроп с наполеонскими целями. Все рвут невидимую шкуру. И пошли они к черту!
Хриза засмеялась, ласково, от души.
— Ты, видимо, была там не к месту, почувствовала это, разозлилась. Включила свои воображение, мнительность — и еще больше распалилась.
— Я?! Не к месту? Да вообще существует ли такое место, где я — не к месту?
Присвистнув, Хриза покачала головой: хвастовства она не любила.
— Прости, меня понесло, — спохватилась Юлия. — Но, клянусь тебе, все смотрели на меня как на древнюю японскую статуэтку.
— А ты?
— Кивала “очаровательной головкой” как японский болванчик. Туда нужно будет идти еще раз?
— Теперь уже со мной.
— С тобой хоть в другую галактику.
“Если ты не ищешь меня…” — “Я ищу тебя, Дис-Бас. Малиновой молнией ты обещал прийти туда тридцатого апреля. Ты не поверишь, но я найду тебя раньше…
Я найду тебя… потому что искры того костра, на вершине горы, над пропастью…”
Цепкий куст стал для нее капканом, и она выскочила из этой западни туда, к нему, к Дис-Басу.
Он был костровым. Он должен был затушить костер, умертвить его навсегда, до щепочки, до последнего крошечного угля. Но Дис-Бас не захотел душить огонь. Или не смог? Пламя бесновалось. И они очутились в сердцевине стихии, в непроницаемой жаркой капсуле. Огонь сорвал с них те убогие одежды: шорты цвета хаки и такие же рубашки, одинаковые на мальчиках и девочках. Тряпье хаки сгорело, истлело. Огонь позволил им быть самими собой. Им все запрещалось: выходить за территорию “Дерзая”, купаться в море, подниматься в горы. А огонь — вольный, дерзкий, смертельный — все позволил.
Их слова облекались в легкий треск и пощелкивание прогорающих ветвей, и даже в те мгновения ни Юлия, ни Дис не могли бы сказать, что из движений и шелеста принадлежало им самим, а что — костру.
— Я сразу заметил тебя, — вздох, еще.
— Здесь?
— Нет, вообще… Так?
— Чуть ниже… — звук поцелуя, еще.
Тысячи касаний — ночного густого воздуха, летучего пепла — или ладоней, волос? Но разве человеческие ладони бывают такими нежными и всеохватными, а волосы такими мягкими, как пепел, и жесткими, как сухая трава, — одновременно? Тысячи скольжений: сначала медленных, туманных, потом — с попыткой догнать новым — прежнее. Вихрь скольжений. И звуки, нарастающие звуки южной ночи. Звуки костра, звуки дебрей, что наваливаются на костер. Шорохи, перезвоны, бурление волн под горой. И пронзительный, пещерный крик — какой-то неведомой птицы, что залетела в дебри и поранилась об острый конец ветви?..
В этот миг костер вспыхнул с бесовской силой — неудержимой, не подвластной никому. Огненная струя прожгла Юлию. Выхватился вскрик Диса. Она почувствовала, что облекла его пылающим кольцом. Несколько секунд Юлия ощущала себя нездешней материей, которая заключила его в самое себя. Затем она мгновенно словно уменьшилась и позволила Дису окутать себя той огненной пеленой, в которую превратился он.
Мир спрессовался в плазменный сгусток. Спасения не было. Но в этот миг огромная морская волна слизнула сгусток, поглотила его в себя, спасая их…
Юлия и Дис плавали в море, вернее, море держало их на своей черной от ночи спине, баюкая, позволяя не делать лишних движений. Они лежали навзничь на тугой глянцевитой поверхности, чувствуя, что весь мир провалился в тартарары, отлетел от них, отстал от них — не зовет, не приказывает, не требует… Наконец они свободны. Наконец они выбрали ту стихию — не земли, не моря, не неба, а единственную близкую их душе стихию непонятного, непознанного, тайного…
Пугливая, беспокойная весенняя ночь вернула Юлии память той нирваны. И оказалось, что вся она — каждой своей клеткой — все помнит, что она не забывала… Земля, море и небо, соединившись, должны вернуть ей ее стихию.
Если бы Шарик сказал ей, что еще рано, что адреса не нашли, она бы умерла — такое чувство внесла с собой Юлия, войдя в “Ищейку” — несомненно, чувство крайней экзальтированности: люди не умирают не то что от горестных, даже от поистине смертельных вестей. В общем, умерла бы или нет — неизвестно, потому что настоящий хозяин бюро поиска, настоящий радетель дела своего сказал ей:
— Да. — Сказал ей. — Нашли. — Просто так сказал, не набивая цены, не требуя царских вознаграждений за создание нездешней стихии, которая воплотилась в небольшом клочке папиросной бумаги похожей — на квитанцию при ремонте туфель.
На трепетном — неужели ее рука дрогнула? — листке полупрозрачной бумаги значился один из переулков, названия которых со вкусом произносятся старинными жителями Туры — гурманами своего замученного, но прекрасного, по-прежнему прекрасного, трижды прекрасного города. Переулок Падшего Ангела. Юлия сразу же запретила себе навязчивые и примитивные ассоциации: не надо.
Требовалась личина. Сначала таковой ей показалась верительная грамота страхового агента. Но пошлость и расхожесть этой версии оскорбила Юлию, которая решила в новые времена действовать по-новому, оригинально.
Дом, где — как уверяла справка “Ищейки” — жил Дионис Басов, родился, крестился и созрел еще в прошлом веке. В начале нынешнего века он старел, а сейчас уже являл собой доисторическое ископаемое. В таком доме могли водиться привидения, в нем мог рухнуть потолок на голову пришельцу — в общем, оригинальность поведения не была противопоказана дому с сюрпризами.
“Я иду к тебе, Дис…”
В подъезде из грязного потолка бил скудный, но упорный фонтанчик. Массивность стен, высота потолка, упругость каменных лестниц напоминали о былом величии жилища, о мощи и благоденствии былых жильцов, все остальное, как-то: протеки, облезлая штукатурка, запах сырости и гнили — все остальное безмолвно жаловалось на обнищание и оскудение.
“Я уже на пороге, Дис”.
Было лучше перед закрытой дверью: там, за ней, в тайне жила мечта. Когда же дверь уступила место темному враждебному проему, в узкий черный фон врезалась женщина, и волосы, и глаза которой стояли дыбом. На Юлию она произвела впечатление разъяренной кошки, что сбрендит кинуться прямо в лицо. “Чур меня”,— подумала Юлия и располагающим тоном сообщила:
— Там в парадном у вас, как бы это выразиться, — попыталась пошутить: — Фонтанирует.
— А я что? Должна, по-вашему, пойти и своей задницей заткнуть, что ли?! — гаркнула Вздыбленная. — Из дэза, что ли?
— Нет. Я представитель фирмы “Мицу-Цуми”, совместной с Японией. — Как всегда преподнося легенду, Юлия ощутила в себе азарт и веселость. — Мы задумали реконструировать это старинное место Туры так, чтобы учесть пожелания всех проживающих.
— Дом-то отселяется, — озадаченно напомнила Вздыбленная. — Нас здесь и осталось-то: я да муж…
Темный проем качнулся перед глазами Юлии, но она заставила себя достать блокнот.
— Я запишу, кто проживает — для отчета фирме.
— Заходите, пожалуйста. Осторожно, здесь половица прогнила. Вот сюда. Раньше занимали и соседнюю комнату, но там шмоток штукатурки рухнул, хорошо еще днем. Если б ночью, я говорю Мите: кровать стала б могилой.
“Она. Митя ее. А как же — Дионис?” — стремительно пронеслось у Юлии в голове, и она начала с деланной старательностью записывать данные жильцов.
— …Муж мой Басов…
— …Дмитрий.
— Нет. Это я его Митей зову. А родители его, идиоты, — прости меня, господи, — назвали, вы не поверите, — Дионисом…
Юлия и вправду не могла поверить… “Дис… Дис! Боже мой, Дис…” А Басова — Вздыбленная уже показывала тахту мужа, втиснутую за большим обветшалым шкафом.
— …Вот здесь он ютится, за шкафом…
Всего чего угодно, как говорится, но такого — зашкафного Диса — Юлия не ожидала.
— …Сначала-то мы развелись только на бумаге, сами понимаете, отселение, можно две квартиры получить. Одна знакомая, правда, предупреждала меня: смотри-и, сначала разойдетесь на бумаге, а потом и в жизни, я отмахивалась: суеверия все!
“Что они с тобой сделали, Дис?! — Юлии показалось, что сама душа закричала в ней. — Разве так бывает, Дис?!” — больными глазами она впилась в шкаф, за которым… Слава богу, тахта была пуста. Провидение хоть в этом пожалело ее.
— …Оказалось, не суеверие. Развелись и — что-то стронулось. Поверите, отношения стали расползаться, как мокрая туалетная бумага. Сами мы их как бы подмочили — поверите? Кому сказать — ведь не поверят. Из дэза приходила, говорит: врете все, две квартиры хотите захапать. А мне уже не до квартир…
Признания изливались на Юлию, а она пробиралась в темноте, на ощупь, к выходу, к проему, в который можно выскользнуть. В эти секунды длинный хмурый коридор превратился в западню — тесную, слепую, обидную. Подгнившая половица, осев, глотнула Юлины ноги, но Юлия рванулась и сумела выскочить, потому что с детства знала: самое опасное — это западня.
“Если ты, Дис, попал в западню, то почему не сделал усилия…”
Хорошо, что фонтан около театра, праздничный бесноватый фонтан, был включен — в Туре не так уж часто включали фонтаны, наверное, терзали неполадки с водой или с трубами, не важно. На сей раз фонтан был включен, а Юлии нужна была, как ничто другое, эта косматая охапка радужной воды. Когда Юлия заворожено смотрела на это праздничное веселое буйство, то испытывала успокоение — ее ласкало чувство, будто сейчас свершается омовение души. Как бы смывалось, затягивалось туманной пеленой впечатление “зашкафного Диса”.
Там, в западне, сердце ее чуть не взорвалось: она не смогла бы увидеть униженного Диса…
Здесь, вблизи свежести, вблизи какой-то утренней радости, она дала себе зарок — не встречаться с Дис-Басом. Его нет. Он умер. Прежний Дис умер. Его не вернуть. Его нет. А новый… Двух Дис-Басов быть не может.
Дис-Бас был один Единственный. И он — умер.
В заповедный, предсонный час Юлия нарушила уединение Хризы. Присела на край тахты, завороженно глядя на китайский фонарик, что всегда, после любых переездов, к вечеру уже висел в изголовье. Нежная узкоглазая китаянка шла к голубым штрихам ручья от своего игрушечного домика, у которого легкие подолы крыш были словно ветром загнуты. Китаянка, подобно Юлии, шла к воде, к успокоению — дошла ли?
— Ты помнишь, мама, я рассказывала тебе о нем. “Дерзай”, Дис-Бас…
— Конечно, Юля.
— Так вот, он умер.
— Боже мой!..
— Только не спрашивай: рак или инсульт — ладно?
Знаешь, мама, я бы поставила такой диагноз: рак нашей жизни, метастазы пронизывают человека, делают его больным холопом, зашкафным тараканом… В общем, он умер для меня.
— Ты не пожалеешь о своей категоричности, Юля?
— Нет! — Помолчала. — Вообще-то, не знаю.
— Дис обидел тебя?
— Его просто не было… Это длинная история. Начало ты знаешь, а продолжение — как-нибудь, лет пять спустя — хорошо? Меня обидели все те вещи, запахи, стены, тряпье, среди которых он живет. — Быстро поправилась: — …Он жил. Я не могу объяснить, но ты понимаешь меня, я знаю. Потом я сидела у фонтана — водяные чудо космы. Его ведь искали для меня. Поверишь ли, через кооперативное бюро “Ищейка”. Найдут кого хочешь. Я как-нибудь, будем гулять по центру, по старому центру, и я покажу тебе и саму “Ищейку”, и Шарика, хозяина — забавный такой, голова — билльярдный шар, поэтому я его прозвала Шариком. — Проговаривая последние фразы, Юлия уже чувствовала, что этот словесный поток не останется безнаказанным. Впечатления сегодняшнего дня, все эти: затхлые парадные, крутые лестницы, прогнившие половицы, громоздкие шкафы, застящие свет — вдруг спрессовались в жесткий сгусток, что стал поперек горла, отнял дыхание и волю. Лишившись воздуха, надежд, ожиданий — лишившись Диса! — Юлия зарыдала. Лицо сразу словно попало под струи фонтана, и Юлия яростно прижала кулаки к щекам.
— Сходи в церковь, — тихо сказала Хриза.
— Справлюсь сама. Он и не нужен был мне. Неожиданно вспомнилось, как накатило, и — повело… Теперь все, отрезано, — Юлия улыбнулась сквозь слезы, и вместо глаз словно взблеснули солнечные бесенята на зеленой воде заросшего пруда.
— Как я люблю тебя, — прошептала Хриза. — Я не могла бы жить без тебя.
— Я тоже.
— Ты сама сейчас как фонтан, — пошутила Хриза. И долго задумчиво смотрела на Юлино лицо, смятенное чувствами, воспоминаниями. Пока смотрела, Юлия успела ответно пошутить: “Фонтан выключается”, успела приободриться и уже сделала движение уходить, но Хриза крепкой рукой удержала ее в прежней позе: посиди.
— Я всегда благодарна тебе за откровенность, Юлия, и отвечу на нее своей искренностью. Правда, я всегда или скажем лучше так: почти всегда искренна с тобой.
— …Почти?
— Когда это зависит от меня.
— А бывает по-другому, мама?
— В жизни бывает по-всякому, ты сама знаешь. Я должна сделать тебе признание: у меня есть враг.
— Враг? — Юлия не привыкла к таким хлестким наименованиям. — Может быть, недоброжелатель? — переспросила, желая уточнений.
— Нет, именно враг. Когда-то он объявил врагом Нивелии моего отца, и отец сгинул в дальних северных краях.
— Вот оно что! — присвистнула Юлия. — Значит, дедушка не умер, как ты говорила, а… Теперь понимаю! Мы для этого ездили в Спаси-Северный!..
— В Спаси-Северном я пробилась к архивам, говорила с людьми. Я всегда знала, что донос был написан тем человеком…
— Которого ты назвала врагом…
— …Но я хотела иметь копии документов.
— Разве это можно, мама?
— Это нельзя, как и многое другое. Но Это необходимо, Юлия, для того, чтобы они знали: месть настигнет их.
Через несколько дней, побывав в салоне Алазанской, Юлия вернулась в приподнятом настроении. Летая по комнатам так, что искристый вечерний шарф поднимался сзади необычным длинным крылом, выкрикивала:
— Мудрая Хриза, ликуй! Все идет, как ты предрекала! Я порассказала о своей матери-эмигрантке, и они зудят теперь: когда да когда увидят тебя.
— Увидят-увидят, — многозначительно пообещала Хриза. — Я чувствую, всеобщее внимание там вскружило тебе голову. — Хриза не укоряла, заметила это просто, легко, но Юлия сразу осела на подвернувшийся пуфик — и диковинное крыло мягко приземлилось вслед за ней — посерьезнела и призналась:
— Поверь, я так рада, что по-настоящему помогаю тебе. Я теперь знаю, в этот салон вхож тот человек, ненавистный нам, твой и мой враг. Ты не говоришь мне, женщина это или мужчина, ты не говоришь, кто именно…
— Не потому, что не доверяю, Юлия.
— …Да-да, ты права, иначе я бы смотрела на него или на нее такими страшными глазами, ты права.
— Значит, ты уже подготовила мое появление.
— Твое явление! — объявила Юлия торжественно. — Все в диком раже. Я блефовала осмотрительно, но заманчиво: маман приехала сюда на месячишко, осматривается. Там, за бугром, у нее наберется несколько пустячков: две-три виллы, скаковая конюшня…
— Эйфелева башня, Биг Бен, Елисейские поля, — засмеялась Хриза.
— Сейчас ты обрадуешься еще больше! — Юлия не могла унять в себе победного азарта. — Ты не представляешь, насколько обстоятельства благоприятствуют нам!
— Сплюнь! Сглазишь!
— Они пригласили нас на свою дачу. Ася шепнула мне, что дачу эту вполне можно поименовать виллой. Расположена в чудном местечке. И имеет имя собственное — “Отшельница”.
— Что ж, приглашение принимается. Едем. — Как можно проще сказала Хриза.
Однако Юлия — в силу своей мнительности? — уловила многолетнее ожидание, скрывавшееся под шелухой незначительных слов. Юлия внимательно посмотрела на мать снизу вверх и тихо, медленно проговорила:
— Чует мое сердце, интересные события развернутся на “Отшельнице”…
Апрель неожиданно, к концу, после острой сырости, обласкал всех: зверей, травы, людей, деревья — теплом. Солнечное марево, еще нежаркое, неутомительное, стелилось по Нивелии, и особенно хорошо было там, где не раскалялся асфальт и не привередничала едкая пыль.
Весенняя идиллия полностью воплотилась в “Отшельнице”. Сам домик, двухэтажный, с нагромождением башенок и украшений, плыл по-над зеленеющими облаками деревьев, плыл ровно, спокойно, не возносясь вверх, к покатому холму, и не спускаясь вниз, к симпатичной речке, которая и дала название домику, то бишь вилле.
Перед “Отшельницей” был разбит палисадник, что мог угодить любому времени года: лету — розами, осени — хризантемами, ну а весне — кустами сирени, пока скудной, но уже готовой удивить всех сладким запахом женственно-нежных кистей.
По звонким, мощенным аккуратными розовыми плитками тропинкам, пересекающим палисадник, гости и хозяева имели обыкновение совершать по утрам шоколадный променад.
Спортивной трусцой пробегал к речке Дима, Асин жиголо.
— Мог бы и не заботиться о своей форме, — бросала вслед Юлия, — для стареющих дам и так сойдет.
— Ты как маленькая, — с улыбкой замечала Хриза. — А если услышит?
От речки на всю округу раздавалось смачное кряканье Еремея Васильевича. Если Дима окунался в пока еще пронзительно холодную Отшельницу, то сам ограничивался лишь пригоршнями воды, фыркая и отплевываясь наподобие какого-то зверя, какого — Юлия точно не помнила. Из окна второго этажа высовывалась дикобразная физиономия — Патриция Петровна накладывала маску из яичного коктейля — и кивала матери с дочерью, которые сейчас же, отулыбавшись, спешили в одну из боковых аллеек, не видных из окна.
Сиреневые кусты незаметно переходили в рощу, все густеющую с удалением от Отшельницы. Иногда, в неожиданном месте, из зарослей, словно юркая змейка, выскакивала Ася со словами:
— Ну что? Напугала? Сознайтесь, напугала! — и заливалась быстрым дробным смехом. Этот смех был не по душе Хризе:
— …Нет, Юлия, есть в ней что-то нервозное.
— Не бери в голову!
— Поверь моему чутью: она ревнует тебя к Диме.
— Меня?! К этому дерьму?! — в ярости Юлия не выбирала выражений.
— Знаю, что ты ни при чем! — уверила Хриза. — Но она видит данное: двое молодых красивых…
— Попрошу не объединять меня с… — удержалась, — с некоторыми, скажем так.
В этот миг в начинающую бурлить дискуссию втек влажный, рокочущий от весеннего счастья голос Еремея Васильевича, который и появился в призрачном просвете березовой аллеи, сверкая огромным мокрым животом.
— Ю-ю-уленька, вы и сами не представляете, рядом с каким сокровищем идете… “Намекает на скаковую конюшню?” — язвила про себя Юлия, пока он расцеловывал Хризины руки: чмоканье катилось по березняку. Юлии ничего не оставалось как уступить Еремееву сокровище.
Похлестывая гибким березовым прутом тропинку, Юлия в одиночестве брела дальше, размышляя о странностях жизни: “В больших чинах тюлень, ко всем спец-привилегиям допущен, а туда же — падок на богатство… Неужели готов махнуть туда вслед за ”эмигранткой”?
Возвращаясь после утреннего омовения, как всегда угнув хмурую голову, Дима подбросил ей сомнительный комплимент: — Мисс красоты в обезьяньем питомнике! — на что она стремительно отпасовала:
— Сутенер в террариуме!
Магия провидения любит завершенность, не раз замечала Юлия, завершенность в месте действия, в количестве встреч, во внутреннем состоянии отношений. Если встречи с каким-то человеком остались для тебя непроясненными, подернутыми голубым флером, когда-нибудь по наитию ты обязательно выйдешь на последний — или новый? — круг этих отношений…
Наступило тридцатое апреля, оно все-таки наступило.
Не желая помнить об этой дате, трижды махнув на нее рукой, Юлия, конечно, даже не вспомнила о том, что в пять вечера, на Выставке шедевров, около Каскадного фонтана… — Юлия забыла, и все. С утра она, как водится, прогуливалась в лабиринте сиреневых кустов, уже готовых к своему весеннему балу. Прогуливалась одна, потому что Хриза, захотевшая “собраться с мыслями”, осталась в комнате: может быть, приближалась развязка? — Юлия не лезла с вопросами. Юлия вообще ни к кому не лезла, прогуливалась сама по себе, своим тишайшим нравом будто заклиная судьбу не нарушать ее покоя. Но судьба не пошла на сговор с ней…
Разминая сиреневую почку, Юлия наслаждалась острым сладким запахом, когда над ней вдруг грянуло:
— Он прекрасен, как Дионис!
Юлия вздрогнула.
Конечно, все объяснялось предельно просто: Патриция Петровна, стоя на балконе, увидела поспешающего от речки жиголо и восхитилась на всю округу, видимо, льстя Асе или, скорее, подзадоривая ее — были на то причины. Однако простота объяснения не развеяла тех странностей, которые сейчас же стали происходить в сиреневом лабиринте: круглое и звонкое имя Диониса начало блуждать по нему, изводя Юлию. Дионис! — катилось по центральной тропе. Дионис! — неслось из боковых проходов. Когда же самый воздух — мерцающий утренней радостью, подбитый солнечными лучами — начал звенеть: Дионис! — Юлия скрылась в “Отшельнице”.
Холл походил на склеп, здесь всегда было прохладно и сумрачно. Стены бугрились каменной мозаикой, в нишах отдыхали вальяжные кресла. В самой большой нише, как бы в гроте, размещался маленький бассейн с фонтанчиком, философски бормочущим день и ночь.
За одним из кресел у Юлии была припрятана книга “железного Редьярда” — вполне подходящее чтение для человека, решила она, который распустил свою волю, рассиропился и… Грохот наверху перебил ее мысль, там хлопнули дверью, очевидно, с остервенением. Сейчас же раздался вопль Патриции Петровны:
— Да, Ася! Да!
— Неужели? Я не замечала… — сумбурно проворковала Ася.
— Замечали, Ася, но миндальничаете!
— Мне кажется, они милые, порядочные люди…
— Где вы видели, Ася, в Нивелии порядочных людей?! — Патриция Петровна издала звук, похожий на лошадиное фырканье. — Я думала, они на самом деле — ваши родственники…
— Не обижайтесь, Патриция, это всего лишь милая шутка…
— Я не обидчива, вы знаете. Я и сама люблю шутки. Но тут уж пошло-поехало: этот старый дурак мой так и гарцует вокруг мамаши! Что Дима вьется вокруг девочки — понятно, дело молодое, но…
— Как?! Вам кажется, — голос Аси треснул. Вверху послышались шорохи, возня — всхлипывания…
— А-а, так тут вон еще что-о-о! — протрубила Патриция. — Пойдемте-ка ко мне, дорогая моя!..
Бухнула дверь. Юлия хватила кулаком по подлокотнику: еще недоставало сцен ревности, гадости и чепухи! Нужно предупредить Хризу — события ускоряются, Нужно отомстить этому доносчику или доносчице и…
— Хорошо, что предупредила, — сказала Хриза, сосредоточенно оглядывая комнату.
— Мама, а ты уже решила, как отомстить?
— Да.
— И я увижу?
— Даже поможешь мне.
— Вот здорово! Когда?
— Вечером.
Наверное, всегдашние солнечные блики дрогнули в Юлиных глазах, потому что Хриза вдруг спросила:
— Или ты занята?
— Рано вечером или… попозже? — с надеждой спросила Юлия.
— Попозже, к сумеркам, после восьми, — успокоила Хриза. И тогда само собой сказалось:
— Ты знаешь, мама, я, видимо, смотаюсь в Туру, часа на три…
— Не спеши, Юлия, я подожду.
— Нет-нет, ждать не придется, после семи я обязательно буду на месте. — Юлия помедлила. — Я догадываюсь, кто это, мама, и прошу без меня ничего не предпринимать.
Хриза посмотрела на нее долгим взглядом.
— Я без тебя и шагу не сделаю, Юлия. Кроме того, хочу, чтобы ты все видела и все слышала именно в этом случае.
Юлия запнулась, как всегда перед откровением.
— Хоть я никогда и не видела деда, но…
— …Ты любишь его, я знаю, — продолжила Хриза. — С детства ты играла его сочинения…
— …Неумело, какая из меня пианистка!
— Пусть неумело, но с любовью, это главное. Он был хорошим композитором.
— Если бы он не погиб… — начала Юлия.
— Но он погиб, — прервала Хриза, — жизнь вспять не повернешь. Можно только отомстить.
Маленький фонтан в холле журчал дедушкиным вальсом, когда Юлия вновь спустилась туда. От деда остались лишь мелодии, но они томили душу… Конечно, прошлое не предъявляло Юлии тех болей, унижений и страстей, которые время от времени насылало на Хризу, но, повзрослев, Юлия всегда чувствовала, когда заряд пережитого настигал мать: ни разу не случилось так, чтобы он прошел по касательной, не задев дочери.
Словно перекатывая камешки, фонтанчик позванивал дис-дис-дис. Машинально подчиняясь его ритму, Юлия начала мурлыкать: Дис-Дис-Дис. Осознав, что напевает, учинила себе допрос: зачем вздрогнула утром, когда крикнули Дионис? Зачем сказала, что отлучится в Туру? Что ей делать сегодня в Туре? Куда она пойдет: не к Каскадному ли фонтану? Может быть, поэтому ее сегодня весь день тянет сюда, к имитации Каскадного?
Затопив самое себя потоком вопросов — безжалостных, напористых, — она дрогнула и призналась: да, она хочет в Туру, на Выставку шедевров. Она хочет вновь спрятаться за тот уступ и вновь услышать шаги, только чтоб на сей раз это был не Балахон, а…
…За свою жизнь Юлия уже не раз воспринимала окружающее как западню. Когда у них с матерью хотели отнять желание путешествовать или помогать людям или хотя бы скромное желание скрасить людям убогую жизнь, — их очередная каморка, лестничные пролеты, переулки вокруг мгновенно превращались в ловушку. Мать научила ее быть вольной в краю запретов… Ударное чутье вольности породило в Юлии и обостренный нюх на капканы. Вот и сейчас, замерев в укрытии рядом с Каскадным фонтаном, она понимала, что превращает себя в добычу обстоятельств.
Если обещание встречи, вложенное в малиновый росчерк, принадлежит Дис-Басу, она, конечно, дождется его, но это не будет радостью, откровением, нежностью в огромной западне. Придет холоп, живущий тараканьей жизнью за огромным, наподобие могильного склепа, шкафом. А Юлия, которую мать научила быть вольной, не терпит холопов. Ей не нужен холоп.
Что поделаешь, сколько их — дерзких, гордых — в краю запретов превратили в послушных рабов. Если уж здесь из последней ветви Архалуковых свили веревочку, которая униженно вьется вокруг всех этих патриций и еремеев — то есть если уж здесь сумели перекодировать величественный генетический код — о чем еще говорить?..
Юлия знала, что тысячу раз права в своих рассуждениях, что надо уходить отсюда — и все-таки не уходила, стараясь уловить в предвечерье упоительный звук его шагов…
Весенние пять часов вечера разыгрывали вокруг нее свою заманчивую сказку: пролетали быстрые короткие ветры, каждый из них на секунды приносил свой неведомый мир, воплощенный в каком-нибудь еле слышимом аромате: смятых фиалок, солнечных апельсинов, тенистого леса, южной ночи… Южной ночи, тающего костра… Тающего костра, прогоревших обид… Но ведь Дис не обижал ее. Если ее обидела его убогая нора, в этом повинен не Дис, а она сама, Юлия. В этой немыслимой, странной обиде повинна ее болезненная впечатлительность. Дис живет не под банановым деревом, не на экзотическом острове — он живет в реальной, не терпящей миражей Нивелии, он живет в нивельской норе — да, пахнущей сыростью, затхлостью и галерным рабством.
Но все равно она хочет видеть Диса. Прежний его облик, переливчатый в тумане воспоминаний, в бликах костра, пожалуй, уже отринут ею, но сама она не хочет лепить муляж в своем воображении, ей не нужен Дис из папье-маше — она хочет живого нового Диса. И поэтому он должен прийти. Даже если он не может, если судьбе сейчас нужно тащить его сюда на аркане — он придет, он должен прийти пусть и помимо своей воли — заклинала Юлия, — потому что она страстно хочет этого, и она сумеет заразить его своим желанием.
“Я жду тебя, Дис”.
Каскадный фонтан молчал, в угрюмой тишине ожидая развязки. “Приходи несмотря ни на что, Дис”.
В сгустившемся напряжении Юлия не услышала и не почувствовала, а магически уловила запредельно дальние, от боковых ворот, шаги — шаги или ритмичное постукивание другого, окраинного фонтана…
И в этот миг, первым не выдержав напряжения, взорвался Каскадный, выбросив бесноватые белопенные струи. Оглашая окрестности ниагарским гулом и шумом, Каскадный бился, юродствовал — неистовствовал. Безумно радуясь, ликуя оттого, что сумел поглотить все звуки, в том числе и призывную капель неведомых шагов, Каскадный взвихрил десяток радужных улыбок-оскалов вокруг Юлии. В него вселился бес.
Уже потом, ночью, после этого потрясения, Юлия догадалась, что Каскадный, узрев со своей высоты пришельца, злорадствовал…
Это мгновение рухнуло на Юлию гильотиной.
В шуме и хаосе, из-за неприлично игривой пелены брызг вышел… Юлия помертвела.
— Ты на самом деле не узнала меня?!
Ее бы воля — она ответила бы ему зияющей пустотой — исчезла бы — и все.
— Врешь! — крикнул он, ущемленный презрением. — Ты тоже узнала! Сразу! — Он почему-то настаивал на этом.
Ее бы воля — она бы сгинула. Движения отягощали ее сейчас, как никогда в жизни: пришлось повернуться — это далось с трудом, пришлось оторвать стопу от камня — опять усилие, так обреченно, наверное, не трогается в последний путь и узник?..
Как сомнамбула вошла в фонтан. Он сжалился — сразу оледенил, вернув к жизни.
Мокрой, холодной, шла по огромной пустыне Выставки. А тот все догонял ее, рвал за руку, наконец, площадно выругался и — сгинул.
Еще не успели загустеть сумерки, а Юлия, вернувшись к “Отшельнице”, уже заглянула к матери. Хриза стояла у окна, вобравшего в свой квадрат волшебную панораму вечера: уютную поляну возле дома, лабиринт сиреневого палисадника, готового вспениться, дальше — туманную рощу белых деревьев — и все было притушено синеватой пеленой вечерней усталости. В тон этому настроению Хриза медленно полуобернулась, ласково сообщила:
— Сегодня поздно вечером уезжаем, я заказала такси.
— Наконец-то, — выдохнула Юлия, опускаясь в темнеющее кресло. — Как они все надоели мне. Все они с их тщетными потугами завести у себя эдакий элитарный салон: музицирование, декламация, — Юлия застонала, будто у нее наболело внутри. — Ты знаешь, мама, они никогда не поймут, что с такими рожами, как у этой Патриции, нельзя рассуждать о возвышенном, нельзя при людях слушать классику…
— Это экстремизм, Юля.
— Пусть. Но у нее во время всех этих “светских раутов” такая физиономия, как у буренки, которую вставили в старинную раму.
— Сегодня мы покидаем их, — многозначительно протянула Хриза, — но…
— Слава богу! — выпорхнуло из Юлии.
— …Но я хочу, чтобы перед этим он как следует потрясся за свою шкуру.
— Значит, это все-таки сам?
— А ты на кого думала? — заинтересованно спросила Хриза.
— Ну, круг невелик. Но, признаюсь, я колебалась между им и Патрицией — кстати, она, видимо, Прасковья? — засмеялась Юлия.
— Думаю, да. Итак, Юля, — голос Хризы посвежел, как всегда перед очередной мистификацией, — ты подойдешь к поляне четырех пней — знаешь?
— Без вопроса: самое заповедное место.
— …К девяти вечера и, конечно, спрячешься — благо там кругом заросли.
— Ты знаешь, мама, я и в пустыне сумею спрятаться, — тоном опытной конспираторши заявила Юлия и добавила мстительно: — Ну уж потрясе-отся Еремей. Давай я еще пугану из кустов! Может, в простыню завернуться? — детство иногда прорывалось в Юлии неожиданно и странно. Хриза засмеялась.
— Нет, привидений не нужно, он и не такие привидения видел. Поверь мне, Юлия, я подготовила для него представление скромное, но с учетом его психологии. А ты будешь действовать по обстоятельствам.
— Хорошо, — кивнула Юлия. — Он-то и не думает, что месть наконец спустя десятилетия достанет его. Наверное, в бане сейчас парится…
— Да нет, — тихо сказала Хриза, словно любуясь вечерней картиной из окна. — Помнишь, Юлия, когда я добывала “прикрепление”, чтобы мы могли остаться в Туре…
— Ка-ак не помнить: такой напряг был. Ты потом еще туманно намекнула мне, что пришлось дать кругленькую сумму, тот чиновник намекал, в свою очередь, что делится с крупным начальством. Мы тогда еще кое-что продали: японский сервиз так жаль!.. Смотришь, бывало, на свет донышко — там проявляется чудесная голова японочки…
— Я тебе говорила, что чиновник все повторял с эдакими горестными вздохами: приходится делиться…
— Да-да, — почти весело подхватила Юлия, — ты еще так здорово тогда изображала его — лысенький, убогий, и все пришепетывает: “приходится делиться…”
— Так вот, доложу тебе: ему до сих пор приходится делиться, — торжественно объявила Хриза, поманив дочь к окну: — Смотри!
По сиреневому лабиринту двигалась парочка: вальяжный Еремей Васильевич и лысый суетливый человек.
— Да ведь это Шарик, — тихонько охнула Юлия.
— Кто?!
— Шарик из “Ищейки”, я тебе рассказывала: завел собственное дело, помогает разыскивать родственников, знакомых…
— Розыском занимается? — почему-то насторожилась Хриза.
— Какой там розыск, — махнула рукой Юлия. — Но вообще-то ищут на совесть, — она неожиданно погрустнела. — Как хорошо, что сегодня мы уедем отсюда.
— Да, уже пора, — весомо подтвердила Хриза.
— Оброк привез Еремееву, — кивнула Юлия на парочку.
— Делится по-прежнему, — согласилась Хриза.
В этот момент Еремей Васильевич, почувствовав взгляды, поднял голову. Завидев “эмигрантку” в раме окна, расцвел и начал посылать воздушные поцелуи.
В любой окрестности где-нибудь да затаится заповедное место, куда тянет усталого, измученного, ищущего уединения — таким идиллическим уголком во владениях “Отшельницы” была поляна четырех пней. У Юлии оставался в запасе целый час до назначенного Хризой таинственного рандеву с засадой в кустах, поэтому Юлия решила посвятить этот час душевному успокоению. Уезжая отсюда, она хотела сбросить с души камень, оставить здесь не только свои горечь, ущемленность, скорбь, которые занес в сердце Дис, оказавшийся жиголо Димой, — но и навсегда похоронить именно здесь, где встретились, самую память о нем.
И Юлия занялась Сизифовым трудом — с той лишь разницей, что камень, пусть неохотно, но повиновался ей. Валун, похожий на маленького серого тюленя, полеживал себе на солнышке, пока Юлия не стронула его. Обезьяньим способом — становясь на четвереньки, человечьим — пиная его, как врага, ногами — она стремила валун к поляне четырех пней. Титанический труд подталкивания и перекатывания обрамлялся сопением, вздохами и покашливанием.
Несмотря на препятствия, нагробный камень был доставлен к мифической могиле. “Вот здесь”,— решила она, словно воткнула пику в скудный пятачок — своеобразную нишу около куста шиповника… Даже валун почувствовал себя в нише уютно, куда уютнее, чем там, на…
— Гражданская панихида?
Юлия вздрогнула — от неожиданности, но не обернулась — молодец. Хотя его голос прожег ее плечи хлыстом. Что вздрогнула — слабость, что не оглянулась — если еще не сила, то уже — победа над мгновенной слабостью, первый шаг к силе.
— Я, надеюсь, могу поучаствовать в панихиде по поводу собственной кончины? — ерничал Дис, Дима, Дис-Бас.
Все-таки он пришел… Но он не нужен ей. Пусть ее безмолвие будет для него презрительным ответом. Слово потянет за собой другие, потянет новые эмоции, оживит их — поэтому лучше молчать — горделивее и безопаснее.
— …Можно даже стишок сочинить — а, княжна Юлия? Как это было принято в великолепные рыцарские времена — вам будет угодно, княжна?
“Скоморох! Попрекает легендой — гад”.
— …Например:
Под камнем сим лежит Дис-Бас —
Его смял жизни тарантас!..
Ну, как вам сия эпитафия, княжна? Непритязательна? А мы такие — непритязательные! Это вы-ы-ы — манеры, утонченность чувств, грация…
Сосредоточившись на удобстве камня, Юлия длинными пальцами подгребала под его бока земли, давая про себя зарок: “…Клянусь, что никогда — ни ночью, ни около фонтана — не вспомню о нем — клянусь”. Тон бравады, утомительный и бесплодный, как это и бывает, завел Диму-Диса в тупик. Повисло молчание. “Сейчас взорвется”,— поняла Юлия. Ее предвидение оправдалось потоком сбивчивых его беспомощных фраз, которые сбились в кучу малу.
— …Врешь, что забыла! Обрыв над морем — не помнишь? Костра — не помнишь?! Врешь! Все врешь: и что забыла, и что княжна! Дура, кривляка, авантюристка, балда, тупица, кикимора, гадюка — стерва! Скажешь — не узнала меня?! Узнала! Сразу же, тогда, в первую секунду! Узнала — ведь я тебя узнал еще по голосу, еще за миг до того, как обернулся! Я узнал по голосу! А ты — не узнала, да?!
Его истерика, в сердцевине которой бился раненный зверь жизненного краха, все нарастала. Истерика могла завершиться чем угодно. Юлия решила скользнуть в просеку между кустом и деревом — нужно было любым способом уклониться сейчас от скандала, во имя того дела мести, которое и привело их сюда — только скандала им с Хризой и не хватало — как он не вовремя расхристался!..
— …Ну-ка, глянь на меня! — уже вопил Дис. — Брезгуешь?!
За мгновение до того, как Юлии суждено было юркнуть в боковую просеку, Дис грубо схватил ее за рукав тонкой хлопковой куртки, защемив при этом кожу предплечья. Пронзительная боль прожгла Юлию. Эта боль словно венчала все душевные страдания. Юлия дернулась, как жертва в лапах зверя, и неожиданно — тяжелой чугунной рукой отвесила Дису такую пощечину, что он выпустил из своих рук добычу. Вот эту секунду Юлия уже не упустила: с проворством дикой кошки метнулась в заранее облюбованный прогал — и ринулась вдоль узенькой аллеи. За ней будто гнался рассвирипевший кабан: по-над рощей стонал треск сучьев, гроховень смертельной погони. Но Юлина сноровка, отточенная нивельскими ловушками, одержала верх над ломовым напором, тоже столь присущим нивельским законам жизни… — ворвавшись в сиреневый лабиринт, Юлия бесследно растворилась в нем…
…Раненным зверем метался Дис по сиреневому палисаднику, который превратился для него в западню. “Княжна” растаяла, как вечерняя дымка. “Княжна”, девочка с обрыва над морем, экзотическая зверушка, авантюристка, проклятая волоокая красавица, болотная кикимора — ведьма… Самая ненаглядная ведьма…
Покачиваясь — из него ушли в землю, в песок, в погоню все силы, — Дис рухнул наземь где-то на перекрестке сиреневых тропинок и — заплакал… прижимая большую ладонь к горящей щеке, как это делают дети, когда у них болит зуб.
…Вдруг он встрепенулся. Со стороны могло показаться, что какая-то догадка радостно дрогнула в нем. Словно боясь ее спугнуть, Дис тихо приподнялся и осторожно потянулся сквозь кусты, даже не распрямляясь во весь свой ударный рост — шел тихонько, украдкой…
Понадеявшись на стереотипное мышление Диса: человек не вернется сразу туда, где только что его настигла опасность, — Юлия дала крюк и с другой стороны подошла к злополучной поляне. Валун безмятежно взирал на страсти, бушевавшие рядом. Приобщая его к человечьим треволнениям, она вынула из кармана мелок — по капризу совпадений тоже малиновый, как и тот, у Каскадного — и с каллиграфическим тщанием вывела: “Не вороши прошлое”. Сумев обвести Диса вокруг пальца, она засмеялась, представив, как, ничего не подозревая, он подойдет завтра утром сюда и…
Но она недооценила Диса. Презрев шаблонное решение, он тоже выбрал оригинальный ход.
Если бы Юлия была насторожена, прислушивалась бы к шорохам вокруг, сверху… Но она вдруг, после апогея душевного напряжения, отдалась беспечности, затянув трогательный напев о “парижских крышах”…
…Большое, с развесистой тенью, древнее животное типа какого-нибудь птеродактиля, обрушилось на Юлию — таково было ее первое ощущение, когда сверху, из тайника кроны дуба, на нее спрыгнул он. Шок от испуга сменился в ней вспышкой негодования, которое тут же повлекло за собой ироничность: еще не хватало, чтобы он подумал, будто она струсила от неравенства сил! Притиснутая к земле не хуже безответного растения, вдавленного в лист гербария, Юлия все же изловчилась прохрипеть в Дисову скулу:
— Эффектный обвал!
На что Дис также не замедлил съехидничать:
— Постарался!
— Пусти!
Ей удалось довольно проворно брыкнуть нападающего.
— Вырвись сама! — подзадорил тот. — Ведь ты такая ловкая!
Ничего не оставалось делать, как оскорбить его: Юлия заметила, что от оскорблений он в первые секунды впадает в столбняк. С ненавистью прокряхтела:
— Насильник!
Он даже слегка ослабил жим.
— Что?! Нужна ты мне была! — И снизошел до объяснения: — Такая вольная птаха — побейся хоть немного в силках — ну как?! — На вопрос “как?” Юлия могла бы ответить, если бы подняла со дна души всю свою искренность — да и тогда, подверженная женскому лицемерию, вряд ли вслух призналась бы в том, что страх первой секунды, агрессивность второй и ироничность третьей привели вдруг к неожиданному результату: нечаянно она испытала импульсивный, безотчетный порыв к Дису. Сказалась ли “костровая” память их давней близости, память, которую не смогли изжить семь лет разлуки?
Стремясь вырваться из плена собственных ощущений, в которых появились тяга и нежность к Дису — к жиголо Диме! — она ударила его железным кулачком куда-то под ребра — а потом еще и еще. И чем ласковее звучала в ней тема нежности к Дису, тем агрессивнее становилась она внешне, неутомимая в попытках разрушить внутренний строй гармонии, который мог поглотить все: и разлуку, и прежние обиды, и тягостные унижения. Был ли Дис столь искушен в отношениях с женщинами, что научился правильно трактовать даже мельчайшие движения их души, или просто дал себе волю следовать наитию — но то, чего не сделала ломовая сила, свершила одна-единственная фраза, тихая настолько, что можно было сомневаться, прозвучала ли она?..
— Я не могу без тебя, — прошептал Дис всеохватно, и это ощущение невозможности жизни без вечной женственности сразу окутало дымкой нежности тот маленький мир, в который они заключили себя; этому же миру принадлежали и крона дерева, и погребальный валун, и четыре пня, и волшебная поляна.
С упорством, которое бы сделало честь любому стоику, Юлия тихо напомнила:
— И всего-то две недели “Дерзая” …давным-давно…
— … И семь лет ожидания, — подсказал Дис. Но Юлия не приняла подсказки:
— Ты не ждал!.. И я — не ждала. Накатило вдруг, неожиданно, к дате встречи.
— Значит, фатум, — мягко провозгласил Дис.
“Мой фатум — то маниакальное упорство, с которым я начала искать тебя, — подумала Юлия, — чтобы обнаружить у себя под носом в обличье жиголо стареющей женщины”. Не умея подавить в себе этой обиды, спросила жестоко:
— Если это рок, то почему же я не узнала тебя?
— Мне это обидно… — с трудом проронил Дис, надеясь на возможность Юлиной лжи: во имя их нежности она должна была “покаяться”, сказать, что узнала сразу, там, в Асиной каморке, узнала, пока он еще не повернулся лицом к гостям, узнала по спине, по плечам; узнала, ведомая их общим ангелом… Но Юлия не делала уступок даже “во имя”…
Почуяв это, Дис, чтобы предотвратить непоправимое — слова, после которых воцарится безнадежность, — закрыл ее рот поцелуем.
Нежное прикосновение — ветер проскользил…
— …Вспомнила?
— Да…
Тысячи касаний: наверное, сюда слетели все листья с кроны венчального дуба: и шершавые, и глянцевые, и влажные… По Дисову велению поляна вдруг превратилась в озеро, и они вдвоем очутились в лодке посреди серебряной глади — мягкой, баюкающей… Лодка приютила два существа, но — единую душу. Мотив нежности, который зазвучал в их единой душе, материализовался с силой и яркостью достойной волхвов: рассыпался серебряным колоколом, синей радугой пробросился по небу. По их озеру прошла рябь…
— Надо благодарить небеса… — Вздох. Улыбка, вбирающая в себя солнечные блики озера.
— Как ты захочешь, Юлия… — Звон. Рябь. Вздох. Ритм потревоженного озера. Дымка нежности. Сонное марево забытья…
Звон — рябь — вздох — шепот — дымка — нирвана.
И сквозь сонное марево нирваны — ненужно, помехой — какие-то голоса оттуда, из внешнего, такого нудного и жесткого мира — зачем?.. И Юлия и Дис попытались отринуть эти голоса как бросовые. Ведь сейчас реальным, единственно реальным и нужным, был их мир, мир их единой души, а тот, посторонний, — иллюзорным, ненужным. Но оттуда напористо проникали голоса…
Юлии потребовалось усилие разума и воли, чтобы взвесить два мира и вспомнить, что мир волшебного озера — мираж, а все остальное: грядущая вендетта доносчику, отъезд — самая что ни на есть реальность реального мира.
Час суда пробил. Голоса принадлежат Хризе и Еремею Васильевичу. Двое, один из которых пока не знает, что сейчас он явится подсудимым, приближаются к поляне четырех пней. Если Юлия и Дис промедлят — сорвут операцию.
— Атас! В кусты! — страшным шепотом приказала Юлия.
— Мы взрослые люди и… — не зная ситуации, Дис начал было митинг защиты прав человека, но Юлия пресекла эти поползновения:
— Говорят тебе: в кусты! В засаду! Цицерон! Здесь — жареное дело, — итак, пресекла их с таким запалом, что Дис поверил сразу и безоговорочно: дело “жареное”.
С юркостью птах порхнули за куст шиповника, сквозь макраме которого просматривалась вся поляна. Через три секунды после конспиративного броска двоих на ней появились Хриза и Еремеев.
— …Итак, вы готовы уехать со мной?! — удивленно переспросила Хриза, на локте у которой болталась яркая летняя сумка. Выбрав взглядом пенек, присела.
— Если все это не розыгрыш — готов, — заверил Еремеев, присаживаясь на соседний.
— Я потрясена, — призналась Хриза. — Ведь вы сами — воплощение нивельского образа жизни…
— Будь проклят этот образ! — в сердцах выпалил он, все более расковываясь оттого, что ему не надо притворяться.
— …Но вы всегда были на виду, занимали посты…
— Что они стоят, эти посты! Провались они пропадом!
Быдло считает верхом блаженства персональное авто, куски в элитарном раздатчике, но поверьте мне, Хриза, — он сделал к ней порывистое движение — она даже инстинктивно отшатнулась. — У меня в жизни никогда не было легкости — никогда. Ваша жизнь, я понимаю, — упоительный калейдоскоп…
“Ну, конечно, — мстительно хмыкнула про себя Хриза, — конные прогулки, заокеанские вояжи, солнечные коктейли — знал бы ты, хрюняй…” А Еремей Васильевич уже любовался воображаемыми картинками этого калейдоскопа, куда ему до боли в селезенке приперло втиснуться самому:
— …Путешествия: то пирамиды, то заповедники с лианами и с зубрами, серфинг на море, ужин где-нибудь в “Рице”,— почувствовал, что увлекся перераспределением чужих доходов, сделал скорбное лицо и возвестил: — Но самое тяжкое в моей повседневной жизни, вы, Хриза, не поверите, — ответственность, постоянная ответственность — давит плечи, давит грудь — ну да бог с ней, не о том разговор!..
“Как раз о том, — подумала она. — О том, что когда-то ты взял на себя сатанинскую ответственность распорядиться свободой… и даже жизнью человека…” Пора было воскресить в его замутненной памяти Туру нескольких десятков лет давности, Композитора…
— Вы сгущаете краски, Еремей Васильевич, — мягко укорила Хриза. — Дайте-ка сюда вашу руку. По ладони как по карте воспоминаний я верну вас к светлым мгновениям — а они промелькнули у каждого — хотя бы давным-давно, хотя бы в молодости. — Голос ее стал тягучим. Если бы Еремеев не был упоен сейчас мечтой о прорыве с ней к легкости, к заманчивой жизни, он бы почувствовал отзвуки напряженности в Хризиной полушутливой речи. А Хриза уже с ловкостью чародея оживляла перед Еремеевым картинки былого.
— …Вы жили в Сухоплюйском переулке, а напротив, в доме с эркером… — Она не просто набрасывала скудный графический рисунок, из которого давно улетучились краски, соки, запахи — вдохновленная болью памяти, она словно отдернула перед ним занавес, за которым магически воскрес вид на соседний дом с эркером.
…Развлекается на балконе, пародируя мелодии Композитора, ручной щегол Ми, вольности которого не ущемляют ни сам Композитор, ни его дочка, маленькая девочка, романтически названная отцом Хризантемой. Порхает воздушная кисейная занавеска, затканная летним солнцем. Из-за нее выскакивает девчонка: бант обвис к плечу, рот в вишневом варенье. Она протягивает Ми ложку с угощением, причмокивает, возбуждая у того аппетит. Ми ломается. “Ты не знаешь случайно, Хри-Хри, — кричит из глубины комнаты отец, — кто вымазал рояль сиропом?” — На что девчонка безмятежно замечает: “Я с твоим роялем еще вчера поссорилась, не знаю!”
Там, на балконе, там, в комнатах, — непостижимая для Еремеева жизнь — волнующая, мелодичная, солнечная — которую он услеживает из своей комнаты из-за своих ситцевых занавесок. Там живут “барски”, а он вечно торчит в присутствии, дышит едкой бумажной пылью, наживает себе астму. А он имеет заслуги в нивельской борьбе. А они… Хоть бы у них щегол сдох! Или балкон обвалился… когда на нем будет вся компания: и девчонка, и сам Композитор…
— Вы помните Композитора? — тихо спросила Хриза.
— Да-да, такие чудесные мелодии, — как бы между прочим заметил Еремей Васильевич, которому направление разговора начинало мешать.
— А вы не знаете о его дальнейшей судьбе?
— Ну что вы! — отмахнулся почти раздраженно. — Столько лет! Столько дел! Меня тогда направили на великую стройку! Не до того!
— Он погиб. — Сообщение прозвучало как брошенный в воду камешек: тихий звук падения и тишина затем.
— Да что вы говорите! — посочувствовал Еремей Васильевич и со старческой тщательностью уточнил: — Инсульт? Инфаркт?
— Донос, — поставила диагноз Хриза. — Тогда донос означал смерть.
— И не говорите, — запричитал он. — Кровавые были времена, не дай бог. Жестокие были времена…
— Времена? А люди?
— Разве это люди! За лишний кусок готовы были удавить!..
Не давая Еремееву распалиться в обвинительной речи человечеству, Хриза вдруг как-то очень просто, очень обыденно спросила его:
— …Как вы — Композитора?
Он не ожидал. За мгновение он налился пунцовой отечностью. За это же мгновение Хриза достала из сумки бумагу и вплотную приблизила ее к его бордово-сизому сейчас лицу. Увидев копию доноса, Еремеев возмутился — с пещерной дикостью возмутился, вознегодовал до разрыва сосудов — тем, что ее допустили к архивам, какую-то самозванку допустили к святая святых, и прохрипел:
— Кто… посмел?!
— Справедливость, — уже по-змеиному прошипела Хриза.
— Вы кто?
— Подружка Ми, девочка с балкона.
— Ясно. Это — шантаж?!
— Это — приговор.
Еремеев не понял. Остановившись на версии шантажа, уточнил:
— Сколько?
— Много.
— Не зарывайтесь. Допустимую сумму выделю, бешеную — нет. Итак, цена бумажки!
— Ваша жизнь, — Хриза улыбнулась потусторонне.
Решив, что имеет дело с сумасшедшей, не почуяв за сады за своей спиной — а там уже стояли наготове Юлия и Дис, — Еремеев начал слегка приподниматься с пенька, просчитывая, что выгоднее: удар-рывок или… Захваченный своими планами-подсчетами, Еремеев не понял, что все уже решили за него.
В тот момент, когда подсудимый вскочил, Дис ударом по жирным плечам вновь усадил его на пенек.
— Ко-опчик! — застонал ушибленный. — Шайка!.. Чего вы хотите?
Юлия и Дис стражами стояли по бокам. Хриза сидела невозмутимо, как идол. Так же хладнокровно возвестила:
— Мы хотим напомнить вам — заплывшему жиром, погрязшему в коррупции, — мы хотим напомнить вам, что испокон веков в Нивелии честь была превыше всего. Вы обесчестили себя и свое дело. Вы должны самоуничтожиться.
— Что? — он огляделся вокруг, замедленно, а потом вдруг резко завопил: — Патри!.. — Дис набросил свою ладонь как кляп.
— Еремей Васильевич, — с какой-то ласковой горечью сказала Хриза. — Нечиста ваша совесть, запятнана ваша честь. У вас один выход. — Она достала из цветастой сумки удавку — нейлоновый шнур.
Из-под крепкой Дисовой ладони раздались пещерные звуки, которые издал, похоже, загнанный зверь.
— Покончите с собой, — почти мягко посоветовала Хриза. — Так будет лучше: для нас, для Нивелии. Такие чиновники, как вы, завели ее в тупик. Завершите свою жизнь достойно. — Увидев судорожные движения, Хриза сделала Дису знак, и он отпустил руку.
— Если вы повесите меня, — захлебываясь, начал Еремеев, — то смертная казнь обеспечена и вам, и вашей дочери, и ее парню! Вы не дети! Ради меня, вы понимаете, перевернут всю Нивелию, а вас найдут! Что вам от того, что вы удавите меня? Подумайте о своей жизни. Смертную казнь я вам гарантирую! — И вдруг блик счастья отразился на пунцовом лице оратора: он завидел вблизи, через кусты, знакомые очертания. Позвал победно, с ликующим клекотом: — Ася! Асенька!
Та выскользнула на поляну, с детским любопытством вбирая в себя странную картину. Бурливо посвящая ее в незаконные действия “шайки”, Еремей Васильевич приказывал:
— Вы должны будете все подтвердить на суде, Ася! Они захватили меня! Вы должны будете… Они…
“Сейчас начнет пресмыкаться, — подумала Юлия, с презрением увидев, как нервозно стала подергиваться Асина голова. — Привыкла лизать…” Но Ася, словно вскочив на баррикады, вдруг крикнула — и как сумела заменить свой шелестящий голос на зычный?
— А ничего я вам не должна! И ничего подтверждать не буду! — Бунт всегда униженной, ласковой, раболепной Аси окончательно добил Еремеева: он еще погрузнел и растекся на пеньке. Сумел только выдавить:
— Если меня здесь хватит удар — на вашей со-вести…
— Э-э-э! — отмахнулась Юлия с бравадой. — Вон сколько прегрешений на вашей совести, а вы — жируете!
Застывший изваянием Дис по-мужски напомнил:
— Итак?
Еремеев захлебнулся, как будто смертная агония подкатила к нему раньше назначенного срока. Хриза брезгливо посмотрела на жирное, пунцовое, хрюкающее и сказала:
— Никто не имеет права никого лишать жизни. И мы не присваиваем себе этого сатанинского права. Живите и дальше, раз вам позволяет совесть. Я хочу только, чтобы у вас было время для размышлений о содеянном.
Возглавив операцию, она дирижерскими жестами показывала, что и как надо сделать, а Юлия и Дис с проворством умелых подручных помогали ей.
Через три минуты живая туша Еремеева — что таким, как он, подеется! — висела на могучем дубовом суку вниз головой. Ничего страшного не произошло, если не считать, что туша обмочилась. Когда ватага покидала ее, туша сумела выдавить:
— Оскорбление… чести… и достоинства.
— Слава богу, вы вспомнили о таких понятиях, как честь и достоинство, — задумчиво подытожила Хриза и не сдержалась, шепнула: — Почаще теперь вспоминай и Орфея.
— Что? — застонал Еремеев.
“Ну, почему я не сдержалась?!” — горько укорила себя Хриза. Заглушая Еремеева, поторопила всех:
— Быстрее! Вон на дальнюю аллею уже такси подошло! Быстрее! Ася, вы…
— Я с вами!
Суматоху перекрывали вопли Еремеева:
— Юлия! Юленька! Дочка!
Задохнувшись от негодования, Юлия фыркнула:
— Дочку нашел! Подонок! Ты только подумай, Дис!
В ответ Дис крепко прижал ее к себе, приподнимая над землей, увлекая к дальней аллее, к побегу.
Напоследок всех умилила Ася: когда уселись в заказанное заранее такси, она торжественно объявила:
— Мы отбываем отмщенные!
“Как я могла упомянуть это прозвище — Орфей, — ругала себя Хриза, — он сразу обо всем догадался — не забыл!”
“Значит, он ощутил во мне слабинку, — негодовала Юлия, — раз позвал наглец: дочка!” Почувствовав, как она возбуждена, Дис положил ладонь на ее руку. Конечно, он испытывал неудобство от того, что за Юлией сидит Ася, но стыд, раскаяние, вина перед Асей словно меркли: его ладонь лежала на руке Юлии — девочки с обрыва над морем.
Ася же, наоборот, пребывала в ликующем состоянии победительницы: наконец-то она вместе с друзьями указала Еремееву, а тем самым и Алазанской, их истинное место, если брать во внимание шкалу человеческих ценностей. Нагнувшись вперед, к Хризе, предупредила шепотом:
— Думаю, он вскоре вышлет погоню.
— Не сомневаюсь.
— Вообще, Хриза, несмотря на все — роскошь, мнимое величие, положение — он глубоко ущемленный человек. И в жизни у него были свои трагедии. Поверите ли, что много лет назад у него похитили дочь…
В темном салоне такси сверкнул влажный глаз Хризы: что, Ася догадалась? Нет, продолжает как ни в чем не бывало:
— …Искали, искали — все без толку!
— Они никогда не рассказывали: ни он, ни она, — тихо сказала Хриза.
— На эту тему в семье наложено табу, но, уверяю вас, рана не зажила, тем более… — Ася притиснула губы плотнее к уху, — тем более, мне кажется, но это мое сугубо субъективное мнение: мне кажется, похищение каким-то образом было связано с какими-то обязательствами или… ошибками самого…
— Возможно, ведь он — непорядочный человек.
— Постарается захлопнуть нас в западне, но я предлагаю…
— О чем вы шепчетесь? — наклонилась Юлия. — Нам тоже интересно.
— …Я предлагаю, — продолжала Ася, — во избежание всяких недоразумений высадиться здесь, километра через три…
— В ночном лесу так неприютно, — пожаловалась Юлия. — Хотя…
— Приют есть! — пообещала Ася. — Неподалеку недостроенная дача. Не охраняется. Строили для одного чинуши, попользоваться не успел — как пишут в газетах: “сдуло ветром перемен”.
— Я — за, — согласилась Хриза, а вслед за ней и Юлия с Дисом.
Через три километра они остановили такси и высадились.
Приют оказался громоздким, загадочным, с множеством лесенок и закоулков, но и с камином, который Дис сумел растопить.
В мезонине, куда она увлекла Юлию, в таинственной полутьме, Хриза заявила дочери:
— Я должна сделать тебе крайне важное признание.
— И с какой фараоновской торжественностью! — шутливо восхитилась Юлия, не привыкшая к материнской напыщенности.
— Это серьезно, Юлия. Гораздо серьезнее, даже трагичнее, чем ты думаешь. Я виновата перед тобой. Очень. — Чуть ли не впервые в жизни Хриза не находила нужных слов.
“Значит, мои догадки верны”,— подумала Юлия и ринулась на помощь Хризе:
— Ты, видимо, хочешь порассуждать…
— Нет, демагогия здесь ни при чем! — вспылила Хриза, но дочь упорно продолжала:
— …Порассуждать о родстве кровном и… о родстве духовном…
— Ты знаешь?! — ошеломленно выдохнула Хриза. — Откуда?!
— Я догадалась, мама, — ласково сказала Юлия. — Однажды Ася мельком упомянула о том, что у Еремеевых двадцать лет назад была похищена дочь. Я тогда не подумала, нет, но, видимо, это запало в подсознание. Потом — кое-какие сопоставления, прикидки. А когда он заорал: дочка! — я поняла, что этот бред, который пришел мне в голову, — правда… Я так благодарна тебе…
— За что?! — горько охнула Хриза. — За то, что нам приходилось переезжать с места на место? У них ты жила бы как принцесса… Я виновата перед тобой, но я — и это единственное мое оправдание — я любила и люблю тебя больше всех и всего на свете…
— А я — тебя, мама, — прошептала Юлия. — И еще — Диса.
— Если они догонят нас, они потребуют тебя, Юлия.
— Ну, — присвистнула та. — Я уже совершеннолетняя, слава богу. — Она подошла к проему на балкон, где, сияя, остановилась любопытная луна, и сделала свое признание таким тоном, каким люди высказывают лишь самое сокровенное: — В краю запретов ты сумела воспитать меня вольной — а что может быть дороже этого?
Вопрос растворился в ночи без ответа — праздничная яркость луны, величие замершего леса стали ответом.
— Ты ведь была совсем молодой и уже — такая воля: решиться на похищение! — восхитилась Юлия. — Ты выкрала меня из удушливой западни, мама.
— Не окуривай меня фимиамом, Юленька, — попросила та. — Ты взрослая, понимаешь, что похищение было задумано как месть. Я оставила ему записку: “Потеряв дочь, вспоминай Орфея”. Когда около дуба упомянула об Орфее — он начал бесноваться, он — догадался, вспомнил!.. Но я уверяю тебя, что путь мести сразу, за один день общения с тобой, крошкой, перерос в путь любви.
— Я знаю.
Хриза подошла к проему, чтобы встать при луне рядом с дочерью.
— …А путь любви, Юлия, — самый древний…
В потаенном уголке странного подброшенного им судьбой дома Дис вел ее древним путем… Юлии казалось, что все напластования реальной жизни: погоня за ускользающим, забота всегда оказываться там, где изобилие, необходимость лизать пятки людям изобилия — чиновным нивельцам — и еще тысяча едких суетных мелочей — освободили их от себя, от своей въедливости…
Юлия и Дис ушли с площадей, ушли из огромных напыщенных залов, из скудных лачуг. И пошли к себе… Пошли древним путем. На этом пути были: солнце, ливень и пещера. Вернее, древняя стезя любви проходила сквозь солнце, ливень и пещеру, даря двоим удивительные превращения…
Двое возвращались к себе.
ТАЙНА РАБЫНИ ИЗАУРЫ
Роман
Продолжение телесериала “РАБЫНЯ ИЗАУРА”
Сентиментальный детектив
ЧАСТЬ I
А ЕСЛИ ОН ЖИВ?..
1
Медовый месяц Изаура и Алваро проводили на фазенде — на старой, милой фазенде, где, казалось, навсегда воцарились мир и спокойствие. Но так лишь казалось. Двое счастливых не представляли себе, какие бурные события грядут, какие испытания и открытия уготовила им судьба.
…Их спальня напоминала цветник. Гроздья синей глицинии свешивались из настенных ваз, охапки нежных роз возвышались в вазах напольных. Изаура сидела на краю постели в тонкой, прозрачной, как лепесток жасмина, ночной сорочке, Алваро примостился у нее в ногах, целуя перламутровые ноготки ее пальцев. Ему хотелось надеть на ее ноги жемчужные браслеты, но он опасался, что самые изысканные браслеты напомнят Изауре кандалы и недавние страдания. Освобожденная им Изаура пока оставалась рабыней в любви — скованность не покидала ее, девушка вздрагивала от прикосновения Алваро, поэтому он продолжал свой путь с робкой нежностью. Покрыв поцелуями ноги, Алваро приподнял край жасминной прозрачной сорочки и зарылся лицом в самый прекрасный на свете благоуханный куст, суливший ему блаженство…
Спальню-цветник создал своими руками Белшиор — сказочник в саду, неудачливый урод в жизни. Его мать, Гарпия, известная в округе как знахарка и колдунья, иногда намекала сыну о могуществе их рода, чем вызывала насмешливую улыбку у Белшиора, который каждое утро и каждый божий вечер поливал розы и вздыхал — о чем? Уж наверное не об Изауре, обещанной ему коварным Леонсио. Вот уж чья судьба вызывала сожаление, несмотря на все зло, содеянное им. Леонсио стрелялся, узнав, что стал банкротом, но стрелялся неумело: пуля прошла мимо сердца и застряла в позвоночнике, лишив его возможности двигаться.
Парализованный Леонсио целыми днями лежал в своей бывшей супружеской спальне и вспоминал, вспоминал… Его навещали доктора, соседи, слуги, Алваро, Изаура, каждый проявлял к нему, поверженному, милосердие, но один бог знает, как тягостны были для бывшего полновластного хозяина фазенды их визиты. Он редко позволял выносить себя во двор, под тень пальмы. Ему казалось, что все насмехаются над ним, сопоставляя его былое величие с нынешним унизительным положением. Он ошибался. Многие сочувствовали ему, ведь люди рано или поздно забывают зло, иначе жить было бы просто невозможно. Но сам он ничего не забыл. Томительными душными ночами, когда не приносящий свежести ветер играл листьями пальмы, словно жестяными, Леонсио вспоминал под их нудный перестук все одно и то же: как запалил заброшенный сарай, в котором держал в заточении связанного Тобиаса; зажег, не зная, что вошедшая туда женщина — не Изаура, а Малвина. Сколь непредусмотрительны бываем мы в жизни. Сейчас, в его болезни, в его слабости, Малвина могла бы утешить мужа как никто другой — что ему все эти соседи, поганые слуги, когда он потерял Малвину… Странно: даже похотливое чувство к Изауре погасло, остались злоба, досада — и только. А вот нежность к Малвине будто возрастала с каждым беспросветным днем.
Однажды, под утро, в забытье сна, Леонсио увидел Малвину, и так ярко, так близко, что, казалось, притронулся бы — протяни он руку. Но Малвина куда-то спешила. Она успела лишь прошептать ему “Я жива”.
“Жива?” — с этим вопросом и проснулся Леонсио в то солнечное утро. Он даже улыбнулся — впервые за все время после ранения — Белшиору, который поставил букет белых лилий на столе. Леонсио лежа смотрел в распахнутое окно, на золотистое от солнца небо, на легкие быстрые облака, и аромат лилий напоминал ему о Малвине — кажется, такой же аромат был у ее любимых духов… Не ценивший жену в дни их возможного счастья, Леонсио теперь с бережностью восстанавливал в памяти ее жесты, улыбку, взгляды. По своей ослиной глупости он потерял единственного в мире человека, чьи глаза выразили бы ему неподдельную, искреннюю жалость.
Малвина, милая, если ты жива…
Зачем поддаваться сказочным иллюзиям? — увещевал себя Леонсио — ведь потом будет еще тяжелее. Любимая приняла мученическую смерть — сгорела заживо. Вместе с тем хлюпиком, Тобиасом. Хотя, если бы заранее знать, как развернутся события, не стоило убивать и Тобиаса. Чем он, собственно, хуже этого Алваро? Чувствуя, что глупеет от одних и тех же мыслей, слабеет от неподвижности, Леонсио до крови кусал губы, и по щекам его текли слезы, задерживаясь в складках морщин — он быстро старел от болезни, от горя, от утери всяких надежд…
Малвина, милая, если бы ты знала, как мне тяжко…
Проблеск надежды на то, что Малвина осталась жива, вдруг подбодрил его. Как хозяин фазенды, Леонсио сумел помешать следствию, но служивые предупредили его, что кости, найденные среди пепла, могут принадлежать и какому-то животному. Тогда, в запале мстительности, он не придал значения этому сообщению, но сейчас странность этих слов все более обнадеживала Леонсио. Нет — твердил разум — если бы Малвина осталась в живых, она не стала бы томить его столько времени, она бы прибежала, приехала, прилетела бы к нему — ведь Малвина любила его. Единственная женщина, которая любила Леонсио, потеряна навсегда, и надо иметь мужество признать это.
Малвина, милая, если…
В окне проплыла дородная Жануария. Жизнь на фазенде шла своим чередом. Жануария занималась стряпней — причем, с особым удовольствием для своей любимицы, теперь уже не рабыни, а донны Изауры — Леонсио даже усмехнулся — донна Изаура!.. Белшиор пестовал свои цветы, иногда навешал старую Гарпию в ее пещере. Алваро и Изаура — донна Изаура! — наслаждались друг другом. Андре смахивал пыль с мебели в гостиной. Тело несчастной Розы покоилось на местном кладбище. Вот уж кому тоже не повезло: подсыпала яда Изауре, а отравила самое себя. Умерла, оставив сиротой их Флору, Фло. О рождении их общего ребенка, девочки, не знал никто на фазенде. Заподозрив неладное, Леонсио пять лет назад сразу услал Розу к дальнему родственнику за тридевять земель, где и родилась Фло. Надо бы позаботиться о будущности Фло — но как?.. Паралич сделал его беспомощным, но кого это заботит?
2
…А между тем судьба Леонсио заботила одну женщину. Эта изящная дама, сидя у себя в гостиной, разбирала утреннюю почту. Ее внимание привлекло письмо столичной приятельницы. Новости из Рио приходили сюда с опозданием — о, как печальны иногда бывали для дамы и для ее невольного спутника эти новости! Читая письмо, женщина вдруг вскрикнула, и сейчас же из соседней комнаты появился мужчина. Он передвигался с трудом. На его лице выразилась готовность к новым ударам судьбы, но голос не дрогнул, когда он спросил:
— Что случилось?
Помедлив с ответом, женщина сказала:
— Мне надо ехать.
На кладбище, в этом “городе мертвых”, Изаура была единственной живой. Она всегда приходила сюда одна. Даже отец по ее просьбе не сопровождал ее сюда.
Как всегда, в этот звонкий летний день Изаура возложила два букета к склепу, в котором были замурованы урны с прахом Тобиаса и Малвины: белые розы — Малвине, красные — Тобиасу. Душевные муки всегда с новой силой изводили ее здесь, на кладбище. Изаура молилась. Но даже молитва не могла утешить тот сонм чувств, который всегда захлестывал здесь бедняжку. Сознавая себя без вины виноватой, она терзалась, вышептывала слова молитвы сухими губами, а горло ее душило огненное кольцо горечи, жалости, скорби, раскаяния и… затоптанной, искалеченной, сожженной… любви? Сама Изаура не могла верно определить своего чувства. Разве можно любить мертвого? Она влюблена в Алваро. Она отдана Алваро небесами. После слияния с Алваро она стала счастливой женщиной… Изаура зарыдала. Слова молитвы смешались с глухими рыданиями, омывались слезами.
Вдруг какая-то птица вспорхнула с ближнего куста — Изаура вздрогнула, пришла в себя. Прохожие могли увидеть ее с дороги — заплаканную, страдающую. Они могут рассказать об этом Алваро — хороша же будет ее благодарность за его заботу, любовь, ласки. Он освободил ее из рабства, сделал своей женой. Мало того, Алваро сделал свободными всех рабов фазенды, которые не пожелали покинуть своих хозяев. Алваро окружил ее, простую рабыню по происхождению, королевской заботой. Только великая грешница отплатила бы ему неблагодарностью.
Возвращаясь с кладбища, Изаура с дороги увидела, что Алваро сидит в саду на скамейке рядом с нарядной дамой. Незнакомка — а Изаура никогда раньше не видела этой женщины — была красива и изящна. Ажурная шляпа прикрывала высокий лоб, на дорожное платье была накинута паутинка пелерины. Слушая даму, Алваро приятно улыбался ей, и впервые за свою жизнь Изаура вдруг испытала ревность — причем, остро и неожиданно для себя самой. Не сознавая, что делает, сначала Изаура заспешила к мужу и незнакомке, затем, спохватившись, повернула обратно, но вскоре поняла, что ведет себя глупо и предосудительно. Очевидно, какая-то новая соседка пришла для знакомства, и Изауре как хозяйке следует подойти и обласкать гостью. Изаура убеждала себя, но странное, смутное беспокойство не покидало ее — душа начала томиться, поэтому к скамейке Изаура приближалась по боковой аллее медленно, словно через силу.
Когда Изаура приблизилась ровно настолько, чтобы слышать разговор, она не могла понять сути, потому что ее обуял мистический ужас. Лицо дамы на самом деле было незнакомо Изауре, но голос!.. Изаура могла поклясться, что голос этот принадлежал… Но ведь это бред! Этого не может быть! Неужели она сходит с ума?
В этот миг Алваро и незнакомка одновременно заметили ее. Что-то дрогнуло в лице дамы, Алваро же сразу озабоченно спросил:
— Тебе дурно, Изаура? От жары? Сядь же скорее.
— Ничего… Так… — сбивчиво отвечала Изаура.
Между тем Алваро пришел в себя, извиняясь перед гостьей, и начал представлять ее действительно как новую соседку по фазенде. Того, что случилось дальше, не ожидал никто: ни Алваро, ни дама, ни сама Изаура, которая неожиданно, помимо своей воли, повинуясь какому-то инстинкту, вдруг позвала гостью сухими губами:
— Малвина… Малвина!
3
— Он жив? Тобиас жив? — все спрашивала Изаура, когда они сели в гостиной, и благовоспитанный Алваро оставил их вдвоем. — Скажи мне правду, Малвина, заклинаю тебя.
— Нет. Нет, Изаура, не мучай себя заново! — умоляла Малвина.
— …?
— Я? Но это действительно чудо! Он помог мне выбраться из пламени, но силы покинули его. Это был ад: огонь, дым, балки рушатся! Он не смог уйти, Изаура. Прости меня за то, что я одна осталась в живых. Я бежала как сумасшедшая. Очнулась уже на какой-то фазенде. Меня переправили к моим родителям. Нервный шок был таким, что я не могла даже слышать имени Леонсио. Поэтому они все скрыли от вас. А потом — долгое лечение. Сложная лицевая операция, новый облик. Столько мучений, столько терзаний! Лишь недавно я пришла в себя и узнала, что Леонсио — банкрот, что он пытался покончить с собой, неудачно, теперь парализован.
— Бедный Леонсио, — только и сказала Изаура.
Малвина вздохнула, отдавая должное благородству бывшей рабыни, которая, только что прослушав историю гибели возлюбленного, нашла душевные силы, чтобы пожалеть его палача.
В дверь тихо постучали, Изаура позволила войти. Алваро был взволнован.
— Прошу меня простить, но… Леонсио что-то почувствовал. Я понимаю, как я не вовремя, но Леонсио уже два раза требовал меня к себе, чего никогда раньше не случалось. Он спрашивает — вы не поверите! — что за люди в гостиной? Ему кажется, что он услышал… знакомый голос.
— Боже мой! — Малвина закрыла лицо руками.
— Как нам быть, Алваро? — Изаура заметалась по гостиной.
Подсев к ней, Алваро ласково спросил:
— Готовы ли вы встретиться с Леонсио, Малвина?
— Не знаю, — прошептала она. — Ехала сюда для встречи, а теперь не знаю.
— Простите за бестактный вопрос, — продолжал Алваро. — Вы простили его?
— Видит Бог: простила.
— Тогда пойдите к нему.
— Но прежде ты, Алваро, подготовь его, — вмешалась Изаура и пояснила гостье: — Он слишком слаб.
Благородство Изауры тронуло Малвину до слез.
В этот момент вошел Мигел. Как истинный джентльмен, он не заметил, что вблизи лицо Малвины все же слегка напоминало маску (последствия операции дали себя знать), и сделал даме несколько комплиментов. Затем они не выдержали, обнялись и заплакали. Тогда-то Мигел и предложил немного оттянуть встречу Малвины с мужем:
— Леонсио крайне слаб. Пока никто ни о чем не сказал ему, но его интуиция подсказывает ему, Малвина, что в доме — необычные посетители. Он побледнел, глаза ввалились, губы пересохли — велика томительная сила предчувствия. — Мигел вздохнул и продолжил: — А что творится на фазенде!..
На самом деле напряженность, ожидание чего-то удивительного возрастали на фазенде: Жануария опрокинула кастрюлю с кипящим бульоном, чуть не обварилась — лишь провидение спасло ее, неповоротливую, от большой беды; Андре, усланный из гостиной, убирался в других комнатах, где и разбил прекрасную китайскую вазу; если бы они еще знали, что Белшиор, всегда такой аккуратный с цветами, в поспешной нервозности чуть не загубил куст волшебных роз “Ришелье”!.. В общем, все жители фазенды метались в ожидании каких-то известий, которые почудились им в самом воздухе…
Тем временем Мигел предложил дать Леонсио успокоительное, и все: Малвина, Изаура, Алваро — согласились, иначе встреча могла оказаться губительной для больного. Мигел отнес Леонсио стакан разбавленного вина, в которое было подмешано слабое лекарство, и бывший хозяин фазенды забылся ненадолго целительным сном… Чтобы затем пробудиться для дальнейших увлекательных событий…
4
После паралича ног Леонсио мучили тягостные, бредовые сны — особенно ночные, но этот, дневной, сон выпал на редкость светлым и ласковым: наконец приснилась Малвина. Сколько раз томительными ночами он просил ее прийти, а она все не шла. А сегодня улыбнулась, присела на кровать — и Леонсио понял, что жена простила ему, отпустила его тяжкие грехи. Ласково коснулась руки мужа. От этого нежного прикосновения он и проснулся.
Судорога боли исказила его лицо — так резко действительная суровая жизнь отличалась от эфемерного волшебного сна: в кресле перед кроватью сидела незнакомая женщина. Сомнений быть не могло, ему просто-напросто выписали из Рио сиделку, а он-то думал…
— Простите, я не знал…
— Что вы, что вы!.. Это вы меня…
При первых звуках ее голоса — ее божественного голоса! — Леонсио встрепенулся, огни надежды зажглись в его глазах. А Малвина еще пыталась что-то сказать:
— Я ваша новая… — но не докончив фразы словом “сиделка”, она вдруг, помимо своей воли, сжала его руку, а затем упала головой ему на грудь…
…Малвина рыдала, а Леонсио все гладил ее волосы, ее мягкие пушистые волосы, ласковые, как и она сама.
Потом говорили о прошлом — без упреков, без обид. Когда Леонсио попытался испросить прощения, Малвина твердо оборвала:
— Это забыто, навсегда.
Но Леонсио не мог успокоиться.
— Удалось ли Тобиасу?..
— Нет. Он погиб, — сурово сказала Малвина, помолчала и добавила: — Будем денно и нощно молить Бога, чтобы он простил тебе этот тяжкий грех. Надеюсь, я своими страданиями, а ты — своими вымолим прощение. Господь не осудит тех, кто раскаялся. Господь милостив.
Если бы знала Малвина, с какой глубиной прозрения раскаялся Леонсио, с каким трепетом он вспоминал каждый прежний день, когда не ценил того, что даровала ему судьба. Вернуть бы. Многое можно вернуть: деньги, чье-то расположение, проданный когда-то дом, да мало ли что можно вернуть! Но не вернешь ни минуты прошлого — разве только в бедных воспоминаниях. И не вернешь здоровья.
Прекрасно понимая, какими невозвратимыми предметами мучает себя Леонсио, Малвина тонко и деликатно перевела тему разговора на современность, что сразу заняло внимание больного.
— А где эта фазенда? — с интересом спрашивал Леонсио.
— В двадцати верстах к северу от Рио, — охотно пояснила Малвина.
— И твой отец пока неплох?
— Жалуется на головные боли. Иногда перед дождем у него ломит кости, — Малвина печально улыбнулась и подвела итог: — Старость та же болезнь, что поделаешь.
С большим интересом внимавший жене, Леонсио вдруг занервничал и спросил, чуть ли не заикаясь, из чего Малвина поняла, сколь важен для него сей вопрос:
— А как ты думаешь, Малвина, смог бы я совершить путешествие на вашу фазенду?
Конечно же, сразу поняла Малвина, муж имел в виду не только трудности пути, а саму возможность: если она позволит — значит, для него есть надежда на дальнейшую совместную жизнь, если откажет, пусть даже в самой мягкой, тактичной форме, — отказ будет означать финал совместного жизненного пути. И Малвина, ни секунды не колеблясь, вскрикнула:
— Несомненно! Нужно лишь продумать заранее все детали путешествия, тщательно подготовить экипаж и прочее — в общем, мелочи. А до этого я должна съездить к отцу и все рассказать ему, ведь он даже не ведает, куда я направилась.
Увидев беспокойство в глазах Леонсио, Малвина поспешила заверить:
— Но моя поездка займет не более двух недель. Лео, я вернусь очень быстро.
— Я не сомневаюсь, — бодро откликнулся он, несмотря на то, что сомневался. Нет, Леонсио прекрасно понял, что обязательная благородная Малвина вернется. Сомневался он в другом: с отцом ли проживает Малвина на той дальней фазенде?..
5
Между тем Изаура не находила себе места. Она была счастлива видеть и слышать свою бывшую госпожу, но вместе с тем мучительное прошлое встало перед ней. Кроме того, Изауру мучил еще один вопрос, по которому она не могла посоветоваться даже с Алваро…
Мигел, Алваро и Изаура собрали в гостиной всех жителей фазенды и сообщили им о счастливом избавлении Малвины. На долю Изауры выпала деликатная участь — сказать об изменении внешнего облика бывшей хозяйки.
— …Донна Малвина перенесла тяжелую операцию. Ее довольно трудно узнать, — Жануария охнула, кто-то вскрикнул, раздались вздохи, и Изаура продолжила: — Но у милой донны Малвины — прежние глаза и прежний голос. Ведь наша с вами донна Малвина совсем не изменилась душой!..
Бывшие слуги заплакали.
Белшиор успел сбегать в свой благоуханный цветник и нарезать огромный букет пурпурных, белоснежных, лимонных и даже фиолетовых роз. Когда Малвина вернулась в гостиную, то была потрясена теплой встречей. Всему здесь нашлось место: и поцелуям, и объятиям, и слезам, и вздохам, а в довершении всего — поистине царский букет.
Наконец Изаура по праву хозяйки вызволила Малвину из хоровода вопросов и оханий и увела ее в комнату, где Малвина прилегла, отдыхая после бурных впечатлений дня, одного из самых необычных в ее жизни.
Добрый старый Мигел поджидал Изауру в ближней маленькой комнате.
— Доченька, я чувствую, что-то мучает тебя.
— Да, отец, я хотела с тобой посоветоваться.
— Позовем Алваро?
— Нет, папенька. Вопрос слишком деликатен, ведь он касается нашего прошлого.
— А ведь казалось, — вздохнул Мигел, — все забыто, ан нет…
— Как ты думаешь, отец, свести Малвину на кладбище?
— Да-а, дела-а… — Хотя на долю Мигела в его многотрудной жизни и выпадало решение нелегких задач, чувствовалось, что вопрос дочери загнал его в тупик. Мигел покачал головой и решительно сказал:
— Ни одно женское сердце не выдержит увидеть урну со “своим” прахом. Нет, дочка, даже упоминать не нужно.
Глаза Изауры наполнились слезами, спазм сдавил горло, и она сказала прерывистым голосом:
— Но, может статься, она захочет поклониться… праху Тобиаса…
Почувствовав душевную боль Изауры как свою собственную, Мигел застонал и обнял дочь, которая зарыдала, спрятавшись у него на груди. Понимая, что причиняет отцу страдания, Изаура ничего не могла с собой поделать: образ Тобиаса, первого мужчины, которому она отдала свое нежное сердце, встал перед ней с такой зримостью, обдал ее таким теплом, такой любовью, что настоящая жизнь по сравнению с этим предстала пустой и иллюзорной…
— Прошлого не вернешь, доченька… — вышептывал Мигел сухими губами. — Надо жить настоящим… Нет благороднее сеньора Алваро…
— … Я понимаю, — сквозь удушье отвечала Изаура, — я неблагодарная дрянь… Поверь, отец, я люблю Алваро… Но я не знала, что прошлое так властно надо мной. Я не знала этого, пока не появилась донна Малвина.
— О горе, — сетовал Мигел, не зная, как справиться с нахлынувшим, как помочь самому любимому существу на свете — Изауре.
Наконец выплаканные слезы облегчили ее страдание, и она попросила отца оставить ее, чтобы привести себя в порядок. Сев перед зеркалом, Изаура увидела, что глаза ее покраснели, а волосы растрепались. Смазав лицо кремами, сделанными из самых душистых трав, Изаура почувствовала свежесть и начала расчесываться. Черепаховый гребень мягко скользил по длинным пепельным волосам — очень длинным, до пола. Такой же длинной показалась сейчас Изауре и ее собственная жизнь, хотя молодой женщине и было всего немногим более двадцати.
За этим занятием и нашел Алваро свою прекрасную донну. Пепельный водопад заново так восхитил влюбленного, что заставил забыть обо всем на свете — и Алваро встал на колени перед своей принцессой. Играя ее волосами, будто струями сказочного фонтана, он целовал их, гладил их, но вскоре этих нежных ласк сделалось ему мало, и руки Алваро, путаясь в пепельном водопаде, начали гладить ноги Изауры, поднимаясь все выше, увлекая за собой струи мягких волос. Не умея совладать с собой, Изаура ласково, но настойчиво остановила его ласки:
— Сейчас не время, милый. Прости, я так устала.
— Прости меня, я просто потерял голову. — Алваро почувствовал, что был бестактен, ворвавшись ураганом в непростое прошлое Изауры.
Оставшись одна, Изаура поразмыслила на покое и приняла решение все-таки говорить с Малвиной на щекотливую тему.
6
Послав слуг на кладбище убрать урну с “прахом Малвины”, Изаура подошла к ее комнате и случайно явилась свидетельницей сцены, казалось бы, самой обычной — которая в дальнейшем повлекла, однако, удивительные события…
Успокаивая расходившиеся нервы, Малвина вышивала, сидя на мягком диване, а Белшиор — с его большой головой и маленьким тельцем ребенка — словно крупноголовый шмель летал по комнате над своими цветами, все устраивал букеты так, чтобы они радовали глаза донны Малвины. В такт неспешным движениям Малвины и текла их беседа, фрагмент которой и услышала невольно Изаура.
— … Все хвастают, что предчувствовали ваше возвращение, донна Малвина, а вот я знал наверняка, — заявил Белшиор, поправляя кустистую зелень в напольной вазе.
— Спасибо, милый Белшиор, — заулыбалась прежняя хозяйка.
— Вы улыбаетесь, думаете: лжет старый хрыч…
— Господь с тобой, Белшиор.
— … А я не лгу. Все-е позабыли старую Гарпию в ее пещере, все забыли о том, что она может творить чудеса.
— Я всегда говорила, Белшиор, что твоя матушка — прекрасная знахарка.
— … И провидица, донна Малвина! Когда еще она распустила по воде кипящий воск и сказала мне: знай, жива твоя хозяйка, сынок, — жива. Я тогда подумал: рехнулась старая, а оно вон как вышло. Старая Гарпия все про всех вперед знает, да болтать не спешит.
Застывшая было на пороге Изаура, удивленная странными словами садовника, взяла себя в руки и вошла в комнату. Малвина радостно приветствовала ее, а Белшиор предусмотрительно удалился.
— Малвина, милая, — приступила к разговору Изаура, — прошлое до сих пор терзает нас всех — так уж вышло, и ты простишь мне, если сочтешь мои слова жестокими?
— Пожалуйста, Изаура, говори.
— Здесь, на кладбище… — голос Изауры пресекся, и одновременно вздрогнула Малвина, что не ускользнуло от болезненного внимания говорившей, — покоится прах… Тобиаса…
В глазах Малвины вспыхнуло пламя давнего, трагического пожара, и она быстро прервала Изауру:
— Можешь не продолжать. Я поняла. И вынуждена ответить отказом. Пойми меня правильно, Изаура, милая, в следующий раз как-нибудь… Но сейчас я не в силах увидеть этого кладбища, этой могилы. Не вини меня.
— Прости меня, Малвина. Я считала своим долгом предложить. Я понимаю тебя и не виню.
— Если действительно так, — Малвина первой пришла в себя, — тогда в доказательство прошу тебя пройти к роялю и спеть для гостьи.
Как ни тяжело было Изауре исполнить это — она села за инструмент. Дом наполнился прекрасным пением, казалось, что музыка растворила в себе неутихающую боль…
7
Бывает, что и приятные события влекут за собой смуту в умах и душах. Спору нет, все ликовали, когда объявилась Малвина, но с этого же дня мучительные сомнения поселились в сердцах двух обитателей фазенды — Леонсио и Изауры.
Правда ли, что Малвина живет на дальней фазенде со старым, больным отцом? А если так, то не проявляет ли какой-нибудь сосед-фазендейро ненужного внимания к молодой, привлекательной особе? — эти вопросы вновь и вновь мучили больного. Ох как не хотелось ему отпускать Малвину, даже и на две недели…
Терзания Изауры были еще тяжелее, изнуряли ее душу и тело. Небесами она отдана в жены прекрасному, благородному сеньору, который полюбил ее, освободил из рабства, составил не только ее счастье, но и счастье старого истерзанного жизнью Мигела. Казалось, Изаура полюбила Алваро, навсегда похоронив прошлое. Они были близки. Они слились воедино. И надо же было так случиться, что в это мгновение промелькнула тень прошлого, которое восстало из пепла и предъявило свои права… Тобиас… Желанный Тобиас, первый возлюбленный…
Малвина заявила, что он мертв, что куча пепла, хранящаяся на местном кладбище, и есть Тобиас… Но сомнения не покидали Изауру с той минуты. Почему Малвина вздрогнула? Почему быстро перевела разговор на другое? Хотя и этому можно найти оправдание: не под силу ворошить смертельные воспоминания.
Гуляя по саду, Изаура, подобно математику, который бьется над сложнейшей формулой, заново взвешивала ответы Малвины, ее реакцию — и все-таки не могла прийти к решению. А когда человек не может узнать наверняка, он хватается за соломинку, ищет подсказку в снах, или картах, или в кофейной гуще — лишь бы промелькнула надежда… Приближаясь к цветнику, Изаура увидела нужного ей Белшиора возле розового куста “Ришелье”. Заметив хозяйку, Белшиор почему-то засуетился, стащил с головы шляпу, кланяясь.
— Надень шляпу, — ласково посоветовала Изаура, — солнце уже печет как в полдень…
— …А всего-то девять утра, — пробормотал садовник.
— Жаркий сегодня будет денек, — машинально заметила Изаура, не решаясь перейти к главной теме.
— Я розы щедро напоил, еще в пять утра. Вот под этот куст семь леек вылил.
— Спасибо тебе, Белшиор. Ни у кого в округе нет такого чудесного цветника.
— Какова хозяйка — таковы и цветы ее, госпожа.
— Ты галантный кавалер, — грустно улыбнувшись, Изаура спросила: — Ты выполнил мое поручение?
— Да, госпожа.
— Итак, когда?
— Матушка готова принять вас во время послеобеденной сиесты. Если вам это удобно…
— Конечно, конечно, Белшиор.
— Все на фазенде будут отдыхать, и тогда, донна Изаура, мы с вами сможем незаметно выйти…
— Хорошо, Белшиор, поджидай меня, — поспешно перебила Изаура и чуть не побежала прочь, ибо почувствовала: стыдно и недостойно госпожи втайне от мужа, благородного сеньора Алваро, сговариваться со своим садовником идти к местной колдунье. Но что поделаешь, кто еще может сказать ей… о Тобиасе?
8
После обеда, когда все предались сну — столь желанной в этих краях сиесте, — Изаура забежала в свою комнату переодеться для похода в пещеру старой Гарпии. Не призвав даже горничную, чтобы не обращать ничье внимание на эту прогулку, она спешно перебирала, отбрасывая, ленты, юбки, шляпы.
И тут раздался стук в дверь. Неужели Алваро? — Изаура досадливо бросила шляпу на кресло. Это действительно был он.
— Я зашел узнать, как ты себя чувствуешь.
— Спасибо, хорошо.
— Мне показалось, ты чем-то удручена, душа моя?
— Да нет, — замялась Изаура и сразу нашлась: — Так, пустяки. Ты будешь смеяться, милый: у рояля запали две клавиши…
Конечно, Изаура не надеялась, что такая незамысловатая уловка ей поможет, но Алваро — милый, тонкий Алваро — сделал вид, что поверил.
— Я хотел скрыть от тебя, — начал он с преувеличенным весельем, — но сейчас придется раскрыть маленький секрет. Сюрприза уже не выйдет. Я заказал новый рояль в Рио.
— Спасибо, милый.
— Представляешь, родная — белый!
— Очень рада. — Изаура говорила через силу, с трудом скрывая беспокойство и нетерпение. Заметив это, Алваро вдруг догадался: “Собралась на кладбище и не хочет, чтобы я знал. Дорого же нам дается возвращение прошлого”. Как разумный человек он не подал и вида, спокойно уточнив:
— Ты решила пройтись?
— Да… Так… Немного…
— Прости, я не смогу составить тебе компанию, надо разобраться с бумагами… Хотя… Если…
— Нет-нет, займись делом.
— Ты захватишь с собой Малвину?
— О нет, ей предстоит трудная дорога, пусть набирается сил.
— Верно, — Алваро направился к выходу, но уже в дверях остановился и, помедлив, сказал: — Изаура, родная, всегда помни, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете.
Каждый мечтал побывать в пещере старой Гарпии, потому что пещера эта казалась перенесенной из сказки в глухой уголок. К ее входу вела узкая тропинка, заросшая по бокам диким кустарником, и большеголовый маленький Белшиор шел первым, прокладывая гостье путь.
Внутри горел очаг, возле него колдовала седая жилистая Гарпия — предмет суеверного ужаса всей округи. Блики огня кидали фантастические тени на своды пещеры, и сердце Изауры сжалось: вот куда пришлось ей припожаловать, чтобы укрепить свою нежданно проснувшуюся надежду или… угасить ее навсегда. Изаура готова была перекреститься, но сознание того, что это непозволительно в бесовском месте, удержало ее, пожираемую не столько страхом, сколько нетерпением узнать…
Величественная, несмотря на свои лохмотья, Гарпия, казалось, не заметила их, но так лишь казалось…
— Чего желает благородная сеньора? — вдруг спросила она скрипучим хриплым голосом, не отрываясь от дела, продолжая помешивать какое-то травяное варево в небольшом котле над очагом.
— Я… хотела бы узнать… жив ли… один человек. — Изаура сама поразилась. Как истончился ее голос — надо взять себя в руки.
— Матушка, помогите молодой прекрасной госпоже, — вдруг ласково вмешался Белшиор. Гарпия и взгляда на них не повела.
— Есть ли у сеньоры изображение этого человека?
— Любое, — суетливо зашептал Белшиор, — нарисованное, или карточка…
Не сдержавшись, Изаура недоверчиво покосилась на садовника, и тот с удовольствием проявил благородство, достойное настоящего сеньора, со словами: — Не буду вам мешать, — выскользнул из пещеры, предоставляя полную свободу своей госпоже. Тогда Изаура тронула цепочку на своей груди и приподняла скрытый доселе от глаз медальон.
— У меня есть… вот. — Щелкнула маленькая, усыпанная гранатами, изумрудами крышечка в форме сердца, и на Изауру нежно глянул Тобиас — яркие карие глаза, высокий белый лоб, прядь каштановых волос на нем — глянул издалека, откуда-то из другой жизни… Глаза Изауры наполнились слезами. Она закусила губу и смело шагнула к старухе, протягивая медальон: да будь Гарпия хоть самой ведьмой — пусть! Лишь бы сказала… Лишь бы приоткрыла тайну.
Старая Гарпия, конечно, только притворялась бездушным идолом не от мира сего. Чуткая к жизни округи, она прекрасно знала бурную историю бывшей рабыни Изауры. Старая Гарпия, конечно, сразу узнала изящного сеньора Тобиаса — как только взглянула на медальон — и сразу обратилась к своему сатанинскому вареву, нашептывая, заклиная, прорицая… Колдунье и самой было интересно вглядываться в поверхность бурой жижи, ожидая ответа. Вдруг отблески огня в глазах Гарпии дрогнули, зрачки расширились. Старая Гарпия не верила своим старым глазам…
Если бы колдунья обернулась, она увидела бы такую мольбу в глазах Изауры, что… Но Гарпия, не оглядываясь, тихо сказала:
— …Вижу кладбище… Кладбище… Пепел…
Словно сильный удар потряс Изауру. Она пошатнулась и медленно пошла к выходу. Однако там задержалась, достала кошелек. А Гарпия, умевшая видеть и затылком, не оборачиваясь, хрипло сказала:
— Ступай, милая. Я за людское горе не беру.
ЧАСТЬ II
ПОСЛЕДНИЙ БАЛ
9
Малвина готовилась к отъезду.
— Леонсио, милый, я вернусь через две недели, — сказала она, нежно погладив его по руке. Он поймал ее запястье, покрыл поцелуями ладонь и горько пообещал:
— Я доживу, вот увидишь.
Шутливо-гневно Малвина шлепнула его по губам и укорила:
— Грешно так говорить. У нас впереди еще долгая счастливая жизнь.
Леонсио не возразил ей — пусть пребывает в неведении, но сам он лучше всех профессоров знал, что силы его убывают буквально с каждым часом. Дождется ли он Малвину? Малвину, не оцененную им в свое время, Малвину, столь нежно любимую им теперь… Теперь, когда жизнь на излете… Но даже в конце пути ему страстно хотелось знать каждую деталь жизни Малвины. Сколько загадочного оставалось в ее истории. Где она живет, с кем?
Недостойно сеньора посылать вслед за женой сыщика — понимал Леонсио. Но как иначе ему узнать обо всем? И разве не простит господь этого последнего греха — столь незначительного по сравнению с тем, что сотворил раньше Леонсио, раскаявшийся теперь, слишком поздно раскаявшийся… И если приступать к делу практически, то кого из слуг просить выполнить это деликатное поручение? А вдруг Малвина, принявшая от рук Леонсио адовы страдания, заметит слежку и все поймет? Не проклянет ли она его — в последний раз и уже навсегда?.. Мысли эти не давали покоя больному Леонсио ни днем, ни ночью, ослабляя и без того беспомощное его тело…
Как бы удивился Леонсио, узнай он, что подобные сомнения — о возможном посланце за Малвиной — терзают и Изауру. Натура чрезмерно эмоциональная, Изаура восприняла известие старой Гарпии очень тяжко: на мгновение ей показалось, что небеса рухнули и придавили ее — стало невозможно дышать. В тот миг она забыла, что счастлива, что живет на процветающей фазенде с нежным любящим мужем — в тот миг крушения надежды Изаура была несчастней всех на свете. Приступ удушья, на который она не обратила пристального внимания — и напрасно! — чуть не убил ее. Но человеческая натура такова, что не может пребывать в постоянном черном унынии. Уже часа через три в душе Изауры мелькнула искра надежды: а вдруг Гарпия ошиблась? Кто подтвердит, что старая Гарпия всегда и во всем угадывала истину? Древняя Гарпия могла ошибиться, а значит — есть надежда.
Но как узнать о Тобиасе, если не помогла даже колдунья? Выслать человека вслед за Малвиной? Не будет ли это подлостью? Скорее всего, нельзя посылать — по законам чести и порядочности. Но вдруг Тобиас — если он жив, о боже! — не может объявиться, потому что безобразно неузнаваемо обгорел! Вдруг он несчастен? О, тогда следует послать сыщика несмотря ни на что. Но кого?
…Когда экипаж Малвины скрылся из виду, засобирался в дорогу Андре, чернокожий слуга — веселый, нахальный, любящий приодеться, пофрантить перед барышнями, но и быстрый, находчивый, готовый к услугам… Остается загадкой, кто же выслал его вслед за Малвиной?
10
Обычно люди живут не столько настоящим, сколько будущим: каким-то ожидаемым событием, более мелким или более крупным — неважно, важно, что те или иные радости, новости, известия светят вдали. Так и на фазенде теперь жили ожиданием возвращения Малвины и заранее назначенного по этому поводу бала. Говорили, что Андре даже выехал в Рио сделать кое-какие закупки для предстоящего праздника…
Все до единого на фазенде по-своему готовились к балу. Алваро и Мигел отдавали хозяйственные распоряжения, Жануария пробовала готовить по новым рецептам, чтобы к проверенным блюдам добавить новые. Леонсио, на удивление всем, потребовал себе картона, красок и впервые в жизни вдруг начал рисовать. Белшиор колдовал над новыми сортами роз, которым решил присвоить следующие имена: розам цвета само — “Изаура”, пунцовым — “Малвина”. Можно сказать, что внешне на фазенде наладилась уютная жизнь, хотя под спудом, конечно же, кипели страсти, ожидания, сомнения, надежды… Изаура много времени проводила за инструментом — новый белый рояль, доставленный по заказу несколько дней назад, серебристо сверкал в гостиной, радуя глаз. Его повелительница разучивала новые романсы, которые были настолько хороши, что Изаура подчас не могла оторваться от клавиш, — клавиры новых произведений привезла с собой Малвина. Казалось, музыка растворяет в себе все боли, все смятение бывшей рабыни, чей голос, исполненный божественной красоты и силы, заполнял дом, разносился по саду…
Наслаждаясь этим чарующим голосом, Алваро тосковал. Казалось бы, его возлюбленная, его жена — здесь, рядом, и вместе с тем как далека она стала!.. После приезда гостьи из прошлого Алваро почувствовал, что душа Изауры улетела за тридевять земель. Неподвластным ему становилось и ее тело. Какими-то уловками жена старалась уклониться от исполнения супружеских обязанностей — правда, всегда делала это тонко и деликатно, но Алваро от этого было не легче… Вот и сейчас полновластный хозяин фазенды метался по саду, зная, что после музыкальных занятий Изаура пойдет купаться в бассейне — маленьком искусственном озере, обрамленном фруктовыми кустами, посаженными умелым Белшиором так, что они цвели чуть ли не круглый год — и нежные разноцветные лепестки плыли по зеркальной глади, привлекая к себе бабочек и стрекоз…
Уделив два часа пению, Изаура направилась к озеру. Никто не мешал ей, зная, что в середине жаркого дня хозяйка взяла за правило искупаться, а то и просто посидеть на берегу на небольшой скамейке, специально для нее изготовленной мастеровитым Мигелом. Изаура неспешно расстегнула ряд крошечных пуговок на батистовой кофточке, сняла пышную, из многих полотен, юбку, затем — тонкое, как крылья стрекоз, кружевное белье, и обнаженной вошла в воду. Вскинув руки, проверила, удачно ли заколоты в узел волосы. Вслед за поднятыми руками еще больше приподнялись над водяной гладью ее округлые, словно вздутые, груди с острыми коричневыми сосками, которые почему-то привлекали внимание стрекоз.
Перламутровая стрекоза со слюдяными крылышками села на темный бугорок и поскребла его тонюсенькими лапками. Изаура улыбнулась. Стрекоза переползла с бугорка на золотистое полукружье, усеянное узловатыми пупырышками.
Безмятежность царила над райским уголком. Солнце мягко легло на обнаженные плечи Изауры, лишь слегка поигрывая своими лучами на шуршащих крыльях стрекозы. Изаура уже хотела было поплыть, как вдруг… Сзади раздался мощный всплеск, и ее обдало фонтаном брызг. От неожиданности Изаура не успела даже вскрикнуть, как тут же кто-то сильными руками сдавил ей плечи, сейчас же ноги ее оказались в плену. Слабый крик уже вырвался из ее горла, но тут же над ее ухом раздался голос Алваро:
— Успокойся… Это я.
Глянув на мужа, она поняла, что он — в сильном возбуждении: бледный, губы синие, на лбу пульсирует жилка.
В одно мгновение тихое озеро превратилось в бурное море…
После этого — известного лишь двоим и важного лишь для двоих — происшествия на озере супружеские отношения Алваро и Изауры сами собой восстановились. Алваро повеселел, да и сама Изаура стала как будто ровнее, спокойнее. Но так или иначе, Алваро не покидало смутное, подсознательное ощущение того, что жена принимает его ласки по обязанности, маскируя свой долг нежной ровностью; что безоглядное счастье их первых дней и ночей истаяло, как предутренняя дымка над маленьким озером — искусственным озером…
11
Андре вернулся из своего вояжа через неделю. Прибегнув к уловкам, которые станут ясны чуть позже, оставил повозку за кладбищем и потихоньку, с черного хода, пробрался в дом, желая повидать хозяйку до суматохи, которая поднимется в связи с его приездом — да, собственно, так и приказала Изаура, голос которой он услышал еще с дороги. Хотя Андре и не был силен в искусствах, он застыл на пороге гостиной, потому что пение Изауры на каждого производило такое сильное впечатление, что требовалось хотя бы несколько минут, чтобы прийти в себя… Да и картина, представшая перед слугой, многих бы тронула.
Изаура уже не была той девочкой, которую страдающий отец, Мигел, пытался выкупить из рабства… За эти месяцы красота бывшей рабыни, ставшей госпожой, набрала зрелости. Пение придало страстности и оживления всему облику, особенно лицу, и Андре невольно залюбовался. На дне ее синих глаз вспыхивали темные огни. Под глазами пролегли круги — следы душевных мук, сомнений, ожиданий… Крутая прядь пепельных волос выбилась, когда Изаура с силой ударила по клавишам, и теперь мешала певице, отгонявшей ее с высокого лба быстрыми, порывистыми жестами. Маленький гранатовый крестик трепетал на груди, цветом перекликаясь с сухими губами Изауры… Изауры, ждущей от него вестей…
Как только Андре подумал об этом, словно искра его мысли прожгла хозяйку — она вздрогнула, нестройно оборвав аккорд, и, вскинув голову, остро глянула на Андре. Сразу стушевавшись, он промямлил:
— Я вернулся, госпожа… И сразу — к вам…
Решительным жестом Изаура подозвала его к роялю. Приближаясь, Андре еще успел пробубнить про оставленную на дороге повозку.
— Ну? Что? — требовательно спросила Изаура: пережитое давало ей мужество услышать все что угодно. И такая сила духа отразилась в ее синем взгляде, что Андре, всегда равнодушный, туповатый Андре — неожиданно для самого себя — вдруг рухнул перед ней на колени и, заплакав, сказал:
— Я плохой вестник, госпожа. Велите бить меня плетьми.
— Там, на фазенде, — Тобиас? — осевшим голосом спросила Изаура. — Говори, не бойся. Разве я когда-нибудь кого-то наказывала, Андре? Что с тобой. Говори: он стал уродом? Он обгорел? Он недвижим? Говори, Андре, не бойся, говори.
— Нет, хозяйка, — плакал Андре. — Сеньора Тобиаса там нет и в помине. Они живут: донна Малвина, ее старенький отец — уже как малый ребенок — такой старенький, и слуги. Ти-ихая такая фазенда.
— Перестань, Андре, — укорила Изаура. — Ступай.
Уже от порога Андре обернулся и добавил, всхлипывая:
— Я привез гостинцы, как велели.
— Кисти, краски сеньору Леонсио?
— Да, несколько коробок.
— Отнеси ему первому, он очень ждет. Постой! — Изаура перевела дыхание перед тем как спросить: — Ты не мог ошибиться?
— О нет, госпожа! Я расспросил многих в округе: и на дороге, и в трактире, как вы велели, госпожа.
— Да, конечно, если бы хоть что-то странное было на фазенде, уж соседи бы не промолчали, — вслух решила Изаура. — Теперь иди.
Когда Андре удалился, Изаура облокотилась о рояль, прижавшись горячей щекой к холодной скользкой поверхности, и прошептала:
— С прошлым покончено. Надо или найти в себе силы жить настоящим, или… — она не закончила последней фразы вслух.
Войдя к Леонсио, Андре был потрясен: перед ним предстала настоящая мастерская художника. Везде висели и лежали наброски карандашом, акварельные этюды, зарисовки маслом — и все неплохо, на взгляд Андре. Хозяин, который полулежал на высоко взбитых подушках, метнул в Андре взгляд тяжело раненного зверя и спросил хрипло:
— Ну как… поездка?
— Все в норме, хозяин, — слуга по-прежнему называл Леонсио “хозяином”, считая, что маленькая лесть никогда никому не повредит. — Донна Малвина живет там со своим папашей, а он уже пло-о-ох, доложу я вам…
— Потише, — попросил Леонсио, жестом пригласив Андре сесть на кровать рядом. И потом в течение десяти минут Андре все повторял свою историю, а Леонсио с наслаждением слушал.
— Как там Энрике, братец? — под конец поинтересовался Леонсио.
— В отъезде, сказали в трактире.
— Ты не попался на глаза донне Малвине?
— Упаси боже! Да и кто обратит внимание на нигера — нас как псов бродячих! — с оттенком непонятного хвастовства заявил Андре и пошел за повозкой, чтобы обрадовать жителей фазенды гостинцами.
12
“Мой последний бал”.
В плавном вальсе кружились нарядные пары, и все женщины всех возрастов были нежны и очаровательны, а мужчины — благородны и предупредительны. Аромат чудесных духов витал над гостиной, мелькали улыбки, в глазах вспыхивали огоньки, похожие на те, что горели в китайских фонариках, которыми был расцвечен весь сад, превратив ночь в яркий искристый день. Званый вечер по поводу приезда Малвины удавался — это чувствовали и гости, и хозяева. Глядя на сияющую Изауру, Алваро не мог нарадоваться: наконец-то истаял туман отчуждения, о котором молчали, боялись заговорить, но прохладное веяние которого не покидало супругов в последние недели… Изаура и сама была счастлива легкостью, слетевшей на ее душу, — прошлое, изнурительное, коварное, живучее, вдруг взяло да отпустило ее — радуйся, блаженствуй!.. Ликование приумножалось в Изауре от сознания того, сколь не похож этот бал на достопамятный “бал разоблачения”, где ее подвергли мучительным унижениям — но стоит ли вспоминать! На прошлое наложен крест. Надо веселиться.
Хмельной от счастья, Алваро не верил глазам своим: сказка, мечта воплотилась в жизнь, его Изаура — хозяйка его дома. Волнения о том, как воспримут ее соседи, знакомые, отпустили его: аболиционистски настроенное общество, собравшееся у него в гостях, ничуть не волновало, что хозяйка приема — бывшая рабыня, эти люди умели ценить других по их достоинству. Оживленный Мигел умело направлял вечер, незаметно давая нужные распоряжения нанятым на ночь официантам и оркестрантам.
“Мой последний бал”,— думал Леонсио, сидевший в удобном, специально для него изготовленном кресте в простенке. Никто бы сейчас не догадался о его странной мысли, ведь Леонсио улыбался, поглаживая руку Малвины, стоявшей рядом с ним. Он все просил ее танцевать, но она покидала мужа для танца один-единственный раз — Малвина всегда была благородна, а вот он, Леонсио, научился благородству лишь в самом конце своей жизни — слезы навернулись на его глаза при этой мысли. О боже, время утекло безвозвратно, и ничего не переделать в прошлом… Леонсио чувствовал, что его сил хватит дожить до утра, не более…
Как поздно провидение послало ему понимание всего сущего. Через сколько испытаний надо было пройти, чтобы пробиться к этому пониманию. Господи, только в их доме наладилась такая духовно наполненная интересная жизнь: сам он начал рисовать, Изаура поет все более сложные партии из опер, приехала Малвина — его душа, его любовь, Малвина — тонкая ценительница поэзии и музыки, и вот… надо умирать.
“Тобиас!.. Если душа твоя слышит меня, знай, нам недолго осталось до встречи, — звал покойного Леонсио. — На рассвете я приду к тебе. И если нам суждено в бесконечности пребывать в разных мирах: тебе — в раю, а мне — в аду, то милостивый Господь допустит меня к тебе, Тобиас, хоть на минуту: покаяться перед тобой, испросить у тебя прощения. Велик мой грех, Тобиас, я знаю. И душа моя непокойна перед смертью. — Малвина нежно погладила его по щеке, будто почувствовав, сколь мучительные мысли одолевают супруга. — Но моя Малвина будет молиться за меня… Хотя и напоследок я приберег для нее сомнительный сюрприз”,— Леонсио вздохнул, решив, что обязательно к рассвету должен признаться Малвине еще в одном грехе…
13
Между тем гости уже в третий раз просили Изауру спеть, и по правилам приличия отказать было нельзя. Просили хотя бы один из тех последних чудесных романсов, слух о которых разнесся по всей округе. Глубоко наклонясь, Алваро припал к ее руке, покрыл ладонь быстрыми поцелуями, любовно глянул на свою богиню снизу вверх, и она ответила ему синим взглядом затаенной нежности. Под возгласы одобрения Алваро провел Изауру к инструменту.
Лицом к раскрытому окну, где блистал огнями праздничный сад, за роялем сидела уже не та Изаура, к скромному облику которой привыкла эта гостиная, — не тоненькая девочка в батистовом платьице, а неземной красоты молодая дама, в изысканном парижском туалете. Но это было лишь внешнее впечатление. Душа Изауры осталась прежней — доброй, нежной, любящей, а ум ее обогатился за эти годы, страдания же прибавили ей стойкости в характере, испытания наградили мудростью. Облокотившись на рояль, Алваро не отводил глаз от своей феи и словно пил волшебное зелье — несказанно хороша была Изаура!.. Бриллиантовые капельки в ушах бросали снопы искр на ее бледное лицо и тонули в синих глазах. Дивные камни ее заморского колье оттеняли белизну лебединой шеи, красоту груди, которая была полуобнажена глубоким декольте. “Ей бы блистать при дворе Людовика!” — мелькнула вдруг странная мысль в голове Алваро, и он испугался — сердце сдавил бредовый страх потерять Изауру…
Когда Изаура запела, странное ощущение созерцания чего-то необычного, неземного пронзило все общество. “Нет, я не достоин ее”,— с неожиданной горечью подумал Алваро, но сейчас же взял себя в руки: что за чушь! он — законный супруг Изауры! он делит с ней кров, постель, стол! “Ну и что, — ядовито шептал ему какой-то предательский голос. — Кров, постель, стол — какая малость по сравнению с душой!.. А душа ее по-прежнему сокрыта от тебя. Ох и легко тебе, Алваро, потерять такое сокровище!..”
И тут произошло неожиданное.
Гости наслаждались пением хозяйки, испытывая райское блаженство, — тем сильнее пришелся по их расслабленным нервам поразивший всех удар.
Никто не мог затем восстановить с точностью, в какую секунду и как случилось потрясение, но вдруг чудесная музыка оборвалась, и голос Изауры пресекся. Более того, певице стало как будто нечем дышать. Она глотнула воздух, судорожно рванула рукой дивное колье, так что оно расстегнулось и скользнуло на паркет — стук от его паденья прозвучал в тишине как гром. Все вздрогнули.
Алваро первым рванулся к Изауре, страшно закричал.
Что тут началось! Дамы постарались оттеснить супруга, обмахивая Изауру своими веерами из модных павлиньих перьев. Мужчины протягивали с подносов стаканы с прохладительным. Суматоху и сумятицу, которая сопутствует каждому нежданному приступу хвори, решительно прервал местный врач сеньор Мурильо. Правда, для этого ему пришлось довольно громко одернуть гостей. Прикрикнув на всех, сеньор Мурильо пробрался к Изауре и как опытный врач прежде всего успокоил ее, назвав ее приступ пустяком. А Изаура уже и сама пришла в себя и начала успокаивать общество, хотя нельзя сказать, что ее не напугал приступ удушья.
И позже, в маленькой комнате, Изаура рассказывала врачу, что ни с того ни с сего горло вдруг перехватило огненным кольцом. Сеньор Мурильо вдумчиво кивал, слушая пациентку. Врач не знал, что больная покривила душой, утверждая, будто приступ начался “ни с того ни с сего”… Опытный доктор и сам догадался: потрясение — но какое?.. Жаль, что опытный доктор, глядя на поющую Изауру, стоял спиной к раскрытому окну. Да и все гости были настолько поглощены пением хозяйки, что не заметили тени, мелькнувшей в глубине сада…
Изаура же, во время пения пристально глядевшая в сад, единственная увидела эту неспешную фигуру…
Успокаивая и доктора, и мужа, и отца, и всех гостей, Изаура — просила продолжить бал, уверяя, что для нее веселье гостей — лучшее лекарство. Она уговаривала их с такой страстностью, что они сдались. Она уговаривала их с тем большей искренностью и убедительностью, что ей самой необходимы стали суматоха, музыка, веселье бала с тем, чтобы ускользнуть незамеченной в сад хотя бы на несколько минут…
14
— Прошу вас пройти в дом! — взволнованно сказала Изаура.
— Нет.
— Прошу вас хотя бы присесть на скамейку. Я распоряжусь, чтобы угощение вынесли сюда.
— Нет. Для старой Гарпии лучшее угощенье — то зелье, которое она варит в своем котле, — колдунья засмеялась, будто закаркала. — И пришла я, девочка, не за угощением. — Она сурово глянула на Изауру и пояснила: — Для них ты — госпожа, сеньора, а для дре-е-евней Гарпии ты — девочка.
— Называйте как вам будет угодно, — мягким, но срывающимся от волнения голосом попросила хозяйка, — лишь скажите…
— Я и пришла сказать. Повиниться пришла. Старая Гарпия никогда не лжет. Старая Гарпия лучше смолчит, чем солжет. А тогда — ровно бес в ребро — солгала.
— Я так и подумала, когда увидела вас в окне, — прошептала Изаура.
— Не видела я тогда в котле кладбища…
— А что?! Что?! Ради всего святого — что?
— Сад видела, похожий на твой. Фазенду видела, поменьше вашей…
— Ради бога — правду!
— …Да, девочка, видела тень…
— Мужчина?!
— Да.
— Это — Тобиас?! Гарпия! Заклинаю вас! Вы же помните сеньора Тобиаса! Он никому не делал зла! Заклинаю вас! Это — он?! — неистовое напряжение выразилось в лице Изауры, так что даже на лице-маске старой колдуньи дрогнуло состраданье и она тихо сказала:
— Верь мне. Не лгать пришла сюда Гарпия. Видела мужчину со спины. Сеньор ли Тобиас, нет ли — не было дано мне этой тайны. Худой такой мужчина, со спины. Вроде как седой…
— Седой?! — разочарованно, с болью переспросила Изаура.
— …Но кладбища — не видела, — отрезала Гарпия и пошла прочь. Не зная, что предпринять, Изаура вскрикнула вослед:
— Солгать вас попросил Белшиор?
Гарпия приостановилась, повернулась.
— Накажешь его? — спросила спокойно, с интересом.
— Нет, — просто ответила хозяйка. — Я люблю его, он добрый.
— Он добрый, — подтвердила колдунья и вместо ответа задала риторический вопрос: — А кому нужно прошлое?.. — Хмыкнула и скрылась за ближними деревьями.
— Кому? — прошептала Изаура. — Мне…
15
В эти же минуты на фазенде происходил и другой важный разговор. Сославшись на усталость, Леонсио попросил отвезти его к себе. Малвина, конечно же, последовала за ним. Как уже отмечалось, комната Леонсио походила теперь на мастерскую художника: нежданно-негаданно пробудившийся в нем дар к живописи изумлял и радовал многих на фазенде. Прекрасно сознавая, что в его распоряжении остается всего лишь несколько земных часов. Леонсио, слабеющий с каждой минутой, хотел напоследок успеть два дела: подправить уже почти законченный рисованный портрет Малвины в ее обновленном облике и — второе было куда важнее и куда труднее — сделать жене одно признание.
Непослушной рукой штрихуя портрет, Леонсио был снедаем сомнениями, с чего начать, как вдруг Малвина — о чуткая душа, улавливающая оттенки его настроений! — пришла ему на помощь, затеяв разговор, близкий по теме. Любуясь творениями мужа, она сказала с гордостью и восхищением:
— Ты знаешь, родной, вот в этих акварелях, в этих карандашных набросках уже видна рука мастера. Поверь, я не льщу тебе. Вскоре, если захочешь, ты сможешь учить юных рисовальщиков округи.
“Вскоре!..” — горько усмехнулся про себя Леонсио, но не посмел показать жене отчаянной слабости, ухватившись за мысль, поданную ею.
— Да, — поддержал как ни в чем не бывало, — я и сам, признаться, подумывал о воспитаннике… или воспитаннице.
— Вот как? — Малвина была приятно удивлена, услышав такое от мужа, который раньше часто выказывал пренебрежение к детям. — Это замечательная идея! — воскликнула она в воодушевлении.
— … А ты могла бы обучать… эту воспитанницу… музыке, вышиванию, еще каким-то женским занятиям.
Кротко улыбнувшись, Малвина помолчала, а потом ласково заметила:
— Как твоя покойная матушка Изауру…
Воспоминания на минуту полонили обоих.
— …Славное было время, — продолжила Малвина. — Матушка всегда была такой доброй, нежной — пусть земля ей будет пухом… А знаешь, Лео, кого я еще иногда вспоминаю? Розу!
— Розу? — встрепенулся Леонсио, и его тускнеющие глаза оживились на секунду. — Она стала жертвой собственного коварства…
— Не надо плохо о мертвых, прошу тебя, милый. Роза могла бы стать счастливой — такая бойкая, сметливая…
— Я виноват и перед ней.
— Оставь, не терзай себя, Лео.
— Но это — особый случай, Малвина, милая. Я давно хотел тебе сказать, да все не решался, а теперь, кажется, пора… — Леонсио отложил работу, глядя в ночной сад, украшенный разноцветной иллюминацией его последнего праздника, и тихо признался: — Около пяти лет назад, может статься, ты помнишь, Малвина, я надолго отсылал Розу в дальнюю деревню, потому что… потому что она ждала моего ребенка. — Леонсио не смотрел на Малвину. — Родилась девочка, ей сейчас четыре года, она там, в деревне, с няней.
— Как зовут девочку? — был первый вопрос, который задала Малвина, — и Леонсио понял, что Малвина, его Малвина возьмет Флору к себе и сделает для нее все возможное, как когда-то его заботливая матушка — для Изауры. Посмотрев на жену, он еще более воспрянул духом — темные глаза Малвины излучали столько поистине материнской теплоты, что он ласково прошептал:
— Флора… Фло…
…Когда минут через десять Леонсио почувствовал приближение неотвратимого, то, собрав последние силы, улыбнулся и сказал жене:
— Бал слишком утомил меня.
— О да! Пора отдохнуть, милый.
— Пора… Я хочу заснуть, — Леонсио постарался завуалировать многозначительность этой фразы, произнеся ее так буднично, что у Малвины не возникло сомнений: побледнел, устал, несколько часов отдыха будут целительны для больного.
Перед неведомым ликом смерти Леонсио оказался столь мужественным, что даже не шепнул Малвине напоследок: “Прощай…” — когда она поцеловала его, а, выходя из комнаты, обернулась и ласково — так, как умела она одна в мире, — улыбнулась.
Улыбка Малвины была последним земным подарком, который Леонсио взял с собой туда…
Бал закончился. Отшумел, оставив в сердцах удивительные впечатления. Нет, прошлое не хотело отпускать жителей этой фазенды. Каждый из них, оставшись наконец этой ночью наедине с собой, пребывал в волнении. Визит старой Гарпии вновь заронил надежду в сердце Изауры — и она не легла, сидела перед зажженной свечой, и красные отблески отражались в ее потемневших от страданий глазах… Не спал и Алваро в соседней комнате. Непонятная, но острая тоска пронзила его: казалось бы, нелепый страх потерять Изауру, любимую, желанную, единственную, так и не покинул его… Леонсио молился, готовясь предстать перед вечностью… Пожалуй, лишь волнения Малвины не были томительны. Небеса пощадили ее, даровав ей несколько часов надежды. Ей вдруг показалось, что впереди — новая жизнь, что муж благодаря творчеству набирается новых сил, что маленькая Флора, Фло, принесет в дом чисто детские беззаботность и легкость…
Нет, прошлое так и не отпустило никого из наших героев.
16
Утром, когда Андре зашел проведать бывшего хозяина фазенды — пришла пора, считал слуга, намекнуть Леонсио кое о каких обстоятельствах, — то обнаружил, что Леонсио тихо отошел в запредельные дали… “Великий грешник умер”,— подумал Андре, как вдруг слезы хлынули из его глаз, потому что всякая смерть величественна и связана с тайной, которую не дано знать никому из живых…
Похоронили Леонсио на местном кладбище, недалеко от могилы Тобиаса, похоронили в солнечный звонкий день, когда все вокруг будто говорило: как хороша стала бы жизнь, научись люди жить с добром в душе, с лаской в сердце; как горестно, что жизнь некоторых была полна смуты, а раскаяние пришло поздно, слишком поздно. Стоя перед его могилой, Изаура не могла сдержать слез: вот и ушел из жизни ее тиран, ее деспот, ее злой гений… Жаль его, жаль себя… Покойник, не тем будь помянут, сумел-таки основательно все запутать не только в своей, но и в чужих жизнях…
На “семейный” совет собрались в гостиной вчетвером: Алваро, Изаура, Мигел и Малвина — пережитые испытания сроднили их всех, поэтому и совет с полным правом можно назвать семейным.
— Малвина, мы хотим сказать вам, — мягко начал Алваро, — что все мы считаем вас членом нашей семьи. Мы просим вас забрать вашего батюшку и переехать сюда навсегда.
— Я очень благодарна вам всем, — отвечала бывшая хозяйка фазенды, немного смущаясь от того, что ей сейчас предстояло сообщить собравшимся. — Видит Господь, сложись обстоятельства иначе, я бы не желала для себя ничего лучше, чем остаться здесь. Но моему старому отцу, как вы понимаете, хотелось бы остаться на прежнем месте, да и климат там подходит для его слабого здоровья. Но я также считаю вас родными людьми, поэтому не могу и не хочу скрывать от вас одного обстоятельства, — Малвина обвела взглядом всех присутствующих и продолжила: — Сеньор Алваро не знал, а Изаура и Мигел помнят служанку Розу…
— О да, конечно, — подхватили отец с дочерью.
— Так вот перед смертью мой муж, сеньор Леонсио, завещал мне позаботиться об их… дочери…
Алваро потупился, Изаура удивленно взглянула на Малвину, а умудренный опытом Мигел даже не вздохнул.
— …О маленькой Флоре, — продолжала Малвина, — которая живет с няней в дальней деревушке. Если сеньор Мигел позаботится об экипаже…
— Конечно, конечно, — заверил управляющий.
— …То я завтра же поеду и заберу малышку.
— Мы поедем вместе, — сказала Изаура, чем вызвала благодарный взгляд Малвины.
17
Малышка оказалась прехорошеньким шустрым созданием. В ее карих глазах прыгали золотые бесенята, темные кудри не поддавались гребню. Сама Фло и секунды не могла устоять на месте.
— Уж такая прыткая, — жаловалась старая няня. — Везде поспеет, везде ей надо!
Изаура и Малвина были сразу покорены смелостью крошки: никогда прежде не видевшая нарядных знатных дам, Фло, однако, не испугалась, а проявила живой интерес к кружевам на их платьях, к их зонтикам, шляпам.
— Ох и кокетка вырастет! — смеялась Изаура, а няня только и успевала одергивать:
— Не трожь! Не смей! — на что Малвина улыбалась, увещевая ворчунью:
— Да полно вам! Пусть потрогает, ей ведь интересно…
Ласковым котенком Фло льнула к “тетенькам”, раз они оказались добрыми, и была в восторге, когда ей сообщили, что она вместе с няней и “тетеньками” поедет теперь в другое место. Любознательная Фло забросала их вопросами, так что на время все остальные заботы словно отхлынули, ибо постоянно приходилось отвечать малышке: да, там есть дом, нет, он гораздо больше этого дома, и сад больше, да, там есть собачка, нет, не кусается — и прочее и прочее…
Поездка в экипаже вызвала у малышки такое ликование, что часть ее радости, несмотря ни на что, передалась сеньорам. Первое путешествие в своей жизни Фло восприняла как подарок судьбы и радовалась всему так непосредственно, что приятно было смотреть: она хохотала, хлопала в ладоши, хватала то Малвину, то Изауру за платье и требовала, чтобы они сейчас же посмотрели в окно экипажа — таким дивным показался ей мир лесов, пастбищ, дорог…
На волне этой первозданной радости Изаура и постаралась высказать затаенное, к чему не знала, как и приступиться…
— Малвина, ты сразу повезешь Фло на свою фазенду?
— Даже не знаю…
— Я думаю, — оживилась Изаура, — сначала лучше съездить, все подготовить там, а затем уже забрать Фло.
— Пожалуй, да, — согласилась Малвина. А Изаура между тем продолжала с еле заметным напряжением в голосе:
— Да и я, видимо, поеду с тобой в Рио. Доктор Мурильо настаивает на консультации столичных врачей. Его так напугал мой приступ удушья.
— Нас всех напугал, так что доктор совершенно прав: надо показаться специалистам. — Малвина улыбнулась и добавила: — А ты представляешь, как я буду довольна, имея тебя в роли компаньонки!
И тут Изаура решилась и пошла на крайнюю бестактность. Она понимала, что нельзя самой напрашиваться в гости, она осознавала, в каком щепетильном положении оказывается, но та, дальняя, загадочная, фазенда манила ее более любого Эдемского сада — более всего на свете, поэтому Изаура, чуть дыша, все-таки сказала:
— … И мы могли бы вместе подготовить все к приезду Фло.
— Конечно, — согласилась Малвина — через силу? слишком поспешно? Или это лишь показалось мнительной Изауре?
Как бы то ни было, долгожданная поездка на загадочную, желанную для Изауры фазенду была решена.
С этого дня душа Изауры превратилась в птицу, которая летела туда, в неведомую даль, где поселилась надежда…
Ведь старая Гарпия не видела кладбища. Старая Гарпия видела: дом, сад.
Часть III
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
18
…Неужели любящая душа не отыщет следов?
Если только он остался в живых, она найдет его. Пусть облик Тобиаса изменился, Изаура узнает его по глазам, по голосу, по тем мельчайшим черточкам, что не стираются в памяти любящей женщины… Если он спрячется от нее, сердце подскажет Изауре, где искать…
Когда на проселочной дороге, обрамленной буйной зеленью, Малвина сказала:
“Уже недалеко, версты две”, сердце Изауры стало огромным и начало биться так учащенно, что даже причиняло ей боль.
Тобиас, любимый!.. Я до сих пор верю, что ты жив. Тобиас, ты не мог умереть. И я еду к тебе. Через годы, через утраты, через горькое счастье — еду к тебе.
Тобиас, я верю, что ты жив и что до встречи нашей остались считанные минуты!
На удивление тихая фазенда предстала перед Изаурой. Уютная, удобная, но словно безжизненная. И сразу в душу закрались сомнения: сколько нафантазировала себе, и вот — тихий дом, тихий сад, словно говорящие: мы перед тобой как на ладони, нам нечего скрывать. Неужели пробудившаяся в Изауре надежда — лишь последняя горькая иллюзия, с которой придется расстаться здесь, в райском уголке?
Тихо, спокойно. Слуги скользят незаметно. Малвина заранее предупредила гостью, что отец сейчас в Рио, что после того, как Изаура примет ванну, обедать они будут вдвоем. К обеду заказали спаржу, телятину, из вин — шамбертэн, на десерт — бланманже.
Взяв чудесную бодрящую ванну, наполненную тропическими ароматами, Изаура надела свежее легкое батистовое платье, заново убрала волосы и вышла к столу раньше хозяйки. Ожидая Малвину, рассеянно пролистывала модный парижский журнал, слегка усмехаясь слишком вычурным туалетам, как вдруг…
…Как вдруг…
раздались шаги…
О-о! Это не были мягкие легкие шаги ожидаемой Малвины — нет! О Боже!..
Изаура никогда не слышала этих шагов — но почему же так затрепетало ее сердце?
Шаги сопровождались каким-то пристукиванием…
Чуть не вскрикнув в голос, Изаура начала молиться, но не успела произнести и трех слов кряду, как…
на пороге столовой…
появился… Тобиас!
Прежний Тобиас — любимый, желанный!..
Лишь смоляные раньше волосы густо затканы серебром… И в правой руке — трость, на которую опирается — прихрамывает…
Казалось, само дыхание покинуло Изауру. Она вся превратилась в зрение. Изаура забыла, что стоит яркий день. У нее было такое впечатление, будто солнце засветило среди ночи — вошел Тобиас!..
Из небытия, из пожара, из горя, из мечты Тобиас вошел в столовую. Родной, прежний… Постаревший? Но ведь любимый!.. Изауре бы сразу кинуться ему на шею — и тогда, возможно… Но оковы прошедших лет задержали ее, заставили помедлить… и это промедление решило многое.
— Здравствуй, Изаура, — тихо сказал Тобиас.
— Слава Господу, вы живы, — выдохнула она. От чрезмерного волнения, от сухости его тона обратилась на “вы” — и он сразу подхватил это “вы”.
— Из письма Малвины я знаю, что ваше здоровье пошатнулось, — прошептал Тобиас, присаживаясь напротив Изауры.
— Ах, оставьте — пустое, — ласково отмахнулась она, как вдруг страшная догадка пронзила все ее существо. Догадка была столь нестерпимой, но возможной, что Изаура, отбросив приличия, хрипло спросила: — Малвина стала… вашей женой?
— Это невозможно, — искренне и твердо сказал Тобиас, и чувствовалось, что в словах его нет ни грана лжи. От сердца у Изауры отлегло. Ей стало вольно, даже весело. Но слишком рано она почувствовала облегчение — уже следующая фраза Тобиаса вернула ее в реальность.
— А вы, как я знаю, счастливы с сеньором Алваро.
Такой простой, такой жизненный риторический вопрос застал ее врасплох. Синие глаза Изауры стали огромными, искристыми. Она онемела.
— Я рад за вас, что все устроилось наилучшим образом. Наконец-таки многострадальная фазенда узнала счастье…
И это говорил ее Тобиас!.. Изаура не знала, что делать, куда девать себя. Видимо, посочувствовав ее неловкости, Тобиас позвал Малвину, которая явилась очень быстро, очевидно, переживая за них и ожидая зова. Войдя, Малвина быстрым взглядом окинула Изауру и Тобиаса. Произведя осмотр, Малвина решила, что прошлое сейчас, здесь, слава богу, ничего не разрушило. Конечно, встреча двух бывших возлюбленных волнительна — еще бы! Но Изаура счастлива с Алваро, а Тобиас, как он и утверждал, на самом деле теперь хочет от жизни лишь одного — покоя. Облегченно вздохнув, Малвина сказала:
— Тобиас не захотел прятаться, решил раскрыть свою тайну, я же сомневалась, но теперь вижу, что он был прав. — Она говорила о чем-то, слова и фразы ускользали от Изауры. Она молила бога о том, чтобы не упасть в обморок. И все-таки уловила смысл последнего, сказанного Малвиной: —… Те романсы, что ты разучила, Изаура, и что имели такой успех, сочинил сеньор Тобиас: и музыку, и стихи.
“Так вот почему так томилась моя душа, когда я их пела…” — поняла Изаура, испуганно взглянув на Тобиаса. На мгновение ей показалось, что его темные глаза выразили муку, но нет — только показалось, ведь он спокойно сказал:
— Прошу вас чувствовать себя здесь как дома и гостить по возможности долее.
Ее Тобиас — спокойно! равнодушно! бестрепетно! — пригласил Изауру “гостить” у него на фазенде! Яркий день для Изауры накрыла черная ночь.
19
Как прошел обед — не помнила, молила об одном: лишь бы он скорее кончился — нет сил. Но мужество, выработанное Изаурой за годы страданий, помогло ей и на сей раз. Отобедав, достойно встала и проследовала в отведенную ей комнату “отдохнуть с дороги”. В комнате же, конечно, не усидела — раненой птицей вылетела в сад, чтобы там, среди деревьев, цветов растворить свою нестерпимую боль…
Бежала по саду, глотая слезы, спрашивая небеса: за что? За что выпало ей на долю столько страданий? Чем она прогневила Господа?.. Чутье обиженного страдающего человека привело ее в самый укромный уголок, где, среди дебрей, стояла небольшая, незаметная издали скамейка. Рухнув на нее, Изаура наконец дала волю слезам… Плакала и молилась. Молилась и плакала. И воздух, ветви, листья словно впитывали ее боль, облегчая ее душу. Среди рыданий Изауре вдруг померещились посторонние всхлипы и стоны. Пребывая в своем безбрежном горе, она поначалу не обратила на них внимания, считая их как будто своими…
Но, немного придя в себя, начала явно различать чужие сдавленные стоны… Затихла… Прислушалась…
Да, нет сомнения: недалеко от нее кто-то приглушенно стонал… Изаура встала со скамеечки, сделала несколько осторожных шагов по направлению странных звуков и раздвинула руками пышные ветви. В этом прогале предстала перед ней нежданная картина…
На небольшой поляне, укрытой со всех сторон зарослями, ничком на земле лежал Тобиас, безраздельно предавшийся какому-то своему горю: он стонал, бил кулаком по земле — весь его вид, его поза, жесты выражали столь глубокое страдание, что Изаура, не помня себя, бросилась к нему, опустилась рядом на колени и начала гладить его забытые ею, самые любимые волосы, темные, с сильной проседью. Почувствовав на себе нежную руку, Тобиас вздрогнул и некоторое время оставался недвижен — а Изаура все ласкала его, как обиженного ребенка, уже зная женским чутьем: еще немного — и пелена холода, отчужденности спадет. На самом деле терпение Изауры преодолело его мужские капризы, и Тобиас откликнулся на ласку как-то сразу, вдруг, и бурно: покрыл поцелуями ее руки, ее платье, лицо, волосы…
… Они забыли себя. Посторонний мир сгинул. Остался лишь их мир, мир двоих…
Их нетерпеливым ласкам мешали одежды, и любящие не помнили, как сбросили их. Руки Тобиаса, его желанные руки, скользили по телу Изауры — и тело ее будто наливалось каким-то сладостным соком. В эти мгновения Изаура чувствовала, что все в ней: пряди волос, атласная кожа, отяжелевшие груди; ставшие удивительно легкими, крылатыми руки — все в ней создано для того, чтобы вот так, бесконечно, ласкать любимого…
Через несколько мгновений дымку чарующей нежности сменил огонь. Сад будто объяло тем давним пламенем, из которого нет выхода…
Въяве подтвердилась когда-то слышанная Изаурой легенда, что в древности влюбленные были единым существом, а затем распались на две половинки, которые с тех пор страдают друг без друга и ищут самое себя, единое, по всему белому свету.
Бред? Наваждение? Но Изаура и Тобиас действительно превратились в единое существо — воедино слились их губы, их тела, сплелись руки. Изаура приняла в себя его страдания, его любовь — и для обоих наконец наступило облегчение…
Когда наваждение прошло, Изауру пронзила острая мысль: грех! Но ведь сама судьба, с присущим ей коварством, все запутала настолько, что толкнула давних влюбленных в этот сладостный сон наяву — оправдывалась в душе Изаура, а разум твердил: грех, грех…
Лежа на траве рядом с Тобиасом, даже не глядя ему в глаза, Изаура поняла, что и он чувствует то же самое… Сожалеет?
— Этого не было, — как отсек, сказал Тобиас минут десять спустя, когда они уже сидели на той заветной, отысканной Изаурой скамейке. Нет, Тобиас не отрекся от нее, он лишь хотел облегчить Изауре, любимой, желанной, но потерянной, вхождение в реальную жизнь, где есть Алваро, с кем она повенчана небесами. — Не мучай себя, Изаура, этого не было.
Этого не было?! — Тяжкий вздох вырвался из груди Изауры. Казалось, она была готова согласиться с такой трактовкой, ничего не нарушающей ни в чьей жизни, но вдруг — неожиданно! — прежняя Изаура, Изаура, которая сумела из рабства пробиться к свободе, сильная, вольная Изаура восстала в ней и твердо сказала:
— Это было. С этим жить.
На что Тобиас с суровым хладнокровием возразил:
— Ты отдана другому небесами.
— Я не знала, что ты жив. Сердце верило, но все вокруг твердило: он мертв. А ты не объявился.
Услышав горький укор, Тобиас не сдержался, вспылил:
— Я был болен! Два месяца в беспамятстве. А потом более года не мог ходить.
— Прости, — выронила Изаура с щемящей нежностью.
А Тобиас, уже раскаявшись в своей жалобе, в своей бестактности, мягко попросил:
— Ты меня прости… Но поверь: я не хотел лишних страданий для тебя. Когда сюда прибыл Андре, не скрою, я подкупил его. Мало того, я убедил даже его — а ты знаешь, Изаура, он не очень-то силен в логике, — убедил в том, что я должен по-прежнему для всех оставаться мертвым, и Андре поверил мне и — удивительное дело! — болтливый, он, оказывается, ни разу не проговорился!
— И как я не догадалась допросить его с большим пристрастием! — пожалела Изаура.
— А что бы это изменило? — довольно жестко спросил Тобиас.
— Как — что?! Я бы знала, что ты, ты — жив!
— Ну вот ты узнала — и что? — в его тоне прозвучал чуть ли не сарказм — это и обидело, и даже разозлило Изауру — неожиданный для нее самой ураган гнева поднялся в ней, и в этом урагане Изаура воскликнула страстно, горестно:
— И как ты можешь говорить так?! За что ты казнишь меня, Тобиас?
— Я?! Казню?! — взъярился и он в ответ.
— Да! Казнишь! За что?! Ведь я не предавала тебя! Если бы ты знал, сколько бессонных ночей я провела! Сколько рыданий слышали стены моей комнаты! А ты, ты — ты даже не послал нарочного с известием, когда пришел в себя!
— Я тебе уже объяснял! — закричал Тобиас.
— Нет, невозможно объяснить твое молчание! Да! Ты не мог ходить! Но ты уже мог тогда подать весточку о себе! — обличала Изаура, обижая Тобиаса и тем самым провоцируя его гнев.
— Весточку! — глаза Тобиаса налились кровью. — В то время как оттуда, от вас, пришли вести, что ты счастлива! Что скоро свадьба!
Двое любящих друг друга людей, не зная, как совладать с тяжелейшей жизненной ситуацией, как разрубить гордиев узел страстей, противоречий, ошибок, — забыв обо всем на свете, обвиняли друг друга, не отдавая себе отчета в том, что основа этого скандала — прежнее чувство — любовь… Любовь, не угасшая с годами, любовь, не растоптанная ни унижениями, ни кознями злого рока…
Не представляя себе трагических последствий, ни о чем не думая, находясь во власти слепого обличения, они выкрикивали в лицо друг другу жестокие слова, о которых пожалели уже спустя несколько минут…
— Видимо, тебе было легче растоптать самую память! Тебе, Тобиас, было легче забыть обо мне, чем ворошить все!
— Я не хотел стать препятствием на пути к твоему счастью! А теперь ты за это упрекаешь меня, Изаура! Одумайся!
— Нет, это ты одумайся, Тобиас! Как ты мог взять на свою душу такой грех! Скрыть от меня, что ты — жив! Как ты мог?!
— Мог! У меня хватило мужества!
— Это ты называешь мужеством, Тобиас? Да это — трусость!
— Как ты, ты, Изаура, можешь оскорблять меня?!
— Это трусость! Это низкая трусость! — с жестоким упорством твердила она — волосы ее разметались, лицо горело — Изаура стала красива несвойственной для нее, какой-то жестокой, безумной красотой: глаза пылали темным огнем, словно испепеляя все вокруг. В ответ на обвинение в трусости, унижающее его мужское достоинство, Тобиас, задохнувшись, выпалил:
— А ты — ведьма!
Ужаленная словами любимого, Изаура в забытьи прокричала:
— Если я ведьма, то ты — раб! Не я рабыня, нет! Я изгнала из себя рабыню еще тогда, когда все меня считали таковой! Все думали, что я рабыня, а я была уже свободна внутренне! А ты — вот такой: скованный, трусливый, затаившийся в глуши, ты — раб! Презренный раб!
Мертвенная бледность покрыла лицо Тобиаса, и Изаура вдруг сообразила, что нанесла любимому смертельное оскорбление, которое ничем не загладить — ничем… Побелевшие от страха содеянного глаза Изауры остановились. Она потерянно закрыла рот рукой, а Тобиас, медленно повернувшись, пошел прочь…
Пошел прочь…
И, как видела Изаура по его походке, навсегда…
Теперь уже безвозвратно!.. Что она натворила!..
Ее Тобиас, полчаса назад обретенный ею, уходил от нее навсегда!.. А если так — значит, жизнь ее кончена.
Сквозь кусты, сквозь ветви, не разбирая дороги — теперь уже все равно! — бежала Изаура. Бежала туда, откуда почувствовала свежее дуновение. Там река. Там вода. Там избавление. Избавление от всех мук сразу.
Задыхаясь рыданиями, захлебываясь слезами, Изаура выбежала на берег.
Вот она — спасительная вода…
Через несколько минут по ровной глади реки поплыл какой-то предмет, похожий на… соломенный детский кораблик?.. Нет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что предмет этот — легкая женская шляпа из золотистой соломки.
… Золотистым облачком тихо плыла она по водной глади, и нежная гроздь сиреневых цветов погружалась в воду, и капли дрожали на лепестках, будто чьи-то невыплаканные слезы…
Уже через десять минут, опомнившись, Тобиас носился по саду, продираясь сквозь заросли, ломая на ходу ветви, исходя безнадежным зовом:
— Изаура!.. Изаура моя…
Ничто не откликалось ему. И сердце Тобиаса сжалось в гибельном предчувствии…
20
Трагическую весть Малвина и Тобиас привезли на старую многострадальную фазенду, так и не успевшую насладиться кратковременным своим иллюзорным счастьем…
Алваро, услышав, окаменел. Завыла, заголосила по своей любимице Жануария. Заплакал Андре. Но более всего и родственников, и слуг потрясла реакция Мигела. Всегда уравновешенный, спокойный, Мигел страшно, по-звериному, закричал и рухнул на пол, впервые в жизни потеряв сознание.
…А придя в себя, как безумный, шептал не переставая:
— Жизнь кончена… Жизнь кончена…
Горечь траура, конечно же, перекрыла радость узнавания того, что Тобиас остался жив. Более того, искренно говоря, в сознании жителей фазенды его воскрешение прочно соединилось с трагедией утраты всеобщей любимицы… Оставалась еще слабая надежда, пока не было выловлено из реки тело. Но потом, недели две спустя, пришла весть — которую пришлось скрыть от подавленного Мигела, — что верстах в семи ниже по течению выловлен труп молодой женщины, но он настолько обезображен от долгого пребывания в воде, что родственникам не стоит подвергать себя пытке видеть — все равно опознать его невозможно.
Траур спустился на фазенду черной ночью. Для ее жителей перестало всходить по утрам солнце. Потускнела, запылилась листва в окрестностях. Тому было и реальное объяснение, стояла иссушающая жара. Все будто вымерло — и будто призывало к смерти…
Заметив, что домашние тайно, но упорно следят за ним, Мигел — для претворения в жизнь своего замысла — повел себя с несвойственной для него хитростью: вроде бы внешне приободрился, а в разговорах хитро подпускал фразы о том, что жить надо, несмотря ни на что. На самом деле после трагической вести отец принял бесповоротное решение последовать за дочерью: ничто больше не удерживало его на земле.
Но исполнение его замысла требовало усилий — пусть небольших, и времени. Наконец Мигел достал старый браунинг и наконец-таки для постаревшего, измученного жизнью Мигела, потерявшего вкус к радости, к еде, к винам, к дружбе, для разочарованного Мигела наступил — кто бы мог подумать! — желанный день… День, на который Мигел сам себе назначил казнь.
Чтобы не было осечки или другой какой закавыки с оружием, с утра Мигел уединился в саду, где даже под тенью дерева не было прохлады, и начал чистить и смазывать пистолет. Обращаться с оружием он умел в молодости, и теперь оказалось, что нужные навыки не утеряны. Надо сказать, что с самого рассвета в этот день Мигел был собранным и выглядел, как это ни покажется странным, бодро, ведь сегодня для него наступал конец всему.
Какое проклятье нависло над их родом, что вслед за дочерью он становился самоубийцей? Мигел старался не думать об этом. Он знал, что там, в горних высях, душам самоубийц приходится тяжко. Но и этого не страшился. Небеса не сжалились над ним в жизни, столько дразнили его! Так теперь старый Мигел, ставший от безнадежности бесстрашным, подразнит их! Вот так-то.
Упоенный возней с браунингом, Мигел слегка вздрогнул, когда его окликнули. Нет, он не боялся ничего, он страшился одного, что ему досадно помешают именно сегодня привести свой замысел в исполнение. Человек решительный, Мигел не терпел проволочек. Но опасение было напрасно. Со стороны цветника его звал Белшиор, всего лишь безобидный Белшиор.
Быстро спрятав оружие, Мигел откликнулся. Отец благодарно помнил, как добродушный садовник составлял для его дочери, самой прекрасной в мире, благоуханные букеты цветов — и названий-то всех не упомнишь — а хороши, как его Изаура…
Сняв шляпу, Белшиор поприветствовал управляющего, и Мигел дружески похлопал его по уродливым плечам.
— Все колдуешь над своими цветами?
— С вашего позволения, сеньор Мигел, я только забочусь о них, а колдует, как вы помните, моя матушка, старая Гарпия. Кстати, от нее у меня к вам поручение.
— Ко мне?! Поручение? От старой Гарпии? — удивился Мигел.
Между тем Белшиор продолжал:
— Она просила вас навестить старую в ее пещере.
— Ну-у, слу-ушай, — с досадой протянул Мигел, — как-нибудь в следующий раз, а про себя усмехнулся: “На том свете?” — и продолжал: — Поверь, Белшиор, дружок, мне сейчас не до визитов.
В этот миг их ушей достиг славный голосок маленькой Фло, которую няня вывела в цветник и, видимо, уже раскаивалась в содеянном, потому что диалог малышки и старухи звучал бурливо, они явно были недовольны друг другом.
— Я солву лозу? Вон ту, кла-а-асенькую!
— Не трожь!
— Дай! Дай! Пусти!
— Не трожь! Дядя Белшиор не велел!
— Мне — велел. Велел дядя Белшиол!
На минуту и скорбного Мигела, и усталого Белшиора развлек спор старого да малого.
Однако Белшиор, не теряя нити разговора, терпеливо продолжил:
— Поверьте, сеньор Мигел, этот визит нужен, так как — это, правда, мои странные догадки — речь пойдет о девочке…
— У Фло приемная мать — Малвина, и вообще на фазенде есть кому позаботиться о ней.
— Вы меня не поняли, — Белшиор помедлил. — Я, право, не знаю, как сказать. Видит бог, Гарпия ни во что не посвящала меня. Но я, простите, сеньор, своей шкурой чую, что речь пойдет о ней… Об Изауре…
Последние слова Белшиора обладали магической силой. Они подхватили Мигела, который рванулся к садовнику, начал трясти его за грудки, выкрикивая:
— Так что же ты тянул? Пошли! Где она? Где Гарпия?
— Да у себя в пещере, — стараясь вывернуться, бормотал Белшиор, уже ругая себя за высказанные вслух догадки.
А вдруг Гарпия звала Мигела вовсе не из-за Изауры, а по какой-то другой причине?.. О, лучше не думать об этом, ведь тогда Мигел прикончит его тем самым браунингом, который подсмотрел у него старый Белшиор, подкравшись.
Как пить дать — прикончит.
21
Мигела вовсе не смутили все причиндалы бесовщины в пещере колдуньи, отец полетел бы и на ведьмин шабаш, посули ему сказать самую малость о его дочери…
— Ты звала меня, Гарпия? — спросил и застыл на пороге, будто ожидая: жизнь? или смерть?
— Звала, — отрезала Гарпия. Не испытывая более терпения страдальца, откуда-то из-под овечьей шкуры извлекла конверт и протянула его гостю:
— На! Держи! Верные люди передали!
Завороженно глядя на письмо, Мигел протянул к нему дрожащие руки: кто прислал? откуда? что еще хотят сказать страдающему отцу? Безумная надежда пробудилась в душе Мигела. “Нет! Нет! Чудес не бывает!” — твердил ему разум, пока дрожащие руки вскрывали конверт, а сердце пело: а вдруг — жива?!
Ведь могло же случиться, что…
Боже! Всю жизнь буду отдавать все на церковь если…
Господи! Зарок даю: если ты был так милостив, что…
После первого же слова Мигел издал ликующий вопль, который ударился в своды пещеры и зазвучал победным раскатистым гимном — это случилось после первого же слова, и слово это было: отец… “Отец!” — читал Мигел и смаковал, будто пил волшебное зелье. “Отец!” — любовался — не мог налюбоваться Мигел, и слезы текли по его обожженным суровым щекам. Письмо это было лучшей вестью его жизни.
“Отец! — писала Изаура. — Я осталась жива. Камень уже потянул меня ко дну, и я готова была расстаться с жизнью, как вдруг воспоминание о тебе удержало меня, вернуло силы, заставило сорвать груз с шеи. Прости, что я не могла сообщить тебе эту весть быстрее и заставила тебя, родной, страдать. Все потому, что я оказалась в странной, уродливой жизненной ситуации, из которой два выхода: или умереть, или бежать. Сначала я остановилась на первом варианте, без раздумий: умереть. Но, слава Господу, он вовремя напомнил мне о моем дочернем долге, и я выбрала второй вариант — бежать.
Отец, я жива. Но отныне это моя тайна — священная тайна, предупреждаю тебя. Я доверяю ее лишь тебе. Окажись достоин моего доверия. Поведи себя так, чтобы никто на фазенде не догадался о моем счастливом избавлении. Отец, я должна навсегда остаться мертвой и для Тобиаса, и для несчастного Алваро. Бог простит меня. Иначе я не смогу жить.
Если ты согласен бежать со мной, то…” — Далее Изаура — его Изаура! О счастье жизни! — излагала свой план побега, умный, продуманный, в котором уже содержалась подсказка, как реагировать на письмо тугодуму-Мигелу.
Взяв себя в руки, Мигел постарался стереть ликование со своего лица и довольным тоном сказал:
— Бог не оставил меня. В Америке отыскался мой кузен. Мы так любили друг друга в детстве! Услышав о моем несчастье, он зовет меня к себе. Ему тоже нужна помощь, и я, несомненно, поеду. Решено.
Оставшись наедине с Белшиором, Гарпия подозрительно сказала:
— Что-то уж больно радостно завопил он — никогда такого не слышала… Неужто уж так любит кузена?
И тогда Белшиор разъяснил ей ситуацию:
— Завопил, потому что остался в живых!
— А кто это на него покушался?
— Сам на себя! Хотел застрелиться! Я сегодня застал его, когда он чистил пистолет. Жить было незачем, и вдруг — зовут! ждут! В живых остался — вот и завопил…
— Застрелиться хотел? — с состраданием спросила Гарпия. — Ну ладно, оно и славно: пусть поживет, время все раны залечит…
— Кстати, а кто передал письмо? — поинтересовался Белшиор.
— Знахарь один из соседней деревни, а ему — другой. По цепочке шла добрая весточка. И видишь, сгодилась — жизнь человеку спасла.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Быстро собравшись, Мигел отбыл в Америку.
Вскоре и Тобиас отправился в путешествие: слишком о многом напоминала ему старая фазенда…
Сердобольная Малвина не смогла бросить оставленного всеми Алваро и решила не увозить Фло к себе, а выписала сюда своего старенького отца.
Иногда, гуляя по саду, ласково глядя на чудесного бесенка — милую Фло, — Малвина смахивала слезу, вспоминая Изауру… Иногда, просыпаясь на рассвете, она вспоминала бурный жизненный узел, связавший воедино ее самое, бедного Леонсио, несчастную Изауру и многих других…
А потом спрашивала рассвет:
где-то теперь славный Мигел?..
и где — Тобиас?
Несчастье разметало их всех по свету…
Удастся ли свидеться с ними, милыми?..
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.