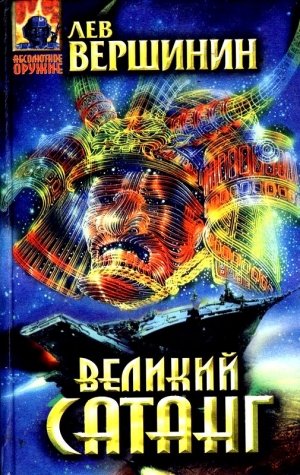
НЕСКОЛЬКО ОТРЫВКОВ ИЗ «ОБЩИХ РАССУЖДЕНИЙ»
(Вместо пролога)
Ну-с, помолясь, начнем… Как известно, никто не хотел умирать. И не хочет.
Мысль до омерзения банальна, как, впрочем, банален и тот грустный факт, что рано или поздно никто с нежеланием человеческим считаться не станет. В конце концов умирают все. Умирают пахари и знахари, президенты и резиденты, рокеры и брокеры, бюро — и демократы.
Не скажу ничего нового, сообщив, что подчас умирают даже те, кого при жизни официально признали бессмертными…
Кстати, о бессмертных.
Вряд ли кто-нибудь помнит точно, сколько вообще было римских пап. Однако не секрет, что к концу двадцать второго столетия по Рождеству Христову таковых с именем Бенедикт насчитывалось ровнехонько двадцать семь.
В тихой тенистой Аллее Скорбящих на задворках земного Ватикана каждый желающий может за скромную плату вволю полицезреть строгую надгробную плиту черного базальта, информирующую о скоропостижной кончине Его Святейшества Бенедикта XXVII в завидном возрасте восьмидесяти девяти лет.
Но сие — неправда.
Не спеши надрывать душу свою скорбью, любезный мой читатель! Папа Бенедикт XXVII все еще жив и шлет тебе свой пастырский привет…
Да-да, я живу; более того, никогда еще не чувствовал я себя так свежо и бодро, хотя мой врач, магистр Джамбатиста ди Монтекассино — этакий чудак! — с упорством ишака продолжает пичкать меня транквилизаторами.
Ох уж эта мне медицина!
Хотел бы я видеть лицо достопочтенного магистра психиатрии и доктора экзотической гомеопатии, узнай он, что его драгоценные пилюли из кожуры неведомого мне плода ла я аккуратнейше выплевываю в унитаз…
Нет-нет, что вы, я вполне доверяю своему медику. Но в моем возрасте, знаете ли, не стоит оригинальничать…
В общем и целом мне здесь хорошо.
За мной сохранена чудесная библиотека, выделен беленький игривый пони, мне оставили мою замечательную капеллу и более чем солидную коллекцию марок. Все это скрашивает мое, скажу откровенно, не вполне добровольное уединение; да к тому же и планетка Церкви единой, Авиньон VII, весьма мила. Флора, фауна, рассветы-закаты, климат и прочее… жить, в сущности, можно, хотя и довольно скучно.
В старости время тянется долго, особенно по ночам.
А ночи здесь длинные…
Вот поэтому-то, когда Его Святейшество мой блаженнейший преемник Иоанн Павел IV — да будет земля этой сволочи пухом! — упрятал меня сюда, сообщив на весь мир о безвременной кончине, а в кулуарах обозвав шизофреником, я наконец-то начал обстоятельно размышлять, есть ли Бог…
И знаете что? Похоже, что все-таки — да!
Можно долго спорить о том, прав или не прав был Второй Лхасско-Тегеранский (Объединительный) Вселенский собор, но как бы там ни было, а я целых восемнадцать лет был и папой римским, и всеми пятью патриархами, и обоими католикосами, и далай-ламой, и халифом правоверных, а некоторые именовали меня даже Великим Мгангой.
Господу это, видимо, нравилось, ну и я был не против.
Короче говоря, все были довольны, пока в моем кабинете не появились совершенно пустяковые сувениры.
Ничего особенного! Всего лишь десяток стереокарточек: Моисей с Фатьмой Мухаммедовной на пляже в Варне, сам Мухаммед на фоне Каабы, Исус Осипыч в момент освобождения из-под стражи в зале суда, старый добрый Гаутама и какой-то аятолла Хомейни. Правда, последнее стерео — без дарственной надписи.
Мог ли я помыслить, что такой коллекцией нельзя даже и похвалиться перед коллегами?! В конце концов, я вполне взрослый и волен выбирать себе друзей, не так ли?
А мой конклав — или, если угодно, кагал — прицепился к этому, как репей к заду. Бред! Архибред!!! Скажу грубее: шизофрения!
Но я, кажется, заболтался…
Уют и одиночество, да еще теплый дождь за окошком навевают подчас весьма интересные мысли. А программы новостей стимулируют процесс раздумий. Умному человеку, находящемуся на заслуженном отдыхе, всегда интересно смотреть со стороны, как двое мускулистых верзил рвут на себе рубахи, стращая друг дружку, но так и не решаясь ударить первым. А уж если в роли забияк оказываются сверхдержавы, наблюдение, право, приобретает особый шарм. Догонялки, попытки обгона, прятки… как дети, скажу я. Но наступает момент, когда детишки теряют чувство меры.
Мой добрый приятель Соломончик, да, тот самый, сказал мне однажды по этому поводу: «Не волнуйся, Бенечка, все проходит, и это пройдет, и возвратится ветер на круги своя», и в его идее был свой резон, но этому умнику было легко рассуждать, три тысячи лет лежа в уютной могилке. А я старый, но живой человек и поэтому хочу жить дальше — привык, знаете ли, — и я прекрасно помню время, когда буквально каждый день вполне мог оказаться последним для всех сразу и для меня в том числе. Я окончательно понял это, отслужив торжественный молебен перед началом учений «Армагеддон XXII» и пронаблюдав за тем, что последовало, в частности, за «паранормальным» оружием во всей его красе.
Магистр ди Монтекассино утверждает, кстати, что именно тогда я и свихнулся. Чушь собачья! Подумаешь, распылили планетную систему. Все равно она, кажется, была необитаемой. Но мне, да и моим прихожанам, все это почему-то подействовало на нервы. Хотя там работала лишь слабенькая учебная установка.
Но… люди, в конце концов, всего лишь люди.
Так уж создан человек, что даже на краю пропасти он снимает недорогую квартирку, обставляет ее по разумению своему, плодится, размножается и в меру сил процветает, стараясь, правда, не выглядывать в окно. Тем паче, что в те давние дни как только Демократическая Конфедерация сообщала: «А у нас кое-что есть!» — в Едином Союзе тотчас радостно откликались: «А у нас тоже, но гораздо лучше!» И поэтому вполне возможно, что появление сатангов было последним шансом на спокойную жизнь для рассеянных по Галактике землян.
Как, вы не знаете, кто такие сатанги?!
Ну, в общем, понятно; откуда вам знать…
О них вообще мало кому известно, не говоря уж о подробностях, и если я информирован достаточно полно, так это вовсе не потому, что здесь, на Авиньоне, у меня неплохая библиотека и обширная подписка. Отнюдь! А потому что я пытлив и дотошен.
Это были чертовски (прости, Господи!) интересные создания. Появились они невесть откуда лет сорок назад, ну, может быть, чуточку больше. Выглядели всегда по-разному, но чаще всего смахивали на забавную помесь бесенка с ангелочком: при рожках, однако — с крылышками, об одном копытце, миниатюрные, шустрые да к тому же еще постоянно меняющие окрас с черного цвета на белый и обратно. Правительства узнали об их появлении сразу — и одновременно, населению же, разумеется, исключительно для вящего блага его, так и не собрались сообщить. Очень скоро выяснилось, что сатанги на широкой гласности и не настаивали; известно стало также, что они не едят, не пьют, не умирают и, кажется, даже не размножаются; злые языки шушукались, что иногда они делятся, как амебы.
Не знаю, не видел, но, во всяком случае, сатанга нельзя было убить, и больше того — ни один из них не возникал там, где намечался хоть какой-нибудь катаклизм.
И стоит ли говорить, любезный читатель, что не кто иной, как я, грешный аз, придумал этот самый термин — «сатанг»…
Лет с пятнадцать тому, уже здесь, на Авиньоне, листая какой-то малоизвестный спецжурнальчик, я наткнулся на небезынтересную статью. Автор утверждал: сатанги пришли в наш мир, дабы спасти зашедшую в тупик цивилизацию от неминуемого разбивания головы о стенку. Неглупо. Впрочем, ссылался сей умник на источники анонимные, а значит — правительственные, ну а правительственная информация в смысле достоверности сами знаете… к тому же и журнальчик был хоть и провинциальный, а все же узковедомственный.
И все-таки в рассуждениях виделся резон.
Я отложил журнал и припомнил: некогда, до отставки, мне довелось принимать делегацию сатангов, совершавших турне по городам-музеям Земли. В приватной беседе тварюшки не стали скрывать, что их весьма и весьма шокируют изображения им подобных на картинах — с луками и стрелами в пухлых ручонках.
В тот миг моих гостей, пожалуй, можно было назвать рассерженными, если бы было с чем сравнивать, но сравнивать, увы, было не с чем, поскольку никто и никогда не видел рассерженного сатанга.
Вообще эти созданьица отличались абсолютной беспристрастностью и удивительной неприязнью ко всему смертоносному, особенно к оружию. Причем неприязнь эта была лишь частицей общей их неприязни ко всякого рода конфликтам.
Выпив рюмку «Камю», я позволил себе игриво спросить:
— А есть ли смысл в вашем бытии?
— О да! — мелодично откликнулись они.
— А предназначение? — не унимался я.
— Да! — повторили они хором. — Это Великое Равновесие, и бесконфликтность — источник его.
— Но кем же дана вам столь благая цель? — спросил я уже вполне серьезно, тайно надеясь, что они помянут одно из имен Господних.
Увы!
— Великий Сатанг, если угодно, — последовал ответ. — И мы — лишь дробные его частицы…
— Вы можете все?
— Нет, мы можем больше.
… Воистину так. Ничего не могу сказать о Верховном, поелику оный себя не проявлял никак, но рядовые сатанги были силой могучей и единственно абсолютно беспристрастной…
А силой ли? Да, конечно. Именно потому, что никогда ни на кого не давили, никому ничего не навязывали; они всего лишь советовали. Но в том-то и дело, что не следовать их советам было бы попросту глупо, ведь тварюшки никогда не ошибались и никому не отдавали предпочтения и, что особо важно, тонко ощущали границы допустимого и приемлемого…
И вот когда роль сатангов была молчаливо признана всеми заинтересованными сторонами, тогда-то ими и была предложена сверхдержавам идея пресловутой «квоты вмешательства». Принцип незатейлив и прост, как символ веры: при основном запрете на глобальные военные действия (первый шаг к бесконфликтности) и, разумеется, роспуске профессиональных армий разрешалось в экстренных ситуациях поставлять спецтехнику и инструкторов в случае конфликтов на планетах третьего мира (до осознания отказа от конфликтов не доросших).
Естественно, все — только по просьбе тамошних властей и во имя самых высоких идеалов. Квота же — о ней знали, бесспорно, далеко не все — призвана регламентировать сроки и масштабы поставок на основе строгого паритета.
Короче говоря, все поровну, и никто не в обиде…
Идея была так хороша, что многие второстепенные ведомства горько восплакали о невозможности обзавестись своим собственным сатангом.
И кошмар сгинул. Ну, не то чтобы так уж совсем, но как-то потускнел; стало возможным присесть наконец и неспешно поразмыслить о многих делах, ранее успешно подзабытых в суматохе накопления «паранормальных» боеголовок.
А в первую очередь: чем же заняться теперь?
Ведь для чего-то же человечество существует, не так ли?
И ежели не для вырывания глоток, то для чего же?..
Ответов была тьма: от мечты о выходе за пределы Галактики до вновь ставших актуальными заявлений о принципиальной возможности путешествий во времени. Но кто же сумеет совершить нечто подобное? Кто сделает сказку былью?
От этого могло зависеть очень многое, и не надо думать, что только в смысле престижа…
Основная проблема заключалась в энергии. Старые источники не годились, новых не было. И все мечтания оставались всего лишь теорией, пока дело обстояло именно так.
Поразмыслив, специалисты (разумеется, с подачи сатангов-консультантов) рекомендовали обратить внимание на некий малоизвестный ранее минерал — боэций. Соединение крайне редкое, в лабораторных условиях несинтезируемое и обнаруженное на тот момент лишь где-то на самой периферии обитаемых миров если не ошибаюсь, на окраине Малого Магелланова Облака.
Рекомендации были рассмотрены…
ХРОНИКА ПЕРВАЯ. Священные бубенцы
ГЛАВА 1. ДАРХАЙ. Оранжевая линия
11-й день 7-го месяца 5-го года Свободы
Я еще раз спрашиваю тебя, скотина: можешь ли ты чем-то оправдать себя?
Ту Самай позволил себе повысить голос. Во имя слезы Хото-Арджанга, можно подумать, что все это нужнее всего ему! Вот уже почти полчаса он пытается дать этому человеку шанс на спасение, и что же в ответ?! Слезы и сопли и никакой конкретики…
Задержанный и впрямь вел себя крайне неразумно. В общем-то все было ясно без слов, допрос становился бессмысленной формальностью, и его лепет, жалобный плач пока еще (непонятно почему) не умершего животного сам по себе свидетельствовал о высоком гуманизме тех, от кого сейчас зависела его жалкая жизнь.
— Говори!
Нет, нарушитель не слышал. Он стоял на коленях, кривя в рыданиях морщинистое лицо, и в раскосых глазах его не было ничего осмысленного. Он не способен был уже бороться за жизнь. И все же он не заслуживал смерти. Пока.
— Привести в чувство! — приказал Ту Самай, глядя в пустоту.
Получив приказ, мальчики действовали четко. Нарушитель был вздернут на ноги, и крепенький паренек с засученными по локоть рукавами добела застиранной куртки коротко, без особенного размаха, нанес ему несколько умелых, не калечащих, но крайне болезненных ударов. Избиваемый икнул. И в ответ откликнулось натужным кашлем: кого-то в углу штабной хижины затошнило.
Ту Самай, не глядя, знал — кого.
— Брат наставник, — распорядился он, не поворачивая головы, — оставьте нас. Вам будет полезнее подышать воздухом — сегодня воздух удивительно свеж…
Подождал, пока хлопнет дверь, и тем же бесстрастным тоном продолжил допрос:
— Итак?
— Там у меня брат… и жена… — Вразумление, безусловно, пошло задержанному на пользу; он, правда, заикался и никак не мог унять дрожь, но голос теперь звучал более или менее по-человечески. — И дети… я десять лет не видел детей, доблестный командир…
— Дети? — Ту Самай пожал плечами. — Допустим. Однако откуда у честного человека дети на той стороне?.. Покажи ладони, скотина!
И спустя миг — с отвращением:
— Твоим мозолям не больше десяти лет. Похоже, раньше ты был дха? Или даже дхаи?
Глаза ничтожества панически забегали.
— Я искупил, доблестный, я все искупил! Пять лет нефритовых каменоломен, три года плантаций!.. Только год назад с меня сняли надзор, клянусь, только год назад!
Похоже, он почувствовал-таки, что пощада возможна, и сейчас, кое-как взяв себя в руки, боролся за жизнь до последнего, с бешеной решимостью загнанной в угол крысы…
Таким он больше нравился Ту Самаю.
— Год назад? И ты, не прошло и года, кинулся в бега?
— Но, доблестный! У меня же дети… — Нарушитель осекся, сообразив, что сболтнул ерунду. — И я ничего не пытался унести с собой!..
Вот это было правдой, и это было доводом. Кроме полупустой котомки с нехитрой снедью, при нарушителе не было обнаружено ровным счетом ничего.
— Верно, — благожелательно кивнул Ту Самай. — Поэтому ты пока что и не умер. Закон свободы суров, но справедлив, и в этом твое счастье. Что можешь сказать еще?
Ноги допрашиваемого подкосились; он пошатнулся, едва не упав на колени, но наткнулся взглядом на хмурого парня с засученными рукавами куртки — и сумел устоять. По левой штанине аккуратно заплатанных шаровар потекла, расплываясь в пахучее пятно, темная струйка…
— Ну же!
Молчание. Идиот трясся в ознобе, даже не думая вспомнить о милости Любимого и Родного и воззвать к имени его. И Ту Самай понял: не дождаться, а поняв, ощутил вдруг невыносимую, брезгливо-безжалостную скуку. С этим бессмысленным делом пора было кончать…
— Хорошо. Тогда скажу я. Ты пытался покинуть Свободный Дархай. Ты собирался уйти к его лютым врагам. И ушел бы, не прояви порубежники должного умения. Так?
Ответа он не ждал.
— Ты искупил примерным трудом свои прежние проступки, и Свободный Дархай простил тебя, позволив стать одним из честных братьев. А ты обманул высокое доверие. Так?
Ничего в ответ. И по-прежнему — ни слова о Любимом и Родном. Не может вспомнить. А возможно, попросту не желает? Что ж, тем проще…
— Ты шел с пустыми руками, это верно. Но там, на той стороне, ты стал бы плести грязные байки о каменоломнях, хулить Свободный Дархай. Ты сообщил бы, что на нашем участке границы стража не бдительна…
Он еще мгновение помолчал, подумал и приказал:
— Увести! Патронов не тратить.
Приговор прозвучал и, прозвучав, не подлежат отмене. Задержанный потерял свой шанс и лишь теперь понял это, но слишком поздно. Низкорослый, жалкий, в заляпанной липкой глиной куртке явно с чужого плеча, он взвизгнул и попытался сопротивляться. Цепляясь за спинки бамбуковых табуретов, он зависал на руках мальчишек, но те были достаточно хорошо подготовлены. Вопящего и плюющегося живого мертвеца рывком оторвали от земли, крепким тычком поддых заставили умолкнуть и выволокли прочь.
На миг воцарилась тишина. Затем — тоненький, истошный, протестующий визг. Глухой удар, мягкий, словно бы с сочным причмокиванием. Короткий хрип.
И — все.
Когда стемнеет, тело будет оттащено к нейтральной полосе и выброшено в пищу шакалам, головой на восток, куда так стремился уйти, да так и не ушел негодяй.
Ту Самай поморщился. Он привык к смерти, можно сказать, побратался с нею, смерть давно уже жила с ним рядом, хлебала из одного котелка, и бояться ее было бы глупо. Как, впрочем, и особо радоваться уходу в Темные Ущелья кого-то из живых, даже если ушедший недостоин был объедать оставшихся. В конце концов, человек рожден жить, так сказано Любимым и Родным… но, как бы там ни было, вовсе не исполнители справедливого приговора, а лишь сам наказанный, и никто, кроме него, виновен в том, что лежит сейчас на Лужайке Справедливости и не увидит больше рассвета.
Любимый и Родной, подтверждая и ободряя, глядел на Ту Самая со стены. Как всегда, тверды и спокойны были единственные в мире глаза, и так же тверд был ответный взгляд Ту Самая.
Он, кайченг Ту Самай, командир Восемьдесят Пятой Образцовой заставы, прожил уже без месяца полные двадцать лет: восемь — дома, беззаботным юнцом, и одиннадцать — в джунглях, мужчиной. Детство… оно почти забыто: помнятся разве что сухие руки деда, накладывающие стрелу без наконечника на тетиву первого, совсем еще игрушечного лука; помнится еще, совсем смутно, ласковый взгляд женщины (мать?!)… вот и все, что хранит память о тех невероятно давних днях.
Отец же никогда не приходит из тумана, даже во сне; там, в обрывках смутных грез детства, вообще мало мужчин, и все они седобровы и редкобороды, подобно деду. Старики не отвечали прямо на расспросы ребятни; они чинно посиживали у вечерних костерков, покуривали длинные пахучие трубки и рассказывали бесконечные сказки о славных воинах, о добрых воинах, ушедших по зову благородных ван-туанов, под стяги Огненного Принца, и о богатых дарах, что принесут они, вернувшись, заждавшимся семьям…
Сказки Ту Самай помнит хорошо.
И еще — пунцовыми пятнами в сером тумане памяти — горящие люди.
В сплетении злобных языков пламени полыхала деревня, оцепленная по периметру стреляющими на шорох патрулями. И был густой дым, цепко удерживающий рвущийся в спасительное ночное небо вой заживо сгоравшей в хлеву родни. И еще был он — первый в жизни наяву увиденный полосатый, — громадный, потный, с полуседыми усами. Он убил деда походя, даже не глядя, куда опускает тесак, а затем пнул Ту Самая, сбив с ног, и навис над ним, упавшим. И было это в последний вечер детства, в тот вечер, когда на деревню, пройдя перевал, вышла рота карателей.
Они потеряли в пути пятерых, эти безмолвные убийцы с широкими мягкими лицами жителей долины, они оставили троих своих в волчьих ямах, а еще двоих на хитро упрятанных в траве колышках, и поэтому они были злы, заранее решив не давать пощады никому.
И они не щадили.
Вот из этих часов кайченгу не забыть ни мгновения: он лежал ничком, уткнувшись головой в кадку с квашеными стеблями ла, лежал, и скулил, и звал отца, но отец все не шел и не шел, и дед тоже молча лежал рядом, разрубленный почти до пояса, а вокруг, за бамбуковыми стенами, визжали женщины, тонкими голосами зовя кого-то на помощь, и им, распластанным на траве, никто не спешил помочь. Но этому, усатому, нравилось, очевидно, другое, постыдное; он довольно фыркнул, уставившись на сжавшегося в комок мальчишку, и, неуловимым движением мохнатых рук распустив кушак, рванул добычу к себе, раздирая ветхую домотканую одежонку. И была дикая боль ниже спины, словно тлеющий сук воткнули в незащищенную плоть…
Сильный, как пурпурный вепрь, он был очень самоуверен.
И, на несчастье свое, забыл, что горные лунги — это не те лунги, которые живут в долине. Тем паче что любой мальчишка с гор знает: позволивший надругаться над собой и не отомстивший может распрощаться с мечтой стать когда-нибудь дружинником благородного ван-туана. И жену ему тоже очень нелегко будет подыскать…
Нож вошел в селезенку, весело причмокнув; он всегда одинаков, этот всхлеб голодного металла, кусающего человечину. Усатый выпучил глаза, сел, опрокинув кадку, и тихонько завыл.
А Ту Самай побежал. Из детства — в джунгли.
И лес не предал.
Лес накормил, и укрыл, и указал тайные тропы.
Беглец стал равным среди равных в отряде славного Нола Сарджо, сперва рядовым борцом, затем — порученцем самого Тигра-с-Горы, легендарного Нола! И было первое оружие: тот самый детский лук и нож, тоже тот самый. Потом винтовка, старенькая, но настоящая, взятая в открытом бою, освященная вкусом печени первого поверженного врага, прожаренной слабо-слабо, как и велит обычай гор. Потом — автомат…
Нет, автомат появился позже — в те великие дни, когда гремел над отрогами гром, рубя небо фиолетовыми молниями, предвещавшими необычное, и люди Тигра-с-Горы подобрали в зарослях изможденного каторжника, спасенного бурей от погони, но почти умершего уже от укуса пятнистой ярргтхи. Знахари не захотели отпустить несчастного в Темные Ущелья, они били в бубны и плясали у костра, и он, открыв глаза, еле слышно попросил пить… а ёвскоре, меньше чем через двенадцать лун, все уже знали, что это — Вождь. И сам Сарджо, ужас гор, неуловимый Нол, изведав силу идей квэхва, был первым, кто назвал чужака Любимым и Родным; и другие вожаки, поразмыслив, пришли под знамя с птицей токон и принесли с собою во искупление былых заблуждений головы своих ван-туанов!..
Вот тогда-то разрозненные, сильные лишь духом, отряды мстителей с гор обрели наконец цель и слились в могучую Армию Справедливости. Она не отсиживалась больше в ущельях, нет, она наступала, оставляя за собою на радость лесному зверью опаленные пятна застав и трупы в полосатых комбинезонах…
Внизу, в долине, лежали сказочные, никогда не виданные города. Они были сначала далеко, потом ближе, потом — совсем близко.
Полосатые бежали на восток.
Ту Самаю не забыть, как он — уже не мальчишка, нет! — закаленный борец, суровый шестнадцатилетний мужчина, шел во главе колонны победителей по дымным, покорно ложащимся под ноги проспектам Пао-Туна. Мечта стала явью, сны воплотились в быль — и вспарывала легкий клочковатый туман распростертыми крыльями острогрудая птица токон, не умеющая жить в неволе, символ свершившейся победы, священный знак Свободного Дархая. И сам Любимый и Родной, единственный в мире, достойный принять из рук Ту Самая простреленный стяг ударного дао, близоруко щурясь, взял древко у знаменосца.
Ту Самаю навсегда запомнилось это прикосновение…
А теперь кайченг Ту Самай, обладатель двух нагрудных знаков «За храбрость», лучший выпускник Высшей Школы Командиров, охраняет Оранжевую линию, и это честь, которую оказали бы не каждому. Потому что война не умерла, она лишь затаилась на время, залегла, заснула, подобно зарывшейся под корягу змее. И он, командир, знает то, о чем не стоит пока что думать подчиненным: жизнь подходит к пределу, она на исходе. Стычки, частые, жестокие, пусть даже кровавые, — это пустяки, это не так страшно, на то и граница… Но воздух сгущается день ото дня, и в листве, по ту сторону Оранжевой линии, уже с полмесяца посверкивают прицелы снайперских винтовок; раньше полосатые не позволяли себе высаживать снайперов в открытую, а теперь обнаглели, словно примериваются. Впрочем, пусть даже и так, что с того? Миру все равно не быть прочным. Там, за Оранжевой линией, еще ходят по земле нелюди в полосатых комбинезонах.
Там, за Оранжевой линией, — горы.
И родная деревня Ту Самая…
Впрочем, мальчишкам-призывникам кайченг не скажет ничего. Воля Хото-Арджанга неисповедима, и, быть может, им суждено отслужить свой срок и вернуться домой. Если же придет время, они сами все поймут. Знать же заранее печальная привилегия тех, кто умудрен годами…
— Брат кайченг! — добрался наконец до сознания негромкий голос. — Брат кайченг!
Ту Самай очнулся.
Конечно же, это он! Явился, как является каждый полдень. Хлипкий, узкогрудый, не нюхавший крови. Тихий, безобидный…
И — ненавистный до хрипа.
Но — неприкосновенный.
— Слушаю тебя, брат наставник.
— Пора…
— Я помню. Я иду.
И спустя несколько минут, уже сидя за низким столиком на Лужайке Справедливости, выводя неуклюжие закорючки, совсем не похожие пока еще на изящные узоры, начертанные на аспидно-черной доске, составляя слоги и расставляя надстрочные значки, Ту Самай никак не мог перестать думать о том, что на месте давешнего нарушителя вполне мог бы оказаться и брат наставник. А еще подумал, что не стал бы, пожалуй, возражать против такого оборота событий, и эта привычная мысль не удивила его.
Брат наставник ведь не нюхал дыма горящих родичей и не знал, что такое рвущая боль пониже спины; брату наставнику невдомек, что это такое работать с пяти лет — как только встал на ноги и можешь, не оскальзываясь, ползти по склону, собирая плоды ла — не менее двухсот в день. Двухсот! И горе тебе, если не сумеешь. Тогда надсмотрщик будет бить бамбуковой палкой по спине, шумно дыша и зверея от вида вздувающихся красных полос. Откуда брату наставнику знать, каково это? Если ему и доводилось видеть плантацию, так разве что из отцовского паланкина, и надсмотрщики льстиво склонялись, вминая лбы в траву, перед ним, хозяйским сынком…
А если даже и нет, так что с того?
Все равно брат наставник ни дня не гнил в джунглях. Он из тех умников, что пристали к Армии Справедливости лишь тогда, когда она заняла долины. А до того он учился в университете Пао-Туна, ел досыта, спал вволю и знал Великую Свободу только по толстым и бесполезным книгам…..
К чему истинному борцу бестолковые закорючки? В Высшей Школе Командиров наставники приказывали заучивать правила наизусть, и это было правильно, мудро и понятно: ведь на поле боя нет времени листать страницу за страницей…
Но Любимый и Родной сказал: «Книги — это хорошо! — И добавил: — Один день учебы равен трем дням сражений; буква важнее пули, слово сильнее автомата!» Вот почему Ту Самай вежлив и почтителен с братом наставником, вот почему он сумел преодолеть тягучую ненависть и день за днем постигает ненужную премудрость непонятных закорючек, выпевает слоги и расставляет надстрочные значки, подчиняясь отвратительно мелодичному голосу учителя…
И все же. На смуглой, не по-мужски тонкой руке брата наставника, сползая к узкому запястью, тусклым серебром поблескивает витой свадебный браслет. Там, в столице, его ждет кто-то, и род его не угаснет.
А где суженая Ту Самая?
Кайченг на мгновение прикрыл глаза и отчетливо, до спазма в глотке, представил прадеда, деда и отца брата наставника — они стояли в ряд, все холеные, важные, в длинных оранжевых накидках, прикрывающих полосатую форму со шнурами и нашивками. — сам не зная отчего. Ту Самай был уверен в этом…
И самое главное: брат наставник родился в долине.
А вот этого уже нельзя ни забыть, ни простить!
… Снайпер раздвинул ветви, увеличивая сектор обзора.
Чуть поерзал, пристраиваясь поудобнее, — тихо, очень тихо, почти беззвучно. Совсем в общем-то беззвучно. Отсюда, из гнезда, надежно замаскированного в развесистой кроне векового баньяна, Восемьдесят Пятая застава была видна как на ладони.
Ветка-сиденье, ветка-упор, ветка-полочка для запасной обоймы — чего еще надо человеку? И надежная шершавость ствола за спиной. Последние дни стрелок редко спускался на землю, обживая точку. Работа снайпера не терпит мелочей; ради успеха необходимо врасти в баньян, стать его частью, ощутить, как сила и уверенность могучего дерева перетекают в жилы. Да, в сущности, его не очень-то и тянуло вниз. К чему? Слушать похабные казарменные анекдоты с длиннейшими бородами? Увольте. Он терпеть не мог сиволапую армейщину. И, сложись судьба иначе, никогда не взял бы в руки винтовку — ту самую, без которой теперь уже не мыслит себя…
Снайпер машинально поглядел на часы. Усмехнулся. Излишняя мелочность! В нужный момент придет сигнал. С чем-чем, а с этим проблемы не будет. А пока… Натренированный взгляд еще раз скользнул по щуплым фигуркам в пятнистых комбинезонах, придирчиво выискивая первую цель.
Первую на сегодня, но далеко не первую по. счету.
Пальцы привычно ощупали зарубки на ложе, сначала — быстро, словно пробежав взад-вперед по струнам сямьсина, затем — медленно, бережно и любовно, по нескольку долгих секунд замирая на каждой.
Девяносто девять, одна к одной. И все тоненькие, нежные, действительно не толще струны. И только самая первая немного грубее. Он слишком волновался тогда, убив впервые, и пальцы нажали на рукоять ножа сильнее, чем следовало. Потом все стало намного проще; убивать, мстя, оказалось легко.
Чуткие пальцы музыканта невесомо ласкали приклад, на миг задерживаясь на особенно памятных зарубках…
Эта — за свинарник. Лучший свинарник в округе, сухой и теплый свинарник, в котором, на зависть соседям, почти никогда не умирали поросята.
Эта, эта, эта — и так до девятой — за восемь му превосходной земли; она была нежная и мягкая на ощупь, совсем как миндалеглазая Тяк, дочь почтенного лавочника Татао…
Во рту вдруг стало солоно, но Снайпер не ощутил боли в нещадно прикушенной губе.
Тяк. Ласточка…
Прознав о его выборе, братья принялись зло вышучивать меньшого; они, привыкшие к подчинению, не унимались, и дело, пожалуй, дошло бы до драки, не вмешайся господин отец. Собрав семейный совет, батюшка строго пристыдил наглецов. Он не позволил старшим отпрыскам присесть и, строго глядя на них, переминающихся с ноги на ногу, сказал, что нынче, хорошо это или нет, но порода, увы, не столь уж важна, был бы достаток, а уважаемый Татао — человек более чем зажиточный; что же касается самой Тяк, то она девица, бесспорно, милая, скромная, неизбалованная, а старший брат ее, Тан, как всем известно, служит в гвардии Бессмертного Владыки, более того — в егерях, на хорошем счету у самых верхов, и — даром что из семьи торгаша — не так давно произведен в полковники, а, ходят слухи, не в столь отдаленном времени, вполне возможно, выйдет и в генералы.
И братишки прикусили блудливые язычки. Бредящие гвардейской формой, они и помыслить не могли о том, чтобы отказать в родстве полковнику имперских егерей…
Снайпер невесело усмехнулся.
… Он таки выбился в генералы, егерский полковник Тан Татао, выбился вопреки всем и вся, но это случилось гораздо позже, когда стала очевидной тупость титулованных паркетных вояк, и только корневое упорство худородного офицерья позволило полосатым дивизиям приостановить мятежников и кое-как закрепиться в предгорьях.
Снайперу довелось встретиться с генералом Татао — пару лет назад, в стольном Барал-Гуре; у генерала совсем не было времени на разговоры, да в общем-то и не о чем было говорить…
Они просто постояли, обнявшись, глядя в глаза друг другу несколько бесконечных секунд, а потом генерал крепко хлопнул несбывшегося шурина по плечу и прыгнул в обшарпанный армейский «джип». А Снайпер долго глядел ему вслед, щуря предательски повлажневшие глаза, и рядом с ним у обочины незримо стояли тихие незабвенные тени…
Нет больше на свете нежной и ласковой Тяк.
И почтенного старика Татао тоже нет.
Что ж! Эта зарубка — за свадьбу, которая не была сыграна; за Тяк, Ласточку, что так и не вошла хозяйкой в родовой дом Снайпера…
… Он никогда не думал, что станет солдатом. И ему никогда не нравился шум больших городов. Он любил с детства, с первых осознанных дней, идти сквозь легкий утренний туман, утопая босыми ногами в мягком лессе долины, вдыхая свежий, немного горчащий воздух наследственных владений, и здороваться с приветливыми арендаторами, спозаранку спешащими заняться своим почтенным трудом.
Он очень любил землю, намного больше, чем старшие братья, мечтавшие о столице и гвардейских казармах, но отец однажды позвал его и сказал: «У нас очень много долгов, и даже приданое девицы Татао мало что изменит. Ты умнее своих братьев. Я решил: в Пао-Тун поедешь ты. Учиться. Семье нужен свой адвокат…»
С господином отцом, никто никогда не спорил. Младший сын — тем более. Он еще не был Снайпером в те дни, он был спокойным послушным юношей, и у него было имя, гордое, славное имя…
Тридцать седьмая — за потерянное имя, за угасший род.
Батюшка изволил повелеть, и он уехал, и выдержал экзамены, и прилежно учился, по праву получая Именную Ее Величества Государыни-Матери стипендию, но обязательно приезжал на каникулы и улыбался батракам, радостно кланявшимся любимому меньшому господину, и раздавал нехитрые городские гостинцы, которым они радовались, как дети…
А потом — сразу, вдруг! — все кончилось.
Шестьдесят семь, шестьдесят восемь, шестьдесят девять.
Матушка. Отец. Усадьба предков.
Грязные горские бандюги волной хлынули из джунглей, захлестывая долинные поселки, и улыбки батраков обернулись звериным оскалом, а трижды проклятые слюнтяи Бессмертного Владыки, забыв о чести и присяге, бежали от смердов, бросив на лютую погибель тех, за кем незримо стояли поколения предков, облаченных в оранжевые накидки.
Девяносто шесть. Девяносто семь. Девяносто восемь.
Братья.
И еще — девяносто девятая — Уйго, любимый пес, единственный, кто проявил человечность, попытавшись защитить хозяев от бешеного зверья, ощетинившегося клыками серпов и мотыг…
Итак, сегодня счет станет круглым.
И тогда, но не раньше, можно будет позволить себе напиться.
Врасхлест, вдрабадан, в стельку!
Снайпер выбирал сотого. Не торопясь, расчетливо.
Мальчишки-новобранцы не заинтересовали. Мелочь. Варвар-горец с нашивками кайченга привлек было внимание, но даже сейчас, углубившись в букварь, он чуть заметно покачивался на стуле, сбивая прицел, — просто так, по привычке. Такие подчас уворачиваются от пули, а репутацию следует беречь…
О! Вот он, сотый!
От удовольствия Снайпер еле слышно присвистнул. Чистенький очкарик, чертящий буквы упрощенного алфавита на доске, кого-то напоминал: они вроде бы даже встречались в университете. Да, точно, встречались, вот только имя вылетело из памяти, но наверняка сталкивались! Он, кажется, учился на филологическом и ухлестывал за этой… ну, как же ее?.. и однажды, помнится, им даже довелось крепко поспорить о судьбах крестьянства; и этот городской оскребыш был жестоко высмеян им, сельским парнем, тогда еще вовсе не Снайпером.
Точно, тот самый! Или все же не он?..
Все равно. Если и нет, плевать, — там было много таких, любивших порассуждать о том, чего не знали. И это они, именно они, виновны во всем.
Такие, как горец-кайченг, в сущности, безопасны, как всякое быдло.
Такие могут жечь, грабить, убивать, но в конце концов умирают на бамбуке или, если подфартит, открывают на награбленное лавку в своей грязной деревне.
А очкастые книжники-горожане, забывшие в шкафах свои оранжевые накидки, бесясь с жиру, вбили им в головы идиотскую мысль о том, что свинья ровня человеку…
И самое главное: тот, кто писал подлые слова на аспидной доске, как и Снайпер, был родом из долины. А вот этого уже нельзя ни простить, ни забыть!
Снайпер сдвинул кнопку предохранителя, беззвучно передернул затвор, поудобнее пристроил оружие на почти перпендикулярно стволу лежащей ветке-упоре.
Часы пискнули.
… Учитель еще не успел упасть, пятная кровью утоптанный дерн площадки, а Ту Самай уже знал, — даже не видя тяжело проламывающего листву тела, — что стрелявший мертв. Кайченг редко промахивался; те, кто промахивается, как правило, не становятся кайченгами.
За Оранжевой линией, как будто только этих — почти одновременно прозвучавших — выстрелов и ждали, пришли в движение переплетенные заросли кустарника. Глухо рыча, на ничейную полосу выплыли и двинулись на Восемьдесят Пятую заставу приземистые бронемашины, а за ними, пригнувшись к земле и часто залегая, выкатились чуть расплывчатые в полуденном туманце пехотные цепи.
Фигуры в полосатых комбинезонах хорошо ложились на прицел. Не ожидая команды, мальчики занимали места в траншеях, и лица их были совсем взрослыми; каждый из них сейчас казался едва ли не ровесником Ту Самая.
И был бой! Мелкий, привычный, без серьезных потерь. Пограничный инцидент из тех, что порою и не стоит включать в сводки. Не трудный бой и не страшный. Драчка. Спустя три часа огня и грохота семь бронемашин из десятка горели, словно праздничные лампадки, а остальные, пыхтя, утробно чихая дымом, дав задний ход, уползали вспять, за Оранжевую линию, и следом за ними отшатнулись ползком же! — огрызки полосатой пехоты.
Ту Самай облегченно вздохнул и направился к штабной хижине — звонить в округ. Сколь бы ничтожна ни была стычка, об очередной провокации надлежало доложить без проволочек. Тем паче что гибель брата наставника чревата достаточно серьезными последствиями, вплоть до выговора в приказе…
Не успел он прокрутить рычаг полевого телефона, как восемь багрово-черных стрел, вырвавшись из-за дальних холмов, захлестнули заставу и смешали в крошеве желтые хижины, зеленый дерн и красные обрывки человеческих тел.
Восемьдесят Пятая погибла почти мгновенно, не успев огрызнуться. И к останкам ее уверенно и нагло двинулись, торжествующе задрав орудия, тяжелые густо-оранжевые полусферы — уже не легкие броневики, но тяжелые, неуязвимые для ручных гранатометов имперские танки.
И не было времени размышлять.
Ту Самай приподнялся. Подтянул колени. Сдерживая тошноту, встал на ноги, заставляя себя не шататься.
— Ладжок!
— Да, брат кайченг! — Один из чудом уцелевших мальчишек, тот самый, в не по росту большой форме с засученными рукавами, покачиваясь, вытянулся перед кайченгом.
— Борец Ладжок, беги! Доберись до штаба и скажи, что это война!
Паренек с ужасом смотрел в искаженное лицо командира — глаз, выскочивший из орбиты и повисший на тоненькой нитке нерва, придавал кайченгу вид ночного демона Гр’г, выпивающего души младенцев…
— Я не пойду!
— Это приказ!
— Я не пойду! — Голос мальчишки едва не сорвался в визгливый плач.
— Пойдешь… — Кайченг вытащил пистолет.
— Нет! — Ладжок, дрожа, помотал головой. — Я не боюсь смерти. Я клялся Любимому и Родному умереть, но не отступить.
— Мальчик, это война! — У Ту Самая дергались губы, и глазное яблоко трепыхалось из стороны в сторону, как маятник старинных часов. — Понимаешь?.. Это война, а у нас уже нет связи. Беги, сынок…
Почти просьбой прозвучал приказ, и, наверное, именно это заставило наконец парнишку сорваться с места и нырнуть в близкие кусты. Глубоко вздохнув, кайченг обернулся: за его спиной, сомкнувшись в шеренгу, стояли двое.
Полосатые цепи волнами перетекали Оранжевую линию.
Все стало простым и ясным.
Никакой боли. И, как всегда, — никакого страха.
— Образцовая застава Восемьдесят Пять! За Великую Свободу, за Любимого и Родного — вперед!
… И когда струя огнемета накрыла атакующего Ту Самая, он ясно увидел обоими глазами! — смотрящие в самую глубину души строгие и ласковые глаза Вождя.
ОБЪЕДИНЕННОЕ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ОМГА) сообщает:
… Популярная дринк-звезда Ози Гутелли прибыла на курорт Уолфиш-Бей, планета Земля, с большой концертной программой.
… В Порт-Робеспьере, планета Гедеон-2, состоялась торжественная церемония открытия первой сессии Общегалактической Конференции по проблемам добычи и использования боэция. С краткими приветственными речами выступили сопредседатели Подготовительного Комитета Ааво Р. Харитонов и Энтони Муравьев-Родригес.
… Сенсационная победа новобатумского «Реала» над «Челестой» в ответном матче одной восьмой кубка Галактики. Счет 6:0. Шансы «темной лошадки» растут. «Челеста» в панике!
… Обострилось положение на планете Дархай, Малое Магелланово Облако. Ограниченные столкновения вдоль демаркационной линии. По сообщениям наших корреспондентов, человеческие жертвы незначительны…
ГЛАВА 2. ДАРХАЙ. Пао-Тун
28-й день 7-го месяца 5-го года Свободы. Барал-Гур. 28-й день 4-го месяца 1147 года Оранжевой Эры. 24 мая 2198 года по Галактическому исчислению
Подтянутые седовласые люди, удобно устроившись в резных креслах, глядели друг на друга из кабинетов, разделенных многими сотнями километров, или, выражаясь по-местному, тысячами ке. Видеофон — великое изобретение человеческого гения — позволял им изредка видеться хотя бы так. Увы, личные контакты с некоторых пор были категорически исключены, а ведь они давно и хорошо знали друг друга, а здесь, на Дархае, до заварушки, пожалуй, что и сдружились. Роскошь общения с себе подобными воистину неоценима, тем паче что с планет, подобных этой, послов отзывают нечасто. Если вообще решают отозвать.
Что скрывать? Более всего хотелось им сейчас просто пожать друг дружке руки, приятельски похлопать по плечу и, чем черт не шутит, даже пропустить по стаканчику-другому. Но, и еще раз но! Местные политические дрязги, дикие с точки зрения мало-мальски цивилизованного человека, в конечном итоге привели не только к расколу страны, но и к разрыву Империи с Единым Союзом. Полномочный посол Союза остался в освобожденном от векового ига Пао-Туне; посол Демократической Конфедерации Галактики покинул город вслед за императорским двором. Впрочем, сие не было самым огорчительным: древний Барал-Гур с его несравненными горными курортами ему и раньше нравился больше.
Значительно горше пережили они прерванную пять лет назад традицию совместных рыбалок на уик-энд. А ведь бывало же, да и как бывало! Дон Мигель, к примеру, умел готовить циципао в белом вине, причем рецепта не раскрывал категорически. «Это воистину восхитительно!» — сказал Бессмертный Владыка, по недосмотру попавший однажды на их пикничок, и попытался всеми доступными средствами, вплоть до откровенного нажима на правительство Конфедерации, изъять секрет пряного, восхитительно острого деликатеса. Понятное дело, тщетно. Гневная нота, прочитанная разве что третьестепенными клерками, затерялась где-то в архивах, а дон Мигель после этой досадной случайности частенько сетовал коллеге Хаджибулле на вопиющую беспардонность молодчиков из отдела «Гр’г» секретной службы Чертога, чье стремление к кулинарным познаниям изрядно превышало их профессиональные способности…
Да, было время, было и кануло. А теперь, извольте, приходится сидеть, разделенными километрами, ке, гладкими стеклами экранов и остервенелой ненавистью азартно режущих друг друга аборигенов Дархая… Со строжайшей инструкцией: никаких разговоров без веских причин!
Впрочем, сегодня причина была. И не просто веская, а более чем. И конфиденциальность предмета беседы, напрочь исключая назойливое и почти неизбежное присутствие референтов, давала возможность перемолвиться словцом-другим и о личном, пусть даже совсем немного.
— Друг мой, позвольте принести вам самые искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой…
— Благодарю вас, дон Мигель.
— Улингер также искренне сочувствует вам… Он не так давно звонил мне и просил передать при случае, что потрясен до глубины души.
— Весьма признателен. Прошу передать мою благодарность господину Мураками.
— Всенепременно, коллега…
Дон Мигель пытался, но никак не мог оторвать глаз от стереокарточки, стоящей на рабочем столе коллеги Хаджибуллы. Эту женщину невозможно было представить мертвой, и все же она была мертва. Глупейшее стечение обстоятельств! Полоса ничейной земли, непонятно чья террористическая группка (еще бы! — жена посла, экий лакомый заложник…), попытка ухода от погони на горном серпантине, крутой вираж, мокрая дорога и вечный здешний туман…
И все.
Будь она неладна, эта планета!
— Время, похоже, еще есть, коллега?
— Полагаю, да. Ваш как, по-прежнему начинает аудиенции минута в минуту?
— Естественно. Как и ваш — митинги.
— Что ж, подождем полчаса.
— Позволю себе заметить, коллега, — двадцать восемь минут…
Обоим отчаянно хотелось болтать о пустяках, о чем угодно, пусть даже о потерях и утратах, лишь бы не начинать того разговора, неизбежность которого, собственно, и свела их лицом к лицу около пультов «горячей линии».
Но пустяки не шли на ум. И словесный теннис шел как бы сам по себе: пас передача, пас — передача…
— Будь проклята эта волокита! Только сегодня оформил до конца документацию. А что у вас?
— То же самое, коллега. Однако, скажу я вам, без всей этой канцелярщины тоже никак. Паритет есть паритет…
— Однако в наше время такого не было.
— И слава Богу…
— Вы полагаете?
Синхронно зазвонили плоские, пронзительно алые телефоны правительственной связи. Коротко переговорив, послы одновременно нажали кнопки отбоя и переглянулись.
— Ситуация обостряется, коллега?
— Да уж…
— Но вы пытались отговорить своего?
— Из кожи вон лез.
— Ну и?..
— Бесполезно. Полагает, что или сейчас, или никогда.
— С моим та же история. И следовательно…
— Да, коллега, именно так. К сожалению. Еще позавчера я послал запрос на Ормузд.
— Как и я на Гею-Элефтеру. Синхронно мыслим, коллега. И полагаю, на всю квоту?
— Конечно, на все полсотни. Пусть раскошеливаются.
— Полностью с вами согласен. Значит, пятьдесят на пятьдесят. Ну что ж, эти игрушки стоят друг друга. По крайней мере, поверьте, зрелище будет красочное…
Дон Мигель знал, что говорил. Некогда, в юности, еще до наступления Эпохи Паритета и принятия «Декларации о роспуске армий», он был танкистом, причем неплохим. И по сей день посол частенько перечитывал на сон грядущий что-нибудь особо пикантное из Гудериана. Коллеге Хаджибулле, впрочем, этого было не понять: он тогда служил в авиации, увлекался Покрышкиным, и встречаться в те лихие дни им, кажется, не доводилось. Во всяком случае лицом к лицу…
— Без двух, — сообщил дон Мигель, бросив взгляд на массивные карманные часы. — Как считаете, может быть, все-таки передумают?
— И не надейтесь. Во всяком случае за своего, — при этом Хаджибулла слегка приподнял бровь и едва заметно ухмыльнулся, — я ручаюсь. Начать он, может, и не начал бы, но уж ответить…
— М-да, — короткая брезгливая улыбка, — мой тоже поворачивать не станет.
— Значит, так тому и быть. Время, коллега! Включайте!
Панели приемников замелькали переливами огоньков, и дружескую тишину кабинетов рассек гортанный, несколько резковатый для слуха землянина голос:
— Лгта-гртра инъкйа лгте-гртийе! Иклтъе Дархай!
— Братья и сестры! Дети Свободного Дархая!
Вождь, вскинув руки к небу, подался вперед, и, на шаг опережая его, к краю низкой, в полтора человеческих роста трибуны выдвинулись молоденькие, цепко вглядывающиеся в толпу автоматчики.
— Мы не хотели войны, нас вынудили! И не нами пролита первая кровь, но нашу кровь пролили вероломные враги, святую кровь свободных людей! Всякому терпению наступает предел, и нет прощения тем, кто лишен совести. Веками дархаец-созидатель, дархаец-пруженик и мыслитель был не более чем грязью под ногами хищных пиявок, нелюдей в оранжевых накидках! Кому из вас неизвестно, какова была доля жителей гор и обитателей долины? Нет, слова здесь излишни, и память горька! Тысячами жизней вымощена дорога к возлюбленной Свободе; спотыкаясь и в кровь стирая ноги, падая и умирая в пыли, шли по ней поколения наших предков. Они ошибались и находили силы исправить ошибки, они изнемогали в битве, но завещали потомкам свою великую цель. И сейчас цель эта еще не достигнута, есть только слабые ростки грядущих дней, когда каждый дархаец увидит сияние Солнца. И в том порукою идеи квэхва, постижение которых исключает ошибки и поддерживает в тяжкий час! Если же есть тут среди вас кто-то, боящийся трудностей пути, — пусть, ни мгновения не медля, покинет ряды, и да не осудят его близкие!
Близорукими, беспомощно прищуренными глазами Вождь всмотрелся в тесно сгрудившиеся ряды слушателей, словно пытаясь угадать среди многих тысяч одного малодушного.
— Ну же, боязливый брат! Если ты есть, отзовись и уйди! О! Я был уверен, родные, и я не ошибся в вас: нет трусов среди истинных дархайцев! А коль скоро так, то важно помнить: мы вступили на свою тропу осознанно, мы избрали ее без трепета и сомнений, и ничто, никто, никогда не сможет заставить нас свернуть или остановиться!
— Дай-дан-дао-ду! — коротким ревом взорвалась толпа.
И замерла.
Сотни тысяч восторженных глаз были устремлены на хрупкую фигурку Любимого и Родного. Люди тянули шеи, привставали, подсаживали на плечи детей, дабы и они увидели все, не пропустили ни единого слова, ни одного, пусть и самого незначительного, жеста.
Все они были сейчас единым целым: и долинные лунги, невысокие, плотно сложенные, несколько рыхловатые, в традиционных лвати, скромно украшенных двухцветной вышивкой вдоль просторных капюшонов, и худощавые каменнолицые лунги гор, чьи ти-куанги, перехваченные плетеными кожаными кушаками, подчеркивали ширину плеч, и даже посеченные ритуальными надрезами лица жителей Дальнего Загорья нет-нет да и мелькали в толпе, борцы в мятых форменных куртках, нехитро одетые горожане, селяне, лишь недавно обретшие кров в столичных предместьях, дети, юноши, готовые к битве, и даже почти старики — кое-кому едва ли не за пятьдесят, — некоторые из них помнили еще те времена, когда далеко в Загорье полыхало пламя мятежа четырех ван-туанов и безумный Огненный Принц Видратъхья называл себя Бессмертным Владыкой…
И каждый из них, все вместе и любой по отдельности, ощущал себя в эту нескончаемую минуту всего лишь крохотной искоркой могучего факела Свободы, зажженного восемь лет назад этим худощавым, в общем-то нестарым еще, но совершенно седым человеком.
Впрочем, человеком ли?
Да, конечно! И в то же время — нет! Ибо далеко не каждому из ста и ста поколений под силу возродить из праха источники духа, засыпанные глиной безверия, и слить их вновь в могучую реку.
Людей — мириады. Вождь — один…
— Прими же нашу клятву, Пао-Тун, сердце Свободы: пока бьются наши сердца, пока сила жива в наших душах, ложь и угнетение не осквернят улиц и проспектов твоих!
Великий город Пао-Тун пятнистой курткой борца распластался на окровавленном глиноземе долины. Пять лет назад, после многомесячных кровавых боев, здесь простирались только развалины. И невозможным казалось восстановить хоть что-нибудь из разрушенного, многажды сожженного, сровненного с землей. Но Вождь приказал, и невозможное сделалось явью. Не боги, трусливо сбежавшие вместе с полосатыми в надменный Барал-Гур, а люди, простые люди, замершие сейчас перед грубо сколоченной трибуной, возродили его во всей красе и сделали еще прекраснее по безошибочным наметкам Любимого и Родного. На смену бессмысленным хрустальным пагодам, на место бестолково вычурных янтарных дворцов и слащавых изгородей пришли стройные, словно шеренги героев, районы новостроек. И только проспекты так и остались незамощенными, ибо в непостижимой мудрости своей, коснувшись утоптанной за века твердой земли, сказал Вождь: «Обычаи следует чтить, традиции должно уважать!»
— Родные мои! В последнем издыхании своем враг очень силен, безжалостен и опасен. Его ничто не остановит, если мы не сплотимся. Смотрите!
Один из автоматчиков охраны вытолкнул к самому краю трибуны изжелта-бледного мальчишку в рваном, свисающем опаленными клочьями армейском комбинезоне.
— Этот юный герой — вестник Восемьдесят Пятой, отныне и навеки Бессмертной заставы. Двадцать семь их было, родные, всего только двадцать семь! Но, сколько могли, они сдерживали дивизии врага и, не отступив ни на шаг, пали смертью героев. Почтим их память!
— Дай. Дан. Дао. Ду, — мерно произнесла площадь.
— Чем можем мы воздать павшим братьям? Будь славный кайченг Ту Самай с нами, он по праву стал бы даоченгом. Но он спит вечным сном, завещав нам жизнь и борьбу. И я думаю, что юный борец А Ладжок не посрамит этого звания…
Из толпы вырвался крик:
— Равняемся на Ладжока!
И тысячеголосое эхо многократно облетело площадь из конца в конец.
— Мальчик, с честью носи эти нашивки! Будь достоин памяти павших. И помни: народ не любит угнетателей!
Вождь притянул подростка к себе и заглянул в усталые, шальные от счастья глаза.
— Борьба продолжается. Мы победим!
Любимый и Родной чуть обернулся, кивнул, и тотчас же из глубины трибуны выдвинулся и встал рядом с ним у сдвоенного микрофона коренастый колючеглазый человек в пятнистом комбинезоне без знаков различия и расшитой характерным горским узором шапочке.
— Свободные дархайцы! — Возвысив голос, Вождь обвел взглядом толпу. Сегодня на восток отправляются первые дао. Им не под силу опрокинуть противника, их задача — любой ценой задержать его. Любой ценой! — Без права пасть раньше, чем подойдет подмога! Я хочу сообщить вам, друзья, что час назад вашей волей я назначил на пост командующего восточным фронтом…
Словно дразнясь, Вождь выдержал длинную паузу.
— Таученга Нола Сарджо, славного Тигра-с-Горы! Тот, кто первым вошел в Пао-Тун, не отдаст священную столицу оранжевой своре!
Площадь восторженно взвыла. Подчиняясь властному жесту Любимого и Родного, Нол Сарджо, коротко стриженный, очень немолодой на фоне автоматчиков — далеко за тридцать — пригнул пониже раструб микрофона.
— Я не мастер говорить. — Хрипловатый, спокойный голос его приглушил шорох толпы. — Они захотели, они получат. Мы победим, сказал Вождь. Значит, так и будет.
Таученг вскинул руку в приветствии и, сделав шаг назад, исчез из поля зрения. Миг спустя скопище начало редеть. Из шеренг, строем расходящихся по жилым кварталам, время от времени доносилось:
— Дай-дан-дао-ду!
Адъютант, неслышно возникнув на трибуне, почтительно наклонил вихрастую голову.
— Посол ожидает, брат Вождь…
… Плотный ворс ковров, скрадывая стук каблуков, гасил четкие, уверенные шаги, и сквозь тяжелое золотое шитье оранжевых портьер приглушенно доносился перезвон мириад священных бубенцов. От двери к двери, мимо вытягивающихся в струнку гвардейцев, почти не обращая внимания на ловко припадающих к стопам евнухов и подчеркнуто не замечая проносящихся подобно летучим мышам безмолвных соглядатаев, начальник Генштаба прошел к высоким резным вратам внутренних покоев Владыки.
Как всегда, подтянутый и сдержанный, он миновал предвратные курильницы, по обычаю втянув ноздрями благовонный дым из левой и выдохом изо рта обеспокоив дым над правой, омыл лицо ладонями, переступая узорный порог, и, не опускаясь на колени, склонил голову перед пустым троном Бессмертного Владыки ровно на столько, на сколько полагалось по ритуалу лицу, принадлежащему к первому из Семнадцати Семейств.
И не было или во всяком случае почти не было в его голосе предписанного негласным церемониалом почтительного придыхания.
— Да будет Известно Затмевающему Свет: первый этап операции проведен без серьезных отступлений от плана Генштаба. Оранжевая линия взломана!
Холеное лицо Владыки осталось бесстрастным. Выйдя из-за огромного, едва ли не в четверть коу-му, письменного стола, совершенно терявшегося, впрочем, в углу рабочего кабинета, Затмевающий Свет благосклонно кивнул начальнику Генштаба и, взойдя по трем нефритовым ступеням, воссел на упругие подушки трона, под гигантской крылатой короной, удерживаемой тремя же цепями, свитыми из трехсот тридцати трех тысяч золотых нитей.
Скромный будничный лвати, расшитый озерными цветами и драконами, казался неуместным на фоне этого сиденья, источающего сияние, и только строгость посадки да узкий алмазный обруч на лбу императора не давали забыть, что это не простой смертный, чудом оказавшийся в святая святых Чертога.
— Продолжайте, маршал. — В отблесках хрустальных светильников толстые линзы очков Владыки казались отливающими багрянцем…
— На северном направлении войска Затмевающего Свет углубились на территорию мятежников более чем на восемь ке, на южном направлении — до одиннадцати ке. В соответствии с разработками Генштаба продолжается наступление на центральном участке фронта, в направлении Кай-Лаонского укрепрайона, и далее — на Пао-Тун.
Владыка чуть наклонил голову, и красноватые блики на линзах приобрели легкий голубой оттенок.
— Я не сомневался в ваших талантах, маршал, и в профессионализме ваших подчиненных. Придет время, и, встав пред ликом Хото-Арджанга, я лично поблагодарю ваших почтенных предков за деяния отпрыска их древа. Можете ли вы назвать кого-либо из числа особо отличившихся?
Начальник Генштаба замялся, но лишь на миг.
— Безусловно. Да будет известно Затмевающему Свет, что в ходе пограничного сражения великой славой покрыли себя имперские егеря, в первую очередь бригада генерала Тан Татао!
Узенькая рыжеватая ниточка усов дернулась.
— Татао, Татао… Я помню. А не кажется ли вам, маршал, что генерал Тан засиделся на бригаде?
— Затмевающий Свет, как всегда, прав, — кивнул начальник Генштаба.
Ладонь Владыки пробежала по инкрустированному подлокотнику, и где-то в неизмеримой глубине кабинета раздался мелодичный звонок.
— Любезнейший, — император цедил слова сквозь зубы, не удостаивая взглядом моментально, словно бы из пустоты, возникшего у ступеней трона Хранителя Чертога, — прошу как можно скорее подготовить на подпись рескрипт о присвоении бригадиру Тан Татао звания дивизионного генерала.
Хранитель Чертога, большой, расплывчато-грузный, с ласковым тройным подбородком, вышколенно-изящно распластался у подножия престола, успев поцеловать остроконечный башмак Владыки, вновь вознесся на ноги, несколько помедлил, ожидая дальнейших указаний, и вновь растворился, словно его и не было.
— Впрочем, — голос Владыки звучал приподнято, — может быть, стоит подумать и о введении генерала Татао в военную коллегию на правах действительного члена?
Скулы начальника Генштаба заострились.
— Пожелание Затмевающего Свет — закон для верноподданного. — Он говорил подчеркнуто, может быть, даже немного сверх меры официально. — Однако же я смею полагать, что действительным членом военной коллегии в соответствии с традицией может быть лишь представитель одного из Семнадцати Семейств…
— Ну что ж, возможно…
По непроницаемому лицу императора нельзя было понять, доволен Владыка или изволит гневаться. И все-таки начальник Генштаба не укорял себя за дерзость. Всему есть предел, и простолюдин должен знать свое место. Если уж император считает возможным забывать прописные истины, значит, рушится небо и долг Семнадцати Семейств поддержать его. Так было испокон, и так будет впредь. В конце концов, и сам повелитель — да восславится имя его! — не столь уж безупречен. Сыну танцовщицы из края горных лунгов простительно покровительствовать деревенщине: увы, покойный Бессмертный Владыка, отец нынешнего, был несколько вольнодумен — он выбирал наложниц за красоту; и не в этом ли смешном пустяке крылся корень мятежей? Как знать…
Ни одна из крамольных мыслей, однако, не отразилась на породистом, лишь полное повиновение выражающем лице начальника Генштаба.
— Что еще имеет сообщить Генштаб? — ровным, церемонно-благожелательным тоном спросил Владыка.
Маршал негромко, очень пристойно откашлялся.
— Да станет известно Затмевающему Свет: согласно данным разведки, командующим особым Кай-Лаонским укрепрайоном противника назначен таученг Нол Сарджо…
Бессмертный Владыка слегка приподнял бровь.
— Правая рука главаря бандитов, тот самый, что руководил взятием бунтовщиками Пао-Туна. Главнокомандующий регулярными войсками так называемого Свободного Дархая… — Последнюю фразу маршал позволил себе произнести с некоторым подобием улыбки на устах.
— Сарджо… Сарджо… — негромко повторил Бессмертный Владыка. — Это не тот ли, который Тигр-с-Горы?
— Хрустальная память Затмевающего Свет достойна восхищения — вежливо сощурился начальник Генштаба. — Позволю себе признать: человек сильный и опасный, ибо талантливый. Убежденный враг трона. Еще при ушедшем к предкам повелителе — да не забудется имя его! — был сотником в шайке мятежного принца Видратъхьи, после разгрома и казни самозванца разбойничал на перевалах, затем примкнул к вожаку квэхвистов Джугаю и стоял у истоков формирования его регулярных сил…
Властелин покусал губу, припоминая нечто.
— И все же, Сарджо… Кажется, он из оранжевых?
— Род мельчайший, — презрительно поморщился начальник Генштаба, мельчайший и разорившийся. К тому же из горских князьков.
— Но тем не менее из оранжевых. Может быть, имеет резон завязать связь с ним?..
— Увы! — твердо и абсолютно уверенно отрезал маршал. — Абсолютно нереально. Побратим казненного бунтовщика Видратъхьи, да сотрется память о нем, считает себя кровником дома Ранкочалар. И помимо этого, фанатичный квэхвист.
— Вот как?! Жаль, право же, жаль… Престолу нужны талантливые люди… Ну что ж, маршал, позвольте поблагодарить вас за исчерпывающий доклад. Имеет ли Генштаб какие-либо пожелания?
— Весьма почтительно припадаю к лучезарным стопам Затмевающего Свет. Начальник Генштаба склонил голову чуть ниже, нежели на входе в тронный зал. Нет никаких сомнений, что бои на Кай-Лаонском выступе будут успешными для наших подразделений. Однако же выход на Пао-Тун по окончании операции невозможен… прошу Затмевающего Свет простить невежу… я хотел сказать: вряд ли возможен без участия сверхтяжелых танков.
Шумно вздохнув, Владыка откинулся на спинку трона и прищурил глаза, размышляя.
— Так. Можете ли вы, маршал, гарантировать, что при наличии названной техники освобождение столицы наших предков произойдет в сроки, намеченные Генштабом?
В вопросе был намек на согласие. И маршал, ощутив это, преклонил наконец колено, правда, всего лишь на миг, не более. Но и не менее!
— Порукой тому мой паучок кюй-тюи, о Затмевающий Свет!
На высоком лбу Владыки явственно прорисовалась морщинка.
— Быть по сему. Чертог Блаженств рассмотрит предложение Генштаба. Засим не откажите передать привет вашим почтенным супругам.
Затмевающий Свет приподнял ладонь в слабом отпускающем жесте. И тотчас щелкнул пальцами, словно хлыстом, не дав маршалу завершить четкий поворот направо кругом.
— Впрочем, постойте! Будьте любезны, маршал, растолковать: что за пирушки происходят во вверенных вам частях на передовой?..
Император брезгливо опустил уголки губ и, не скрывая отвращения, прочитал, поглядывая в тугой, пытающийся свернуться в трубочку лист бумаги:
— Второе блюдо: жареная птица токон, фаршированная мозгами пленных мятежников. Вам известно о таком, маршал?..
Щека начальника Генштаба дернулась, и монокль, выскочив из глазницы, закачался на витом шнурке.
— Можете не отвечать. Вижу, что известно. Даже не говоря о том, что это дикость, но думали ли вы, любезнейший, какова может быть реакция наших Больших Друзей?
Нечего было возразить. Владыка был абсолютно прав, но правота его была сродни плевку в лицо.
— Потрудитесь ответить, сколько виновных отдано под трибунал за подобные изыски? Кто конкретно? Каковы меры наказания?
Начальник Генштаба чудовищным усилием сдерживал дрожь. Никогда еще этот полусмерд не смел говорить с ним — с ним! — в подобном тоне. Он знал, что не сможет простить этого тона, этой возмутительной издевки, допустимой разве что в общении с холопами или с придворными евнухами. И в то же время необходимо было отвечать учтиво…
— Затмевающий Свет неполно информирован, — чуть приглушенно заговорил он и со стороны успел удивиться незнакомому звучанию собственного голоса. — Подобные эксцессы единичны и наблюдались на сегодняшний день только в ударных частях, в частности, в бригаде Тан Татао. Эти полки укомплектованы людьми, чьи семьи вырезаны бандитами до единого человека. Именно поэтому я как глава военной коллегии не считал возможным ставить вопрос о трибунале. Впрочем, если Затмевающий Свет изволит приказать…
Тонкие пальцы, слегка измазанные чернилами, замерли на подлокотнике трона в некоторой нерешительности, чуть побарабанили по перламутровым пластинам длинными тщательно отполированными ногтями.
— М-да. В сущности, людей можно понять. Вы свободны.
И начальник Генштаба, отсалютовав и развернувшись, пошел к выходу; плотно обтянутая мундиром спина его была пряма, а подбородок высоко поднят. Он шел и думал, что отомстит. Не знал как, но знал — отомстит обязательно. В конце концов, чего ждать от полуублюдка?! Если не принять мер, он натащит во дворец худородных и, опираясь на них, устроит резню древних фамилий. Такое уже случалось в старину. И такой оборот событий следует предотвратить. Конечно, не сейчас, не во время войны, но — сразу после победы, не медля! Как же страшно ошибся покойный отец, дозволив сесть на трон Ранкочаларов этому хамскому отродью! Имея под рукой дворцовую гвардию, батюшка мог бы и обойти завещание, тем паче что всем известно: усопший государь последние месяцы был не в себе… Да, принц Видратьхья был сумасшедшим, да, он бы умыл страну кровью, и Большие Друзья были не в восторге от него, но он-то по крайней мере знал, что такое истинный аристократизм… и не загонять его нужно было, как зверя, в горы, а напротив!..
Но Чертог Блаженств на то и Чертог Блаженств, чтобы даже наглухо скрытое недовольство одного из принадлежащих к Семнадцати Семействам гасить в корне, предварительно поставив на место излишне гордых. В конце концов, потайные ходы в стенах дворца, как это ни прискорбно, известны не одному лишь владыке, а опочивальня его — не укрепленный замок.
И потому перед начальником Генштаба, едва шагнувшим на радужный паркет Предвратной Галереи, возник медоточиво-подобострастный Хранитель Чертога.
— Позвольте поздравить вас, маршал! Волею милостивейшего из Владык вы назначаетесь губернатором Пао-Туна с правом наследования. Счастлив также вручить вам скромный знак признания ваших неоценимых заслуг…
И ярость смягчилась, а спустя миг — вообще исчезла, сменившись ворчливой благодарностью, ибо лежащий на оранжевой подушке знак ордена Снежной Короны с мечами предназначался для награждения лишь коронованных особ, и впервые в долгой истории Империи его удостоилось лицо, не принадлежащее к дому Ранкочалар…
Не умея скрыть радостную, едва ли не детскую улыбку, маршал спускался к выходу, рассыпая по зеленому мрамору ступеней серебряный звон шпор, а секретарь Чертога уже набирал на украшенном нефритовой мозаикой пульте номер, известный в Империи лишь одному человеку.
Впрочем, человеку ли? Нелегко ответить…
Людей — много. Император — один.
И спустя сорок восемь минут полномочный посол Демократической Конфедерации Галактики сеньор дон Мигель Хуан Гарсия дель Сантакрус де Гуэрро-и-Карвахаль Ривадавия Арросементе, в срочном порядке изменив расписание, отложив в сторону самые чрезвычайные дела и пожертвовав послеобеденной сиестой, принял Бессмертного Владыку…
ОМГА сообщает:
… Подведены итоги конкурса «Золотое Перо Галактики». Поощрительной премии и путевки на курорт Уолфиш-Бей, планета Земля, удостоен девятнадцатилетний дебютант, студент Альмейдского института бульваристики Яан Сан-Каро за репортаж «Правда из-за угла».
… Напряженные дебаты развернулись на пленарном заседании экономической секции Конференции по проблемам использования боэция. Особое мнение доктора Рубина. Попытки обструкции терпят фиаско.
… Сенсация века! Инспектор «Мегапола» Арпад Рамос обвиняет господина Пак Сун Бона в причастности к руководству межпланетным преступным синдикатом. Адвокаты господина Пака угрожают «Мегаполу» встречным иском!
… Послы великих держав провели серию консультаций в связи с эскалацией конфликта на планете Дархай. Достигнута принципиальная договоренность. Встречи прошли в обстановке взаимопонимания…
ГЛАВА 3. ЗЕМЛЯ, Планета-для-Всех. Уолфиш-Бей
3 июля 2198 года по Галактическому исчислению
Бывает вдруг так: живешь себе, живешь, и тут на тебе: — все ни с того ни с сего осточертело, и работа не в радость, и хобби уже не развлекает, и жена лахудра, и любовница — стервь, и дети — ублюдки, и жить не хочется. И вообще хоть с моста прыгай, лишь бы не тянуть опостылевшую лямку…
Дураки, бывает, и прыгают. Так на то они и дураки.
А умные летят на Землю.
Причем не абы куда, а в Уолфиш-Бей.
Послушай-ка, брат, не бери дурное в голову, возьми отпуск, купи билет, покайфуй с недельку в уютной каюте с видом на Галактику, а потом выходи на трап, только не забудь открыть глаза пошире.
И ты увидишь:
…голубые волны, чуть вспениваясь кружевом, облизывают бархатистый песок. Жарко, но не душно. В небе — ни облачка. Февраль в Южной Африке — мягкий, вкрадчивый месяц, обгоришь и не заметишь, когда успел. Далеко еще до лютых июльских ветров, еще дальше — до хриплых бурь ненастного августа… Словно в насмешку, сохраняет этот райский утолок, жемчужина в короне Земли, опереточно-жутковатое названьице Берег Скелетов. Не по разу на день из возрожденной зелени саванн, некогда именовавшихся пустыней Намиб, выбегают прямо на бескрайние пляжи любопытные антилопы, встряхиваются у первых раздевалок, поводят влажным, совсем не пугливым глазом — и грациозно ступают на песок: показать себя, поглядеть на странных людей, барахтающихся в невкусной соленой воде, с достоинством пройтись меж шезлонгов и получить от восхищенных туристов обильную дань — соленые орешки, ломтики печенья, дольки пахучих фруктов… в общем, то, чем никогда их не балуют суровые в соблюдении рациона всадники на страусах — бушмены, смотрители заповедника.
Много моря, очень много солнца и смех — вот что такое Уолфиш-Бей.
Здесь можно все, не рекомендуется только грустить. Впрочем, как раз на грусть времени и не остается. Устал шквариться на солнце? Не беда! Танцуй на дискотеке, если молод; до озверения рви глотку в пресс-клубе, если помешан на политике; сходи с ума на трибунах бесчисленных шоу, в конце концов, — только не вздумай грустить!
Есть, конечно, и любители специфического отдыха.
Вот, к примеру, около акульей выгородки, как всегда, бушует толпа. Зрелище из зрелищ: два гладиатора-любителя против двух профессионалов — два поклонника острых ощущений против двух не то чтобы очень больших, а все-таки самых настоящих голубых акул.
Что спорить, зрелище потрясающее! Прозрачная синева воды не скрывает ничего, все видно в мельчайших подробностях: плавные движения продолговатых рыбьих тел и неуклюжие на первый взгляд уходы в сторону пловцов, резкие броски, томительно-замедленные увертюры к атаке и редкие всплески на идеально гладкой поверхности бассейна…
Вдоль парапета замерли, сосредоточившись, загорелые до шоколадного блеска спасатели, вскинувшие на изготовку длинные непривычного вида ружья. Максимальная безопасность отдыхающего, даже если этот отдыхающий клинический самоубийца, — закон Уолфиш-Бея. И все же акула есть акула, и зубы у нее никто не отменял. Так что всякое может случиться…
Иные называют этот спорт «корридой Эпохи Равновесия». Метко, но не точно. Ведь в полузабытой, канувшей в Лету корриде быки имели немало шансов. А тут, даже не вспоминая о ружьях, если уж досужий пляжник полез в бассейн — значит, у акулы нет не только надежд на победу, но даже и на спасение. Ведь дура рыба не имеет рук, которые можно задрать вверх и завопить, прося пощады.
Бывает, конечно, зубастым и везет. Но редко. Так редко, что Вселенская Лига Друзей Живого который год уже ведет отчаянную борьбу с этой разновидностью узаконенного убийства, борьбу, впрочем, столь же бескомпромиссную, сколь и безуспешную.
Вот и сейчас среди сонма болельщиков, взахлеб поддерживающих пловцов, обнаружилась миловидная девушка, явно сочувствующая рыбешкам. Увы, ей не везет: еще за две минуты до гонга вода пошла кругами, взбаламутилась, помутнела — и успокоилась; насторожившиеся было спасатели, отставив ружья, взялись за пиво, а акулы со вспоротыми животами пошли на дно.
Получив призовых плюшевых мишек, победители пожали друг другу руки и разошлись.
Впрочем, один из призов тотчас оказался на песке…
И в глазах девушки вместо ожидаемого восторга полыхало негодование.
— Не-на-ви-жу!
— Лемурка, но мишка-то в чем виноват?
— Пшел вон вместе со своим мишкой!
— Лемур, а Лемур!..
— Убери руки!
— Лемурка, ты что, действительно хотела, чтобы эта тварь вскрыла брюхо мне?!
— Называйте меня Эльмирой, Андрей.
— Ну ладно, хватит! Ну, слышь, а?.. Ну извини…
— И не подумаю.
— Ну Лемур, а Лемур! Честное слово, если бы я знал, что это так для тебя серьезно, я бы не полез.
— А я не нуждаюсь в одолжениях убийцы.
— Но это же был честный бой…
— Вот именно: бой! Ты вел себя, я не знаю, ну, как какой-то… древний, ярко-синие глаза гневно сузились, — солдат! Вот!
— Обижаешь, начальник… Древнего солдата эта скотина схарчила бы, не моргнув. И вообще, чем тебе так уж не нравятся солдаты?
— Ну знаешь ли!..
От возмущения девушка поперхнулась. Дальше оставалось либо ссориться всерьез…
— Лемурк, а я билеты на Ози достал… На сегодня!
— Ой, правда?!
… Либо мириться. А ссориться всерьез и надолго ей явно не хотелось: право же, большая рыбина с тупыми глазами и рядами острейших зубов, несмотря на безусловный трагизм своей участи, была не тем, из-за чего стоит рвать отношения, тем более с парнем, который даже акул не боится, да еще и способен раздобыть билеты на несравненную Ози Гутелли…
Как бы то ни было, но к пестрой компании, вольготно дегустирующей пиво у самой кромки прибоя, Андрей и Эльмира вернулись уже не то чтобы примирившимися окончательно, однако и не очень переругиваясь.
Встретили их с подъемом.
— О, гроза пескарей! А гитара-то заждалась…
— Да ладно, ребятки, сколько можно, дайте хоть книжку дочитать, а? Ну, впрочем, по особому заказу, — быстрый взгляд на Эльмиру, — одна оч-чень старая песня!
Андрей медленно огладил струны. Гитара откликнулась неожиданно низким глуховатым ворчанием…
Мягкий перебор струн налился неброской, вкрадчивой силой, окреп; гитара уже не ворчала, нет, она говорила — внятно, тихо и грозно.
Последняя строка прозвучала на два голоса. Давешний светловолосый напарник Андрея по битве в акульей выгородке, высокий парень с фигурой супермена, в майке, украшенной алым значком, и вовсе незаметных плавках, оставив свою компанию, подсел поближе и мягким, берущим за душу баритоном подхватил песню:
Как-то незаметно обе компании слились в общий круг.
Молоденький паренек, на вид едва ли не самый младший здесь, попытался было протиснуться поближе к поющим; его оттерли, безжалостно прикрикнув: «Слышь, лауреат, уши надеру!»
Мелодия оборвалась коротким всхлипом струны, но никто не шелохнулся. У парней — почти всех — горели глаза, девушки зябко поеживались, словно с теплого океана на миг повеяло холодным ветром.
— Странная песня, — медленно, будто просыпаясь, сказала Эльмира.
Светловолосый усмехнулся:
— Солдатская песня.
— Хорошая песня! — категорическим тоном заявил «лауреат» из-за спин, и, как ни странно, именно эта фраза вывела из оцепенения.
— Все-таки удивительно: армий давно уже нет, а песни еще есть, — словно ставя точку, откликнулась Эльмира и тряхнула головой, разметав льняную копну волос. — Ну и ладно, хватит об этом. Давайте знакомиться!
— Честь имею, Джимми! — немедленно откликнулся светловолосый.
— А я Эльмира, можно Лемура. А это — Андрей, ну, вы и так знакомы. Это наш лауреат, Яан, будущее Золотое Перо Галактики (мальчуган состроил зверскую гримасу), а вот — Аллан Холмс, великий сыщик, только не тот, что ты подумал («Да ладно тебе», — пробурчал смуглый крепыш в необъятной мексиканской шляпе-чаррос, смахивающей на экзотический черно-белый гриб), а это… ну и хватит, сами знакомьтесь!
И познакомились! Слово за слово завязался и наладился разговор, плавно переходящий в общий гомон. Компании перемешались, и, как нередко случается на пляжах Земли, Планеты-для-Всех, оказалось, что многие если и не встречались раньше, то уж во всяком случае имеют кучу-малу общих знакомых, и обнаружились темы, интересные для всех, и были обсуждены подробности личной жизни мадемуазель Гутелли («Ах, Ози! Ози!»), и помянули недобрым словцом небезызвестного господина Пак Сун Бона, который, о чем базар, сволочь первостатейная, но и инспектор Рамос, к гадалке ходить не надо, все равно ничего не добьется — против этакого-то немереного кэша («Почему это не добьется?! — возмущенно вопил Аллан. — Вы не знаете Арпада!»), и общим вердиктом была безоговорочно осуждена бушменская национальная кухня маринованные личинки непонятного происхождения в козьем молоке и сушеный хвост пустынной крысы, и… да мало что может прийти в голову, когда над головой солнце, в двух шагах — море, а вокруг — пацаны в мускулатуре и девочки почти без купальников!..
Лишь двое — кто знает, случайно или нет? — пристроились поодаль от общего трепа.
— Приятно видеть человека, знающего солдатский фольклор, Эндрю…
— Взаимно, Джимми! Фольклор, знаешь ли, вообще моя слабость…
— Ну, это кому как. Давно в Уолфиш-Бее?
— Вторую неделю. С делами отстрелялся — и сразу сюда. Поверишь, нормальной телки полтора года не видел…
— Верю. — Приставив ладонь козырьком ко лбу, Джимми не без заинтересованности оглядел Лемурку, что-то вдохновенно вещающую кучке почтительно внимающих нагромождений бицепсов и трицепсов. — Зато сейчас, бачу, вроде не жалуешься?..
— Эт-точно! Пятый день верен, как пес. — Хмыкнув, Андрей тихонечко, почти неслышно свистнул, и, осекшись на полуслове, девчонка обернулась, отыскивая его глазами. — Кобылка, конечно, лейб-гвардейская, грех жаловаться. Но, понимаешь, взбрыкивает…
— Во-во! За это я их, брат, и не уважаю. — В голосе Джимми прорезались интонации аксакала. — Прогуляешь такую вот по кустам, вроде все нормально, а после не знаешь, как отделаться… Лучше уж книжку почитать.
И ласково погладил пухленький, еще глянцевый, но уже и порядочно взлохмаченный покетбук в картонной обложке, украшенный чеканным профилем то ли вождя команчей, то ли невесть кем оттатуированного фараона.
— Прошу любить и жаловать: «Дхьотхъя об Огненном Принце». Всегда под рукой, всегда интересно и никаких взбрыков!
— Дай глянуть! — Андрей, ловко изловив летящий томик, пролистал его, похоже, в поисках картинок. — М-да, забавно. Перевод, понимаешь, с дархи. Не плавали, не знаем. А о чем?
— Да так… — Светловолосый атлет опрокинулся на спину и привольно раскинул руки.
— Нет, Джимми, все-таки о чем?
— Ну-у… Про принца Видратъхъю и заоблачных демонов…
— Это как? — Теперь Андрей заинтересовался всерьез. Вздохнув, Джимми напрягся и совершенно незаметным движением оказался сидящим в позе лотоса.
— М-м-м… В общем, был там король, а у него наследник, а у наследника брат, и еще какие-то заоблачные демоны, я до комментариев пока не добрался. Вот. Ну и король, естественно, помер, а брат, поганец, наследника чуть не зарезал…
— А демоны?
— Вот демоны-то как раз с братцем и снюхались. Такие вот пироги с котятами. А наследник, этот самый Видратъхья, тоже не козлик, дал ноги в горы и… Слышь, Эндрю, кинь-ка сюда книжку…
Поймал томик, наугад развернул его и, прищурившись, с явным удовольствием продекламировал, не очень даже и заглядывая в текст:
— Каково?
— Да уж… — Андрей покачал головой. — Интересный парнишка этот твой Видра… Ээ… ну, в общем, принц. Обстоятельный такой. И что дальше?
— А что дальше? — Отложив покетбук, Джимми потянулся и сладко-пресладко зевнул. — Дальше как положено. Повоевал-повоевал, потом поймали.
— И?..
— И ку-ку. Ноги отпилили, руки отрубили, сердце, понятное дело, вырезали и сожгли. Фигня, в общем. Зато батальные сцены — пальчики оближешь!
— Неслабо. Слышь, Джим, а ты, случаем, не астрофизик?
— Он самый.
— Из «ящика»?
— Угу.
— Я тоже.
— Понял, не дурак.
— Горная станция?
— Так точно.
— Церион-4.
— Вроде того. Пенелопа-2.
Переглянулись. И вроде бы даже перемигнулись. Или это только показалось?
— Жаль. Я подумал — соседи.
— А… не все ли равно?
Помолчали.
— Хорошо тут все-таки, а, Энди?
— В отпуске и в холодильнике хорошо…
Андрей приподнялся, сел, обхватив руками колени, прислушался к чему-то невидимому. Скривил губы.
— Тьфу ты, сгорел-таки, похоже. А кстати, Джим, твой обходной маневр с ударом там, в бассейне… Кажется, старая басконская школа?..
— Нет, это из кэндо. «Прыжок пьяного кота» плюс кое-что сам сообразил. Европейский удар нуждается в упоре. А впрочем, какие уж там, под водой, школы? Акулы в этом, знаешь ли, мало разбираются…
— Эт-да-а-а…
Между тем общий разговор, набрав обороты, окончательно сконцентрировался на спортивных проблемах. Ничего удивительного: в год розыгрыша Кубка Галактики футбол вновь препрочно вошел в моду, безусловно опередив и бесконечный чемпионат по шахматам, и большие гонки Лютеция-2 — Новый Дакар. Тем более что в этом сезоне вчера еще мало кому известный новобатумский «Реал» рвался вперед, как торпеда, с неприличной легкостью наращивая шансы стать новым, сто двадцать шестым членом элитарного клуба «Бессмертных звезд Галактики».
— А все-таки «Реал» — не команда! — прислушавшись к возгласам, убежденно прокомментировал Джимми.
— Или я буду спорить? — возмутился Андрей. — Если бы не чехарда с тренерами, наш «Черноморец»…
— Именно так, — глубокомысленно кивнул Джимми. — Тренер, брат, это тебе не принц Видратъхья. У нас в «Челесте» тоже с этим проблема…
Сплюнул в песок.
— Да и спонсоры те еще муфлоны…
— Ничего, мы еще встретимся в финале, Джимми!
— А как иначе, Эндрю!
И они обменялись значками клубов, на счастье. На мятой майке Джима вовсю засверкал, отражая солнечные блики, бело-голубой значок «Черноморца», а шею Андрея украсила цепочка с золотисто-алой эмблемой «Челесты», выполненной резко и нарочито грубовато…
— Береги! — Джимми любовно поправил медальон. — Таких больше нет. Выставочный экземпляр! Сам делал.
Откуда-то из бело-огненных небес обрушилась гитара.
— Все, артисты, хорош отлынивать, народ в экстазе! Твоя очередь, Джи-Джи!
Солнечный луч прыгнул на лакированные, игриво выгнутые бока недешевой «Кремоны», пометался немного, устраиваясь поудобнее, и выжидательно замер. Джимми не торопясь подкрутил колки.
— Ну что, орлы? Солдатское, говорят, было, теперь ударим по-бушменскому? Возражений нет?
Возражений не последовало.
Джимми замолчал, предоставив пальцам извлекать из струн печально-торжественный проигрыш темы, но песня не оборвалась. Смуглый крепыш Аллан, сдвинув на затылок монументальную шляпу, подхватил ее, чуть-чуть перевирая мотив, и остальные, один за другим, поддержали его, и светловолосому солисту не оставалось ничего иного, кроме как подыгрывать поющим.
— Любимая песня Арпада, — очень серьезно сообщил Аллан, когда стих последний аккорд.
— Да хватит, достал уже со своим Арпадом, — отозвался кто-то, сидящий поодаль, и поперхнулся, столкнувшись с неожиданно колючим, откровенно враждебным взглядом. — Ну, извини, я не хотел, лады?..
Аллан, помолчав, кивнул.
— Принято. Только скажу я вам, ребята, все мы туг пальца Арпада не стоим.
— Алек! — высунулся наконец в центр круга «лауреат». — А сделал бы ты мне встречу с Рамосом, а? Такое интервью сварганю — пальчики оближете. И вам полезно, и мне приятно!..
Изящно облетая будочки, фонтанчики и шезлонги, незаметно подплыл переливающийся всеми цветами радуги информационный шар, деликатно откашлялся, обращая на себя внимание, и сообщил:
— Господин О’Хара, Джеймс Патрик, минуточку внимания! Вас ожидает переговорная кабина в секторе номер три. Вызов срочный. Простите за беспокойство.
Выдержал трехсекундную паузу.
— Господин Аршакуни Андрей Мирославович, минуточку внимания! Вас ожидает переговорная кабина в секторе номер одиннадцать. Вызов срочный. Простите за беспокойство.
Пожав плечами, парни почти одновременно поднялись и, отряхивая на ходу песок, пошли к административному павильону. Девушки, словно сговорившись, глядели им вслед…
… В павильоне, больше похожем изнутри на тихий лесок с прозрачным озерком бассейна в центре, царили нежный полумрак и освежающая прохлада. Над кабинами в секторах номер три и номер одиннадцать рассеянно мерцали голубые плафоны.
СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА
— Ну, Джим, я пошел.
— Удачи!
— Как насчет собраться вечерком?..
— Будем видеть…
Андрей шагнул в округлые недра звуконепроницаемой кабины, плотно прикрыл за собой дверь и нажал кнопку готовности к приему. Экран осветился. На Андрея испытующе смотрел усталый немолодой человек в тщательно отутюженной серой куртке с четырьмя ромашками в петлицах.
— Мой генерал, лейтенант Аршакуни по вашему приказанию явился!
— Лейтенант! — Широкое, словно выдубленное лицо на экране было абсолютно неподвижно, лишь губы едва заметно шевелились. — Родина требует, чтобы вы выполнили свой долг!
— Слушаюсь!
— За вами послан флайер. Полагаю, он уже прибыл: в Уолфиш-Бей. Нью-йоркский рейс на Ормузд сегодня в двадцать сорок пять по Общегалактическому. Собирайтесь — в вашем распоряжении есть четверть часа.
— Так точно!
— По прибытии в Нью-Йорк приказываю связаться с базой и доложить.
— Есть!
— И вот еще что. Компенсация за прерванный отпуск будет предоставлена в сумме двойного месячного оклада. Подготовьте рапорт в пути.
— Благодарю, мой генерал!
Когда Андрей торопливо вышел из кабины, холл был почти пуст; в мягких креслах у бассейна, листая яркие иллюстрированные журналы, ожидали связи два-три легкомысленно одетых пляжника да дежурный за стойкой около двери мирно дремал, подперев голову кулаком и время от времени откровенно всхрапывая. А продолговатый плафон над кабиной сектора номер одиннадцать источал нежное голубоватое сияние.
Там, в зыбкой полутьме, капитан Джеймс Патрик О’Хара стоял навытяжку перед изображением каменнолицего человека с пятью кленовыми листьями на погонах…
ОМГА сообщает:
… Беспрецедентное побоище в Уолфиш-Бее! На концерте суперзвезды Ози Гутелли вспыхнула драка соперничающих фэн-клубов. Наш собственный корреспондент Яан Сан-Каро, как всегда, в гуще событий. Эксклюзивное интервью импресарио мадемуазель Гутелли. «Нам не страшны происки интриганов!» — говорит Аркадий Топтунов. В последний час: тринадцать человек доставлены в больницу с незначительными телесными повреждениями.
… Заседания всех секций Конференции по проблемам использования боэция объявлены закрытыми. Мэрия Порт-Робеспьера проинформировала представителей прессы о новом режиме аккредитации. Доктор Рубин, отказавшись от комментариев, призвал джентльменов к максимальной гласности.
… Большое Жюри приняло к предварительному рассмотрению дело известного Пак Сун Бона, именуемого в определенных кругах также Наставник Пак. Первое слушание намечено на среду. Инспектор Рамос заявил о том, что располагает девятью папками неопровержимых доказательств. Следите за выпусками!
… По данным компетентных источников, обстановка на Дархае остается напряженной.
ГЛАВА 4. ОРМУЗД-2 (Единый Галактический Союз). Гея-Элефтера (Демократическая Конфедерация Галактики)
17 июля 2198 года по Галактическому исчислению
Опоздавших не было. Не тратя времени на бутерброды и лимонад, присутствующие проходили в зал и рассаживались по креслам амфитеатра уже не торопясь, успевая задержаться в проходе у одного-другого кресла, обменяться новостями, посмеяться над свежим анекдотом. Судя по всему, незнакомых здесь не было, все сталкивались раньше — кто ближе, кто мельком, и, соберись они в другом месте, все это вполне могло бы показаться стороннему наблюдателю ежегодным слетом однокашников или пленарным заседанием клуба любителей чего-либо.
Впрочем, никому из собравшихся и в бредовом сне не померещилась бы сама возможность присутствия в этом зале стороннего наблюдателя.
В помещении было свежо и шумновато. Однако же и место, и повод собрания настраивали на вполне определенный, далеко не шутливый лад. И к тому моменту, когда тяжелый, старомодно багровый бархатный занавес бесшумно раздвинулся, открыв голую сцену с небольшим столом посередине, шуршание и шелест стихли.
Под негромкий шорох старинных вентиляторов коренастый, немного сутулый человек в форменной куртке с четырьмя ромашками в петлицах, с положенным по Уставу (параграф 28, статья «В») мужественным и одновременно умным лицом, четко прошагал из-за кулис к столику. Перед тем как опуститься в кресло, он повернулся к залу лицом и, коротко козырнув, негромко сказал:
— Здравствуйте, друзья!
Зал отреагировал мгновенно: бурные продолжительные аплодисменты не стихали, переходя в овацию, три с половиной минуты, строго в соответствии с Уставом.
— Друзья! — Он говорил спокойно, не напрягая связок, но слушателям казалось, что микрофон, стоящий у рампы, был излишеством. — Вы — лучшие из лучших, и я не боюсь признать это. Вы рождены на разных планетах нашего великого Союза, у вас различен цвет кожи и колыбельные вам пели на разных языках, но всех вас объединяет гуманное и святое чувство ненависти к насилию. Вы, совсем еще молодые, пожертвовали всем, даже своей личной жизнью, пожертвовали осознанно и бесповоротно во имя того, чтобы Единый Галактический Союз развивался, креп и процветал, чтобы нигде во Вселенной не лились кровь и слезы. Долгие годы вы были вынуждены прикрываться легендами, даже и от матерей своих скрывая свое благородное предназначение. Но сегодня настало ваше время: зло вновь поднимается против добра!
За спиной оратора засветился большой, во всю стену, панорамный экран.
В мглистой тьме пространства — незнакомый рисунок созвездий. Затем, отдельно, небольшая яркая звезда класса Солнца с планетной системой. Крупным планом — ее вторая планета, блеклый серо-сиреневый шар, подернутый легкой вуалью голубоватой дымки.
— Дархай, — раздался бесстрастный голос. — Вторая планета системы СК-5, четырнадцатый сектор восьмого региона Малого Магелланова Облака.
В темноте зала кто-то произнес: «Однако!»
Чуть дальше, на галерке, озадаченно присвистнули.
— Открыта в 2127 году по Галактическому исчислению совместной экспедицией Харрингтона, Минь Люши и Жуковского. Освоение начато в 2163 году экспедицией Абу Мезрага Камальэддина Заффари. Населена гуманоидами класса гомо сапиенс; этнические показатели близки к земным аналогам ариев дравидийского типа; представлены также и неярко выраженные монголоидные группы. Физиологическая и генетическая совместимость аборигенов с землянами стопроцентна…
Оживленный шумок в зале. Сдавленные смешки.
— …язык — дархи, третьей категории сложности. («Дархи, дархи… мельком подумал Андрей. — Дархи?»)
— Подразделяется на два неконфронтационных говора, долинный и горный. Есть также ряд диалектов, неродственных основному языку, сохранившихся преимущественно в лесных и высокогорных районах. Литературная форма языка сформировалась на базе долинного говора.
На экране — ряды причудливых закорючек.
— Имеется письменность.
Информатор вкратце привел общие характеристики, особо выделив влажность климата и постоянную плотную облачность над планетой.
— В остальном условия близки к земным, экваториальным; в предгорном поясе наблюдаются смешанные леса. Четыре пятых планеты Дархай занимает океан.
Перед амфитеатром высветилась объемная карта: сплошная синева с легчайшим оттенком темной бирюзы, испещренная крохотными точками островов и прихотливо развернутыми ожерельями архипелагов, белоснежные шапки полюсов и вытянутый вдоль экватора материк, чем-то неуловимо напоминающий сказочного дракона…
… Джимми смотрел с интересом.
— Социальная структура Дархая достаточно развита. Религия политеистична, основывается на признании доктрины существования пантеона богов, возглавляемого Духом Добра, Хото-Арджангом. Дархайцы веротерпимы. Племенные и тотемные культы в последние века не преследуются…
Крупно, ярко, шумно: мелькание масок, изваяний, выразительных барельефов.
— Барал-Гур, изначальная столица Дархая…
Зубчатые, отливающие янтарем стены, подобно короне, венчающие горную гряду; вычурно изогнутые купола, подсвеченные изнутри и плавно переливающиеся десятками оттенков; остроконечные тройные шпили, отливающие перламутром, вонзаются в низко повисшие облака; кудрявая зелень парков и узенькие, с высоты птичьего полета напоминающие тончайшую паутинку, улочки…
— …основан в 311 году по Галактическому исчислению на землях княжества Шкрганнигхъйе первым объединителем континента Натадинингратом Жестоким. Вплоть до первого контакта с землянами — резиденция центрального правительства, затем — церемониальный центр общегосударственного значения и местопребывание высших жреческих коллегий…
Пляска красок, какие-то ожесточенно-наивные в своем средневековом непрофессионализме сражения, перекрестья стали, развевающиеся на ветру вымпелы, странные горбатые лошадки без седоков с оскаленными зубами и перепуганными, стоящими дыбом гривами…
— В настоящее время Дархай централизован, под юрисдикцией центральных властей объединены вся материковая часть и большинство населенных архипелагов, исключая наиболее северные и южные. Вместе с тем, согласно эдикту Вридармарярлала Миротворца, подтвержденному Гуппалаварманом II Мудрым, некоторые племенные вожди, именуемые на островах тьяппиями, а в материковой части ван-туанами, сохраняют определенные прерогативы и полномочия…
(«Ван-туаны… — мельком подумал Джимми. — Ван-туаны?!»)
— …в первую очередь привилегии эти сохранены за знатью племен, обитающих в труднодоступных лесных и высокогорных районах страны…
Пожилой, предельно благообразного вида дархаец в оранжевой складчатой мантии, сопровождаемый семнадцатью редкобородыми, пергаментно-высохшими старцами, сверкающим серпиком срезает продолговатый плод с ветки невысокого, прихотливо изогнутого деревца.
— Традиционная форма государственного устройства — абсолютная монархия. Император из правящей династии Ранкочалар, он же — Бессмертный Владыка, формально располагает всей полнотой власти, однако принятие важнейших решений обязан согласовывать с Советом Семнадцати. В настоящий момент вы видите императора Харьядарвана VI, ныне покойного; именно в его царствование были установлены официальные дипломатические отношения между землянами и Дархайской империей.
Экран полыхнул оранжевым. Сотня — нет, больше! — почти полторы («Сто сорок семь», — уточнил информатор) сотни похожих друг на друга юношей в ярких накидках плечом к плечу выстроились на внутренней балюстраде дворцового комплекса. Камера неторопливо прошлась вдоль строя, выделив из напряженных молодых лиц одно — резкое, надменное, напоминающее в профиль то ли индейского вождя, то ли невесть зачем раскрашенного масляными красками фараона. Спустя мгновение именно этот, резколицый, преклонив колени, принял из рук Бессмертного Владыки глянцевитый плод.
— На этих кадрах тринадцатилетней давности запечатлена церемония провозглашения престолонаследника. Перед вами — старший сын императора Харьядарвана VI принц Видратъхья, рожденный от третьей официальной супруги Бессмертного Владыки. Выражал интересы наиболее реакционных кругов придворной аристократии и жречества, выступавших за ограничение контактов Дархая с землянами. В результате выступления здоровых сил дархайской элиты отстранен от наследования. В настоящий момент престол Дархая занимает сто семьдесят третий представитель рода Ранкочалар, Харьядарван VП Лаудитъя, прозванный также Многомилостивым…
Камера судорожно задергалась и наконец застыла, обнаружив где-то в середине строя худенького, близоруко прищурившегося юношу.
— Принц Лаудитья — девяносто восьмой сын императора; рожден наложницей второго разряда. Почетный доктор филологии и права. Магистр традиционной теософии. Увлечения: стихосложение, каллиграфия, коллекционирование пилочек для ногтей. На дархайском престоле одиннадцатый год…
Стереокарточки — анфас и в профиль. В традиционном одеянии, в полосатой военной форме с пышными эполетами и сияющими блюдцами орденов, в академической мантии при шапочке с помпоном, в цивильном костюме. И в диссонанс надменному лицу — тяжелые роговые, с многократным увеличением очки…
— После ряда серьезных инцидентов, связанных с борьбой за престолонаследие при вступлении на трон правящего ныне монарха, законодательство Дархая было дополнено рядом достаточно жестких регламентирующих статей…
На экране возникло нечто экзотическое, столь яркое и откровенно помпезное, что, даже не особо вглядываясь, можно было узнать коронацию. Джимми, да и не только он, судя по шушуканью слева, обратил внимание на странную деталь: среди общего блеска и сияния, в самом конце пышной процессии, скромно одетые служители, окруженные сонмом плакальщиц, торжественно несли на носилках многие-многие десятки, если не все сто («Сто сорок пять», — уточнил услужливый информатор) богато, но без излишней крикливости инкрустированных нефритом гробов…
Андрей стиснул подлокотники кресла.
Там, на бесстрастной глади экрана, били ребенка. Били спокойно, без злости и без пощады. Коренастый кругломордый надсмотрщик стоял подбоченившись под развесистой кроной баньяна и со скучающим видом отсчитывал удары.
— Важнейший предмет экспорта Дархая — плоды ла обладают высокими тонизирующими и общеукрепляющими свойствами, основное сырье для ряда популярных психотропных препаратов. Сбор плодов ла осуществляется трижды в год силами общинников, приписанных к конкретным участкам земли. Это традиционная повинность дархайских граждан. Вот так, согласно обычаю, имперские власти наказывают взрослого дархайца, не выполнившего дневную норму уборки. Официальное наступление возраста трудовой зрелости по законам Империи — шесть лет.
В мертвой тишине зала кто-то громко сглотнул; послышалось сдавленное ругательство,
— Попытка наиболее трезвомыслящих представителей правящей элиты, возглавляемых законным престолонаследником принцем Видратъхья, ограничить произвол Семнадцати Семейств и смягчить положение подданных потерпела неудачу вследствие кровавого государственного переворота. Устранение принца и позорная расправа с ним явились вопиющим нарушением освященных веками законов Дархая. Движение горских племен, выступивших в поддержку реформаторов, было подавлено с исключительной жестокостью, в некоторых случаях приобретавшей черты геноцида…
Кадры убыстрились, словно щадя нервы зрителей: смазанно мелькнули остроконечные лезвия, поочередно падающие на сизо-красный кусок вопящего мяса, распростертый посреди золоченого помоста, пылающие джунгли, черные пятна дотла выжженных деревень на фоне белоснежных горных вершин.
— А сейчас вы видите имперскую каторгу. Те из повстанцев, которым удалось избежать бессудных расправ и смертной казни, не выдерживают здесь и двух лет. Кроме того, во владениях Семнадцати Семейств имеются собственные зоны изоляции, находящиеся вне контроля центральных властей. О том, что происходит там, мировая общественность может только догадываться…
Сотни почти нагих скелетоподобных людей, утопая по колено в буро-лиловой жиже, движутся строго в затылок по кругу, с неимоверным напряжением удерживая на плечах бесформенные, маслянисто блестящие базальтовые глыбы. Упавшие не поднимаются: под развеселые поощрения надзирателей по ним, живым еще, проходят идущие вслед, все глубже и глубже втаптывая обессилевших в суглинок.
— Эти кадры чудом оказались в нашем распоряжении; так расправлялись с пленными после подавления восстания сторонников законного престолонаследника и разгрома первых, тогда еще разрозненных отрядов «Борцов Свободного Дархая». Но зверства имперской администрации и наемников Семнадцати Семейств не смогли заставить народ опустить руки, они лишь укрепили волю к борьбе.
На полу тесной лесной хижинки, окруженный внимательными, не по годам хмурыми подростками, сидит почти совсем седой, хотя и не старый дархаец в пятнистом комбинезоне. Он говорит что-то, негромко, но убежденно; жесты его скупы и выверены, лицо спокойно, только в миндалевидных глазах — боль и ярость. И мальчишки, сжимающие самострелы, смотрят на него с обожанием…
— Юх Джугай, равнинный лунг; человек, который смог сделаться самым любимым и родным для каждого простого дархайца. Из семьи старьевщика. Рано осиротев, работал поденщиком, чистильщиком обуви; некоторое время служил водоносом при посольстве Единого Галактического Союза в Дархайской империи. Философ-самоучка. Основные труды: «Устав Борцов Свободы», «Доктрина дестабилизации», «Раздумья о невозможном», «Война и джунгли», «Великий путь квэхва». За создание подпольного кружка и агитацию против правящей клики шесть лет провел в тюрьме особо строгого режима. Возглавив восстание узников, сумел вырваться на свободу. Девять лет назад добился объединения стихийно возникавших повстанческих отрядов в Армию Свободы…
Оборванные тощие мальчишки, горяча босыми пятками горбатых коней, мерно трусят по улицам хмурого обугленного города, и слегка изогнутые сабли мерно вздрагивают в такт мелкой рыси. А вслед за конными, шеренга за шеренгой, отряд за отрядом — пехота. Все, как один, — юные, мало кому больше двадцати, разве что командирам, с завидной слаженностью печатают шаг, разбрызгивая капли мокрой пыли. Самострелов почти не видно, за плечами топорщатся винтовки, у многих на груди — автоматы. Впереди — совсем мальчишка; вышагивает гордо, выпятив грудь и высоко вздымая тонкое древко с изображением острогрудой, раскинувшей широкие крылья птицы.
— Пять лет назад Борцы Свободы, сломив сопротивление императорских войск, вошли в Пао-Тун, официальную столицу Дархайской империи. Впервые в истории перед народом Дархая открылась дорога к сияющим высотам равенства, братства и подлинного прогресса…
За спиной Джеймса Патрика О’Хара кто-то поперхнулся и выругался сквозь зубы — на незнакомом языке, но с отчетливо ясными интонациями. И сам Джимми тоже с трудом проглотил подступивший к горлу комок.
На экране ликовали. Безыскусно и неприкрыто. Положив руки на плечи друг дружке, худые, преждевременно состарившиеся люди кружатся в хороводе вокруг бутылкообразного широкостволого дерева, хищно распластавшего над землей крючковатые ветви. Сперва медленно, потом быстрее, еще быстрее, и вот ритм пляски становится пронзительно быстрым. Мелькают лица, искаженные, оскаленные, безглазые. Люди кричат — нечленораздельно и радостно, это ясно, хотя кадры и не озвучены: снимал явно непрофессионал, в неудачном ракурсе, да и пленка посечена шрамами, царапинами; люди подпрыгивают, не разрывая круга, словно стараясь на скаку сорвать с ветвей зрелые плоды. А на ветках и впрямь плоды, жуткие и не опознаваемые с первого взгляда. В строго определенном, исключающем неорганизованность порядке — через одного, вверх ногами и вниз — висят останки людей в оранжевых лохмотьях. Среди смятых, словно досуха выжатых, трупов есть совсем крохотные, и острые крюки-сучья щедро украшены оскалившимися посиневшими головами…
— То, что вам показано сейчас, — документ уникальный: изверги тщательно скрывают правду о творящемся на занятых ими территориях. Подобные празднества устраивают крестьяне в захваченных террористами деревнях, именуя их «днем возмездия вековечным угнетателям». Такие расправы считаются стихийными, но происходят, как это неопровержимо доказано, с молчаливого одобрения руководства так называемых Борцов Свободного Дархая…
Резким наплывом: стоящая неподалеку от кошмарного хоровода группа бесстрастных парней в пятнистых форменках.
— На основании этих хроникальных кадров мировое сообщество неоднократно заявляло решительный протест. Однако относится это только к поселениям долинного Дархая. О происходящем в горных районах достоверных данных не имеется…
В механическом голосе комментатора внезапно прорезались человеческие нотки, словно даже спокойная машина не сумела выдержать положенной ей равнодушной отстраненности.
— Следует подчеркнуть, что, помимо увиденных вами судилищ, на территориях, прочно контролируемых инсургентами, действуют и официальные трибуналы, так называемые Семерки Великой Справедливости…
Лужайка. Длинный стол. Аккуратно уложенные в отдалении тела, прикрытые потемневшей парусиной. Несколько полупризраков со скрученными за спиной руками на почтительном расстоянии. Перед серьезными нахмуренными мальчишками стоит на коленях жестко спутанные ржавой проволокой белобородый старик, молоденькая коротковолосая женщина в разорванном от подола до промежности платьишке и трое детей, два мальчика и девочка лет семи, совсем голенькая, покрытая синяками и укусами.
— Эти пятеро не принадлежат к Оранжевым Дархая. Их вина, доказанная бесспорно, заключается лишь в том, что кормилец семьи насильно мобилизован в армию императора. Следует отметить, что данное обстоятельство является отягчающим вину фактором…
Подросток тринадцати — не более — лет от роду горячо декламирует что-то, обращаясь то к коллегам-ровесникам, восседающим за судейским столом, то к обвиняемым. Он вздымает к небесам палец с обгрызенным ногтем, прижимает ладонь к сердцу, картинно закатывает глаза. Судя по всему, он дебютирует в роли прокурора, и роль эта ему, совершенно очевидно, весьма по нраву. Судейские одобрительно покачивают головами, кивают в нужных местах, и в глазах женщины, крепко держащейся за детские ладошки, стынет смертная, невыносимая тоска.,
Джимми, не сдержавшись, плотно прикрыл глаза. У всего есть предел, и не было больше сил смотреть. Нет! Такое невозможно за два года до начала двадцать третьего века. А если возможно, то все равно: хватит! Хваааатит!!!
Но заставить замолчать информатора капитан О’Хара не имел полномочий.
— Таким образом, согласно разделу «О народном гуманизме» части третьей «временного Устава Свободы», — беспощадно ввинчивался в мозг размеренный механический голос, — семья полосатого в исключительных случаях может избежать высшей меры наказания и получить помилование, однако должна публично проклясть «предателя», отречься от него и искупить скверну родства примерным трудом. Так, например, мальчики, которых вы видите, будут отданы в «Школу Юных Борцов», где подвергнутся усиленной психической обработке. Они больше никогда не увидят ни матери, ни сестры. Женщины будут помещены на пять лет с возможным продлением срока в специальный Дом возмужания при краткосрочных курсах десятников великой Армии Свободы…
Последний, намеренно затянутый кадр: дорога — и по ней, спотыкаясь, бежит вслед за видавшим виды джипом старик; он уже развязан, но, кажется, не осознает этого, он бежит, пытаясь догнать уходящий автомобиль, потом спотыкается, падает в пыль, разбивая изрезанные проволокой руки, медленно поднимает голову, и глаза его, распростертые во весь необъятный экран, полны немого крика.
— Как можно убедиться, в отношении стариков «Семерки Великой Справедливости» порой проявляют снисхождение…
Экран погас.
Человек с ромашками в петлицах медленно обвел ледяными серыми глазами потрясенно молчащий амфитеатр и, судя по всему, остался доволен произведенным впечатлением.
— Поверьте, друзья, кадры, показанные вам, не относятся к числу самых страшных. Это всего лишь минимум объективной информации, не более. Но, полагаю, вам хватило и этого. Долг сильного — вступиться за слабых, право сильного заступить дорогу злу. А вы, дети мои, — это прозвучало очень искренне и проникновенно, — воплощение доброй силы нашего Союза, силы справедливой и потому несокрушимой.
Он перевел дыхание.
— Эта лента снята не сегодня и не вчера, и многое изменилось за прошедшие годы. Но борьба Дархая не окончена. За демаркационной Оранжевой линией, разделившей окровавленный континент, прислужники отжившей свое феодальной своры не желают смириться с неизбежностью своего краха, с рождением и утверждением на дархайской земле народного государства, нового строя…
В полнейшем безмолвии четкими и размеренными каплями падали слова.
— Сегодня на дархайской земле вновь льется кровь. Отборные дивизии полосатых, вероломно нарушив гарантированное великими державами перемирие, рвутся к Пао-Туну. Четыре дня назад Свободный Дархай официально обратился к Единому Галактическому Союзу, как одному из гарантов четырехсторонних соглашений, с просьбой о помощи.
Квадратное лицо четырехромашечного немного смягчилось. Заложив руки за спину, он медленно прошелся по кромке просцениума, пытливо вглядываясь в глаза тех, кто сидел в ближних рядах.
— Я могу, но не хочу приказывать вам, ребята. Поймите меня: вас здесь триста человек. Триста лучших. Нужно всего лишь пятьдесят…
Истончившись, замерли в теплом вечернем воздухе медные звуки гимна, и порыв ветра подхватил и развеял квадратный штандарт с алым кленовым листом. Полсотни счастливчиков-добровольцев, не дыша, вытянулись по стойке «смирно», а из-за оградки плаца на лих с неприкрытой завистью глазели те, кому не повезло при жеребьевке.
— Р-равнение на знамя-а!
Вдоль шеренги шли двое, внимательно всматриваясь в застывшие молодые лица. Эти идущие, совсем разные внешне, чем-то неосознаваемым очень походили друг на друга: пятилистный адмирал космофлота Демократической Конфедерации Галактики и высокий, сухопарый, аристократически бледный дархаец — Его Высокопревосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посол Оранжевой Империи.
В чем сходство? Не понять сразу…
Время от времени, выделяя в строю по одному ему известным признакам кого-то особого, отличного от прочих, адмирал замедлял шаг, приостанавливался, подходил почти вплотную и, крепко сжав плечо офицера ухватистыми пальцами, привыкшими к танковым рычагам, тихо говорил:
— Завидую, сынок… Возвращайся с победой.
Дархаец не говорил ни с кем и рук не пожимал никому. Он просто шел вдоль шеренги, молча, бесшумно, метя чистейшие плиты плаца бахромистыми полами широкой оранжевой накидки, и по светло-оливковому морщинистому лицу, от пушистых ресниц к краешкам туго сжатых бескровных губ, медленно текли слезы.
ОМГА сообщает:
… Инспектор «Мегапола» Арпад Рамос запросил у Большого Жюри дополнительного времени для подготовки и представления документов, свидетельствующих, по его мнению, о преступном характере организации, возглавляемой господином Пак Сун Воном. Вице-председатель Совета Директоров, временно замещающий господина Пака сеньор Аттилиоэль-Шарафи, в беседе с корреспондентами выразил уверенность в том, что инспектор Рамос страдает галлюцинациями. Следите за выпусками!
… На Конференции по проблемам использования боэция после двенадцатичасовых прений выработаны рекомендации по дальнейшей программе работы форума. В последний час: доктор Рубин покидает зал заседаний!
… Завершился Первый международный конкурс красоты среди девушек в возрастной категории до семи лет. Победительница, Катрин Мак-Келли, увенчана лавровым венком и стала обладательницей путевки в земной Центр Уолта Диснея. Отец юной красавицы, ветеринарный врач Томас Мак-Келли, в беседе с нашим корреспондентом заявил: «По мне, так все эти конкурсы — дело небогоугодное, но что правда, то правда, дочурка у меня хорошенькая!»
… Обстановка на Дархае постепенно нормализуется. Консультативные группы экспертов мирового сообщества отбыли из столиц великих держав в район конфликта.
ГЛАВА 5. ДАРХАЙ. Фронт. Кай-Лаонский выступ
16 сентября 2198 года по Галактическому исчислению
Каким-то непостижимым чудом в деревушке уцелели десятка два хижин. На сплошном черном пятне, которое еще утром называлось особым укрепленным поселением Кай-Лаон, они казались вызывающе неестественными, ненужными. Их не должно было тут быть. Но они были. И солдаты в полосатых комбинезонах с оранжевыми нашивками, надрывая глотки отборной матерщиной, пинками выгоняли из них оставшихся в живых жителей, совершенно очумевших от пятидневного ада.
Ветер гнал по долине, по направлению к стратегическому шоссе, хлопья гари, засыпая продолговатые бугорки, сотни скрюченных, уже начинающих разлагаться тел в пятнистых форменных куртках. Исполняя приказ Любимого и Родного, ополченцы и борцы регулярных сил Свободного Дархая вгрызлись в землю и стояли насмерть, вал за валом отражая наступление элитных подразделений Бессмертного Владыки.
За пять суток непрерывных боев, несмотря на почти непрекращающийся артобстрел, разметавший на куски укрепленные позиции противника, ни штурмовые отряды, ни танки под прямоугольными оранжевыми знаменами не смогли прорвать линию обороны упрямого таученга Нола Сарджо…
Срывались намеченные сроки, вырабатывала ресурс техника, и выход на дальние подступы к Пао-Туну до сезона густых туманов становился проблематичным. Просчитав и взвесив ситуацию, Генштаб принял решение ввести в бой отдельный танковый корпус.
И теперь те, кто дрался до последнего, защищая подходы к Кай-Лаону, лежали, а на пепелище победители сгоняли уцелевших крестьян, не успевших или не пожелавших эвакуироваться, пока это еще было возможно. Их оказалось на удивление много — десятков семь, если не все восемь, во всяком случае не менее процента от довоенного населения. Почти все — женщины и старики, пять-шесть мужчин помоложе.
Оглядев понурых пленников, капрал ткнул пальцем в женщин, которые выглядели посмазливее, небрежно махнул солдатам («Угощайтесь, парни!») и подозвал к себе невысокого лысеющего человека в ветхой, но отглаженной, слежавшейся по складкам оранжевой накидке.
— От всей души поздравляю, высокоуважаемый дхаи, с возвращением законных прав. И прошу соблаговолить указать нам смутьянов. Не всем же им, наверное, повезло, как той падали?
Дхаи, почему-то не очень радостный, скорее подавленный, замялся.
— Мне кажется, офицер, эти люди уже достаточно наказаны…
— Вам кажется? — сочувственно, но и не без легкого презрения передразнил военный. — Это ваши трудности. А я имею четкий приказ. Не извольте волноваться, почтенный, я подвешу самых никчемных работников. Ну, скажем, вот этот — шумел, пожалуй, еще при вашем уважаемом дедушке, мой дхаи!
Сгорбленный старичок с клочковатой пегой бороденкой вздрогнул и втянул голову в плечи.
— Нет-нет, это смирный человек, офицер, я хорошо знаю его, поверьте…
— Смирный? Так-так… Ну что ж, примем во внимание. А как насчет этого?! Нет, вы только взгляните, мой дхаи, каков молодец! Экая злоба в глазах! Взгляд капрала уперся в высокого молодого крестьянина, бережно нянчащего вывернутую из сустава руку. — Так бы и съел, кабы ручки не повыламывали. Ну, мы его сейчас живехонько успокоим. Эй, рядовой Кан, помоги-ка достопочтеннейшему дхаи выхолостить этого жеребчика…
Один из полосатых с заметной неохотой оторвался от группы, сгрудившейся над верещащими женщинами, и, подтягивая шаровары, вразвалку подошел к калеке.
— Раздевайся, брат борец, чего уж там, видишь — господин капрал ждет! Сам дхаи окажет тебе честь.
Крестьянин побледнел до голубизны — как, впрочем, и злополучный дхаи. Отшатнулся. Плетью повисла вдоль тела покалеченная рука. На худой шее дернулся кадык — и ухмыляющийся солдат с проклятием отпрянул.
Обреченный плюнул ему прямо в глаза.
Капрал оживился.
— Эге, парень, да ты ж еще и с норовом! Видно птичку по полету: никак не меньше, чем писарь ячейки Свободных, руку даю на отсечение! Что ж, вот на баньянчике Свободы мы тебя и подвесим вниз головушкой… а внизу — костерчик, как полагается, чтобы мозги не простудил. Действуй, Кан!
Почти беззвучно, словно корабль-призрак, по пыльной дороге из густеющего тумана выползла громадина «Саламандры». Тяжко осев на грунт, она еще пару секунд ворчала и вибрировала, устраиваясь на отдых.
Джимми О’Хара, откинув люк, сорвал шлем и жадно вдохнул мокрый, чужой, но удивительно вкусный воздух. Теперь он точно знал цену рассказам ветеранов. И готов был поклясться: нужно быть очень странным человеком, чтобы радоваться битве, зная, какова она на вкус. Да, зло следует карать; и он карал, он был в бою, в самом настоящем бою, и еще раз пойдет в бой, если прикажет Отчизна, но радости в этом нет и не может быть.
Ремесло солдата оказалось тяжелым и грязным. Все уроки боевой славы, вся лихость атак на маневрах и чистота танкодромов, в сущности, были ложью, скрывавшей истинный, омерзительный лик войны. И все же в глубине души Джимми сознавал, что придет день, когда, глядя в честные глаза безусых курсантишек, он, бывалый дядя, станет травить им байки о том, что все было недаром, о блестящих колоннах, победных маршах и девушках, с бескорыстной щедростью вознаграждающих утомленных победителей. И ничего не скажет он им о том, как по-настоящему выглядит война.
Есть вещи, которые каждый должен увидеть и понять сам.
Припухшие глаза неожиданно сощурились, зафиксировав некую жанровую сценку. Этакий апофеоз войны. Джимми поморщился и, пожав плечами, полоснул по солдатушкам, вовсю резвящимся с женщинами, башенным инфраизлучателем. Прицельно, от души, в полную дозу. Еще раз. Недобро ухмыльнувшись панике, он сплюнул на броню, спрыгнул в серую глинистую лужицу и медленно подошел к дереву.
— Эт-то еще что, капрал?
— Извольте убедиться, господин Большой Друг, смутьяна вешаем. Так сказать, знай, смутьян, про свой баньян! — Капрал подобострастно хихикнул.
— Та-ак. Вешаем, значит. Понятно. — Джимми доброжелательно улыбался. — А бывали ли вы в штрафном батальоне, капрал?
— Никак нет, господин Большой Друг! Четырнадцать лет беспорочной службы; имею орден Верного Пса четвертой степени и нашивку за постоянную готовность!
— Вот как? Похвально. Весьма похвально. Тем более обидно было бы увидеть вас в трибунале, капрал. А право на расстрел, знаете ли, надо еще заслужить. Бамбук растет очень медленно, вы ведь слыхали об этом, капрал? Короче. Чтоб я больше этого не видел, ясно? Вы — воины-освободители, а не банда насильников. Исполняйте!
Постороннему наблюдателю секунду спустя могло бы показаться, что капрал вырывает из лап палачей родного, чудом обретенного брата.
— Простите, — негромко сказал Джимми молодому, крепко покалеченному крестьянину. Тот молча отвернулся, злобно сверкнув глазами на высокого светловолосого чужака в полосатой форме.
И взгляд этот окончательно испортил настроение.
Оставив «Саламандру» (чего уж там, пункт взят, противник опрокинут и не скоро опомнится), Джимми бесцельно брел по деревне. Думать не моглось, жить не хотелось. Дорогу медленно пересекала девочка, маленькая замурзанная туземка, сильно приволакивающая ножку…
Дурная примета!
Суеверный дархаец сразу же пал бы в пыль ничком, бормоча заклинания от сглаза. Но Джеймс Патрик О’Хара, при всех своих недостатках, не был дархайцем, поэтому он просто присел, заглянул в глубокие, немного раскосые глаза туземки и невесело улыбнулся. Потом похлопал себя по карманам и обнаружил чудом сохранившуюся, еще с Земли захваченную карамельку.
— Держи, сестричка!
Девочка вздрогнула.
— Да не бойся, это вкусно…
Джимми не знал, понимает ли его дикарка; в кратком полевом разговорнике подобные случаи не были предусмотрены.
— Понимаешь? Вкус-но!
Она кивнула, попыталась улыбнуться в ответ — неудачно, крепко схватила яркую диковинку и неловко поковыляла к приземистой сараюшке, волоча ногу по черной маслянистой пыли.
За спиной капитана О’Хара послышался дробный топот сапог. И голос давешнего капрала:
— Господин Большой Друг! Пятнистые прорвали фронт!
… Никто и никогда не смел оспаривать, что начальник Генштаба заслуженно получил «Большое Золотое Ла» по окончании Академии.
Любимый и Родной академий не кончал.
Возможно, именно поэтому долгожданные подкрепления, лично возглавленные им, подоспели к развалинам Кай-Лаона столь неожиданно, как раз в тот неуловимый, в любой войне все решающий момент, когда весы сражения вздрогнули и закачались в зыбком, ежесекундно изменяющемся и готовом в каждый миг оборваться равновесии.
Чудовищный, тактически безупречный удар колонны супертанков, пробив брешь в обороне противника, с точки зрения высокой стратегии мало что изменил. Вынужденный отступить, таученг Нол Сарджо сумел закрепиться на заранее подготовленных позициях западнее оставленного населенного пункта и, дождавшись подхода резервных частей, с марша бросил их в контратаку, постоянно перегруппировывая войска, маневрируя, то притворно отступая, то нанося короткие резкие удары по вырвавшимся вперед подразделениям имперской пехоты. И свежие, на крайний случай прибереженные эскадроны, в считанные секунды располовиненные пулеметным огнем, трепали и дергали боевые порядки наступающих врагов.
Раз за разом — шквальные залпы и кавалерийские атаки, молниеносные просверки сабель, развевающиеся по ветру гривы куньпинганов — маленьких горбатых лошадок, плюющихся на скаку кровавой пеной… не смертельно, но надоедливо, утомляюще… и все это мешало императорским частям закрепить уже одержанную победу, опрокинуть, смять и уничтожить оттесненных бунтовщиков. Очень может быть, они давно уже достигли бы цели, не стой против них сам Тигр-с-Горы, достойный выученик Огненного Принца, великий мастер кинжальных ударов, когда невозможно ответить обидчику по заслугам и мощь ответного взмаха уходит в никуда, исчезая в вязкой, вроде бы и не пытающейся сопротивляться глиняной массе.
И все же, воодушевленные успехом, имперцы продвигались вперед, в первую очередь — на левом фланге, где волна за волной, отдавая сотни жизней под исступленным огнем, наступали егерские полки и генерал Тан Татао, не выпуская папиросы изо рта, лично шел в атакующих шеренгах, спокойно, без малейших признаков раздражения расстреливая замешкавшихся из табельного пистолета. С какого-то момента именно левый фланг стал сердцем битвы, и сделалось вполне очевидным, что к вечеру, максимум — к ночи, резервная линия обороны «Борцов Свободного Дархая», невзирая на яростный порыв подошедших подкреплений, будет сломлена…
И, осознав это, таученг Нол Сарджо сделал последнее, что могло бы, пожалуй, — при большом, очень большом везении! — переупрямить судьбу. Собрав последние части, поставив в строй каждого способного держать оружие, вплоть до музыкантов, полевых знахарей и личных массажисток, он предпринял бесхитростную, откровенно лобовую атаку против наступающих егерей — и спустя восемь минут, угодив под перекрестный огонь минометов, был ранен в ногу, затем, почти одновременно, подбит снова — на этот раз в грудь и в плечо… Когда его оттаскивали на плащ-палатке в то место, что пока еще называлось тылом, мельчайшие осколки разорвавшегося поодаль снаряда вспороли ему щеку, застряв в скульной кости, и все равно, уже полубредя, мало что соображая, он продолжал хрипеть, выплевывая вместе со словами обломки зубов и сгустки багровой мокроты:
— Держитесь! Держитесь!.. Мы победим!
С этого мгновения дело Свободного Дархая могло считаться проигранным. Утратив связь, деморализованные ранением непобедимого Тигра-с-Горы, потерявшие убитыми едва ли не две трети личного состава, миньтау покачнулись и дрогнули. Принявший командование на себя Любимый и Родной мало что соображал в передвижениях войск, и приказы его были по меньшей мере абсурдны.
Верхом же нелепости стал охватывающий фланговый удар отдельного танкового дао «Братья Дархая». Чудовищная безграмотность маневра была столь очевидна, что начальник Генштаба отказался верить первым донесениям с передовой и затребовал подтверждений. Получив необходимые данные, он долго смеялся над бессмысленной выходкой дилетанта. Затем, отсмеявшись вдоволь и склонившись над картой, он вдруг понял, что все потеряно.
В этом не было его вины; маршал умел воевать с равными и вполне способен был победить Нола Сарджо — он, собственно, и сделал это, но он никак не мог представить себе, что в изящный поединок двух профессиональных фехтовальщиков вмешается ни с того ни с сего совершенно непредсказуемый озверевший кретин с дубиной наперевес…
Отборные батальоны, фактически прорвавшие уже фронт мятежников в районе западнее Кай-Лаона, оказались замкнуты в кольцо и обречены, а потрепанные егеря, завязшие на окровавленных флангах, уже не способны были всерьез сопротивляться.
Как истый представитель высшего из Семнадцати Семейств, начальник Генштаба не позволил себе проявить слабость при подчиненных. Достав из плотно набитого золотого портсигара длинную тонкую сигарету, он неторопливо закурил, чего не бывало еще в последние двадцать лет, и скулы его казались сейчас особенно четко вылепленными.
Подняв трубку полевого телефона, маршал бесстрастным голосом отдал приказ об общем отступлении.
Корпусу «Саламандр» предстояло прикрывать отход…
… На экране стереовизора метались неясные тени. Время от времени в перекрестие прицела возникали противотанковые батареи, тщетно пытавшиеся хоть ненадолго задержать наступление. Сверхтанк сминал смертников быстрее, чем Андрей успевал пожалеть их. Машины Далеких Братьев двумя неостановимыми клиньями рвались вперед, оставляя за собою смятые, искореженные обломки орудий, разбегающиеся в первобытном ужасе расчеты и расплющенные жестянки оранжевых броневиков, чьи водители с фанатичной храбростью обреченных решились на таран.
Северная и Южная группы отдельного дао с минуты на минуту должны были сомкнуться на дымящихся руинах центра бывшего укрепленного поселения Кай-Лаон.
К исходу сорок седьмой минуты наступления Андрей не испытывал уже ни волнения, ни азарта. Сросшись с автоматикой танка, он и сам напоминал автомат. Если что-то и томило его теперь, то скорее всего стыд — перед противником и своими, стыд перед всеми дархайцами сразу и каждым в отдельности, потому что ему-то, лично ему, лейтенанту Аршакуни, в этой кромешной кутерьме ничего не угрожало. Во всяком случае почти ничего, это уж наверняка. Инструкторов, все равно, своих или нет, туземцы не обижают — таковы строжайшие инструкции обеих ставок. А сверхтанк слишком хорошо защищен, более того — в сугубо теоретическом случае непосредственной опасности умная машина заботливо катапультирует водителя…
Конечно, тогда уж не убережешься от, не дай Бог, случайного осколка… ну так на то и война.
Впрочем, в этом районе Галактики, да и на полтора десятка парсеков вокруг и намека не было на силу, способную на практике представить непосредственную опасность для «тристасороковки».
На пятьдесят восьмой минуте наступления в шлемофоне послышался ликующий голос лидера «южных»:
— Я — «Сокол», я — «Сокол»! Как слышите? Нахожусь в двух ке от точки двадцать два. Я — «Сокол», прием!
«Сокола», в миру Франтишека Ярузека, Андрей знал еще по училищу и, признаться, немножко завидовал ему: Франта — потомственный, едва ли не в седьмом поколении танкист — любил быть первым во всем, и это ему, надо признать, удавалось. Но на этот раз лейтенант Аршакуни тоже был лидером!
— Вас слышу! Я — «Индира», я — «Индира»! Как слышите? Прием!
— Езус сладчайший, какая радость! То есть бардзо, пани Индира! Через пять минут назначаю вам рандеву в точ…
Фразу прервал длинный пронзительный скрежет, и не нужно было излишне напрягать слух, чтобы узнать знакомый до боли взвизг катапульты; «Сокол» выбыл из игры, успев на прощание лишь выматериться, а в наушниках шлемофона всплеснулась какофония помех и лишь спустя несколько секунд раздался чужой гортанный голос, слегка искажающий классическую космолингву:
— Говорит Мураками, говорит Мураками! «Кондоры», делай, как я!
Команда шла открытым текстом, без кода, без позывных, и это означало, что дела противника действительно хуже некуда…
— «Кондоры», за мной! Помни Аламо!
«Кондоры» делали, как он. Разрозненные, окруженные стенами пламени глыбы металла подтягивались одна к другой — три, пять, девять, а вот и десятая! выстраиваясь в боевую колонну. Впервые в жизни, если не считать учебных лент, Андрей видел вблизи так много «Саламандр».
Вызов Далеких Братьев Дархая был принят Большими Друзьями Бессмертного Владыки…
Придет время, и этот бой будет единогласно признан классическим, проанализирован до мельчайших подробностей и включен в обязательную программу танковых академий Дархая. Седовласые преподаватели, обремененные килограммами орденов, тщательно разберут все: и кастовую самоуверенность начальника Генштаба, и косность аристократических доктрин ведения боя, и свойственную истинным самородкам мудрую дерзость Любимого и Родного.
Они переведут на сухой язык формул вдохновенное мужество пехоты и самоубийственную жертвенность дархайских артиллеристов и сойдутся во мнении, что только ужас дал остаткам деморализованных полосатых дивизий силы вырваться из гибельного мешка.
Ужас — и надежное прикрытие пятидесяти «Саламандр».
Но «Саламандрам» отступать было уже некуда…
Впрочем, Андрей и шедшие за ним не догадывались, что творят шедевр. После сводящего с ума лобового удара, после полуторачасовой мясорубки из полусотни «Саламандр» и пятидесяти «Т-340» осталось соответственно одна и четыре остальные бестолковыми грудами истекающего дымом металла громоздились на пепельном прогаре поля, и водители их, прихрамывая, убредали подальше, торопясь найти укрытие от случайных выстрелов…
Работа была выполнена, и догонять прорвавшегося счастливчика не имело ни смысла, ни надобности: танки Братьев Дархая вошли в Кай-Лаон.
Когда Андрей остановил машину на центральной площади поселения, там уже копошилась пехота, судя по испачканным, но не рваным комбинезонам — из утренних пополнений. Три щуплых женских тела слегка раскачивались на ветвях гигантского, немного опаленного баньяна. Андрей не без труда разобрал скоропись на табличке, прибитой к стволу: «Оранжевые подстилки». Менее всего эти обезображенные смертью крестьянки были похожи на сытых обозных шлюх…
Чуть поодаль даоченг, почти мальчик на вид, с непостижимым удовлетворением наблюдал, как высокий сутуловатый крестьянин избивает увесистой дубиной немолодого лысеющего человека в слежавшейся оранжевой накидке. Увечная правая рука не позволяла крестьянину бить в полную силу; он неловко работал левой, но у избиваемого уже не было сил уворачиваться, он стоял на коленях, прикрывая голову, и хрипло вскрикивал при очередном ударе. Изредка калека посматривал на даоченга, и тот ободряюще кивал.
Нельзя было вмешиваться; внутренние дела есть внутренние дела, в инструкциях это подчеркивалось не менее десятка раз, и невозможно было не вмешаться — вопреки всяким инструкциям!
— Даоченг! — отчего-то враз осипшим голосом крикнул Андрей.
Подросток со сдержанным достоинством повернулся.
— Даоченг А Ладжок слушает тебя, Далекий Брат Дархая.
— Что здесь происходит, даоченг?
А Ладжок скромно пожал плечами.
— Разве Далекий Брат не видит? Народ гневается. — Заметив, что Ладжок отвлекся, крестьянин опустил палку и замер в нерешительности. — А ну-ка, брат борец, скажи-ка, хотел бы ты, чтобы наши женщины рожали полосатых ублюдков? Ни одна истинная дочь Свободного Дархая не отдаст себя этой мрази живой, ведь это так, а, брат-борец?
Даоченг тепло улыбнулся Андрею.
— Видите ли, Далекий Брат, я здесь, собственно, и ни при чем. Воля народа есть воля Народа, а единство народа и его армии священно. Продолжай, брат борец!
Калека взметнул палку над лысой головой дхаи.
— Стой! — Андрей перехватил тонкую жилистую руку, и крестьянин пронзительно взвизгнул. — Но, даоченг, ведь это же старик!
А Ладжок пожал плечами, неспешно приблизился почти вплотную и снизу вверх поглядел в глаза Андрею.
— Когда Вождь, Любимый и Родной, вручал мне эти нашивки, он сказал: «Народ не любит угнетателей». Именно так он сказал… Думаю, тебя уже ждут в штабе, Далекий Брат!
В штабе лейтенанта Аршакуни никто не ждал.
А у покосившихся дверей, на ступеньке ветхой лесенки, безутешно рыдала маленькая девочка, чем-то очень похожая на злосчастного дархаица в слежавшейся накидке.
На ломаном дархи Андрей спросил:
— Я могу тебе помочь?
Девчушка не подняла головы. Присев, Андрей повторил вопрос. Девочка заплакала навзрыд. Своей сестре в таких случаях Андрей давал конфеты. Это было самое большее и, пожалуй, единственное, что он мог сделать сейчас. Но конфеты, даже самые завалящие карамельки, остались дома…
Далекий Брат расстегнул планшет и протянул девочке свой дневной паек — две пачки галет и упаковку сушеного ла в серой обертке из скверной бумаги, украшенной расплывчатыми профилями Любимого и Родного и Тигра-с-Горы.
Девочка подняла глаза, всхлипнула и спросила:
— Дядя, а почему ты плачешь?
Тяжело-тяжело, совсем по-взрослому, вздохнула.
— У тебя кого-нибудь убили?
ОМГА сообщает:
… Обвинения, предъявленные инспектором Рамосом, отвергнуты Большим Жюри как бездоказательные по причине отсутствия обещанных инспектором уличающих документов. Господин Пак Суп Вон освобожден из-под домашнего ареста. По заявлению его адвокатов встречный иск Арпаду Рамосу предъявлен не будет по соображениям гуманного характера. «Больных следует лечить», — заявил господин эль-Шарафи.
… В работе Конференции по проблемам использования боэция (Порт-Робеспьер) объявлен двухнедельный перерыв.
… Папа Вселенский Сильвестр XVI в беседе с нашим корреспондентом категорически опроверг измышления врагов Единой Церкви, утверждающих, что на планете Авиньон в психиатрической лечебнице при монастыре Блаженнейшего Абу-Ромуальда Бар-Харикришна якобы томится Его Святейшество в бозе почивший папа Бенедикт XXVII.
… Массовые братания армии и мирного населения в истекшие сутки происходили на Дархае в районе населенного пункта Кай-Лаон. Таковы реальные плоды конструктивного курса на национальное примирение, предложенного дархайским властям экспертными группами великих держав.
ГЛАВА 6. ГЕДЕОН-2 (Совместное владение ЕГС и ДКГ). Порт-Робеспьер (Административный сектор)
24 сентября 2198 года по Галактическому исчислению
Этот мягкий, прозрачно-пасмурный вечер подарил наконец уставшему от затянувшейся едва ли не на весь сентябрь удушливой духоты городу первый из недолгой череды слепых дождей, на всю Галактику прославивших гедеонскую осень.
Легкие тучи запутали, смягчили беспощадное солнце, пронзительное буйство красок сменилось умиротворенно-пастельными тонами, воздух, напоенный ароматом в мгновение ока распахнувшихся цветов, сделался свеж и звонок, и уютные коттеджики Административного сектора, плотно заселенные чиновным людом средней руки, оказались похожи на кукольные домишки, утонувшие почти до крыш в высоко взметнувшейся траве.
Настежь раскрылись окна, замерли все лето гудевшие без остановок кондиционеры… Наступили блаженные несколько недель, ради которых, собственно, и стоит радоваться тому, что судьба занесла тебя на Гедеон.
Общепризнано: труд персонала бесчисленных местных контор важен и ответствен. И бесспорно — весьма престижен… Ведь должен же кто-то отвечать за проведение межпланетных совещаний и общегалактических слетов, без коих никак в блаженные времена паритета и консенсуса не обойтись. Организовать встречу, озаботиться размещением гостей и питанием, в том числе диетическим, забронировать обратные билеты да, в конце концов, и оттенить блеск президиума элегантным костюмом с безукоризненно подобранным галстуком — задачи, вне сомнений, заслуживающие всяческого уважения, и, конечно же, решение их невозможно доверить людям случайным…
Все так. Но порой, в промежутках между мероприятиями, диссонансом сознанию собственной значительности нет-нет да и вспомнится отдельно взятому среднестатистическому гедеонцу недобрая фразочка проезжего остряка: «Порт-Робеспьер есть галактический музей несостоявшихся амбиций», — и захочется бедолаге подойти к стенке и крепенько приложиться головой о кирпичи. Ибо от себя не скроешь: если уж попал сюда, без разницы, с повышением или нет, то как ни затягивай галстук, а конец один — персональная по выслуге, с полным пенсионом и правом ношения мундира, буде таковой предусмотрен статусом ведомства.
И потому — сутками на службе. Чтоб не думать, не травить душу. И без этого процент сердечников на Гедеоне гораздо выше среднестатистического.
А в свободную минутку — в садик. С лейкой, с тяпкой, с пакетиками рассады. Вымотаешься до ломоты в суставах, сядешь на собственноручно сколоченную лавочку у лично отрытого прудика, забросишь леску — и поймешь, что живешь не зря, а те, кто смеется над твоей яркой и полезной для человечества жизнью, так что с них, дурных, взять, в самом-то деле!
И чужеродным вкраплением в благостный мир ухоженных бунгало возвышается над зеленью Административного сектора высоченный конус из затемненного стекла и бетона, хмурый и молчаливый, потрясающе чуждый своим низкорослым соседям…
Кольцо голого асфальта вокруг. Почти пустая стоянка.
Дверь, раскрываемая фотоэлементом.
А за нею — плечистый, колючеглазый, с перебитым носом портье, при всей угрюмости — безукоризненно учтивый.
— Господа?
Тон предельно корректен, но у двух юношей, стоящих на пороге, по коже пробегает неприятный морозец.
— Эл, привет! Нам назначено.
Приветственный жест остается без внимания.
— Попрошу документы. Благодарю вас.
Портье внимательно изучает корочки.
— Господин Сан-Каро? — Быстрый сверяющий взгляд. — Прошу! — Гостеприимный взмах в сторону лифта.
— Господин Холмс? Прошу! Что-то давненько тебя, Алек, не видно было! После идентификации личностей голос плечистого звучит почти приветливо.
— Дела! — пожимает плечами смуглый крепыш. — А как Арпад?
— Сами увидите, — ворчит портье, и тон его не сулит ничего хорошего.
На панели лифта мелькают цифры: 3… 7… 15…
Движение ускоряется.
27… 49… 78… 100… 121… 147… 199.
— Господа?
Близнец плечистого — разве что чуть моложе — истуканом замер у раздвинувшихся створок.
— Попрошу документы. Благодарю вас.
И вслед:
— Привет, Алек! Инспектор будет рад!
Медицински стерильный коридор. Невнятные гравюры строго через дверь. Трудно понять, живет ли здесь кто. Очень тихо и безлико. И реденькая вялая зелень у задернутого портьерой окна почему-то кажется серой…
Последняя по коридору дверь слегка приоткрыта.
Идущий впереди коротко постучал.
Никакого ответа.
Еще раз.
Ноль.
— Ну что, Алек? — нетерпеливо спросил второй, нескладный и конопатый, очень смахивающий на разгильдяя старшеклассника и одетый соответственно — в пестрые бермуды и мятую футболку с игривой надписью поперек спины.
— Хрен его знает! Ладно, пошли…
Прихожая была чиста и напрочь лишена индивидуальности, присущей постоянному жилью. Ни пылинки, ни газетки, ни тапочек у вешалки с рядами пустых крючков и полочек.
Слева и справа — темные проемы полуоткрытых застекленных дверей. Впереди — неяркий, брезжущий просверк то ли электросвечи, то ли настольной лампы.
— Арпад, ты слышишь?!
— А он дома, Алек? — Конопатый заметно занервничал.
— А куда он денется? Арпад!
— Ну? — прозвучало из комнаты. — Иди сюда, пацан, встречать не буду…
Прием никак не годился для учебников этикета, но, встав на пороге, посетители, не сговариваясь, поняли: нет резона пенять хозяину за неучтивость.
Ибо с первого взгляда было ясно: человек занят.
Хозяин пил. Пил всерьез и, похоже, достаточно давно.
Это не было вульгарным запоем, с неизбежно разбросанными носками, с россыпями окурков, расхристанной постелью и прочими классическими атрибутами горения души. Отнюдь. Комнатка выглядела аккуратно и вполне обустроенно.
Широкий диван, гладко застланный мохнатым пледом, сияющий письменный стол, беззвучно трудящийся стереовизор, подсвечивающий сумрак, — и ровненько выстроенные от стены к стене шеренги разнокалиберных бутылок.
Пузатые, стройненькие, из светлого стекла и из темного, круглые, квадратные и граненые, винные, водочные, коньячные, кажется, даже из-под хорошего одеколона; наклейки, исписанные кириллицей, латиницей, арабской вязью, угловатыми закорючками иврита, иероглифами — плавными китайскими и заостренными японскими; все, как одна, вымытые дочиста…
Пустые, как безнадега.
А в кресле напротив входа, у журнального столика, украшенного початой трехлитровкой «Метаксы», блюдом с ломтиками лимона и буженины вперемешку и тремя рюмками, — человек.
Не трезвый, но и не пьяный.
Нет, скорее все-таки пьяный, но не в стельку.
Или все же — в стельку, но великолепно владеющий собой.
Легкая домашняя блуза без единой помарки, тренировочные брюки, громадные, не в соответствии с ростом (едва ли не под пятидесятый размер), сандалии.
Лицо — из тех, что не забываются: смуглое, сильно скуластое, с твердым, выпяченным подбородком, тяжелыми дугами бровей и правильным полукружием черных усов, полностью скрывающих верхнюю губу.
Гладко-гладко — без намека на щетину — выбритые щеки.
И темно-карие, цепкие, невзирая на хмельную муть, давящие глаза.
— Пришел, значит? — Не вопрос — скорее утверждение.
— Обижаешь, — то ли шутя, то ли всерьез насупился Алек.
— И не испугался, выходит? Ну, коли так, проходи, садись, выпьем за встречу… А это что за Чиполлино?..
Конопатый зашипел было и тотчас охнул — острый палец Аллана беспощадно вонзился ему под ребро.
— Позвольте представить, господа! — неожиданно официально отчеканил крепыш. — Инспектор Арпад Рамос, «Мегапол». Яан Сан-Каро, стажер Объединенного Межгалактического Агентства, мой друг.
— Дру-у-у-уг? — Все, что мог сказать Рамос, прозвучало в этом слове. — Из этих — и друг?
Аллан закусил губу.
— Послушай, Арпад, Яан хочет написать обо всем. Правду написать, понимаешь?
— Праааавду? — с той же непередаваемой интонацией повторил Рамос. Прищурился, покатал слово на языке, словно глоток отменного коньяка. — Правду? Нет, ну тогда нам просто необходимо выпить! Прошу!
Он легко, по-кошачьи вскочил на ноги, оказавшись неожиданно большим, под стать сандалиям, и краткими точными движениями, почти наугад, освободил столик от рюмок, заменив их солидными, из толстого стекла литыми стаканами.
— Если за правду, то только так, пацаны. Стоя! Правда, это такая баба, что за нее сидя никак нельзя…
Стакан, по край полный пахучей янтарной жидкости, вырос на сгибе локтя левой руки, взмыл к губам — и коньяка не стало.
— Ну!
Аллан, крепко выдохнув, опрокинул стакан и закашлялся, жмуря слезящиеся глаза. Конопатенький Яан попытался повторить, не сумел, поперхнулся первым глотком, втянув воздух, и все же дохлебал до дна.
— От-так! — подтвердил хозяин, закусывая ломтиком лимона. — За нее, за родную, и пусть ей будет хорошо там, где нас нет.
Выплюнул в пепельницу изжеванную желтую корочку и всем телом, словно волк, развернулся к гостям.
— Спрашивай. Тебя не знаю. Альке — верю. — Зло усмехнулся. — А можешь и не спрашивать. Сам знаю, что хочешь знать. Все вы об одном и талдычите: где документы, да были ли документы, да девять ли папок было или больше? Что, не угадал? То-то…
Не глядя, разлил коньяк — себе до краев, молодым — на полстакана, строго поровну.
— Отвечаю: были бумажки. И дискетки были. А теперь — нет их. Совсем нет, ни одной. А сколько их, папок, было, так это уже и не важно, раз ничего нет.
Выпил залпом. Присел. Снова встал.
— Я — сука, Алька, ссучился я, ясно тебе, пацан? Я ж полжизни положил на эти папки, а меня свои же — вот так, как кутенка. Давай, инспектор, оригиналы, это приказ… и, понимаешь, как назло, пожар в кабинете. Сейф сгорел, смекаете, вы, соплячье, сейф! А он не-сго-ра-емый, бля! С гарантией… И самое хреновое знаете что, пацаны? А то самое хреновое, что никто из начальничков не купленный, ну ни один…
Глаза Рамоса дико поблескивали во тьме.
— Если бы их купили, Господи, если бы купили! А им же просто плевать на все… Пейте!
И снова наполнил опустевшую тару.
— А меня сюда вот, до выяснения, понимаешь. Бери, говорят, отпуск за все годы, что не брал, — и в дом отдыха…
Он пошевелил губами.
— За все годы, это, выходит, восемь месяцев, так? А потом в отдел кадров, переводом. Меня, Рамоса! Ну и пусть… Что мне, больше всех надо, что ли? Сука поганая, зато живой…
Громадная ладонь молниеносно рванулась вперед и сгребла оторопевшего репортера за воротник.
— Ну да, хочу жить! На те верха, где Пак летает, мне не забраться. Себе дороже…
Встряхнул тряпично обвисшего над полом конопатого.
— Понял? Так и пиши: нет никаких документов, по злобе Рамос-де все накаркал, сейф пустой был и сгорел случайно, а господину Паку с адвокатами его не забудь передать икср… пардон, искреннюю благодарность, что не погубили, вошли в положение…
Разжал пальцы.
— Вот так, салаги.
Судорожно хватая ртом воздух, Яан растирал шею, и глаза его были круглы, как монеты. А губы Холмса тряслись, кривились, изгибались, словно у смертельно обиженного, готового заплакать навзрыд ребенка…
Впрочем, Рамоса это, кажется, мало волновало.
Пытаясь не шататься, он прошел к противоположной стереовизору стене, украшенной рядом старомодных необъемных фотографий в темных рамках.
— А теперь так. Смотрите сюда, пацаны.
Толстый палец нежно коснулся первой карточки слева.
— Рамос Дьюла, комиссар «Мегапола». Двадцать лет назад пропал без вести на Пандионе. Расследовал дело о переброске наркоты правительственной почтой. Оставил жену и троих сыновей. Вина господина Пак Сун Бона не доказана.
Оскалился.
— Понимаете? Нет тела — нет дела…
Тяжеловесный, еще крупнее Арпада, усач неулыбчиво глядел со старого снимка. Рядом, в такой же рамке — очень похожий на него, только потоньше в кости, с живыми, немного лукавыми глазами.
— Рамос Шандор, ревизор Финансового Контроля. Восемь лет назад найден с пулей в затылке у канала Пинто, Валькирия. Занимался делом о фальшивых авизо Госбанка. Ребят Пак Сун Бона даже не вызывали на допрос.
Набирая силу, голос Рамоса становился все чеканнее, и в глазах уже не было хмельной мути.
— Рамос Эйген, стажер охранного департамента Контрольной Службы ДКГ. Взорвался в космокатере семь лет назад, сопровождая комиссию по проверке рудничных концессий на Дархае. Как доказано позже, господин Пак Сун Вон никакого отношения к Дархаю не имеет. А вот это… — громыхание меди стихло почти до шепота, — честь имею, Рамос Арпад, ваш покорный слуга! Ныне милостью господина Пака нахожусь на излечении.
Неузнаваемо юный, худенький и почти безусый, инспектор застыл на фото с катанойnote 3 в руках, в боевой стойке — колено выдвинуто вперед, локти приподняты; он явно атакует, и парень постарше, плосколицый и раскосый, с неожиданно белокурым ежиком, наползающим на лоб, откинулся почти под прямым углом, с видимым усилием парируя удар.
— А это мы все еще живые.
Последняя карточка — крупнее остальных — групповая: вислоусый здоровяк, улыбаясь, сгреб в охапку трех мальчишек, мал мала меньше; он подмигивает фотографу, а на лице миниатюрной женщины, положившей руки на широченные плечи усача, играет счастливая улыбка…
— Алька, налей!
Холмс медлил, морщась с нескрываемым презрением. Но Яан, что-то, видимо сообразивший, проворно метнулся к столику и торопливо поднес хозяину на две трети полный стакан, и Аллан, проследив за тем, как Рамос медленно, глоток за глотком пьет, внезапно впился зубами в кулак, совсем по-детски, а брезгливая гримаса исчезла, словно и не было ее.
— А ты, пацан, ничего… — Арпад аккуратно отставил стакан на полочку и подмигнул. — Сечешь!
И продолжил, словно по писаному:
— Был у меня в юности приятель, можно сказать, друг, вернее, Эйгена дружок, но и мой тоже. Так вот, Улингер меня учил: когда нельзя наступать, побеждай, отступая. Смекаете, пацаны?..
Фыркнул, пряча в усах кривую полуухмылку.
— Так что ты, писатель, пиши, всю правду пиши, пусть люди знают: сгорели оригиналы! Понимаешь, сго-ре-ли!!! Или, еще лучше, вовсе их не было! А Рамос спивается, бля! Усек?..
Пошатнулся. Шагнул к креслу и почти упал. И Аллан Холмс проводил его счастливым, обожающим взглядом.
Теперь хозяин был действительно пьян, и что удивляться, если бутыль «Метаксы» стояла на полу почти пустая?
— Все, салаги, идите… спать буду. Ты, Алька, потом ко мне загляни… разговор есть… И запомни!
Уже полузакрыв глаза, он внушительно приподнял указательный палец и еле слышно, сквозь зевок, прошептал:
— Всех их не перебьешь, вот в чем штука… Наставника мы сделаем, бля буду… ты его не бойся… ты Аттилио бойся… Атти — мужик… сука, конечно, но — мужик… с ним работать можно…
Всхрапнул.
— …свяжись с ним, ежели со мной что случится…
Голова Рамоса безвольно упала на плечо.
— Алек, я пойду?
— Тссс…
Стараясь не шуметь, юноши выбрались в коридор. Встали у окна, жадно затягиваясь крепкими, без фильтра, сигаретами (крик моды в этом сезоне).
— Ну?
— Дааа… Только, знаешь, Алек… — Яан помолчал, подыскивая слова. — Я не буду об этом писать.
— Ты что? — Ноздри Холмса напряглись. — Арпад велел, значит, напишешь…
— Нет. — Яан покачал головой; сейчас он выглядел гораздо взрослее, хотя бермуды оставались бермудами, а веснушек нисколько не убавилось. — Об этом все пишут. А я не хочу. Потом когда-нибудь, когда можно будет правду.
— Праааавду? — копируя Рамоса, протянул Аллан. И кивнул: — Ладно. Может, так и лучше. Пошли провожу! Знакомой дорогой, по коридору — к лифту.
— Господа? — Дежурный по этажу глыбой заслонил вход. — Попрошу поднять руки!
Сноровисто ощупал, провел металлоискателем.
— Благодарю. Можете идти. Удачи, Алекс!..147… 121… 96… 78… 49… 27… 15… 7… Мелодичный звонок. Холл. Короткий, почти формальный обыск на выходе.
— Порядок! Кстати, ребята, — на лице колючеглазого портье начертано неумелое смущение, — закурить не найдется?
— О чем разговор? — Холмс щелчком выбивает из пачки темно-коричневую сигарету, подносит к ней синеватый огонек зажигалки.
— Слышь, Эл, а кого еще стережете?
— Да никого больше нет, — вкусно затягиваясь, сообщает привратник; выдубленная маска под коротко подстриженным чубом несколько смягчилась, и он сейчас немного похож на человека. — Мало нынче отдыхающих, один господин Рамос и квартирует…
— И как оно?
— Что — как?
— Тебе туг как? Не противно, спрашиваю?
Эл хмурится, пытаясь уловить, соображает наконец, и — странное дело! серо-смуглую кожу заливает румянец обиды.
— А что? Ты, Алек, все подкалываешь, а куда мне было с тремя дырками в пузе, а? Моих ты, что ли, кормить станешь?!
Километровые плечи сторожа каменеют; иссякает огонек сигареты, и вместе с ним сходит на нет живая искорка в бледных глазах.
— Работа как работа…
— Ладно, Эл, — миролюбиво улыбается Холмс, — пока! Я еще вернусь…
Шелест раздвигающейся двери.
И — прозрачный воздух вечернего Порт-Робеспьера.
— Когда убываешь, Янька?
— Рейс в двадцать три. А еще надо подскочить к конференц-залу. Может, что обломится…
— Ну, не знаю. Значит, туда?..
Флайер взмывает с асфальтовой стоянки. Несколько минут полета над беспробудной зеленью Административного сектора, плавный разворот в сторону центра; короткокрылая машина несильно подпрыгивает, коснувшись посадочного круга перед сферическим зданием, украшенным разноцветными флажками с эмблемами полноправных планет Галактики и двумя гигантскими полотнищами, знаменами великих держав: слева — медведь на голубом фоне, герб Союза, справа — лев и единорог на белом, символ Конфедерации.
У металлического турникета, ограждающего здание, крикливая толпишка, вооруженная видеокамерами, стереотрубами, самописцами и прочей дребеденью.
— Еще не кончили… — В голосе Яана то ли насмешка, то ли возмущение. Выдумали, понимаешь, закрытые заседания…
— Плюнь, — советует Аллан. — Сядем, подождем. Пивка выпьем…
— Ты что?!
Действительно, мысль неудачна. Как ни хорошо пошел коньячишко, а усугублять пивом — это, знаете ли, чрезмерно. Двое неторопливо проходят в окольцовывающий здание парк, усаживаются, получают у пробегающего автолавочника по банке ледяной колы и сосредоточенно тянут пузырчатую жидкость, с наслаждением трезвея.
Кругом — благодать. Дождь давно прошел, оставив после себя запах влажной листвы и озона. Сумерки уже намекают на скорый приход, но еще медлят. Изумительно тихо, и даже мелодичный голос с гигантского, во всю стену здания, информ-экрана не раздражает, сообщая милые, подходящие к погоде пустяки…
Аллан достает было пачку «Блэк-боя» и, передумав, заталкивает обратно. Яан согласно кивает. Грех курить по такой погоде. Да и не хочется. Хочется просто сидеть, дышать и слушать.
— Ты, Янька, извини, — смущенно говорит смуглый крепыш. — Так получилось…
— Да чего там. Сам напросился. Э, Алек, глянь-ка!
На информ-экране мелькают изображения причудливых храмов, марширующие шеренги, груды нелепой, явно не земной техники, дымящиеся и словно бы несерьезные. И группка молодых людей в шортах, майках и белых панамах, неспешно спускающихся по тратту космолета…
— Узнаешь?
— Погоди-ка… — Аллан внимательно приглядывается. — Точно, Андрюха!.. А ну-ка!
Он нажимает кнопку, вмонтированную в подлокотник парковой скамьи, и голос информатора становится громче:
«Группа консультантов, прибывшая на планету Дархай, Магелланово Облако, вот уже полгода осуществляет напряженную работу по согласованию позиций конфликтующих сторон. Сегодня мы имеем возможность впервые показать вам, уважаемые зрители, кадры, запечатлевшие прибытие экспертной комиссии Единого Галактического Союза…»
Еще несколько секундных кадров: та же самая делегация, но уже в одеяниях официальных, при галстуках и платочках в нагрудных карманах пиджаков; судя по всему, запечатлен прием в верхах — все по протоколу: речи, вручение цветов, рукопожатия… хотя, прямо сказать, бедновато живут тамошние верхи, и кроме землян, все присутствующие затянуты в уродливую пятнистую униформу.
«В кратком интервью ОМГА глава экспертной комиссии Демократической Конфедерации Галактики господин Мураками выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта…»
Информ-экран крупным планом продемонстрировал лицо господина Мураками, затем — оного же господина в полный рост, во фраке и с бабочкой на фоне исступленно роскошного интерьера, вовсе не похожего на предыдущий. И снова крупный план: жесткое, непривычное к улыбке лицо, плоское, раскосое, с неожиданно белокурым ежиком, почти скрывающим низкий лоб.
— Где-то я этого хмыря видел… — Яан поднял глаза к синеве неба, пытаясь припомнить. — И вроде недавно…
— Не ломай голову, Янька!
Холмс все-таки закурил — без удовольствия, скорее просто так, по привычке, от нечего делать.
— Ни фига себе. — Кольцо дыма, медленно расширяясь, уплыло ввысь. Нашлась пропажа. Ты только прикинь, Янька, а? Дархай… А как он тогда знал? Ни слова не сказал…
— Угу. И Лемура неделю ревела…
Приятели переглянулись и одновременно хмыкнули, вспомнив нечто известное обоим.
— Что, Янька, так и не обломилось?
— Где уж нам уж. — Конопатый лик забавно сморщился, изображая непритворное страдание. — Не наш уровень. Гуляй, говорит, пацан, и все дела. А жаль-то как, спасу нет… Такая девочка! Андрюха кретин — хоть адресок бы ей оставил…
— Не кретин, а умный! — наставительно поправил Аллан. — А кретин у нас, Янька, ты, и сгоришь когда-нибудь на телках своих, как свечечка. Такие куколки как пристанут, так не оторвешь. А помирать нам, брат, рановато… Наши с тобой еще в классики играют. Во, гляди, вот этой я, пожалуй, отдамся навек лет через пятнадцать, не раньше!..
На информ-экране, сменив скучную политику, буйствовало феерическое шоу.
«Победительница конкурса „Мини-Мисс Вселенная“, — интимно проворковал незримый диктор. — Катрин Мак-Келли, семь лет, рост… вес… объем бедер… объем груди…»
Победительница, увенчанная крошечной золотой короной с бриллиантами настоящими, что ли?! — выглядела не очень счастливой, скорее испуганной. Но хороша она была непередаваемо: волосы цвета воронова крыла почти до колен, ясные синие глаза, точеное личико — не кукольное, почти взрослое в умело наложенном макияже, и фигурка, пока еще не раскрывшая всей своей будущей стати, но уже вполне, вполне…
— Катрин Мак-Келли, — нараспев повторил Аллан и вкусно потянулся. Катенъка, значит. Катюха… Запомним…
Яан хихикнул.
— Да у тебя к тому времени склероз будет, лапушка ты моя. Ты ж ей в дедушки годишься…
— А ты не злобствуй, гад. Мечта облагораживает человека. Душу зовет, понимаешь, к полету… Кстати, что это там?
… Из-под аркады с флагами плотной толпой, окруженной цепью сопровождающих, выходили официозно одетые люди. Волна репортеров, вопя и толкаясь, налетала, пытаясь прорваться к участникам конференции, и откатывалась вспять, разбившись о гранитные тела молодых, вежливых, совершенно одинаковых помощников и референтов.
Уворачиваясь от камер и микрофонов, солидные мужчины проворно ныряли в недра темных лоснящихся автомобилей и отбывали под возмущенный свист оставшейся с носом братии.
Лишь в одном месте крутилось нечто напоминающее водоворот. Нестарый курчавый брюнет, крутя выдающихся достоинств носом и ожесточенно сверкая очками, увернулся от несколько растерявшихся спутников и что-то торопливо выкрикивал в поднесенные к самому носу диктофончики, а сопровождающие суетливо распихивали газетчиков, почти силой вытягивая бунтаря к распахнувшейся дверце автомобиля.
— Тю! — Конопатый резво вскочил на ноги. — Это же Рубин! Выскочил-таки! Ну, теперь будет, ой, что будет! Так, Алька, я побежал, может, успею чего спросить!..
— Угу! — Холмс щелчком выбросил окурок; не целясь, попал в урну — не ту, что рядом, а подальше. — Беги. А я к Арпаду. Не стоит ему быть одному…
— Все, Алька, бывай! — Яан уже весь был там, в гомонящем столпотворении.
И все же, крепко пожимая протянутую приятелем руку, поглядел очень серьезно.
— Слушай, будь осторожен, а? И Рамосу своему передай. Он, по-моему, тот еще псих…
— Это есть, — с видимым удовольствием кивнул Аллан. — Мы такие. Звони, Янька!
Усмехаясь, с полминуты наблюдал, как конопатый мчится к аркаде, как прыжком врезается в толпу и исчезает в ней, оставляя за собою след из возмущенных воплей.
Помахал ладонью вновь возникшему на информ-экране изображению юной красотки:
— До встречи, Катюха!..
И вразвалочку пошел к выходу из парка, туда, где на овале стоянки, гостеприимно распахнув люки, дожидались пассажиров разноцветные, с бордовыми шашечками по бортам флайеры.
А сумерки в конце концов решили сгуститься и сгущались стремительно, подергивая бархатистыми тенями зелень деревьев, и звенящую упругость фонтанов, и теплое, умиротворенно голубое небо, и многое-многое иное благолепие, которым и славна на всю Галактику недолгая гедеонская осень…
ОМГА сообщает:
… Скандальная выходка доктора Рубина, разгласившего данные закрытых заседаний Конференции по проблемам использования боэция, встретила осуждение в академических кругах. «Никакие научные заслуги не оправдывают подобного беспредела», — таков комментарий ученого секретаря смешанной комиссии академика Теодора Дуббо фон Дубовицки. В ходе экстренного пленарного заседания доктору Рубину строго указано на недопустимость повторения таких эксцессов. Единогласно принято также решение о материальном поощрении референтов господина Рубина, чьи эффективные действия предотвратили серьезную утечку информации.
… Раздел частных объявлений. № 166789-А. «Андрюша, где бы ты ни был, отзовись! Я тебя не забыла и очень люблю. Целую. Твоя Лемурка».
… Состоялись Кадровые перестановки в высшем эшелоне Космофлота Единого Галактического Союза. Вновь назначенный заместитель главного диспетчера Космофлота ЕГС Эдуард Вышковский в краткой пресс-конференции заявил: «Первоочередной задачей для меня и моих подчиненных является дальнейшее укрепление мер безопасности пассажиров».
… Дальнейшее развитие получают идеи национального примирения на планете Дархай. Теперь оно пришло и в древний город Барал-Гур…
ГЛАВА 7. ДАРХАЙ. На подступах к Барал-Гуру
8 октября 2198 года по Галактическому исчислению
Барал-Гур был близок и вместе с тем почти недосягаем.
Никакой стереоснимок, никакой кадр из панорамного фильма не отражали и в наиничтожнейшей мере подлинного очарования этого сказочного города, словно алмазная корона, венчающего горные вершины. Десятки поколений строителей, кудесников тесла и резца, высекли из неподатливых глыб эти удивительнейшие храмы, эти стремящиеся ввысь дворцы и стены, изукрашенные резьбой, — и превосходящие в красоте своей все, что способен измыслить даже и в самом прихотливом сне человек.
Стоя на самом краю провала, на кромке скального языка, выброшенного насмешницей природой, словно предмостная аркада, Андрей ясно различал серо-черные линии укреплений на той стороне. Нельзя было не признать: полосатые постарались на славу. А что им еще оставалось делать? Восьмигранные купола храмов священного города, даже полукруглые церемониальные окошки под ними уже отчетливо просматривались в бинокли.
Оставалось немногое — форсировать пропасть.
А сзади, оттуда, где стояли борцы, доносился напевный голос походного сказителя…
— Услышьте, и узнайте, и не говорите потом, что не знаете. В давние времена, когда деревья ла еще не плодоносили на земле Дархая, отправился охотиться на драконов могучий Хото-Арджанг и повстречал на горной тропе Деву Неба, прекрасную Кесао-Лату! Повстречав же, восхитился и возжелал прелестей ее. Но отвергла надменная красавица страсть Духа Добра, не приняла его славу, презрела силу его, его красоту. Звезды зажег во имя любви своей Хото-Арджанг, реки потекли из-под ресниц его, но, смеясь игриво, облачной шалью окутала Дархай капризная дева, и даже солнечный факел бессилен был развеять кудесную пелену. Ветром пел о любви своей Дух Добра, бурей изливал гнев свой к ее стопам, но, словно седое время, неумолима была Кесао-Лату. И тогда, по совету Матери своей, Первозданной Воды, воздвиг для надменной за единую ночь Хото-Арджанг город красоты и любви Барал-Гур, и не устояла красавица, и смилостивилась, и снизошла, и открыла лоно свое страсти Доброго Духа. А чтобы никто из высших не явился тревожить их брачный покой, оградил могучий Хото-Арджанг златоглавые храмы Великой Пропастью и наложил крепкое заклятие, подсильное лишь ему одному. И было это так, а иначе никак, ежели же и не так, то кто сможет доказать? Но время шло и пришло, и вот сказала Кесао-Лату: «О супруг мой желанный, о повелитель ложа моего, о князь вожделений моих! Настал ныне предначертанный день, и зовет меня к себе Небесный Порог. Скорблю, расставаясь, но нельзя не идти. Жди же и не забывай!» И не стало несравненной, лишь тонкая шаль осталась в руках всемогущего, и поблекла в очах его краса мира. Померкло без единственной желание бодрствовать в сердце Хото-Арджанга, и в сон погрузился он, ожидая прихода желанной. А чтобы нашла сияющая, возвращаясь, тропу от Небесного Порога, повесил Дух Добра в храмах Барал-Гура священные бубенцы, и из праха под левой пятой своей создал лунгов всесильный Хото-Арджанг, дабы не умолкал перезвон и знала Кесао-Лату дорогу к Дархаю, когда придет она в должный час поцелуем пробудить ото сна хилого супруга… полузакрыв глаза, мелодичным речитативом выговаривал сказитель.
Лица борцов были необычно мягки. Отступили куда-то далеко усталость, и обжигающая горечь воспоминаний, и ожесточение недавних боев за предгорья. Здесь, в сокровенном сердце изначальных гор, суровость, словно бы намертво въевшаяся в лица их, стала менее заметной. Может быть, потому, что победа была так близка? Или оттого, что даже сюда, за добрые девять ке доносился из города тихий сладостный перезвон?
Сказитель опустил трехструнный сямьсин, и Андрей с сожалением щелкнул в кармане кнопкой диктофона. Сказка кончилась, а пропасть оставалась.
И миндалевидные глаза даоченга А Ладжока, сузившись, ненавидяще смотрели на нее.
— Борцы Дархая! — Высокий мальчишеский голос зазвенел, срываясь едва ли не на визг, но это не было смешно. — В наших рядах сегодня идет незримо прекрасная Кесао-Лату, и нам дарована высокая честь прервать сон Хото-Арджанга! С нами память наших прадедов, что строили храмы Барал-Гура, в наших сердцах ярко сияют идеи квэхва, рожденные Любимым и Родным!
«Да, но танк здесь все равно не пройдет, — меланхолично подумал Андрей, даже с помощью идей квэхва…»
— Ошибаешься, Далекий Брат. — Ладжок откликнулся почти тотчас, словно на лету поймав и прочитав мысли. — Идеи квэхва двигают горы.
Тон его исключал даже возможность сомнений, и — чем черт не шутит, в конце-то концов? — быть может, так оно и было. Но как бы там ни было, а Барал-Гур был крепким орешком даже для идей квэхва, не говоря уж о регулярной армии. Видимо, Хото-Арджанг и впрямь был недюжинным фортификатором, да и умница-природа, величайший из инженеров, немало потрудилась, помогая ему.
Пехота, вооруженная автоматами, в крайнем случае — легкими гранатометами, пожалуй, могла бы еще преодолеть пропасть по узеньким, почти незаметным козьим тропинкам. Но на той стороне ее ожидали многие сотни метров скрученной в спирали Бруно колючей проволоки, обширные минные поля и тщательно замаскированные, утопленные в скальную породу, пулеметные гнезда.
У серебряных ворот Барал-Гура стояла гвардия Чертога Блаженств.
В отличие от дархайцев, Андрей знал: если военные действия не завершатся в ближайшие пару суток, то полосатые неизбежно получат подкрепление — минимум три новенькие «Саламандры» на основе паритета, а никак нельзя исключать, что и кое-что похлеще.
Время истекало в пропасть. Оно работало на Империю.
После ряда обстоятельных бесед с послом Хаджибуллой Любимый и Родной тоже понимал многое. Он, правда, не вполне уяснил точное значение несколько раз употребленных собеседником терминов «квота» и «паритет», но основную мысль уразумел твердо: через сутки-двое, никак не более, отчаянные призывы Бессмертного Владыки будут услышаны его Большими Друзьями. Борьба затянется, а страна и так на пределе: тысячи му лучшей земли лежат в запустении, а среди подходящих с запада резервистов можно подчас уже встретить таких, кому не под силу даже натянуть тетиву самострела.
Да и мало, ох как мало поступало их в последние дни, этих хоть каких-никаких, а резервистов. Таученг Нол Сарджо, возможно, сумел бы совершить нечто превосходящее человеческие силы, смог бы в кратчайшие сроки поставить под ружье и обучить новых борцов, но Тигр-с-Горы валяется сейчас в госпитале, изрезанный скальпелями хирургов, окуренный кадильницами знахарей («Спасти во что бы то ни стало!» — приказал Вождь), и никому, даже личному врачу посла Хаджибуллы, не известно, придет ли он в себя… а силы на исходе, и контрразведка дает не слишком приятные сводки о невесть откуда явившихся в холмах самозваных ван-туанах… и кто, в конце-то концов, знает наверняка, что сейчас творится там, за спиной, в лежащем за три тысячи ке отсюда Пао-Туне?
Иначе говоря, пропасть следовало форсировать безотлагательно, а возможностей для этого даже здесь, в самом узком ее месте, не было. Сквозь зыбучие топи и непроходимые теснины предгорий пробралась пехота, дивизион легких, почти игрушечных бронеавтомобилей, бессмысленные остатки конницы и «тристасороковка» лейтенанта Аршакуни.
Саперы подоспеют через неделю.
Если подоспеют вообще — до сезона густых туманов…
Вождь морщил лоб.
Не шибко грамотный, до всего на свете доходивший сам, он привык верить в себя, в свою интуицию, в свою волю и здравый смысл, а если разум и вера начинали иссякать, он, не колеблясь, черпал их в исступленном доверии тех множеств, что вот уже свыше десяти лет шли за ним по трудным, далеко не всегда осиянным звездами удачи дорогам его борьбы. И сейчас он не хотел — да что там, попросту не мог! — смириться с несуразной мыслью, что вот он — тот Порог, переступить который не под силу человеческой воле, будь даже она умножена на десятки и сотни тысяч неистовых стремлений к победе любой ценой…
Привычно улыбаясь, Вождь размышлял.
Он был сейчас почти зол на таученга Сарджо, посмевшего оставить его и армию именно в тот миг, когда решалось все, если не больше. Пропасть! Подумать только, всего лишь пропасть, неумная прихоть бессловесной природы (при чем тут Хото-Арджанг?!), лежала под ногами и самим присутствием своим ломала все планы, крушила все предначертания, сводила на нет все созданное долгими годами изнурительных сражений и непосильного труда!
И совсем иное занимало в этот момент лейтенанта Аршакуни.
Что скрывать, когда-то в училище, совсем еще зеленым восторженным салабоном, драя полы гальюна, Андрей мечтал о подвигах. Полновесных и громогласных. Таких, чтобы все окружающие, по крайней мере посвященные в тайну его профессии, даже наглые старшины, да что там — даже противники (а что, среди них, по слухам, немало вполне приличных ребят!) уважительно хмыкали, услыхав фамилию Аршакуни.
К середине третьего курса мечты потускнели, к выпуску — окончательно развеялись.
«В жизни всегда есть место подвигу», — сказал, кажется, кто-то в славные старые времена. Не исключено. Увы, теперь война — всего лишь пародия на жизнь, рутинная повседневная пахота, не предполагающая особого героизма. «Боевая операция есть взаимодействие суммы тактически автономных единиц, гармонично образующих единое стратегическое целое» — это, увы, аксиома, а с классикой не принято спорить, и мало что зависит всерьез от одной-единственной единицы живой силы, пусть даже сидящей за пультом сверхтяжелого танка.
Но сегодня, вопреки всем аксиомам, подвиг был близок, как никогда! Сумей «тристасороковка» каким-то чудом перенестись на противоположный край провала, ворота Барал-Гура были бы вскрыты. Даже самая мощная имперская артиллерия не смогла бы помешать лейтенанту Аршакуни, исполняя свой долг, вдоль и поперек раскромсать укрепрайон и проложить дорогу к воротам столицы отборным миньтау, закаленным в боях гвардейским дивизиям друга Джугая.
От досады Андрей кусал губы: «тристасороковка» умела многое, может быть, даже сверх того, но летать она не могла. А самолеты, как, впрочем, и геликоптеры, даже легчайшие, в дархайских туманах были практически бесполезными, слишком легко бьющимися игрушками.
Знал это и Вождь.
Но десять миньтау, без малого сто тысяч готовых на все борцов, стояли за его спиной и не сомневались ни в чем, терпеливо ожидая приказа, точного и беспрекословного, как всегда. В отличие от Вождя, борцы твердо знали: невозможного нет. Светоносно озаривший поля многолетних сражений, закаленный в пламени Кай-Лаонской победы, полководческий гений Любимого и Родного не может не указать единственно верный путь…
И Юх Джугай запретил себе сомневаться.
«Если помочь может лишь чудо — значит, чудо должно произойти, иного попросту не дано!» — подумал он и несколько расслабился. И миг спустя, словно отвечая на невысказанное, из глубины строя, раздвинув первую шеренгу борцов, к краю пропасти вышел морщинистый согбенный старец в истрепанной рясе нищенствующего монаха…
На крючковатый бродяжий посох опирался он, и нечто похожее на слабое трепещущее сияние мерцало вокруг бритой досиня головы.
Потом скажут: он явился неведомо откуда.
И спросят: но кто же он был таков?
И добавят, округлив глаза: а был ли вообще?
Но все это будет потом, позже, много позже. А сейчас монах выцветшими глазами посмотрел вниз, в залитую туманом, курящуюся глубину, перевел взгляд на Любимого и Родного и проговорил совсем не старческим, неожиданно сильным голосом:
— Однако и так еще заповедал Хото-Арджанг: придет неизбежный день, когда вера, обретя плоть и кровь, снимет заклятие с пропасти!
Сказал — и сгинул, словно и не было его, лишь отзвуки последних слов долго еще не умирали в звонком безветрии гор да несколько мгновений спустя где-то далеко внизу зашуршали осыпающиеся камни.
И тогда, впервые за многие годы, ченги не стали ждать приказа Вождя.
— Дай-дан-дао-ду!
Сомкнутыми рядами, держа строй, борцы двинулись к обрыву. Они шагали в пустоту один за другим, как стояли — шеренгами, повзводно, поротно, кай за каем и дао за дао, вместе с десятниками, сотниками, вместе с гордыми птицами токон на багровых древках. Они исчезали, и ни один из уходящих не дрогнул, не замедлил шага. Лишь автоматы оставались там, где только что стояли люди оружие нужно беречь, оно еще пригодится сыновьям. И еще, не сговариваясь, остались на месте командиры, начиная с кайченгов, потому что они, обученные руководить и вдохновлять, сознавали свою ценность: ведь недаром же еще девять лет назад, выступая на втором слете младших десятников, Любимый и Родной четко указал: «Без командиров не решается ни одна задача».
Не случалось еще подобного под небом Дархая: история творила себя сама, не оглядываясь на Вождя, даже не спрашивая его мнения. Но каждый из тех, кто проходил мимо Юх Джугая, успевал посмотреть ему в глаза с любовью и восторгом. И что в сравнении с этими прощальными взглядами была своенравная дура История! Ведь даже все видавшие горные вершины изумленно замерли и на миг раздвинули туманную кисею, потрясенные невиданным зрелищем.
Любимый и Родной стоял молча, пытаясь не пропустить ни одного лица, ответить на все последние непроизнесенные слова — видимо, у него получалось это, и борцы, исчезая за кромкой обрыва, улыбались…
Нагромождение тел росло слой за слоем. Пропасти уже почти не было, когда в абсолютной тишине А Ладжок почти угрожающе произнес:
— Смотри, Далекий Брат: идеи квэхва двигают горы!
Любимый и Родной встрепенулся. На миг ему показалось, что рядом, за спиной, вопреки всему, стоит таученг Нол Сарджо, потому что именно он сказал бы сейчас именно эти слова. Но Тигра-с-Горы, конечно же, не было здесь и не могло быть. И тогда, порывисто шагнув к пареньку, сказавшему слова Нола, Любимый и Родной обнял его за худенькие плечи и замер. Он не сказал ничего, но юный даоченг ощутил биение жаркого сердца Вождя, словно передающего ему частицу своей вдохновенной страсти, и осознал вдруг, ясно и неотвратимо, что отныне Любимый и Родной не просто верит ему как одному из борцов — но доверяет безгранично, как доверял тем самым первым своим ученикам, из которых почти никто не дожил до этих дней.
— Далекий Брат, — поверх плеча Ладжока Юх Джугай неотрывно смотрел в глаза Андрею, и взгляд его полыхал темным огнем, — нет больше преград перед Армией Свободы. Впереди Барал-Гур. Промедление смерти подобно.
Ни слова больше не вымолвил он, но Андрей понял.
И вздрогнул.
Преграды действительно не было. Сколь бы ни велика была мифическая мощь Хото-Арджанга, сила его заклятий не смогла устоять против веры и воли людей, и жертвенность человека превозмогла колдовство древних заклятий…
Борцы уже не исчезали за кромкой, они просто укладывались — без всякой суеты, деловито и обстоятельно выбирая места, кто вверх лицом, кто вниз. Время от времени то один, то другой из лежащих в верхнем слое чуть приподнимался и сдавленно выкрикивал:
— Дай-дан-дао-ду!
Андрей протер глаза, но страшный мираж не рассеивался: живой мост натужно покряхтывал и шевелился. Веко Любимого и Родного судорожно дернулось.
— Не медли же!
Андрей на секунду представил, как воздушная подушка «Т-340» закрутит и превратит в бесформенное месиво этих кряхтящих, копошащихся, устраивающихся поудобнее людей, и едва сдержал тошноту. Стало жутко. Он попытался что-то сказать, но Вождь уже не слушал, он шел к людям — туда, к краю бывшего обрыва.
Перед тем как лечь там, рядом с борцами, среди них, равным среди равных, он обернулся в последний раз.
— Миньтаученг А Ладжок! Помни: главное, чтобы люди были довольны. И слушай мой приказ: ты войдешь в Барал-Гур на броне. Исполняй!
Ладжок мученически скривился. Дважды глубоко-глубоко втянул мокрый воздух. Негнущимися пальцами достал из кобуры пистолет и, уперев ствол в поясницу остолбеневшему Андрею, прошипел:
— Поспеши, Далекий Брат! Борцы устали ждать…
Действительно, три оставшихся миньтау были готовы к атаке. Заливаясь холодным потом, Андрей почти упал на ставшее вдруг невыносимо жестким сиденье и, не открывая глаз, врубил двигатель.
Мотор ровно заурчал…
ОМГА сообщает:
… Магистр психиатрии и общей гомеопатии, достопочтенный доктор ди Монтекассино утверждает: «Только экстракт плодов ла способен вернуть вам остроту чувств и безотказность потенции!»
… Большая Дума Лиги Друзей Живого отмежевалась от экстремистского выпада одной из активисток ЛДЖ, госпожи Эльмиры Минуллиной, приковавшей себя цепями к воротам Центрального пищевого комбината в знак протеста против потребления продуктов животного происхождения. «Наше движение старается избегать крайностей», — заявляют функционеры Лиги.
… Конференция по проблемам использования боэция возобновила работу. На повестке дня — обсуждение пакета предложений по организации совместных разработок. Скандально известный доктор Рубин отказывается объяснить причины своего досрочного отбытия из Порт-Робеспьера.
… В связи с серией стихийных бедствий в горных районах Дархая правительство Демократической Конфедерации Галактики приняло решение разрешить въезд на свою территорию переселенцев из наиболее пострадавших районов. Эмигранты будут размещены на планетах, природные условия которых сделают возможной скорейшую акклиматизацию.
ГЛАВА 8. ДАРХАЙ. Барал-Гур
11-й день 9-го месяца 1147 года Оранжевой Эры
Люди бегут по разным причинам: кто-то от инфаркта, кто-то от неразделенной любви, еще кто-то на предмет похмелиться с утра пораньше, а иные только делают вид, что убегают. И зря в общем-то — ведь беги не беги, а от себя убежать не дано никому.
Оранжевая Эра завершалась, корчась в наплывах гари, взбаламученной танковыми траками, и прославленные мозаичные витражи Высшего Чертога были разбиты вдребезги; лишь радужные осколки смальты хрустели под рифлеными подошвами солдатских сапог…
Большие Друзья укладывали вещи не торопясь.
Времени хватала с лихвой. Посадка на корабли космофлота ДКГ была назначена на двадцать два ноль-ноль по твердому Галактическому времени. В сущности, они давно уже были всего лишь зрителями: после выхода из строя «Саламандр» танкисты собрались здесь и отдыхали, наблюдая за продолжением драчки со стороны.
Но отдых приходилось прерывать: на Дархае не было больше места полосатым форменкам. В этом суетном диковатом мирке Большие Друзья не оставляли ничего, кроме разлетевшихся в прах иллюзий. Все остальное было плотно упаковано в рюкзаки или сожжено, как приказал коммодор Мураками. По глянцевому паркету офицерской гостиницы ветер полоскал хлопья жирной сажи — все, что осталось от томиков лирических стихов, дневников, писем и фотографий. Свои бумаги Большие Друзья побрезговали сжигать на общем костре во дворе Чертога Блаженств.
Жалюзи на окнах номеров были плотно опущены.
Незачем и не на что было смотреть в умирающем городе.
Пробудись ныне Хото-Арджанг в лазурном покое из нефрита, венчающем Корону Снегов, он, быть может, посочувствовал бы в неизбывном величии милосердия своего возне пигмеев, мечущихся по узеньким улочкам священной столицы. Тысячи вчера еще благообразных и горделивых, облеченных полномочиями и осиянных величием родословных сановников, жрецов, генералов, знахарей, знатоков церемоний и мастеров каллиграфии бестолково суетились, выволакивая из домов туго набитые чемоданы, и тут же бросали их, словно только сейчас сообразив, что рухлядь, копившаяся годами, потеряла всякую цену. Подлинной ценностью оставалась разве что жизнь, да и она нынче стоила, в сущности, совсем недорого, много дешевле утлой койки в грузовом отсеке космолета.
Единственными настоящими мужчинами в Чертоге оказались, как, возможно, и следовало ожидать, евнухи Предвратья Блаженств. Именно они были первыми, кто вспомнил, что в городе есть еще более слабые, существа…
Разнося грязь пришлепывающими подошвами мягких войлочных туфель, по номерам метался безбородый, оплывший, как старая набивная кукла, Блюститель Лона. Непривычно изображая униженную улыбку, он жалобно просил господ офицеров уделить несколько минут для наисерьезнейшего разговора.
Кастрата гнали. Он возвращался.
— Всемилостивейший господин Большой Друг, — захлебываясь, шелестел Блюститель. — Это ведь совсем дети, вы же знаете, что с ними будет теперь… В ваших глазах я вижу сияние истинного благородства! И в ваших! И в ваших тоже! Вы не можете, вы не должны отказывать, господа офицеры, я прошу не о себе, мне терять нечего, сами видите, но ради всего, что для вас свято, спасите этих девочек… Клянусь лоном Кесао-Лату, вы не пожалеете, я ручаюсь, я сам их обучал!.. Ведь вы же имеете право взять хотя бы по одной, на выбор, к себе в каюты…
Когда перед ним захлопывали дверь, он горестно всплескивал пухлыми выхоленными руками, всхлипывал и тихонько скребся в следующую:
— Господа офицеры…
Серебристые змеи Священного Сада изнемогали.
С незапамятно давних времен повелось: те из оранжевых, чей жизненный путь оказался ошибочным, а вера иссякла, приходили к вольерам и, сотворив молитву перед провалами темных ниш, протягивали сверкающим, шипящим лентам руку для последнего поцелуя.
Сегодня на молитвы времени не оставалось, приходилось спешить, непростительно коверкая ритуал; и мог ли представить себе хотя бы один из тех надменных и гордых, кто шаг за шагом приближался к резным оконцам Укуса, мог ли даже помыслить в прошлой, нынешним утром закончившейся жизни, что когда-нибудь ему придется стоять — в очереди! — за смертью?!
Крушение Эры лишило сил и смысла привилегии. И те, чей черед пришел, оттирали от бортиков вольер пытающихся нагло прорваться вперед, даже если те имели честь принадлежать к одному из Семнадцати Семейств.
Змеи выполняли долг до конца.
Самые молодые из рептилий, возрастом не достигшие и двухсот лет, чье брюшко еще не успело утратить зеленоватого оттенка юности, уже извивались в предсмертных судорогах на пушистом песке; старики ветераны, проползавшие едва ли не по пять веков, пока еще не отказывались источать благодетельный яд, но на многое их уже не хватало.
А высоко-высоко в поднебесье, выше храмовых шпилей, выше Короны Снегов, медленно кружили черные хищноклювые птицы токон, доселе невиданные в Барал-Гуре. Распахнув просторные крылья, они плавно скользили в вышине, бесстрастно поглядывая на пока еще живую поживу, пирующую среди груд поживы, уже готовой.
Допив рубиновое вино из корней ла, те столпы Империи, у которых хватало достоинства уйти красиво, отбрасывали чаши и, подбирая полы оранжевых мантий, спешили к змеиным площадкам…
Пытаясь не слышать истерических взвизгов и прощальных возгласов, доносящихся с улицы даже сквозь плотные жалюзи, коммодор Мураками ерошил белокурую челку, наползающую на низкий лоб. Доклад, который неизбежно потребуют бюрократы на Гее-Элефтере, никак не хотел писаться, и на полу, прямо около стола, уже валялось почти два десятка скомканных, изорванных листов, исписанных крупным, немного корявым почерком.
Не за что было себя корить и не в чем каяться.
Вспомогательный танковый корпус Демократической Конфедерации Галактики сделал в этой войне все, что мог, а может быть даже и сверх того. Но изложить сие на бумаге оказалось очень непросто. К тому же мешал назойливый Хранитель Чертога, мельтешащий перед глазами и никак не желающий убираться.
Глядя на трясущийся подбородок вельможи, Улингер Мураками неожиданно остро пожалел, что не располагает правом пороть подданных императора.
Черт возьми, а ведь у прапрадеда, служившего главным советником при правительстве Падиона всего лишь каких-нибудь сто лет назад, такое право имелось. О, святые, добрые времена!
— Мне не до вас, милейший!
— Но подумайте же, коммодор! Вы же понимаете, что император…
— Ваш император получил в свое распоряжение три каюты люкс и грузовой отсек, и мне безразлично, какой дрянью он собирается все это забить! Ни одного лишнего метра у меня нет!
В первый раз за долгую карьеру Хранителя Чертога кто-то смел возражать ему. Царедворец был настолько ошеломлен, что позволил себе забыться.
— Да вы соображаете ли, коммодор, сколько стоит эта коллекция пилочек для ногтей?! Сорок семь тысяч уникальных экземпляров!
— Я не могу разместить людей, любезный, ваших же людей, кстати, а вы талдычите о пилочках. Посмотрите, что творится!
Хранитель Чертога усмехнулся, даже не подумав поглядеть на вопящую за окном толпу.
— Разве это люди? Что они в сравнении с коллекцией императора? Кстати, ваше превосходительство смогло бы выбрать несколько образцов для себя, на память о нашей великой дружбе…
— О, вот как?
Мураками стал необыкновенно любезен, и Хранитель, почуяв это, немедленно расправил плечи.
— Знаете что? — Улыбка коммодора расцвела подобно пиону. — А не запихать ли вам, дружище, все сорок семь тысяч пилочек в задницу своему вшивому императору? Вон!!!
Спустя минуту, посидев, массируя виски, и несколько успокоившись, коммодор сообразил, что последний период рапорта, так долго не шедший на ум, сформировался.
«Таким образом, в силу объективных причин, а равно и вследствие недоброкачественности туземной живой силы эффективность действий отдельного танкового корпуса оказалась ниже предполагаемой».
Поставив число и подпись, Мураками усмехнулся, подумав, что в старые добрые времена после такого рапорта прапрадедушка, вполне вероятно, совершил бы харакири…
Начальник Генштаба не знал, что такое харакири.
Зато у него был зеленый паучок кюй-тюи.
Редкостная честь! Завидная привилегия! В крохотной чернолаковой шкатулке обитало бесценное наследие предков — нежное, изящное, хрупкое, как невинность первого поцелуя на заре. Ни в чем не виня себя, раздав все долги и осчастливив напоследок страстным визитом большинство почтенных супруг, несостоявшийся губернатор Пао-Туна готовился замкнуть цепь благородных предков и слиться в заоблачном единстве с теми, кто некогда пестовал его.
Пожалуй, единственное, что не позволило ему уйти, как повелевала традиция, с первым стоном утренних цикад, был крошечный остаток надежды. Дивизия Тан Татао, въедливого педанта и сухаря Тан Татао, чья родословная оставляла желать много лучшего, а дурной характер вечно портил заседания военной коллегии, вот уже четвертые сутки не подавала вестей. И нельзя было исключать, что упрямый генерал Тан, зарывшийся со своими головорезами-егерями где-то в снежных теснинах, сумеет все же нанести контрудар по ворвавшимся в Барал-Гур бандитам.
Начальник Генштаба, сознавая всю зыбкость таких расчетов, умолчал о них на последней аудиенции, но, никем пока не опровергнутые, они имели право на существование. В конце концов, пятнистых не так уж и много — тысяч тридцать, не более, и не менее трети они положили на подступах к городу, а в дивизии Тан Татао почти восемь тысяч горных стрелков…
Прерывисто всхлипнул радиотелефон.
— Докладываю: мы разбиты, — спокойным, несколько даже скучным тоном сообщила трубка; голос Тан Татао был плебейски скрипуч и занудлив, словно на заурядном разборе полетов после учений. — Докладываю: остатки дивизии отошли в порядке. Прорваться к столице возможности не имеем. В сложившейся ситуации считаю единственно возможным, перегруппировав войска, сражаться до победного конца, согласно заветам предков…
— Благодарю вас, генерал. — Начальник Генштаба был ни на йоту не менее хладнокровен. — Ни на миг не сомневаюсь: вы сделали все, что смогли. Желаю удачи. Прощайте. И, кстати, позвольте признаться, друг мой: я не всегда бывал справедлив к вам.
— Взаимно, мой маршал, взаимно. — Тан Татао, кажется, даже хихикнул не без удовольствия. — Что ж, прощайте. Честь имею!
Вот и связался узел. Надежды рассеялись, как и подобает надеждам. Покачав головой, маршал наполнил узкий тонкостенный бокал игристым вином цвета увядшего ла, приподнял его и отпил несколько глотков.
За Империю. За Владыку. За тебя, старый пень Тан Татао, и за твоих горных егерей!
Пристально поглядел в зеркало: нет ли непорядка в форме? Оглядел золотое шитье новенького белого кителя, недрогнувшей рукой провел по орденам и не спеша направился к алтарю.
Однако же не дошел. Пришлось вернуться: вновь зазвонил телефон, на сей раз — перламутровая вертушка внутридворцовой линии.
— Мой маршал, ваша высокомужественность! — Голос старшего адъютанта, несколько суетливого, но вполне надежного работника, звенел трубами победного оркестра. — Я говорю из приемной Главного Большого Друга! Вам предоставлена отдельная каюта!!!
— Каюта?!
— Так точно, персонально для вас с супругами! А остальные шестнадцать Высших удовлетворятся гамаками в грузовых отсеках!
Адъютант перевел дух и добавил — доверительно, пожалуй, даже несколько фамильярно:
— Даже господин Председатель Кабинета! Вы слышите?!
Не отвечая, маршал повесил трубку. Почти тотчас вертушка зачирикала снова, но начальник Генштаба уже не стал обращать на нее никакого внимания.
Впустить капризного кюй-тюи в ухо оказалось очень не простым делом. Предки со старых портретов одобрительно следили за маршалом…
А перламутровый телефон вопил, верещал, надрывался.
И лишь после тринадцатого безответного гудка коммодор Мураками на том конце провода приказал разъединить связь.
— Я не сомневался, что его превосходительство изберет именно такой путь. Он был настоящим мужчиной и великолепным офицером, полковник…
Старший адъютант покойного начальника Генштаба, высокий мягколицый щеголь, тянулся в струнку, ловя взгляд Главного Большого Друга.
— Ну что ж, идите. Разумеется, каюта его превосходительства остается за его семьей. Вы сможете сопровождать их, полковник?..
Адъютант истово щелкнул каблуками.
— Вольно. Можете идти.
И когда дархаец почти бегом покинул кабинет, коммодор резко развернулся к еще одному собеседнику, намеренно до сих пор не замечаемому.
— Та-ак. А теперь — вы. Скажите, капитан О’Хара, вы вообще понимаете, какую чушь несете?
— Так точно, коммодор.
— Кажется, вы считаете себя лучше своих товарищей?
— Никак нет, коммодор.
— Так в чем же дело, мать вашу так и разэтак?!
— Не могу знать, коммодор!
Руки по швам, глаза не мигают, ответы строго по уставу, не придерешься. Вот ведь что обидно…
— Возможно, вы полагаете, капитан, что все мы — слизняки и трусы, коль скоро покидаем эту дерьмовую планету, а не деремся до конца? Так вот, во-первых: у нас есть приказ! Вам известно, надеюсь, что такое приказ? Во-вторых: это не наша война, вам ясно? И потом: вам известно, что товарищи, которым вы плюете в лицо, будут спать в трюмах?! Мы отдаем каюты девчонкам из гарема этого бессмертного… ублюдка!
Джимми молчал, сержантски тупо тараща глаза.
Для себя он уже решил все. Звери идут в Барал-Гур, и их нельзя пропустить. Если они спокойно прошли по своим же, замостив ими пропасть, то что же будет здесь?.. Ребята, конечно, молодцы, и старина Улли тоже молодчина, и приказ есть приказ, и война, действительно — что уж там! — чужая, и полсотни спасенных девчушек — это совсем, совсем немало… Но — каждому свое.
— Так какого же черта, капитан О’Хара?! — багровея, взревел Мураками… и осекся, встретившись взглядом с подчиненным.
— Простите, сэр. Скорее всего я не прав. Но я все обдумал, сэр.
Узенькие блекло-голубые глаза сощурились до отказа, напомнив внезапно опасную, очень опасную бритву. И было в них сейчас нечто эдакое, трудно определимое: уважение и, кажется, понимание и еще что-то… неужели зависть?
— Тогда… иди, парень. Поступай как знаешь. И да пребудет с тобою Бог.
Когда серебристая волна портьер сомкнулась за вышедшим, тренированный кулак Улингера Мураками сокрушил в синюю пыль антикварную статуэтку Хото-Арджанга, и на фигурных полочках этажерки тоненько зазвенели, откликаясь, срезанные на память храмовые бубенцы…
— Прррррррррроклятие!..
Поистине для императорской гвардии этот смертный день Империи стал днем бессмертной славы. Сдерживая наступающих, восемь тысяч гвардейцев Чертога, беломундирных великанов в квадратных шапках из меха горного кьяу, прикрывали собой посадку на космолеты и потому стояли до последнего.
Андрей не мог доселе представить себе, что эти шакалы способны так сражаться. Вот почему, когда какой-то безумно вопящий сгусток крови, волос и расхристанного тряпья подорвал себя и весь боекомплект смятого дота прямо под днищем «тристасороковки», лейтенант Аршакуни даже не понял поначалу, что же, собственно, произошло.
Лишь оказавшись в гуще резни, по-научному именуемой «рукопашная», он осознал наконец, что случилось невероятное и оранжевые кустарными средствами, без какой бы то ни было артиллерии, вывели из строя тяжелый танк — да так, что не успели сработать хваленые компьютерные системы катапульт…
Видимо, танкистам противопоказано вмешиваться в дела, привычные пехотинцу, потому что Андрей попервоначалу испугался. Впрочем, вокруг и впрямь было страшно — воздух рвался от воя, вычерненного струями дыма. Человеческие клубки хрипели и разматывались на скользком граните Дворцовой площади, и конная статуя Вридармарярлала Миротворца была заляпана только что живым по самый кончик изогнутой сабли.
Передовые каи, ворвавшиеся в центр дворцового комплекса и попытавшиеся с ходу пробиться к царящей над площадью башне, были вмиг испепелены хлесткими струями огнемета. Тот, кто занимал позицию там, на верхних этажах, не рассчитывал уйти живым и был, вне всяких сомнений, очень неплохо натренирован: он не позволял себе промахов. Черные тени в оранжевой корке огня с визгом бежали к переполненным телами бассейнам и, не добежав, рассыпались на глазах.
И тогда с Андреем произошло то, что строго-настрого запрещали инструкции: он увлекся. Нет, не совсем так, но точнее не скажешь. Ведь эти горящие тени были братьями тех, кто сегодня на рассвете спокойно ложился под «тристасороковку», ложился во имя того, чтобы наступила наконец эта минута. И если она наступила, а огнемет все-таки изрыгает пламя, так что: неужели же все жертвы — даром?
Нет! Ничего не было зря!
Далекий Брат Аршакуни в долгу перед павшими братьями.
Борец Аршакуни не посрамит доверия вождя!!!
— Дай-дан-дао-ду!
Хрипло рыча, борец Аршакуни метнулся к башне — зигзагами, умело уворачиваясь от летящих с неба огненных щупалец. Четко, как на показательных соревнованиях, раскидав гвардейцев, он выхватил из мертвых рук раскаленный автомат и рванулся вверх, прыгая по осклизлым ступеням…
Уже ничто на свете не могло бы его остановить.
И не остановило.
И капитан О’Хара даже не успел разглядеть как следует странно высокорослого дархайца в пятнистом танковом комбинезоне, ворвавшегося на венцовый ярус башни. Он и не стал разглядывать. Он просто вывернул огнемет на турели, и тяжелая установка мягко повернулась на сто восемьдесят градусов, подчинившись движению рук.
Пятнистый сгорел мгновенно, почти без крика. Джимми секундно уловил слабое шипение, ощутил сладкий запах горелого мяса, мстительно ощерился — и снова развернул огнемет к амбразуре.
Шум битвы снаружи несколько приутих.
Передышка.
Ошеломленные нежданно тяжелыми потерями, каи оттянулись в ближние переулки, зализывать раны. Можно было утереть лицо, отхлебнуть воды. И все-таки теперь приходилось быть вдвойне настороже: зияющий, никем уже не защищенный проход за спиной угрожал постоянной опасностью.
В омерзительном сгустке угля и золы, лежащем на пороге, Джимми внезапно заметил что-то блестящее. Вещица, уцелевшая в таком огне, в любом случае заслуживала особого внимания. Перебрасывая с ладони на ладонь еще не остывший медальон на тоненькой цепочке, Джимми понял, почему тот устоял в пламени…
Тантал. А тантал не плавится. Но откуда тантал здесь, на Дархае?
Впрочем, гадать не стоило. Что-что, а эту самоделку Джеймс О’Хара без труда узнал бы среди сотен тысяч других, самых замысловатых значков, эмблем и медальонов, украшающих армию верных болельщиков «Челесты».
Джимми скинул прожженный во многих местах полосатый китель и бережно накрыл им обугленные останки.
Он еще морщил лоб, пытаясь вспомнить, куда же, черт возьми, задевался сине-голубой значок «Черноморца», когда шальной осколок, срикошетив от края амбразуры, превратил голову капитана Джеймса Патрика О’Хара в сизо-багровый бесформенный обрубок…
Миньтаученг А Ладжок благоговейно склонился над обезглавленным, полуголым телом человека, зажавшего в скрюченных пальцах хорошо знакомую юному командиру вещицу.
Скорбным полукругом замерли возле стен борцы, и даже ликующие клики, доносящиеся снизу, не могли сейчас радовать их. Там, на площади, победители добивали оставшихся еще врагов, и слипшиеся от крови и мозгов меховые шапки все летели и летели в растущий на глазах курган победы.
Но здесь…
— Доставить прах героя в Пао-Тун! Далекий Брат Андрей Аршакуни навсегда останется с нами. А это, — Ладжок слегка поморщился, взглянув на горелый комок под изорванным полосатым мундиром, — убрать. На свалку!
— Будет исполнено, брат миньтаученг! — старательно вытянулся почерневший от копоти борец. И несмело добавил:
— Любимый и Родной…
ОМГА сообщает:
… Свершилось! Теперь точно известно: в финале Кубка Галактики встречаются одесский «Черноморец» и «Челеста», сумевшая по результатам пенальти взять реванш у новобатумского «Реала». «Не стану отрицать, мы совершили чудо!» сказал в интервью ОМГА старший тренер «Челесты» Веско Лобанович.
… Компромиссом завершилась Общегалактическая Конференция по проблемам использования боэция, проходившая на Гедеоне-2 (Порт-Робеспьер). Подписан заключительный документ, регламентирующий конкретные пропорции паритетных разработок боэция на Дархае. Преимущественное право вывоза единогласно оставлено за Единым Галактическим Союзом.
… Внимание, новинка! Поступил в продажу богато иллюстрированный сборник статей «Идеи квэхва живут, побеждая!» видного дархайского политика Юх Джугая, трагически погибшего в автомобильной катастрофе.
… Резкое похолодание вызвало обильные снегопады на срединном хребте южной полярной шапки Эридана. В результате схода лавины пропали без вести два астрофизика из персонала международной обсерватории «Братство». Поиски тел Андрея Аршакуни и Джеймса Патрика О’Хара продолжаются…
ГЛАВА 9. ЕДИНЫЙ ДАРХАЙ. Юх-Джугай-Тун
1-й день 8-го года Единства. (Справка: 28-й день 11-го месяца 12-го года Свободы по старому стилю)
Соотечественники и соотечественницы! Труженики Единого Дархая!
Бархатный рокот динамиков, искусно вмонтированных в верхние ярусы окольцовывающих громадный овал площади зданий, многократно усиливал каждое слово, и упругое эхо перекатывалось над головами тесно столпившихся людей, мячиком отпрыгивая от низких серых облаков, медленно плывущих на юг.
— Бурный океан светлой радости переполняет сегодня наши сердца в этот гордый день, в годовщину великого воссоединения Родины! Семь долгих лет минуло уже, как нет в наших рядах моего верного и преданного соратника, испытанного борца, незабвенного брата Юх Джугая. И сейчас, как и семь лет назад, здесь, в непоколебимом городе Юх-Джугай-Туне, по праву несущем это неугасимое имя, над могилой моего близкого друга я могу снова повторить слова сказанной тогда клятвы: «Брат, спи спокойно! Ростки идей квэхва пустили надежные корни на многострадальной земле Дархая. Они цветут пышным цветом — и нет такой силы во всей Вселенной, которая могла бы погубить их и свернуть мой и твой народ с избранного пути!» Дай-дан-дао-ду!
Толпа всколыхнулась. В сплошном туго перекатывающемся из конца в конец площади реве нельзя было разобрать слов, и гром динамиков утонул в рыке толпы без следа.
Высоко над людьми, обеими руками упершись в отполированный мрамор парапета, стоял Вождь — и никого не было над ним, лишь мохнатые облака плыли в небесах, а тем, кто стоял на площади, задрав головы, казалось, что это сам Любимый и Родной плывет сквозь облака, рассекая их, словно острогрудая птица токон.
Присутствие Вождя было подобно рассвету. И мало кто обращал внимание на трибуны нижних ярусов, где, точно так же вскинув глаза вверх, внимали голосу Любимого и Родного лучшие из дархайцев — военачальники, руководители хозяйств, прославленные труженики…
В ложе для почетных гостей заметно пополневший дон Мигель, тщательно сохраняя невозмутимо-официозную серьезность, едва заметно подтолкнул локтем почти не постаревшего коллегу Хаджибуллу.
— Взгляните-ка! Каково?..
Над океаном людских голов реяли транспаранты:
«ПУСТЬ ВЕЧНО ЖИВЕТ ЛЮБИМЫЙ И РОДНОЙ ВОЖДЬ — ТВОРЕЦ ИДЕЙ КВЭХВА!»
«ЗА А ЛАДЖОКОМ — ВСЕГДА!»
«ДА СЛАВИТСЯ В ВЕКАХ ВЕЛИКАЯ АРМИЯ ЕДИНСТВА — ДИТЯ И ВОСПИТАННИЦА А ЛАДЖОКА!»
Очень-очень редко мелькали плакатики с именем Юх Джугая; иных имен не возникало вовсе.
— Как это понимать, коллега? Подозреваю, что у Нола будут к вам претензии… Кстати, почему его не видно?
Посол Хаджибулла тонко улыбнулся.
— По поводу таученга Сарджо, дон Мигель, вопросы скорее к вам. Меня, между прочим, это тоже весьма интригует…
Дон Мигель незаметно придвинул стул к стулу Хаджибуллы.
— Можете поверить, коллега, я не в курсе. Позавчера звонил, говорят — на охоте в горах; вчера звонил — то же самое. Сколько же можно, скажите на милость?..
— Ван-туанские замашки. — В седеющих усах Хаджибуллы заиграла саркастическая усмешка. — С вашей, дорогой друг, откровенно говоря, подачи…
— А даже если и так, что тут такого? Человек имеет заслуги, у человека есть слабости. И вообще я спросил вас об этом безобразии с транспарантами!
Коллега Хаджибулла смущенно пожал плечами.
— Самодеятельность, дон Мигель, — чуть шевеля тубами и не забывая аплодировать оратору, сообщил он. — Чистой воды самодеятельность. Набор лозунгов был стандартным, как договаривались, я вчера лично проверял. Видимо, парнишка переиграл все уже ночью. Ладно, после митинга выясним…
— Уж будьте любезны, коллега…
А мощный голос вновь, торжествуя и царя, перекрывал гул бурлящей площади. Включились дополнительные динамики.
— Соотечественники! Можем ли мы сегодня говорить о полной победе? Да, наше дело победило полностью! Но можем ли мы заявить, что победа окончательна, и почить на лаврах? Нет, такое заявление было бы преждевременным! Немало еще есть недостатков, и мы тем более сильны, что не закрываем на них глаза… Не все охвостье императорской своры еще уничтожено. Пользуясь гуманностью трудового народа и особенностями горного рельефа, еще бесчинствуют кое-где не до конца уничтоженные банды кровавого изверга Тан Татао, смеющие называть себя «оранжевыми братьями». Не так давно мы в девятый раз предложили им безоговорочно капитулировать на почетных условиях. Но терпение народа небезгранично. Если ничтожные группки террористов вновь отвергнут амнистию, судьба их будет воистину ужасной. Но, впрочем, стоит ли в этот светлый день, в минуту нашей общей радости, так долго говорить о кучке жалких недобитков?..
— Нееееет! — проревела площадь.
Дон Мигель досадливо поморщился.
— Господи помилуй, оглохнуть можно. Кстати, коллега, о недобитках. Вчера эти ребята сделали вылазку в долину…
— Я знаю, мой друг, — одними губами отозвался Хаджибулла. — Снова, говорят, вырезали заставу?
— Простите, две заставы, под завязку. В том числе Восемьдесят Пятую, Бессмертную.
— Погодите! — Хаджибулла явно был шокирован; он даже несколько повысил голос. — Это что, уже в зоне рудников?!
— Именно так, сеньор посол, именно так. Но не волнуйтесь, они не станут взрывать установки. Генерал Татао сделает заявление по радио и уйдет…
— А откуда это известно вам, дон Мигель?
— Да так, коллега, ходят слухи… — Дон Мигель ласково прищурился.
А над площадью все гремел и гремел голос Вождя:
— Никому не под силу счесть всех тех героев Дархая, чьи тела легли фундаментом торжества идеала Единства, краеугольного камня победоносных идей квэхва. Нам не дано поименно почтить их память. Они мертвы. Нет, они вечно живы! И нам известно священное имя того, кто пришел к нам с открытой душой и стал одним из нас, отдав жизнь свою на благо Единого Дархая…
Вождь возвысил голос.
— Услышь же меня, брат Андрей Аршакуни! Как сейчас, вижу я твое прекрасное лицо! Вместе с тобой, плечом к плечу, ворвались мы на нашем грозном танке в последний оплот нечистой имперской своры. Сегодня там, — в голосе Любимого и Родного промелькнуло легкое смущение, — в Барал-А-Ладжоке прекраснейший из проспектов назван в твою честь. И там, под баньянами, где некогда стояли капища поганых божков, вольно гуляет твой дух. Но тело твое здесь, в городе, который ты знал как Пао-Тун. Мы не благодарим тебя: братьев не благодарят. Мы склоняемся перед тобой, брат мой Андрей, и друзья твои с далеких планет навсегда останутся нашими друзьями. Дай-дан-дао-ду!
На несколько долгих секунд толпа в оглушительной тишине преклонила колени. В самой середине площади плечистые парни в приталенных пятнистых комбинезонах слаженным хором проскандировали: «Анд-рей-Ар-ша-ку-ни-во-ве-ки-ве-ков-с-на-ми! С-на-ми! С-на-ми!»
— Но не все, пришедшие из-за облаков, стали искренними друзьями Единого Дархая, Андрей. — В интонациях оратора проскользнула неподдельная грусть. — Мне больно и горько говорить об этом в радостный день всенародного торжества, но молчать долее нельзя! Ловко воспользовавшись традиционным добродушием и гостеприимством лунгов, купив на корню прогнившую насквозь Империю, люди, внешне — о, только внешне! — похожие на тебя, тянули загребущие лапы к богатствам нашей земли. А мы терпели! Они до конца подпитывали омерзительную оранжевую клику, и на их счету десятки тысяч наших благородных жизней. А мы терпели! Они, и никто другой, предоставили убежище беглому мерзавцу, именовавшему себя императором, и дали ему возможность весело жировать и по сей день вдали от справедливого суда. А мы терпели и это!!! Но любому терпению наступает предел! Остервеневшие от безнаказанности негодяи впрямую стали поддерживать чудовищные преступления кровавого Тан Татао. Больше того, они вознамерились вбить клин раскола в ряды высшего руководства нашей страны, и наше миролюбие иссякло! Хватит! Сегодня мы достаточно сильны, чтобы покончить раз и навсегда с унизительным для достоинства каждого истинного дархайца присутствием так называемой Демократической Конфедерации Галактики под небом Дархая. От вашего имени я говорю «вон!» двуличному подонку! — Палец вождя указал на дона Мигеля. — Я счастлив и горд тем, дорогие сограждане, что могу сообщить вам решение Высшего Совета Равных о разрыве дипломатических отношений с этим мерзавцем!
Дона Мигеля изъяли с трибуны почти незаметно, а ошарашенный коллега Хаджибулла спустя минуту, утонувшую в реве, услышал:
— Впрочем, не все, пришедшие со звезд, были подобны тем, которых я назвал. Были и иные, неизмеримо более достойные. Но наша страна уже не ребенок. Да, воспитателей следует чтить, опекунов надлежит уважать — однако неизбежно наступает возраст зрелости, и опека становится обременительной. Не хватит слов в мудром дархи, чтобы выразить во всей мере благодарность Дархая братьям из Единого Галактического Союза. Они, и только они, помогли нам достигнуть Единства! Они, и никто другой, были рядом, когда на месте наших кузниц вставали заводы! Они, бескорыстные и заботливые, учили нас искать дорогу в небо!!! Только благодаря им Дархай подрос и окреп. Вы слышите? Как и во все дни, ревут экскаваторы в карьере «Заветы Аршакуни». Но, — ликующе выкрикнул Любимый и Родной, — с сегодняшнего дня они работают уже только на нас! Дархай слишком долго был бедным родственником, отныне мы сами будем контролировать добычу и вывоз наших национальных богатств! Мы говорим: «Спасибо за все!» Единому Галактическому Союзу. Мы говорим: «Спасибо за все!» его бессменному послу, ставшему нам родным братом, — Хаджибулле. И мы от всей души сожалеем о том, что драгоценное здоровье нашего верного друга, неустанно консультировавшего и проверявшего нас в течение десяти лет, подорвано туманами Дархая. В добрый путь, дорогой и любимый брат!
Пятнистые молодцы, неслышно возникшие из миг назад пустовавших глубин почетной ложи, накинули на шею Хаджибулле желто-оранжевую ленту ордена Заслуг и под локотки, нежно, вывели его прочь.
И только по пути в космопорт так и не успевший уложить вещи посол сообразил, что его отзывают…
В центре же площади те же парни в комбинезонах не менее двух минут скучно орали: «Ми-лый-брат-Хад-жи-бул-ла-счаст-ли-во-го-пу-ти! Пу-ти! Пу-ти!»
Вождь вскинул руки.
— Родные мои! Я знаю: все вы с понятным нетерпением ждете парада, демонстрации грозной, признанной всею Вселенной, мощи наших несокрушимых миньтау. Признаюсь: и мне хотелось бы немедленно подать знак к началу шествия. Но сегодняшний день необычен, это день истины, когда срываются все личины и разбиваются все фальшивые бубенцы. Воздав должное друзьям Дархая и по заслугам указав должное место врагам, я хочу сообщить вам, соотечественники, и о нескольких ничтожных ублюдках, гнилостных вшах в победно сияющем оперении птицы токон!
Гул и шелест голосов оборвались в единый миг, и вязкую, ошеломленно-жадную тишину, казалось, можно было теперь резать на куски обычным ножом.
— Омерзительная банда оборотней в честных пятнистых комбинезонах с омерзительной оранжевой подкладкой, укрытой от чистых глаз, сумела пробраться на командные посты в Армию Единства, внедрила своих прихлебателей повсюду и, ненавидя славные достижения своего собственного народа, надеялась вернуть власть беглой крысе, именовавшей некогда себя императором! Они готовили свержение Высшего Совета Равных и, более того, в своем кругу открыто глумились над тем, что во исполнение вековой мечты простого дархайца проспекты Пао-Туна были покрыты надежным, лучшим в мире асфальтом!
Людское скопище охнуло.
— Оборотни и сейчас стоят среди нас, здесь, уверенные в надежности своих масок. Но они забыли: ничто не остается скрытым от бдительных глаз народа. Их имена известны страже, и сегодня они ответят за все. Сорвите с них нашивки, братья борцы!
По нижнему ярусу трибуны — слева и справа — пробежала короткая судорога. Ловкие руки охранников мгновенно скрутили десятка полтора человек, стоящих чуть ниже А Ладжока, и Вождь остался на глыбе трибуны совсем один. Внизу, в скопище людей, кто-то протестующе вскрикнул и тотчас осекся; толпа сомкнулась и вновь замерла.
— Смотрите же на их шакалий оскал! Это они предали и убили моего любимого бойца, бессмертного героя Ту Самая! Это они погубили Юх Джугая, моего верного и доброго ученика! Они подстроили гибель моему Далекому Брату Андрею Аршакуни! Они вступили в сговор с лютым врагом всего доброго и светлого, злобным фанатиком Тан Татао, покусившись на идеи квэхва, на нашу единственную дорогу!!! Но они просчитались, ибо забыли: Око Единства не дремлет!
Никто из вопивших во всю глотку «Дай-дан-дао-ду!», никто из глядящих, задрав голову, на Вождя, не обращал внимания на худенького очкастого человека, державшегося в подчеркнутом отдалении от Любимого и Родного, где-то на самом-самом краешке трибуны…
— Но кто же возглавлял их, этих гнусных перевертышей? Вы хотите знать, и вы имеете право узнать! Я назову вам это имя, вчера еще, к стыду нашему, бывшее гордостью и славой Дархая, а ныне отмеченное несмываемым пятном гнусной измены и предательской скверны…
Вождь сделал длинную, мастерски затянутую паузу и, чуть понизив голос, бросил в вязкое молчание толпы: — Нол Сарджо!
В гуще народа что-то екнуло, словно селезенка утомленного долгим переходом куньпингана.
— Да, Нол Сарджо! Таученг Нол Сарджо! И хочу спросить вас, братья мои: чего не хватало ему, этому пресловутому Тигру-с-Горы? Разве не был он долгие годы первым заместителем главы Высшего Совета Равных? Разве не воздал ему народ все мыслимые почести, разве не увенчал высоким званием Героя Единства? И что же? В темных углах, в потайных закоулках, на бесстыжих, поправших все каноны целомудрия пиршествах плел он грязные интриги, сколачивал банду беспринципных заговорщиков, мечтая о месте начальника Генштаба Империи!
Площадь всхлипнула, словно от невыносимой боли.
— Да, друзья мои, да! Трудно, почти невозможно поверить в подобное! И сам я не раз проверял и перепроверял факты, пытаясь найти в них хоть каплю вымысла, навета или клеветы. Я долгими ночами не смыкал глаз…
Каждое слово звучало сейчас с искренним печальным надрывом.
— Да! Я ночами не смыкал глаз, листая старые документы. И рядом со мною, вопя о справедливости, стояли доблестные защитники Кай-Лаона, оставленного таученгом Сарджо на растерзание имперским убийцам. И Огненный Принц Видратъхья, скорбный предтеча нашей борьбы, первым поднявший меч против демонов из поднебесья, являлся ко мне, умоляя покарать того, кто предал его в жестокие руки палачей! И я решил: преступник должен встать здесь, рядом со мною, и перед вами, на ваших глазах, родные, смыть с себя пятно подозрений — или открыто признать свою вину!..
Казалось, даже легкий ветерок умолк вместе с Вождем и людьми, превратившись в сгусток напряженного, истового внимания.
— Но! — Взвившись в небо, высокий, выверенно-металлический голос оратора вспорол облака, напугав медленно кружащих там токонов. — Так не случилось! Страшась ваших гневных очей, струсив предстать перед лицом преданного им народа, не имеющий стыда негодяй предпочел пустить себе пулю в лоб, получив повестку о явке на собеседование к Оку Единства! Нужны ли, есть ли вообще высшие доказательства признания своей вины?! Так будь же проклята и забыта сама память о подлом оранжевом отродье!
— Дай-дан-дао-ду!!! — взвыло внизу, под трибуной, и толпа почти сразу подхватила призыв динамика.
— Однако, — голос Любимого и Родного стал мягким, дружеским, исполненным любовью, — яд измены свертывается, коснувшись чистой души. Родной сын предателя, Лон Сарджо, услышав разговоры недостойного отца с дружками, без размышлений сообщил о них тем, кому следовало знать. Вот он, этот юный герой!
Некто невидимый подал Вождю крохотного мальчугана, и А Ладжок без всякой натуги поднял его высоко-высоко над нефритовым парапетом.
— Своим беспримерным подвигом борец Лон Сарджо спас свое честное имя от скверны, смыл с себя клеймо, лежащее на опозорившей себя семье. Ему всего лишь шесть лет, и пока еще он совсем дитя. Но придет день, и — я не сомневаюсь! Лон Сарджо станет одним из тех, кем по праву будет гордиться Дархай наших сыновей и внуков. Звания таученга не будет отныне в великой Армии Единства; вашей волей, соотечественники, я принимаю главнокомандование на себя. Но уже сейчас я называю Лона Сарджо кайченгом и верю: он не посрамит доверия трудового народа!
Любимый и Родной ласково погладил пунцового от гордости и смущения мальчугана по вихрастой макушке.
— Мальчик мой! С честью носи эти нашивки. И помни, крепко помни: народ не любит угнетателей!
Из толпы вырвался крик:
— Проклятие Нолу Сарджо! Равнение на Лона!
Вождь устало, совсем по-домашнему, прокашлялся.
— Подвиг славного Лона Сарджо еще и еще раз подтверждает: наша сила, наше будущее — это молодежь. Ей строить светлое завтра, ей и карать по заслугам тех, кто посмел встать на пути этой великой стройки. По праву должен был бы сделать это сегодня замечательный герой Лон Сарджо. Но он еще слишком мал, не силою духа своего, но силою рук. И потому его наставнице, лучшей ученице Юх-Джугай-Тунской образцовой школы имени Огненного Принца, маленькому знатоку больших идей квэхва Тиньтинь Те я, от имени всех вас, братья и сестры, доверяю размазать по священным камням нашей столицы этих нелюдей!
Мальчуган исчез, на его месте возникла миниатюрная девчушка. Запечатлев на чистом детском лобике братский поцелуй, Любимый и Родной осторожно опустил Тиньтинь Те. На ходу одергивая строгую форму отличницы первого разряда с белыми нашивками звеньевой, девочка, четко ступая по просторным плитам парадной лестницы, спустилась с поднебесья.
Танк, замерший в строгом треугольнике величественных монументов, приветливо распахнул люк.
Изваяния смотрели на девочку.
Простое, мужественное, по-крестьянски скуластое лицо Ту Самая…
Вдохновенный лик Юх Джугая, исполненный печального благородства и надежды…
Резкие, четко вылепленные, совсем не дархайские черты Андрея Аршакуни или же все-таки Джеймса О’Хара?..
Они ни капли не походили друг на друга, но все трое чем-то неуловимо напоминали Вождя.
Чем? Кто посмеет задаться вопросом…
На чистой полосе бетона под самой стеной трибуны растерянные люди в новеньких комбинезонах со свежеоборванными нашивками миньтаученгов высшего и первого уровней покорно укладывались в ряд перед танком.
Рев толпы перекрывал грохот двигателя:
— Дай-дан-дао-ду!
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОТРЫВКОВ ИЗ «ОБЩИХ РАССУЖДЕНИЙ»
(Продолжение пролога, а возможно, и начало эпилога)
Да-с, дети мои… Времена, как сказал поэт, не выбирают, в них живут и умирают, и это верно, и это, прямо скажем, правильно. Но что касается конкретно нашего времени, так в нем, как, впрочем, и во все иные времена, среди паствы Господней встречались и агнцы, и козлища. Причем значительно чаще, чем хотелось бы, во всяком случае мне, пастырю, пусть и бывшему, попадались как раз последние. Хотя, с другой стороны, и то сказать… возьмешь, бывалоча, за грудки эдакое козлище, припрешь к стеночке, вопросишь: «Кто еси?» — так оно тебе и ответствует без тени сомнения: «Агнец Божий есмь!», и ведь опровергнуть-то сие никак невозможно, что более всего и препечально.
Вот тут-то и сядешь, и задумаешься при нынешнем-то плюрализме: чем черт, прости Господи, не шутит, а может, и оно, козлище сие злосчастное, где-то в чем-то по-своему право?
А как раз поэтому, да-да, именно поэтому, прискорбные события на планете Дархай, при всей тленности и преходящести их, особливо в сравнении со всемогуществом Творца, уязвили тоскою мою и без того преизлишне смятенную душу. И вдвойне прегорестно восплакала вышеупомянутая, душа то бишь, оттого, что кровь — безвинная ли? виноватая? виновная ли без вины? — Бог то весть, пролитая по тупому злоумию сильных мира сего и их присных, под бойкими перьями борзописцев из ОМГА превратилась, аки вода в вино, в лимонад. И втройне больно, что двое неразумных юношей, павших, не успев и пожить толком, в бессмысленной схватке, остались в глазах равнодушной Галактики безымянными астрофизиками… но, впрочем, о миллионах погубленных дархайских душ так и не узнала бездумно доверчивая аудитория ОМГА…
Да, сказать по чести, по совести, и я тоже так ничего и не узнал бы, не попадись мне на глаза — волею Божией, не иначе — обрывок жесткой, очень скверной бумаги с какими-то водяными знаками.
И на ней — стихи!
Да-да, возлюбленные чада мои, стихи; я бы, пожалуй, не обратил бы на них особого внимания (а кто сейчас вообще, скажите на милость, интересуется такими пустяками?), не будь под ними подписи — «Андрей Аршакуни». И тогда я что-то начал припоминать, и вспомнил, и перечитал снова… Конечно же, не могли это быть его строчки, любому ясно, но — уж как хотите! — а врезались они мне в память намертво, потому как были в них и жизнь, и смерть, и вера, и сомнение в ней, и многое-премногое другое. И даже сейчас я могу наизусть процитировать их…
А что? И процитирую! И ежели кому-то очень уж не по нраву такая по нашим временам несуразица, как стихи, так пусть он их и пропустит или вообще не слушает меня, раба рабов Божиих, как бы ни именовал себя Бог, смиренного Господнего служителя, двадцать седьмого носителя скромного, но, смею надеяться, не столь уж и бестолкового имени Бенедикт…
Итак, цитирую:
Вот так-то. Казалось бы — Дархай, глубинка, никакого тебе политеса, и все же…
Кто-то скажет: апокриф. Да, не исключаю. И все же, полагаю, вы поймете, почему, прочитав и перечитав сии строфы, я отложил все дела и сел за составление специальной энциклики. И не знаю уж, чем конкретно на этот раз, но чем-то она, моя всем известная энциклика «De mortuis…» note 5 достала-таки власти предержащие! Собственно говоря, мои воззвания и без того редко прорываются в свет. Никакой цензуры, упаси Боже, не те времена, и все-таки — вы же знаете нашу систему. То «преждевременно, Ваше Святейшество», то «после драки кулаками не машут», то «вопрос вентилируется в верхах», и, в конце концов, «извините, проблема закрыта!».
И не приходится удивляться, что дражайший мой эскулап, магистр ди Монтекассино, прочитав (а как без этого?), тут же и перезвонил куда следует; спустя день вместо обычной улыбчивой сестрички с одноразовым шприцем ко мне в палату явились — задом отвечаю, с его наколки! — двое очень вежливых и просто на диво компетентных представителей неких организаций, корочками коих под носом у меня повертели, но в руки не дали.
Они вели себя вполне прилично: не хамили, не дерзили и, как это ни странно, даже не допрашивали — во всяком случае формально. Но зато в течение битых трех часов, спасибо, хоть с перерывом на обед, они с шутками и прибаутками наперебой домогались чистосердечного признания, откуда мне, собственно, все это известно и, в первую голову, где я, черт побери, взял стишки…
Я же сидел паинькой, время от времени крестился и кротко повторял: «Все от Господа Бога Нашего, дети мои, все от Него, и ни от кого иного…»
Уходя, один из них что-то прошептал на ушко напарнику, и тот покрутил пальцем у виска. Гадкий человечишко, наверное, думал, что я сплю и ничего не вижу. А я так по сей день и не пойму толком, кто же из нас троих был более здрав рассудком.
Впрочем, как бы то ни было, а жизнь шла своим чередом. В рамках моих профессиональных интересов во всяком случае Сын был по-прежнему единосущен Отцу (хотя проблема подобосущности тоже подчас вставала на повестку дня), Аллах оставался «акбар», Кришна — «хари» и «ом мани», всему вопреки, пребывало «падме хум». И это было правильно. Во всяком случае за пять лет после событий на Дархае четверо антипап (ибо я, папа истинный, злобствование врагов поправ, жив!) отдали душу уж не знаю кому — надеюсь, что все-таки Господу…
И в тварном мире тоже все шло без особых изменений.
Или почти без изменений.
Вот только однажды пришла мне посылочка с того самого пресловутого Дархая. Добрейший мой синьор Джамбатиста, как водится, порылся в ней, не обнаружил ничего предосудительного и для себя интересного и любезно передал по назначению. В черном ящике покоился упакованный в стружку объемный портрет совсем молоденького отрока по имени А Ладжок и письмо, состоящее из трех пунктов.
Первый извещал меня (!), что Бога нет, а есть Железный Вождь А, коему, в связи с отсутствием Бога, все дозволено.
Пункт второй подчеркивал стальную волю упомянутого привести народ свой в рай (!!), непонятно только, в какой конкретно…
Третий же настоятельно рекомендовал мне бросить все и незамедлительно начать молиться за торжество богоугодных и христолюбивых (!!!) идей квэхва.
Взамен гарантировали пайку ла трижды в сутки.
В левом нижнем углу портрета было начертано — коряво и, видимо, собственноручно: «Приказываю долго жить. Любимый и Родной».
К великому моему сожалению, из-за габаритов подарка уместить его на стене не представилось возможным…
Если мои данные точны, аналогичные презенты получили и лидеры великих держав. А получив, задумались, а подумав, решили, что старые доктрины, хочешь не хочешь, придется ломать. Ну и, естественно, строить новые…
Сатангам прибавилось работы.
После долгих и утомительных консультаций было решено действительно распустить армии. Во всяком случае, сократить настолько, что это уже, по факту, и было форменным упразднением. В самом деле: какая война, ежели некому воевать? Вполне логично. А для-ради порядку и дисциплины решили: вполне достаточно и разнообразной полиции. Что же касается оружия, так от него предполагалось избавиться впоследствии, поэтапно, благо имелись у сатангов на сей счет некоторые специфические, вслух не высказываемые соображения.
Решено — сделано, к великой радости мам и пап тех юных дубинушек, что рвались в секретные (Боже ж ты мой, да для кого, кроме наивных дурочек, сие было секретом?) училища и прочие академии. Сопляков же никто не спрашивал, и они, оставшись с носом, побрели избирать себе иную романтику.
Стратеги же наши доблестные и тактики особо не ликовали, однако и они, правду сказать — не без ворчания, но покорились; не могу сказать, чтобы смирились, нет, протестовали, конечно, не без этого, но протест ограничился возникновением массы бурчливых, весьма оппозиционных и воинственных — к счастью, только на словах — ассоциаций…
Понятное дело, и Господь тому свидетель, ни на размеры пенсиона, ни на соответствующее заслугам уважение помянутые тактики, а равно и стратеги жаловаться не могли.
Человеки же, в таинствах высокой политики не искушенные, веселились. От души, порой не в меру, а зачастую и сверх всякой меры. От добра они искали добра, и еще добра, и еще, и даже немного свыше того. И всегда, как водится, находились услужливые доброжелатели, готовые за вполне посильную мзду предоставить интересующимся все мыслимые и немыслимые отдохновения. Не убежден, что промысел этот был в полном соответствии с действующим законодательством, и потому некоторые особо щепетильные граждане в сердцах именовали их чуть ли не мафией, что, на мой взгляд, вряд ли справедливо. В конечном счете наша Галактика — не древняя Сицилия, и сваливать все подряд на мафию — значит ни о чем не говорить. Время наступило шершавое, небожеское, и подчас трудно было уже понять, кто, собственно, клиент, а кто — поставщик, и чем добропорядочный налогоплательщик отличается от профессиональной торпеды…
Если кто-то мало-мальски и разбирался в таких нюансах, так это разве что «Мегапол», но эти ребятишки не успевали поставить свои познания на службу обществу в силу печальной, но для их работы вполне естественной текучести кадров.
Зато пресса вырвалась из клетки и, возомнив себя не то что четвертой (это бы полбеды), а едва ли не основной властью, обнаглела беспредельно. В один прекрасный день конопатый нахал, гонец-щелкопер дошел до того, что прорвался на Авиньон в халатике сестрички, напоил дежурного фельдшера и проник аж во дворец. Не получив аудиенции у меня (а с какой стати?), он обратился к высокоученейшему магистру Джамбатисте, после чего тиснул сразу в десятке еженедельников гнусную статейку: «ДА, ОН БЕЗУМЕН! — говорит магистр». Я, конечно, сразу предал его анафеме. А что мне, товарищи, оставалось делать в такой, не станем отрицать, непростой ситуации?
Однако кого в те годы волновала анафема? Ровным счетом никого. Озверев от покоя, люди отвернулись от неба, и уважаемейшими фигурами общества стали — вы не поверите! — затейники, причем самые похабные. Я, знаете ли, не ханжа, и порой мы с магистром сами выписываем на Авиньон солидного мастера для постановки чего-нибудь, скажем, из Шекспира или, предположим, из Чехова. Но мастера вымирали, уступая дорогу шутам гороховым! И бездумно потея на пип-шоу и гала-концертах, человечество губило себя, предпочтя пастырской проповеди утехи грешного тела…
Справедливости для добавлю: иногда, увы, слишком редко и в этом всесветном бедламе находились здравые головы, пытавшиеся мало-мальски мыслить. Конечно же, отнюдь не политики (им мыслить вообще не дано) и не клир (эти, так сказать, по службе вынуждены), а ученые. Между нами говоря, тоже далеко не все. Даже не многие. Но — некоторые…
Да, разумеется, я — клерикал, но уж никак не обскурант, и идеалы пресвятого Фомы близки сердцу моему ни в коей мере не менее, нежели идеи Джордано Бруно. Сжечь — не значит опровергнуть! — готов я хоть сейчас повторить вслед за ним.
Но что, извиняюсь, могли поделать эти чудаки?
Вопить благим матом, и не более того. Ими пользовались по нужде, затем выкидывали до новой надобности. И при этом, естественно, приказывали не лезть не в свои дела…
Итак, юдоль печали резвилась вовсю.
Мне же оставалось лишь молиться…
ХРОНИКА ВТОРАЯ. Плоды ла
ГЛАВА 1
О Господи Боже мой, Творец и Вседержитель! К Тебе взываю и к стопам Твоим припадаю ныне со скорбью, и ужасом, и отчаянием, и страхом, и болью за паству свою и Твою. Грозен Ты еси, и воистину пагубнее многая пагубы равнодушие Твое. Но не взыщи и воззри сей час на тварный мир, иже создан не по мгновенной прихоти, но Твоею благой волею, и оттого уже достоин милости Вышней; воззри и, воззрив, ужаснись веселию, царящему во человецех, ибо не в великом ли веселии истоки великих печалей?..
Рассказывает Аркаша ТОПТУНОВ, затейник. 67 лет. Гражданин Единого Галактического Союза
22 июня — 3 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Если вы думаете, хорошие мои, что у импресарио жизнь — малина, так вы уже попали не туда и можете выйти. Аркаша Топтунов знает, что говорит, потому что знает жизнь, которая, нив-року, уже немножко прошла. Не скажу, что мне это нравится, но тот мальчик с бульвара, что я был раньше, стал уже лысый как колено, и его на мякине не проведешь. Так вот: нет хороших сезонов и нет плохих сезонов, нет хорошей публики и нет плохой публики — публика всегда одинаково сволочная, потому что она всего только люди, а люди хочут зрелищ, и они таки имеют полное право его иметь за свои, между нами говоря, очень немаленькие деньги…
А кто может сделать зрелище?
Угадали — Аркаша!
Ой, ну не надо, все правильно: новое время, новые моды, так было всегда, и так будет потом, и никакая молодежь не желает кушать булку без масла, а масло без немножечко икры, и лучше, чтобы черной. Да! И я не спорю, что ничего не смыслю в новомодных извращениях типа розовых сотюшек или, упаси Боже, сийсийного массажа; я отцвел, как бузина в огороде, и пора уступать молодежи, которой у нас, не знаю зачем, дорога везде…
Но скажите, кто нашел Ози Гутелли, а? Кто она была и что из нее стало потом? А я, между прочим, еще не забыл, какие слова ей кричали на первых гастролях, она ж такой гадости в своей Хацапетовке и не слыхивала, и бедная девочка плакала в уборной, кричала про хочу домой и била об моя бедная голова фарфоровые тарелки. Из моего сервиза, заметьте! Ну и что? Я терпел, как пингвин на морозе, потому что таланту надо идти навстречу.
Не верите, спросите у самой Ози, только не забудьте сказать, что от Аркаши…
Да, конечно, я сегодня не такой, как позавчера, и это уже факт. Сердце, печенка, пятое-десятое, одна сигарета в день, никакого коньяка, никаких девочек, в смысле — нельзя, но тут уже извините, я еще не умер, и знаете что? пусть у ваших врагов будет столько болячек, сколько рецептов я сдаю в макулатуру по четвергам и воскресеньям. И я устал, зачем спорить…
Но по утрам на балконе я стою в трусах и смотрю на свой город сверху вниз, как орел, и эта красота под ногами тихонько шепчет мне: «Аркаша, неужели я останусь без тебя, а все эти муфлоны без развлечений?»… а с моря вдруг налетает медленный свежий ветерок, и уже не надо зарядки; я стою, молчу, и в горле становится, как с перепоя, липко и вонюче, и я отвечаю моему городу — во всю глотку, чтобы повскакивали любимые соседи, которым только и радости, что стучать в стенку, когда Аркаша привел дебютантку и девочка мешает им, видите ли, спать… так вот, я отвечаю: «Они не дождутся!» — и опять запрягаю себя, как сивку-бурку, и тяну этот клятый воз, хотя то, что у меня есть, слава Богу, хватит на три остатка такой жизни, как я сейчас имею, даже если совсем сойти с ума и опять жениться…
Так что можете не очень стараться, чтобы говорить мне за то, что такое Земля, я не пальцем делан, и я лучше вас знаю: Земля это таки Земля и у нас на Земле трудно кого-то чем-то удивить. Нет, я не хочу ныть, у меня это получается нив-року даже теперь, и сериалы мои смотрит пол-Галактики, если не вся, особенно про Рамоса, и даже премии идут, как положено, хотя будь Рамос жив, строго между нами, он, я думаю, выдал бы мне такую премию, что у меня ноги встали бы выше шнобеля; так вот, премии премиями, но себя не обманешь. Скажу вам, как родным: две Ози не бывают за одну жизнь, и можешь быть доволен, если тебе хоть раз вылетело такое счастье по профессии. А изобретать новенькое моим мозгам уже не всегда под силу, так вот и получается, что на живые шоу Топтунова идет все меньше народу, и то, знаете ли, бьет по уважению к себе самому. Вот почему я ухватился за эту клубничку с экзотическими жонглерами; я сразу все сообразил, когда увидел рекламки. «Ой, Аркаша, это да, это что-то с чем-то, и это твой шанс» — вот что я сказал себе, когда впервые узнал про вонючую планетку с дефективным названием, — пусть те, кто там живет, его и выговаривают на здоровье, если хотят, меня это не касается. Меня касается другое: чтобы было много, красиво и хорошо публике.
А что такое хорошо?
А хорошо — это когда интересно и платят за билеты.
По сей день не знаю, которое из агентств прислало мне тот конвертик, и не будем говорить, где я его распаковал. Ну ладно, будем, потому что «где» — это тоже важно: я распаковал его в своем клозете, потому что обычно, можете поверить, я знаю, как мало кто, рассылают полный дрэк, и использовать эти бумажки, если они не глянцевые, можно сразу и по прямому назначению.
Я вскрыл конверт и — знаете что? — едва не забыл, где сижу. А ведь у меня есть правило: клозет — это же, простите, храм души, тут нужно сидеть и тихо думать, и ничего больше, тем паче в таком клозете, как мне оборудовали, по особому заказу. Но когда Аркаша рассмотрел эти фотографии… ой, разве я уже мог думать тихо? Вы бы видели! Мальчики в бело-красном, и что эти мальчики вытворяли с мечами, луками и прочей дребеденью! Или я не Топтунов, или на это стоило видеть, и Топтунов сделал все, чтобы Земля без посмотреть на это не осталась.
Смешно вспомнить: когда-то один наивный маленький мальчик, не будем называть имя, так вот, если этот мальчик хотел чего-то иметь, то бегал по пятам за солидные люди и уговаривал выступить хоть немножко, и его посылали, и он приходил опять, и если не пускали в двери, так он лез в окно, и люди таки выступали, чтобы хоть отвязаться, и скажу вам честно, вот так и закалялась сталь. Но это было так давно, что — теперь уже неправда; теперь я никуда ни за кем не бегаю, бегают как раз за мной, если нужно что-то действительно вкусненькое. В конце концов, я же из тех, которых сейчас уже почти, можно сказать, и нету, и именно меня, а не какого-то из этих свеженьких шустряков приглашали аж на Авиньон, чтобы сделать пару Шекспировских спектаклей для… т-с-с!.. можете сами догадываться, для кого, а я давал подписку и ничего не скажу, чтобы не надо было опять таскаться по судам; короче говоря, Аркаша давно уже не мальчик, и это известно не только Топтунову; я дал телекс куда надо, и эти дикие люди вообще озверели от восторга. Их Управление Культуры, или Министерство, или как это там называется, сразу ответило: «Да!» — и предложило сто, нет — двести, нет — сколько угодно любых солистов!
Но во всем нужна мера, особенно в новинках, даже перспективных. Я взял одного на пробу…
И уже неделю спустя он летел на Землю.
Скажите, вам не доводилось бывать когда-нибудь в районе Семипалатинска? Зря, зря! Чудный пейзажик, одни сплошные тюльпаны. И на космодроме я тоже был один, как эти цветочки, в смысле — один встречающий, зато приезжих, как в Одессе летом, но даже в Одессе летом нет столько двуногих с планеты… ну, как же ее, а?.. Дархай! Видите?! — вспомнил, так что замолчите свой рот и не смейте больше сказать, что Топтунов уже склеротик… да; ну, один так один; я уболтал сопливого погранца, что меня не надо не пускать на летное поле, встал там и собрался узнать своего артиста сразу, чтобы все было без нервотрепки, потому что люди искусства, вы их не знаете, это очень тонкие люди, и чуть что, так сразу идут нервы; вот помню, когда я работал Ози, так девочка хотела, чтобы я делал то-се, и я таки делал, и Ози хоть сейчас скажет вам, что Аркаша ей друг, хотя она уже даже и не Аркашин уровень.
Но как, нет, скажите, пожалуйста, как я должен был его узнавать, если они все одинаково упакованы? Какие-то жуткие пятнистые балахоны, какие-то значочхи, все почти без багажа, зато — строем. Нет, вы только вообразите себе на минуточку: по трапу — строем, с песней!.. О, это уже было зрелище, и я видел его бесплатно, а больше вообще никто! Но я не любовался, потому что надел очки и смотрел по делу; и я все-таки вычислил парнишку, потому что у меня опыт, а еще потому, что на нем, единственном, не было ничего пятнистого, а наоборот все как на буклете: белые шаровары с красной вышивкой и красное с белым что-то вроде пончо.
Стюард шел за ним, согнувшись в три погибели, и нес рюкзак. Извините, я сказал «рюкзак»? — не слушайте, я ошибся, это был слон, может быть, даже два. Мы втроем еле-еле загрузили этот мешочечек в мой флайер, и потом все равно пришлось потесниться. И я понял, что начинается кошмар, но обрадовался, потому что у меня появилось предчувствие, а предчувствия Топтунова никогда не бывают просто так, это вам может подтвердить вся Пишоновская, которая еще не уехала, а только собирается…
Всю дорогу мальчик молчал, я подумал сначала, что он вообще не умеет разговаривать, но перед самым приземлением он решил-таки сделать большое одолжение и буркнул: «Лон Сарджо». Спасибо, я должен был догадываться, что это его так зовут! Но я не стал обижаться, потому что дебютанты всегда немножечко с придурью и не сразу умеют соображать, что придурь может быть хороша только тогда, когда работает на образ…
В офисе перед ним положили контракт. Можете не сомневаться, что половина моей жизни погасла из-за этих контрактов, и половина моей хворобы тоже только оттуда, потому что очень трудно уговаривать эти тонкие натуры, какие им предлагают прекрасные условия. И что же? Этот пацан подписал все не глядя, и я даже пожалел, что не сообразил подрезать сумму гонорара еще процента на четыре, а потом сказал себе «фу» и больше не думал о гешефтах, потому что грех обижать несмышленышей: они растут, начинают все понимать и очень хорошо помнят, кто их обидел, а кто нет, когда они еще ползали по сцене совсем сырые…
Потом мы обсудили программу выступлений — она была у него с собой, на хорошей бумаге, с цветными иллюстрациями, и с первого взгляда я понял: это именно то, что нужно, и ни о каких четырех процентах в следующем контракте говорить не будем, а максимум полтора, просто чтобы не делать из него исключения.
Так я себе решил и опять сделал не думать за гешефты.
Немножко пообсуждали насчет как делать программу; он пояснял очень коротко, в глаза не смотрел, но все было умно и хорошо; между прочим, по-человечески он понимал вполне прилично, почти все, и объясняться, как выяснилось, тоже умел, хотя и с акцентом, странным таким, похожим на как бы говорил картавый грузин, только очень быстро…
Он поел, а отдыхать не пожелал. Зато захотел пройтись в город, и я с удовольствием сказал: «Да». И мы вышли из конторы. И пошли по улицам; я шел и думал: «Люди, люди, вот вы сегодня не смотрите на меня, и это ваше дело, потому что кого интересует лысина Аркаши?.. Но зря вы не смотрите этого мальчика; пока еще это можно за просто так, а завтра бесплатно, извините, уже не получится…» И пусть я повторюсь, но я таки очень сильно люблю свой город, хоть и ставший свалкой с тех пор, как Топтунова впервые поцеловали у моря, но все же, как по мне, так самый лучший, считая и Рио-де-Жанейро. Эти краски, эти толстые тетки, которые безответно пытаются узнавать меня и строить глазки, эта суета с шумом, этот гам за просто так — вы знаете, лично для меня все это, как вода для рыбы, и уже не надо лекарств. И я показывал ему все, что получше, чтобы он тоже хоть немножко полюбил, а потом почаще приезжал сюда на гастроли добровольно и без конвоя — ведь Аркаша, скажем правду, тоже не вечный, а когда меня не будет совсем, так кто сможет насильно затащить сюда первоклассных исполнителей?.. Они скажут «Нет!» и поедут в какой-нибудь, извините за выражение, Уолфиш-Бей…
Мы шли по Ришельевской. Я не очень хорошо знаю, кто такой этот Ришельевский, и уже не узнаю точно, потому что дедушка Мотя в могиле и спросить некого, но, кажется, это кто-то когда-то был и был хорошо, если до сих пор такая улица называется его именем. Малыш поначалу просто очумел: он вертел головой, словно это у него не голова, а флюгер, и я не мог оторвать его ни от одной витрины, даже такой, где только тампаксы. Нет, не подумайте, он ничего не хотел покупать, даже не спрашивал, он просто смотрел — но как смотрел! — мы так смотреть уже не умеем. Потом он все-таки попривык, слегка успокоился и впервые посмотрел на меня как на что-то одушевленное.
— У вас большие пункты раздачи благ.
Нет, вы представить себе не можете, как он это сказал! С одобрением, да, но эдак свысока, как будто там у него, в зачуханной глубинке, магазины еще лучше!
Тут же он добавил:
— Но излишества благ — не во благо!
И больше на витрины не заглядывался. Мальчик был молодой, резвый, как козочка, и совсем не думал про пожалеть мои больные ноги, и на астму мою ему тоже было плевать, потому что, пока молодой, в астму не веришь…
Когда мы дошли до Софиевской — угол Гурвица, знаете, около дома-музея Леандра Верлу, я понял, что еще немножко шагов, и мой дебютант вполне может остаться без опытного импресарио, и вот тогда я встал как статуя и сказал:
— Нет, дитя мое, Аркаша дальше не пойдет.
И мы спустились в «Лит-Арт». Ой, и что там начало твориться, когда богемка прочистила глаза и увидела живого Топтунова!.. Содом и Гоморра? — нет, там было тише. Между нами говоря, Аркаша среди тамошней публики — событие еще то, и вполне может быть контракт, а контракт с Топтуновым — уже не какая-нибудь путевка в жизнь, а вагон экстра-класса с проводницей-фотомоделью, подстаканниками из мельхиора и прочими прибамбасами… и вот поэтому юные дарования, которые в штанах, сразу же принялись громко показывать таланты, а которые без — делать вид, что у Аркаши нет никакой лысины… Ну да, так вот когда бармен смог-таки отогнать их от меня, я посмотрел по сторонам, полюбовался девочками побюстее и сообщил народу:
— Ша, дети! Аркаша хочет тишины и кофе.
Накануне дебюта это, не смейтесь, большое дело, и никакое сердце тут уже не имеет значения.
Стало тихо и две чашечки кофе.
От коньяка, — между прочим, очень приличного, — парнишка отказался. А я нет. Если слушать всех врачей, то помрешь намного раньше, хотя и здоровеньким. Дедушка Мотя, например, вообще не знал, что такое врачи, и хотя однажды и умер, так ведь в девяносто семь и оттого, что стерва Муська приревновала его сковородкой тютелька в тютельку по виску…
Так вот, Лончик мой сидел, как скушав аршин, и пил кофе маленькими глотками. Да, и я же забыл: пару слов о нем. Что вам сказать? Мальчик-красавчик, совсем как этот, что стоит на бульваре. Девки не сводили с него глаз, прямо как когда-то с меня, но тут оказалась выдержка — совсем не та, что была у Аркаши, когда Аркаша еще многое мог; он даже взглядом не повел. То есть повел, но не по ним, а по стенам. Что-то поискал, удивился, потом повернулся ко мне и спросил:
— А где же Вождь?
— Кто? — не понял я.
— Вождь единый, мудрый, Вождь, несущий нуждающимся блага.
— А-а, ты за бармена? Тебе что-то еще заказать, Лончик?
Какой это был взгляд! Меня хотели съесть. Однако все же не съели, и Лон снова спросил:
— Почему земные сестры так на меня смотрят?
Я офуел. Потом сказал ему все как есть — он ведь уже вполне взрослый, сам зарабатывает, причем вполне прилично, и должен все знать, если пока еще не знает. И что вы думаете? Мальчик выслушал и брезгливо сморщил нос («Боже, какая прелесть! — подумал я. — Он что, до сих пор ничего и не нюхал?»).
— К чему? Необходимое мужчине мне трижды преподала наставница Тиньтинь Те. Она выносит росток моего древа. А сверх необходимости — не во благо. Это отвлекает от труда.
Я опять офуел, на этот раз — круче.
Ну и мальчик, однако, ну и планетка… ну и вождь! — вот этого я, конечно, не сказал, но хорошо подумал.
Когда мы вышли на улицу, он оглянулся на лесенку «Лит-Арта» и сказал одно только слово:
— Гниль!
Надеюсь, не про меня. Или про меня тоже, но не очень.
А в Малом Зеркальном нас уже ждали смотреть, и шлепать дотуда было, если кто бывал в Одессе и знает, не так чтобы слишком далеко. Ассистенты у меня дай Бог каждому таких, и подготовили все честь по чести: зал, матрасы, циновки и, конечно, вдоль стен вроде как по делу толпилось сильно много посторонних, потому что раз Аркаша привез, так это таки вещь. Но Лончик махнул, рукой, и все ушли, кроме меня, конечна. И рюкзачок тоже оставили…
Когда мы остались втроем, он разделся до пояса, не торопясь, очень красиво, и я понял, что полным дебютантом его назвать никак нельзя: видимо, дома он много и упорно репетировал, если не выступал уже в аттракционах. А знаете, что самое интересное? На груди у парнишки оказалась татуировка! Я видел в жизни этих татуировок, я сам, можно сказать, весь разрисован, как картина Репина «Приплыли!», потому что когда-то тоже был молодой и глупый, но такое встретилось Топтунову, пожалуй, впервые. Попробуйте представить: гладкая кожа, выпуклые мышцы — и поверх всего синее тату, не самого лучшего притом исполнения: что-то вроде бесхвостого кота сидит на каком-то треугольнике. И вся эта радость блеклая-блеклая, словно кто-то ее вытравливал-вытравливал, да так и не вытравил и не придумал ничего лучше, как забить кота ярко-алым изображением придурочной птички, напоминающей хищную утку. Скажу по правде, самый дурацкий способ избавляться от татуировок — это зарисовывать их другими, тем паче что менять кота на утку вообще верх кретинизма. И я спросил:
— Лончик, а Лончик, а что это у тебя?
Он посмотрел на меня, сощурился и ответил:
— Тот, кто породил меня, называл себя Тигром-с-Горы, а оказался драной кошкой. И огнеперая птица токон растерзала его.
— Ой! — огорчился я. — Так у тебя нет папы?
Понимаете, я ведь и сам вырос без отца, мама моя (святая женщина, не нам ее судить!) строгала нас, как буратин, не очень интересуясь, что будет дальше, и уж я — то знаю, каково это, когда растешь сиротой или все равно что сиротой, а мама говорит, что папа полярный летчик…
Но того, что сказал в ответ мой дебютант, я никак не мог ожидать; папы, конечно, бывают разные, и не всегда мы любим вспоминать про них, и порой даже мечтаем подрасти, найти и набить морду, но в том-то и дело, что мальчишечка злиться не стал, а ответил очень серьезно:
— Тот, кто меня породил, не отец мне. Мой отец — народ Единого Дархая…
Потом перехватил мой осторожный взгляд, направленный на грудь — туда, где под самым левым соском бугрились две некрасиво заросшие дырки, на низ живота, перерезанный почти поперек кривым сизым шрамом, и пояснил вовсе уж непонятно:
— Тан Татао.
Сказал, отвернулся и принялся, уже не обращая на меня вообще никакого внимания, рассупонивать рюкзачишко. Сначала появились мечи — два прямых, один изогнутый, потом бумеранг, потом еще что-то, и вот — много-много мальчиков уже вооружены, готовы и смотрят на меня по одному из каждого зеркала. Кто видел это хоть однажды, тот не забудет никогда, как не забуду этого я, а я, можете поверить, сколько мне осталось жить, не забуду.
Представляете? Статуэтка; глаза прищурены, лицо окаменело, плечи откинуты. Все напряжено, все не двигается, только мышцы чуть подрагивают и губы шевелятся.
— Дай. Дан. Дао. Ду.
Я, конечно, ничего не понял, но понял, что перебивать не надо.
И тут же — вы знаете, что такое смерч? — так вот, мальчик именно в него и превратился. Ой, как же сверкали эти железяки, как они свистели, — и их же совсем нельзя было увидеть, ну то есть вообще никак! Никто не сунул бы туда палец, и я первый, а ведь я по жизни люблю риск, и даже когда Ози двадцать лет назад напивалась в зюзю, именно я вел ее до номера, а остальные, даже первый муж, крутили пальцами у висков и прикидывали, сколько будут стоить венки, потому что пьяная Ози, она и сейчас, говорят, пьяная Ози, а тогда она еще была молодая…
Потом мечи вдруг оказались снова за спиной, я даже не видел как, и начались игры с ножичками, но это были совсем не детские игры, можете мне поверить — я знаю, что такое играть, — и ножички летали туда-сюда, как птички вроде той, что разорвала, если верить ему, папу моего дебютанта.
Он немного попрыгал, поотжимался, повертел алебардой, а потом установил мишень и достал маленький арбалетик со стрелами…
Полный фурор!
Мне было так интересно, что даже почти не страшно!
Двадцать два неописуемых номера, на выбор!!!
Слушайте сюда: это говорит не кто-нибудь, а Аркаша Топтунов, а Аркаша Топтунов знает, что говорит…
ГЛАВА 2
… Укрепи, Господи, и направь, и благослови тех отважных, кто по мере слабых сил своих противостоит козням диавольским, не всегда и видя истинную их суть, но сердцем неошибочно ощущая, где есть рубеж зла и добра. И даже в противных высокому милосердию Твоему делах, о, Господи, узри же светло горящее пламя правды Своей и неложную доброту чистоты Своей, и за это, снизойдя, не впадай во гнев, но прости им заблуждения их…
Рассказывает Аллан ХОЛМС. Старший инспектор (стин) «МЕГАПОЛА». 38 лет. Гражданин Демократической Конфедерации Галактики
28 июня — 5 июля 2215 года по Галактическому исчислению
В ту ночь, ближе к рассвету, ко мне снова пришел Рамос. Явился, как всегда, без стука и сел рядом с постелью, тихо, почти не слышно. Это он умел ходить по-кошачьи, так, что и половица не скрипнет. Раньше, давно, лет пять-шесть тому, я вскакивал в холодном поту, потом привык, а потом он стал появляться пореже — в конце концов и у него, там, есть свои дела и не с руки заходить на огонек каждую ночь. Он присел, неярко светясь в переливах лунных бликов, пробивающихся сквозь гостиничную портьеру, и маленькая темная дырочка, опаленная по краям, почти незаметна была на левом, повернутом в мою сторону виске.
— Привет, — сказал я негромко. В самом деле, с какой стати мне следует бояться собственного учителя, пусть даже мертвого, тем паче что дело все равно наверняка происходит во сне…
И он, как обычно, промолчал в ответ. Кивнул, добыл из кармана пачку «Каролинума», любимую свою бензиновую зажигалку, щелкнул, затянулся — и сделался полупрозрачен; лишь тусклый огонек сигареты то становился немножко ярче, то совсем угасал. Покурил. Встал. Подошел к окну. Не раздвигая шторы, полюбовался ночным городом — и растворился в мерцании лунного света.
Но перед этим — опять, опять, как всегда! — повернулся и посмотрел на меня. И таким был этот прощальный взгляд, что меня отшвырнуло на подушку, скрутило, перехватив дыхание, и бросило на пол.
Я дорого дал бы, чтобы научиться не помнить сны.
А еще лучше — не видеть их вовсе.
Когда я приподнял голову, лицо болело, нос всхлипнул от прикосновения, и на белой кнопке ночника остался кровавый мазок.
Да уж. Отпуск на исходе, а нервы ни к черту.
Теперь уже не заснуть до утра. Впрочем, похоже, недолго осталось и ждать; за окном, пробивая нежную ткань портьеры, брезжил рассвет. Из зеркала на меня глядел некто жалкий, нуждающийся в экстренной помощи, и я, оказав таковую, вышел покурить на балкон, в шелковую предутреннюю полумглу летней Одессы, в легкий, йодисто-свежий бриз, чуть пахнущий свежей рыбой, и в полную, нарушаемую лишь негромкими рассветными звездами тишину.
Что ни говори, в Великом Договоре немало полезного, и уж во всяком случае Одесса вполне заслужила звание столицы Планеты-для-Всех.
Две недели здесь — и можно год не думать о хворобах; если бы еще не Рамос… но, будем справедливы, пенять на Арпада с моей стороны было бы грешно. Кто-кто, а уж он-то имеет право и на визиты за полночь, и на такой прощающийся взгляд…
Огонек почти начал подгрызать фильтр, когда зашуршал телефон. Ненавижу это устройство, но, к великому сожалению, не имею права отключать его даже на ночь. И даже в отпуске. Такая работа. Скорее всего, выйдя когда-нибудь на пенсию, я вообще откажусь от услуг телефонной сети. Но не раньше…
Впрочем, повременить гудков восемь я себе позволил. Ничего страшного, даже если звонит шеф. В конце концов, это он на работе. А я в отпуске.
Звонил же и вправду шеф. И был он, как обычно, деловит и чем-то, судя по тону, озабочен.
— Доброе утро, Аллан.
— Вам также, комиссар.
— Судя по голосу, вы неплохо отдохнули. Поздравляю. Однако отчего вы так долго не брали трубку?
— По средам я не жду вашего звонка, комиссар…
Трубка озадаченно помолчала. Шеф неплохой, очень неплохой администратор, а в прошлом еще и великолепный оперативник, но зачастую бывает тугодумен, и это уже неизлечимо.
— Это же элементарно, сэр! — позволил себе сострить я. И был не прав. В трубке крякнуло и зазвучало официально:
— Стин Холмс! С настоящего момента вы отозваны из отпуска. Материалы направлены экспресс-почтой.
Щелчок. Длинные гудки.
Вот такой вот разговор. Комиссар начисто лишен чувства юмора, и это печально. С другой стороны, что делать, если ты носишь фамилию Ватсон, а твой заместитель волею судьбы скромненько зовется Холмсом?.. В любом случае человек он невредный и в свое время пытался как мог помочь Рамосу во время позорища с первой попыткой суда над Наставником Паком…
Думается, еще и поэтому мне многое позволено, вплоть до не всегда уместных шуточек. Стариков в конторе уже не так много, все они так или иначе помнят Арпада, и все они, спасибо им, считают меня чем-то вроде наследника инспектора Рамоса.
Это очень важно в нашей фирме, кроме шуток. Одного желания мало, чтобы закрепиться в «Мегаполе», — контора до глупости кастова, и кадровые сотрудники предпочитают рисковать жизнью по наследству; так что мне, стажеру со стороны, тогда, можно считать, повезло. В самом деле, чем я, щенок, сопляк, мог приглянуться самому Арпаду Рамосу, живой легенде «Мегапола», сыну почти мифического комиссара Рамоса Дьюлы? Но ведь никто же не заставлял его брать меня в напарники, больше того, отмазывать от всяческих передряг, тянуть на ведомственные посиделки и вообще относиться, как к равному…
Повезло? Может быть, и так.
А возможно, Арпад просто увидел, до чего мне хочется стать настоящим полицейским.
Мальчик Рамоса — вот как меня называли тогда, даже в глаза. И я не стыдился. Потому что никогда не подводил его; и в самые горячие дни, когда Наставник Пак все-таки допрыгался и терпение конторы иссякло, Арпад выбрал в напарники опять-таки меня!
Эх, какое же это было веселое дельце! Приятно вспомнить… Вчера еще уважаемый и кристально чистый господин Пак Сун Вон был объявлен в розыск, он уже не пытался откупиться, и взвод адвокатов лишь разводил руками; ему оставалось только уходить в схроны на малых планетах, но вот этого мы как раз и не собирались допускать! Арпад дорвался! Он вцепился в след Наставника, как легавая чистых кровей, и моих сил хватало уже только на то, чтобы не отстать и тогда, когда мы пять дней ползли через раскаленную степь, и после, уже у бункера, когда Арпад подставился под пулеметную очередь, выбрасывая из-под нее меня, неопытного мальчишку…
Его ли вина, что он, нашпигованный свинцом, был спешно отправлен на базу и я, стажер, салажонок, продолжил преследование в одиночку?..
Да, это я, а не он взял Наставника, взял лихо, почти голыми руками и это я сумел преодолеть соблазн и не расстрелять эту старую суку на месте — и зря, кстати, потому что на космолете его все равно шлепнули при попытке к бегству; а как же? — Наставник чересчур высоко порхал, он слишком многое знал и со слишком многими знался…
И это из меня, а не из Рамоса вовсю лепили в те дни героя, даже сериал сняли (помните? — «Преследование продолжаю», в двадцати сериях, не как-нибудь!), но по сей день только я сам да еще один человек знаем, какую роль сыграл во всей этой героической эпопее и поныне мало кому известный скромняга Аттилио, доверенное лицо Наставника. Тогдашний капореджиме Организации очень хотел стать доном; у него имелись обширные планы, и его крепко волновали кое-какие бумаги, относящиеся лично к нему. Не сразу, но мы нашли общий язык, и мужику, видимо, было весьма приятно хоть раз в жизни, пусть неформально и совсем недолго, а постоять на стороне закона…
Так что в восемнадцатой, кажется, серии, ну, там, где этот, хромой, в кожанке, вдруг ни с того ни с сего кричит: «Будьте вы все прокляты!» — и начинает шпарить по своим с водокачки, это как раз про него, хотя сходства, разумеется, никакого; Аттилио лично настоял на включении данного эпизода в фильм и, по слухам, даже финансировал следующую серию.
Не убежден, что Арпад одобрил бы все это, но переговоры велись в обстановке совершенной секретности… а я по сей день получаю к Пасхе и Рождеству шикарные наборы конфет от неизвестного доброжелателя и очень подозреваю, что сей аноним именуется в миру доном Аттилио эль-Шарафи владельцем заводов, газет, пароходов, добрым дедушкой и, как общепризнано, глубоко порядочным человеком.
М-да. О нашей конторе любят посудачить и болтают невесть что, да и пресса усердствует вовсю; нельзя сказать, что реклама нам вредит, разумеется, нет; во всяком случае благодаря ей авторитет у ведомства, пожалуй, не ниже, чем у Контрольной Службы, да и с финансированием проблем не возникает, а это тоже совсем не маловажно, и руководство никогда не отказывается дать лишнее интервью насчет того, какие мы грозные и так далее. Но всего-то нас, кадровых не считая стажеров, на всю Галактику менее трех тысяч, из них инспекторов — сотни две, а станов и того меньше; впрочем, большего Галактике и не нужно…
Мы справляемся.
И у нас нет оснований стыдиться нашей старой эмблемы: двух глянцево-черных настороженных собачьих ноздрей.
Мы — псы, пусть так. Но наш хозяин — закон.
Из конторы не уходят, даже уйдя в отставку.
Шесть лет назад я в последний раз встретился с Арпадом Рамосом в его уютной квартирке на окраине Административного сектора Порт-Робеспьера. Она походила на рождественскую бонбоньерку: много тюля и плюша, тульские самовары с медалями, слоники на полочке над диваном. И старые, с юности памятные мне фотографии, перечеркнутые траурными ленточками, безнадежно терялись в пучине этого благолепия.
Арпад подливал домашнюю наливочку и без умолку болтал; он был вполне доволен жизнью, толстой и ворчливой женой, делами в лавке, и он совсем не вспоминал былое — словно отрезало прошлое напрочь вместе с половиной легкого и левой рукой по локоть. Да, твердый доходик, плюс пенсия, плюс неплохая, пускай и с запозданием, семья — что еще нужно человеку?
И это был вовсе не Арпад Рамос, а кто-то другой, незнакомый, и мне совсем не о чем было бы говорить с ним, не знай я, попивая сладенькое, что именно этот веселый инвалид, мой друг и первый учитель, неопровержимо виновен в организации и собственноручном и филигранном исполнении десятка чудовищных по зверству убийств — и что с того, что жертвами были боссы Организации, прихлебалы и наследники Наставника?
Они смеялись нам в лицо, потому что у нас не было доказательств. А Рамос откуда-то добыл факты, и он уже не был связан присягой. И мог вести собственную войну.
Покалеченный и отставленный, он все равно остался псом, даже еще более опасным, чем был, ибо рука хозяина уже не удерживала свору. А это недопустимо, и никакое понимание не может оправдать озверевшего волкодава…
Все, что я смог сделать для него, — это рассказать обо всем, что было известно пока еще только мне… и уйти. Когда я уже стоял у порога, он сказал мне: «Алька, скажи ребятам…» — но продолжать не стал и только поглядел мне в глаза тем самым пронзительным взглядом, что доныне сбрасывает меня с кровати, сводя глотку ночным криком.
Никогда не забуду, как выла на церемонии вдова Арпада и как толстуха плевала мне в лицо, а комиссар пытался оттащить ее, но никак не мог справиться…
Вот почему к своим тридцати восьми и верю только себе и закону. Вера во все остальное обошлась мне слишком дорого…
Тут, однако, пневмопочта, причмокнув, выдала опечатанную капсулу, и размышления, как равно и сантименты, пришлось похерить. В совсем тоненькой папке ютился одинокий, напечатанный через полтора интервала листок машинописи, озаглавленный «ПЛОДЫ ЛА». Судя по всему, в верхах дело и впрямь определили как наиважнейшее. Я, например, за двадцать лет работы на контору всего лишь второй раз держал в руках вот такой, именно бумажный и, естественно, в одном экземпляре существующий листочек. Даже оперативку по началу охоты за Наставником, помнится, сбрасывали по внутренней компьютерной сети.
И в то же время такой режим секретности на первый, да и на второй взгляд не подкреплялся ничем. В самом деле, исключая совсем немного третьестепенной информации, текст сообщал буквально следующее, по пунктам:
Первое. В обеих великих державах, а также и на периферии отмечен поступательный рост числа инцидентов, связанных с индивидуальными вспышками социальной агрессивности. Зафиксированы случаи сумасшествия, неспровоцированных актов насилия, а также и самоубийств.
Второе. Практически все задержанные и изолированные по факту непредсказуемой агрессивности, вне зависимости от гражданства и других социально-этнических признаков, являются действительными членами кружков и секций различных видов рукопашного боя с применением холодного оружия и без применения такового.
Третье. Более девяноста пяти процентов вышеохарактеризованных лиц в то или иное время посещали также и семинары по изучению основ современной дархайской философии (так называемых идей квэхва) — тут, к сожалению, пояснений не следовало.
Четвертое. Безусловным фактом является то, что все вышеохарактеризованные лица, как правило, носят на шее украшения (амулеты?) в виде стилизованных плодов дархайского дерева ла.
Пятое. Плод ла представляет собой необходимое сырье для изготовления ряда тонизирующих напитков, косметических изделий «от кутюр», а также довольно сильных психотропных препаратов, не дающих, однако, эффекта привыкания…
Опять же, м-да. Пятый пункт меня убил. При чем тут, пардон, плоды ла? Они, как всем известно, съедобны; больше того — довольно вкусны, ну и что? Я тут же, на месте, провел следственный эксперимент и в очередной раз убедился, что логика старшего инспектора Холмса безупречна…
Когда вазочка с ломтиками ла в сахаре опустела, за окном уже вполне рассвело, а некоторые вопросы более или менее сформировались. Ну, не то чтобы совсем уж, но — в основном. В целом, как сказал бы шеф.
Прежде всего: что за напасть?
Простейший и вполне вероятный ответ: очередная разновидность наркоты. А учитывая, что большинство фигурантов — поклонники боевых искусств, да еще и с сектантским душком, так вполне допустимо, что дело не обходится и без целенаправленной промывки мозгов (кстати, подумал я, стоило бы выяснить, что это, в конце концов, за штука такая «современная дархайская философия»?).
Далее: при чем тут, собственно, «Мегапол»? С наркотиками и разнообразными социально опасными сектами неплохо управляется полиция на местах, а в крайнем случае — спецслужбы…
Стоп! Но ведь указано же: в обеих великих державах!
Уже теплее. Конечно же, и КС Союза, и СК Конфедерации что-то знают, но делиться информацией, как обычно, не собираются, напротив — по стародавнему своему обычаю, ударились в конкуренцию, причем опять же, как всегда, в ущерб делу.
А кто-то тем не менее должен работать. Не Пушкин же!
Теперь понятно, почему дело ушло в «Мегапол».
Какие мы псы закона, на фиг? Лошадки мы тягловые, пони-ассенизаторы безотказные… на все случаи жизни.
Ладненько. А отчего же именно ко мне? Заниматься-то, ежу ясно, придется допросами, даже и не допросами, а собеседованиями; задачка для стажера, ну, для уполномоченного — максимум, но не для старшего же инспектора!..
Впрочем, об этом, как о сугубо личном, думать пока что не стоит. Начальству виднее. А стоит думать о другом. Как говорили древние: qui pedest? Кому, то есть, выгодно?
Действительно, кому?
Версия первая, вполне реальная: Хозяйство. Ясное дело, где наркота, там и эти ребята. Простенько, но, увы, не убеждает. Потому что я знаю дона Аттилио уже не первый год и руку готов класть на рельсы, что не любитель он новаций, тем паче приводящих к открытому конфликту с законом. Розовые сотюшки — это пожалуйста, это сколько угодно. Но не больше того. И в этом весь дон Атгилио, а меняться ему поздно.
Хорошо, но ведь сам дон вполне может быть и не в курсе. Годы берут свое, а в его свите всегда найдется пара-тройка гнедых, жадных, молодых и глупых, а потому и рисковых; и вот они вполне готовы даже расколоть Организацию ради кайфа, хоть недельку, а побыть-таки доном Рамиро или доном Мир-Али…
Маловероятно, конечно. Старость старостью, а дон Аттилио парень крутой и своих ястребков держит в руках крепко. Но исключать нельзя. А значит, придется, видимо, выходить на Хозяйство. В конце концов, я давненько не виделся с господином эль-Шарафи, и старик, очевидно, стал меня забывать. Во всяком случае на последнюю Пасху коробка конфет была не из самых лучших. А это нехорошо. Не люблю, когда меня забывают, тем более такие люди.
Версия вторая и на сегодня последняя: диверсия. Отметаем сразу, как полный бред. Чья диверсия? Зачем? Против кого? Ни намека на ответы. Вопросы лишены смысла.
Но, как бы там ни было, надо работать. Бой покажет, как говаривал Арпад. В любом случае, грустно подумал я, помотаться по Галактике придется преизрядно. А ведь я терпеть не могу космолеты…
И опять-таки м-да. Люблю не люблю, а пришлось.
Битую неделю я метался с планеты на планету, высунув язык, и в данном случае вполне ощущал себя собакой, но сравнение это сейчас не льстило. Где не был, так это на Дархае, хотя, возможно, и стоило бы. Увы, дархайскую визу получить не легче, чем, скажем, опровергнуть любое из набора алиби моего давнего и доброго приятеля, господина эль-Шарафи. Может быть, даже несколько труднее…
Ну и черт с ними! Мне хватило нескольких встреч с эмигрантами; как известно, с десяток небольших дархайских землячеств осело на паре-тройке планет с субтропическим климатом. Милые, тихие, как правило, не очень обеспеченные люди, жестоко мучимые ностальгией, они с готовностью соглашались побеседовать, однако ничего путного рассказать не могли. Разве что бледнели и дергались при слове «квэхва» — все, как один, даже профессор Лаудитья Ранкочалар, декан факультета теософии Альмейдского Университета, автор изумительного пятитомника «Всеобщая история холи ногтей», а по совместительству, как оказалось, еще и председатель Ассоциации Земных Дархайцев.
Удивительно спокойный, с добрыми близорукими глазами, судя по всему, очень любимый студентами (они то и дело заглядывали в кабинет и весело хихикали, а профессор укоризненно щурился сквозь толстенные линзы очков и смущенно улыбался), он сказал мне, прощаясь: «Поверьте, молодой человек, я ничего не помню, и мне нелегко было все это забыть…» — и лицо его стало совсем беспомощным, словно у дряхлого старика. Что удивляться? Секретарша тут же по секрету сообщила мне, что профессор совсем одинок: бандиты с той дурноватой планетки лет двадцать тому уничтожили почти полторы сотни его братьев, а потом, тут уже, от него ушла жена, польстившись на широченные плечи какого-то безмозглого быка…
Что ж, бывает. Хорошим людям вечно не везет; а первый том «Всеобщей истории…» с автографом профессора я поставил на почетное место в книжном шкафу…
Ничего нового не всплыло и в ходе контактов с доморощенными поклонниками современной дархайской философии, они же — ценители холодного оружия и рукопашного боя. Нет, они не отрицали, что несколько десятков взятых с поличным психов состояли в их кружках и секциях, однако же тотчас предъявили составленные по всей форме протоколы об исключении оных из рядов и резонно спрашивали: где это сегодня нет психов?..
Насчет «квэхва» они, в отличие от эмигрантов, готовы были говорить часами, но толку в сих проповедях было чуть. Я, знаете ли, давно не стажер и без двухчасовых лекций знаю, что Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес, а один удав, как правило, равен тридцати восьми попугаям…
И все же… Очень спокойные, несколько отрешенные лица этих парней, словно бы медитирующих даже во время допроса, их неафишируемое, но и не скрываемое презрение ко всему миру, их любимое словцо «гниль», поразительное сходство судеб — все они считали себя так или иначе обойденными в прежней, досектантской жизни — настораживало. И экстаз при слове «квэхва», вызывавшем дикий ужас у эмигрантов. И блестящее, в высшем смысле слова, владение разнообразным экзотическим вооружением…
В сущности, эти кружки напоминали ячейки террористов. Живые иллюстрации к учебнику «Формы антисоциальной активности», часть вторая. Но сама идея несла на себе отпечаток бреда. Безусловно, такие и подобные им ребятки — идеальный кулак для любого, решившего рваться к власти. Но кому в наше время всерьез нужна власть? И не с железяками же в руках? Не с мечами же — против огневой мощи полиции и спецподразделений?! Чушь — не больше…
Стало ясно: время лететь на Землю, поболтать наконец с доном Аттилио — он старый и мудрый, он очень не любит конкурентов, и нам нечего скрывать друг от друга. Тем паче примерно сейчас на Земле должен объявиться и Яан, а «король сенсаций» просто не может хоть чего-нибудь не знать, а то, что ему известно, я из этой конопатой балаболки всяко выдавлю — и тогда, возможно, не будет надобности будоражить без толку покой почтеннейшего дона Атти…
… И в первые же минуты после приземления я понял, что зря летал к черту на кулички; уже в космопорте, и после, на оживленно-шумных земных улицах то и дело бросались в глаза знакомые, отрешенно-сосредоточенные лица; их было, пожалуй, больше, чем где бы то ни было.
Странно, как можно было не обращать на них внимания раньше! Хотя раньше передо мной не стояла такая задача…
А в холле отеля я на какое-то время забыл обо всем этом, потому что увидел Катрин: просто вошел и увидел.
Время умеет шутить: она не стала старше на вид, хотя, конечно, повзрослела, еще больше расцвела и, судя по всему, на жизнь не жаловалась — во всяком случае, далеко не каждая фотомодель, даже трехкратная «Мисс Вселенная», может позволить себе номер в «Ореанде».
Три года я боялся этой встречи, и три года просил судьбу о ней. Но не ожидал, что сердце так вздрогнет и захолодеет. А она сделала сперва вид, что не узнала, прошла мимо своей проклятой походочкой, от которой встанет даже у полного импотента, но тут же обернулась и вдруг улыбнулась — не плакатной улыбкой, а совсем иной, той самой, и шагнула ко мне… А спустя миг мы обнялись прямо посреди галдящего холла, и стало ясно, что ни мне, ни ей нет никакого смысла идти в ресторан.
— Привет! — в один голос сказали мы.
Рассмеялись. Помолчали.
— Значит, жив еще… — Катька старалась хмуриться, но это у нее получалось плохо.
— Стараюсь, мэм…
Когда-то именно моя работа стала основным поводом для нашего разрыва. Вернее, для моего бегства. Пятнадцать лет разницы — это я потом уже выдумал, для приятелей, отчаянно мне завидовавших и не умевших понять. Но я — то знал, как Катрин хочет детей, мальчика и девочку, и совсем не желал, чтобы вместо папы ее дети имели пенсию, даже такую, какая положена сиротам инспекторов конторы. Да, если уж начистоту, и о возрасте я думал тоже, хотя девочка кричала, что ей на это плевать. Может, и так. Но я испугался. Мне казалось тогда, что в этом не стыдно оказаться трусом…
Мужская часть обслуги отеля, не скрываясь, пялила глаза на мою спутницу. Как мужик, я понимал парней — больше того, эти взгляды мне когда-то льстили. Зато Катрин нервничала и злилась — сказывалось папочкино воспитание. Никогда не видел ветврача Мак-Келли, но, судя по всему, покойный Айболит держал дочку в ежовых рукавицах…
— Какой этаж, зверька?
— Один-один-один.
Однако! Сто одиннадцатый — это даже круче, чем я думал!
— Ты, гляжу, пошла в гору?..
— Скорее уж за бугор.
— ?! — поперхнулся я, и девчонка стрельнула глазками.
— Нет, Аль, он женатый и набожный. И оч-чень строгий.
— Значит…
— Да, продолжаю ждать принца. Такая вот дура…
И тогда кто-то отчаянно храбрый, изредка просыпающийся в недрах меня, не размышляя и не сомневаясь, ляпнул:
— А как насчет старшего инспектора «Мегапола», мэм?
Я услышал это словно со стороны и перепугался. Катрин же на мгновение прихмурилась (О Боже! — обомлел я…) и ответила просто и очень серьезно:
— Попробовать можно… Если опять не сбежишь.
И на душе стало легко-легко, и совсем забылись, хотя бы на один вечер, все недоделанные дела…
Лифт выпустил нас на моем, девяносто третьем. И я не хочу вспоминать, кто из нас погасил в номере свет. Мы танцевали под медленный блюз, доносящийся с улицы, танцевали в полутьме, по-скаутски, вполкасания, но постепенно, очень осторожно руки вспоминали, и губы тоже, и душистые Катькины волосы оказывались все ближе, ближе, ближе…
А потом музыка умолкла. И зазвонил телефон. И Катька спокойно вырвала шнур из розетки, а я не стал включать снова, потому что девочка была, как всегда, права.
Да, я, Аллан Майкрофт Холмс, — пес закона.
Но бывают вечера, когда хороший хозяин не станет звать со двора собаку…
ГЛАВА 3
… Когда же смрад злобы навеки погубленных душ достигает престола Твоего, Господи, и, решив всеконечно извести скверну, обнажишь Ты карающий меч, вспомни: и злые, и мерзостные — лишь человеки, не более того, и силой не изничтожить силу, но лишь большую жестокость посеешь, карая без пощады. А потому, Отче, милуя заблудших, не побрезгуй, и снизойди, и в снисхождении своем не испепели, но вразуми даже и наизакоренелых…
Рассказывает Эдуард Генрихович ВЫШКОВСКИЙ. Рантье. 48 лет. Лицо без гражданства
5 — 6 июля 2215 года по Галактическому исчислению
По средам и пятницам мои вечера принадлежат Розали.
Она приходит где-то около шести, прибирает квартирку, и мы выходим пройтись до ближайшего кафе. Затем возвращаемся и ложимся в постель. А ближе к полуночи, но никогда не позже, я отвожу ее домой. Терпеть не могу похрапывания рядом, когда засыпаю.
Розали — бабенка вполне достойная; конечно, не какая-нибудь Катрин Мак-Келли или еще кто из этих плакатных финтифлюшек, но все при всем, кое-что умеет, хозяйственна, а главное — все еще на что-то надеется и не прерывает традицию встреч дважды в неделю. Ну и отлично: мне, как нормальному мужчине, необходима женщина, а квартире моей — уборка. А что не красавица и при этом занудлива, так с этим приходится мириться: у маленького человека и радости маленькие.
Так что плакат с изображением Катрин Мак-Келли я повесил в сортире, вставив в рот глянцевой сучке пластмассовый пенис — чтоб не щерилась. Розали это пришлось по нраву: она смеется до упаду, сидя в удобствах и любуясь моей придумкой. Смех у нее визгливый, по правде сказать, и здорово меня бесит, поэтому, если конечно, Розали смеется не моей шутке, ее приходится бить. Но она терпит. И вообще, у нее много достоинств, не последнее из которых — приходить вовремя.
Именно благодаря ее своевременному приходу я сумел соблюсти минимум правил приличия и не указал на дверь легавому, который ворвался ко мне, понимаете ли, «побеседовать», даже без ордера. Представляете, ко мне, законопослушному налогоплательщику! Да еще и с идиотскими расспросами о бедных больных людях, которые и так уже достаточно наказаны…
Нет, я человек сдержанный и принял его вполне учтиво; вежливо и взвешенно разъяснил основные принципы деятельности клуба, членом правления которого имею честь являться. Но не больше. С какой, собственно, стати? Тем паче что я очень не люблю таких вот благополучненьких красавчиков, смугленьких, румяненьких, с мужественной проседью на, понимаешь, подбритых височках. Волк позорный! Пронюхал что-то, и роет, и роет… и очень хорошо, и чудненько — пусть себе копает, глядишь, и нарвется на неприятности.
Разумеется, ничего этого я ищейке не высказал.
Я даже попытался разъяснить ему некоторые постулаты нашего мировоззрения; я, как признано всеми, прекрасный агитатор, яркий и убедительный, но ведь ему было скучно — понимаете, я говорил, а ему было скучно! — и он вовсе не считал нужным это скрывать, хотя бы приличия ради. Постоянно перебивал меня дурацкими вопросами, шарил глазами по полкам с книгами, разглядывал оборудование…
Кому может понравиться такое поведение, особенно если гость незваный? Да еще в собственной квартире, арендная плата за которую вносится аккуратно и в срок?
Верно, никому! Вот я и обрадовался, когда позвонила Розали, поскольку мог с полным основанием пожать плечами: сами, мол, видите, инспектор, ко мне дама, так что… И настолько это было кстати, что настроение мое улучшилось, и я даже не стал высказывать Розали претензии за то, что она, невзирая на неоднократные предупреждения, снова надела зеленые трусики, хотя отлично знает, что они мне не нравятся и, более того, не возбуждают…
По чести говоря, подобное спускать на тормозах нельзя; к тому же и гуляш у нее на сей раз пригорел, и смех был как-то особенно скрипуч, но я человек мягкий, непритязательный, и со мной всегда можно поладить. Что Розали? Даже к Единому Галактическому Союзу у меня не было никаких претензий, пока мне не плюнули в лицо!..
И за что?!
Сколько себя помню, я был ничем не хуже других, думается, даже и лучше: прилежно учился, не увиливал от поручений, уважал наставников и, более того, умел организовать и скоординировать работу коллектива. Не такое уж легкое дело, смею вас заверить, но мне это было дано от природы. Недаром же моя фотография с первого класса поселилась на Доске почета, а сразу после выпуска мне дали рекомендации в Административную Академию…
Чуть позже я понял, что умею не только руководить, но и подбирать кадры. Возможно, мои выдвиженцы и не хватали с неба звезды — но для чего? Ведь был я! Сбоев не случалось. Тщательно взвесив и продумав варианты, я вступил в Лигу Умеренных Демократов, без отрыва от основной работы окончил Высшую Школу Космофлота. И все это было правильно и разумно, поскольку темпы реализации моих планов вполне соответствовали уровню моей самодисциплины и природной одаренности…
Розали, однако, ухитрилась все же рассердить меня, дура! Видит же, что я погружен в размышления, так нет же — вместо того, чтобы вести себя тихо, принялась вздыхать, подмахивать задом и даже царапаться. Я приостановился, отвесил ей пощечину, затем спокойно кончил — и, не говоря ни слова, проводил до такси. Пусть поплачет, пусть хорошенько поразмыслит и в следующий раз знает свое место. В любом случае кафе сегодня не предполагалось, и ее следовало отправить домой до десяти, поскольку в одиннадцать в «Одеоне» открывался новый сезон, причем открывался суперхитом, и огромные афиши, расклеенные по всему городу, уже две недели вопили:
ВНИМАНИЕ!
АРКАДИЙ ТОПТУНОВ представляет ЛОНА САРДЖО!
ЮНЫЙ ВИРТУОЗ Дархая ПОКАЖЕТ Земле ЧУДЕСА
В СУПЕРПРОГРАММЕ «ДХЬОТХЪЯ ОБ ОГНЕННОМ ПРИНЦЕ»
1) Огненный Принц и Птица Токон;
2) Огненный Принц против самозваного Тигра;
3) Огненный Принц, пожирающий Ван-Туанов…
И так далее, если верить рекламе — двадцать два оригинальных номера.
За последние три года импресарио Топтунов впервые заявил о себе, и это само по себе интриговало. Билеты достать было, разумеется, невозможно. Но я человек предусмотрительный и регулярно возобновляю постоянный абонемент разумеется, не ради каждодневных низкопробных шоу, а именно для таких из ряда вон выходящих случаев.
Толпы ломились в театр за час до начала, десятки театралов, умильно улыбаясь, выклянчивали лишний билетик, и барышники у наглухо запертых касс трудились вовсю. Еще бы! Дархайский актер — это новинка, не то что, скажем, туристы с Дархая. Не стану скрывать, внешне они мне не очень импонируют курчавые, раскосенькие, в общем, обезьянки, да и только; но, с другой стороны, нельзя отрицать и позитивных моментов: дисциплинированны, аккуратны, скромны в поведении и одежде. А это свидетельствует о многом! Поверьте специалисту, человек становится выскочкой не тогда, когда позволяет себе критику в адрес вышестоящих, а когда впервые является в присутствие в ненадлежащем виде…
Мне лично всегда нравились строгие темно-серые костюмы-тройки и неброские галстуки, и хотя я никогда не был диктатором и самодуром, но за пять лет моей работы в управлении Космофлота никто из подчиненных не счел возможным пренебречь моими вкусами…
Проходя через фойе, я обратил внимание, что меня все еще узнают, хотя и немногие — еще бы, столько лет прошло! — но узнают и подчеркнуто морщатся. Даже отворачиваются, ублюдки. А когда-то, сразу после той гнусности, что со мной вытворили, после газетной шумихи на улицы вообще лучше было не выходить…
Я отвечал наглецам безразличием, но внутри все кипело, и, заняв место в ложе, я разрешил себе негромко выругаться.
Чистюли. Скоты. Кривят, понимаешь, рожи. А с какой, собственно, стати?
Согласен, та история была совершенно дурацкой. Но даже если я был не вполне прав, то ведь можно было и поправить, в конце концов, я ведь готов был согласиться и с выговором!
Но так поступать с проверенными кадрами — верх безответственности. Судите сами: приближается юбилей, двухсотсорокалетие выхода человека в космос, и как раз в это время Главный Диспетчер уходит на пенсию. Вопрос этот был уже согласован, и оставалось неясным только, кто конкретно станет его преемником. Собственно, кроме меня, реальных претендентов и не было; меня уже вызывали наверх и обстоятельно беседовали. Ну а Главный Диспетчер Космофлота — это уже номенклатура, оттуда рукой подать до Директора, а следовательно, и до министерского кресла.
Надо ли объяснять, как важно мне было показать, что я — именно тот кандидат, который необходим на столь ответственном посту? Рутинная работа шла как должно, но хотелось ошеломить тех, от кого зависело назначение, чем-нибудь эдаким. Тем более что имелось мнение, и мне об этом стало известно, что Директор неравнодушен к разного рода сюрпризам. Вот тут-то и подвернулся этот поганый «пассажир», космолет-развалюха «Адмирал Истомин». Он вез детей, отдыхавших в нашем ведомственном лагере в поясе Цереры, и по графику должен был прибыть в порт назначения четырнадцатого апреля. Но подумайте: какая радость для космолетчиков встретить своих детишек именно двенадцатого, в день профессионального праздника!
Разве я рассудил не здраво?
Как исполняющий обязанности Главного, я связался с «Адмиралом» и приказал капитану поднажать. Директива, разумеется, была устной. В оскорбительных выражениях капитан отказался подчиниться приказу, ссылаясь на якобы дряхлый двигатель. Представляете — прямое неподчинение руководству! Пришлось его отстранить, тем более что первым помощником был человек надежный и исполнительный, мой личный выдвиженец и, помимо всего, вероятнейший претендент на место моего будущего первого зама.
Не могу спорить, прав оказался не я, а капитан; рывок, правда, прошел удачно, но, уже тормозя на орбите Ормузда-2, корабль взорвался. Не выдержали двигатели. Вместе с крошевом на планету полетели радиоактивные осадки, а я… полетел с работы. И ведь все бы могло обойтись, даже после того проклятого репортажа мерзавца Сан-Каро, но проклятый «Ксеркс» добил меня. На месте следственной комиссии я бы вначале разобрался, что делал патрульный рейдер ДКГ в непосредственной близости от границ внутреннего пространства Союза, прежде чем принимать к сведению заведомо клеветнические измышления конфедератов по поводу якобы перехваченных ими устных директив…
Так я на заключительном заседании комиссии и заявил, слово в слово, но никто даже не пожелал вникнуть. Ясное дело, этих козлов интересовала не истина, а судьба их сопливых внучат!
… Тем временем музыка грянула туш, снопы света загуляли по залу, отвлекая от ненужных воспоминаний. Уже увертюра к программе положительно радовала, подтверждая репутацию импресарио Топтунова. Он, безусловно, умеет подать своих протеже и сделать сюрприз истинным ценителям. Конечно, многие находки его довольно вульгарны, как, скажем, пресловутая Ози Гутелли, хотя и она не лишена определенного шарма, но вместе с тем старик Аркадий принадлежит к традиционной школе затейников, к вымирающему поколению, исповедовавшему давние, классические принципы отбора.
Напевная негромкая музыка, курящийся над кадильницами благовонный дымок, монументальные декорации и нежный перезвон бубенцов…
Это впечатляло.
Актер, совсем мальчишка, типичнейший горный лунг — то есть, по сути, та же макака — прекрасно подал свой выход. Изящные движения, образцовое владение оружием, летящая вязь иероглифов на одеянии. Я, так уж вышло, немного знаком с обычаями Дархая, и пусть не без труда, но сумел прочитать: «В единстве силы и послушания — благо!»
Похвальный обычай, нужно отметить: украшать государственным девизом спецодежду…
Во втором отделении исполнитель скинул ярко-красный национальный лвати, оставшись только в широких белых ти и белой же ти-куанг. По снежной яркости материи ползли, извиваясь, сапфироглазые крылатые змеи, и желтые пятна, символы Солнца, правильными восьмиугольниками выстраивались над бахромистым подолом. Потоки синего и алого света рассекали арену. Юный дархаец плавным жестом оправил волосы, и в разрезе, обнажающем грудь, блеснул амулет — именно тот, о явлении которого так долго мечтали мы в тиши заседаний клуба…
Я не люблю доверяться эмоциям. Поэтому я не сразу поверил своим глазам, даже протер их — но амулет действительно был! А гастролер раскинул руки в особой, лишь посвященным знакомой стойке, — и под куполом прозвучало гортанно, словно бы даже по-птичьи клекочуще:
— Л-ла джонг’гра тьяхъ’йа каччиал-л ла!
И даже профессиональный знаток дархи, переводчик или лингвист, навряд ли понял бы его, разве что разобрал бы несколько знакомых созвучий. Потому что под земным небом впервые прозвучали звуки благородного древнего къа-дархи, языка, на котором Хото-Арджанг объяснялся в любви прекраснолонной Кесао-Лату…
ПЛОД ЛА СОЗРЕЛ! — означал этот клич-зов, обращенный к тем, кто посвящен. И я возблагодарил судьбу и Бога, в которого, разумеется, не верю, за то, что регулярно возобновлял абонемент в «Одеон»…
С трудом дождавшись окончания, я приобрел недорогой букет и прошел за кулисы. Я знал уже, какие слова скажу носителю амулета, и знал, что слова эти убедят его; в конце концов, он всего лишь мальчишка и ничего не понимает в наших делах, несмотря на все свои полномочия. А еще я твердо знал, что вомну в линолеум любого, кто посмеет пытаться не пропустить меня к актеру.
Вминать, к счастью, никого не пришлось. Мальчишка отдыхал после утомительного представления, но сказанная вполголоса через дверь фраза: «Л-ла нгенгте ицъкльи а-токон» — мгновенно открыла мне дорогу в актерскую уборную. И он выслушал меня, и я был краток в доводах, но убедителен; лишь несколько точных и емких вопросов задал обладающий амулетом, и я ответил на каждый, подчеркнув, что наш, земной, Старший Брат достоин во всех отношениях, но, увы, слишком обременен годами. И наконец он кивнул, открыл футляр с набором длинных игл и жестом приказал мне лечь на спину.
Когда я покидал театр, грудь невыносимо болела, будто обожженная кислотой, но это была радостная боль, боль долгожданного торжества…
Вернувшись домой, я выпил рюмку коньяку и безотлагательно связался с господином Ришаром. Терпеть не могу этого надутого индюка, позволяющего себе глядеть на меня вполприщура, но порой личные пристрастия надлежит похерить. На сей раз ситуация именно такова. Нам надлежит действовать вместе, во всяком случае, на основном этапе, и если коммодору не очень по нраву считаться со мной, я могу ему только посочувствовать…
Мы коротко побеседовали. Господин Ришар (по-моему, даже родная мать, если жива, не рискует называть его просто Огюстом) настоящий профессионал, причем высокого класса. Он выслушал и безоговорочно подтвердил готовность своей организации к совместным действиям в рамках договоренностей. После чего сообщил, что честь имеет. А я прилег было, потом встал и выпил еще полторы рюмки, но успокоиться вполне все равно не смог.
Проклятые нервы! И до шести, до времени общего сбора, еще два часа…
Занялся гимнастикой.
«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!»
Вверх-вниз. Гантели, штанга, брусья.
«СИЛА ПИТАЕТ ЕДИНСТВО!»
Стойка «токон»: руки — крыльями, грудь — вперед; и резкий прыжок на третьем выдохе.
«ВСЕ — ВОЖДЬ, ВОЖДЬ — ВСЕ!»
Время еще есть.
«ЗНАЮЩИЙ — ВЕРИТ, ВЕРЯЩИЙ — ДЕЛАЕТ!»
Некуда спешить. Свершилось. Посланец пришел.
Сосредоточился. Открыл наугад «Великий Путь». Поразился в очередной раз глубине мудрых афоризмов; почитал их вслух, нараспев, как заповедано, еще и еще раз недоумевая: как, черт возьми, в обезьяньих дархайских мозгах могло родиться нечто подобное?..
Возбуждение ушло. Тело — тверже камня. Дрожи нет.
Есть гнев. Один только гнев. Гнев великий и прекрасный.
Великий и праведный, как Путь!
Кукушка выпрыгнула из окошка в часах и прокуковала пять раз…
Пора!
Распахнув дверь Приюта Уединений, окидываю взглядом дымящуюся красноватую полумглу. Что должно взять с собой? Стопка «Откровений» — пусть лежат на алтаре, они и так запечатлены в сердце. Еще? Извлечь из ларца длинный, с волнистым лезвием крис; я люблю его — он неуклюжий, да, но он способен исторгнуть кишки — все разом, что не под силу чистюле-катане.
Да, и конечно же! — скорее, скорее сорвать с себя растленные земные тряпки! Одну за другой! Все долой, все!..
О, как нежно облегает тело суровая ти-куанг! Как струятся складки просторного лвати! Все, как должно, все, как предначертано Хото-Арджангом, чье слово несомненно!
Теперь — последнее.
Глаза в глаза, зрачки в зрачки — я и портрет над алтарем. И никого вокруг, кроме нас двоих, и мой отточенный крис свидетель тому…
Я и Он. Он — и Я…
О! Словно поток расплавленного свинца, густая и тяжелая сила Справедливости вливается в жилы мои, о Вождь!
Ничто не забыто. Значит, прочь из опостылевших стен, пропахших дешевеньким одеколоном и приторным запахом этой… как ее?.. Розали!
Улица. Пустынно и гулко. В такт шагам — воспоминания.
Память не спит и не прощает. Мысли бьют в виски, и отзвуки их полновесны, словно грохот немыслимо огромного бубенца…
Гниль! Они выгнали меня. Меня — выгнали! Уволили, доверившись грязным сплетням завистников! Ублюдки! Старый Бушмакер прилюдно назвал меня негодяем. Меня, Эдуарда Вышковского! Мразь! Маразматик! «В аппарате таким не место!» — Он сказал так, и вся свора дружно подгавкивала ему. За что? За сотню-другую визжащих мозгляков — меня, и.о. Главного?! Ведь были же объективные причины!..
Ненавижу! Ненавижу вас всех, позорные, возомнившие о себе козлы. Вы хотели откупиться от меня пенсионом? Не выйдет! Пенсия — мое законное право, но никакая пенсия, даже персональная, не спасет вас от мести. Слава Богу, Демократическая Конфедерация умеет ценить специалистов…
Улица сужается, словно стилет.
Тени пляшут вокруг тусклых, захарканных моросью фонариков.
Как же — умеет!
Прогнившие конфедераты не пустили меня даже на порог. Меня, Вышковского, допрашивали прямо в космопорту, не дав шагу сделать за зеленую линию! А их газетенки плевались ядом, и куда бы я ни ткнул взгляд, везде, везде маячили статейки наглого щенка Сан-Каро; ублюдок требовал предать меня суду за детоубийство. С какой, спрашивается, стати? Эти детишки не имели к Конфедерации никакого отношения…
Справедливости ради не могу не отметить: за документацию Космофлота, изъятую из сейфа перед сдачей дел, конфедераты неплохо заплатили. Но что с того? Расплачиваясь, они смотрели на меня, словно на мокрицу. Хуже того — как на предателя. Они, сытые и довольные собой, не могли, да и не хотели понять, что мне, пенсионеру, просто необходимо было позаботиться о дополнительном источнике пропитания.
Сворачиваю в переулок.
Прохожих нет. Вместе со мной, рядом со мной, рука об руку со мной — моя святая, моя праведная ненависть.
Никого не прощу.
И ни о чем не забуду.
… Полночь. Я стою в зале Клуба Гимнастов-Антикваров. В медных настенных кольцах — факелы. В сизом воздухе — благовонный дым. Вокруг — борцы; братья мои рады мне, рады искренне, от души, как и я им. Это — моя семья, уже много лет, и я люблю всех их, всех до единого. А Старшего Брата не просто люблю, но и почитаю всем сердцем.
Приветствую тебя, братец. И тебя, братец. И тебя, почтеннейший дядюшка…
Мы строимся. Каждый знает свое место, определенное сроком пребывания в клубе и заслугами. На невысокий амвон медленно восходит Старший Брат — изящный и могучий, как и подобает истому дархайцу.
Он протягивает руки к портрету.
Мы, сделавшись единым телом, глубоко вздыхаем.
ДАЙ!
Мечи вылетают из ножен!
ДАН!!
Единство сметает гниль!!
ДАО!!!
Нет преграды для Истины!!!
ДУ!!!!
И время не хочет ждать!!!!
Словно крылья птицы токон, взметнулись над возвышением белые края лвати.
В абсолютной тишине Старший Брат обращается к нам:
— Борцы! Верные факелы света идей квэхва! Дочери и сыны бестрепетного А Ладжока! Шли дни тьмы и скорби, и не станет их отныне. Настал день радости: восходит в небеса солнце Справедливости — и верх сделается низом, а низ верхом. Мы, изведавшие мрак неблагодарности людской, ждали рассвета. Рассвет занимается! Посланец явился на Землю, и сладка его весть: близится час отрубить голову дряхлой гидре. Сегодня на сотнях планет тысячи братьев наших внимают слову, посланному с Дархая. Возрадуйтесь же! Нам помогут те, без кого мы всего лишь ничто, ибо светоносный Вождь А помнит о вас, озаренных немеркнущим сиянием идей квэхва. Л-ла джонг’гра тьяхъ’йа каччиал-л ла!
— Плод Ла созрел! — слаженно вторим мы.
Рев. Рев! Рев!!!
Но стены Клуба толсты — не услышит никто. Пока еще не время. Но время придет. Оно уже на пороге…
— Здесь, на Земле, — уже почти визжит Старший Брат, — вас поведу к победе я, ибо уже завтра, нет, сегодня я предстану пред посланцем и приму из его рук благословение Вождя А!
Он ошибается, бедный глупец, но пока еще не знает об этом. В ошибках нет блага, учит Вождь. Пора поправить заблудшего. На коленях ползу к кафедре, и голос мой тих и смиренен, как должно…
— Не позволит ли видевший воочию сияние Вождя обеспокоить незначительным словом единство братьев?..
— Дозволяю, Пятый Средний Брат… — Он, кажется, удивлен.
И я, раздирая ти-куанг, встаю над залом, над блеском мечей и секир, над чадящим багрянцем факелов — наравне с портретом Любимого и Родного.
Оглушительная тишина. Замершие лица.
И яростный размах крыльев птицы токон в клетке из иероглифов къа-дархи; она хочет взлететь, ей тесно на моей исколотой накануне, воспаленной, горящей и ноющей от сладкой боли груди!
Свершилось! Согбенны покорные спины. Лежит ничком Старший Брат — он дархаец, он понял все сразу, и за это смирение я, возможно, прощу ему даже всегдашнее пренебрежение мною. Все они склонились передо мной, перед Лучом Ока Единства на Планете-для-Всех…
Сладостный миг, оплаченный молчаливыми годами ожидания и терпения; неповторимый миг, когда недоумки, мнившие себя равными тебе — МНЕ!!! — впервые падают ниц!
Отныне надо мной — только Вождь.
Но… он далеко. И он — всего лишь дархаец…
Плод ла созрел!
Я запахиваю ти-куанг и в прыгающем огне вижу спины, затылки, города, планеты, державы…
Гниль!!!
ГЛАВА 4
… И утихомирь суесловие говорящих без счета и меры, Господи, Господи!.. ведь многие словеса, рассыпаясь подобно зерну плесневелому, затмевают рассудок мудрому, и растлевают сердце глупому, и оправдывают деяния неправедного, и помрачают намерения добронравного. И, утратив Святость, Слово перестает быть Богом; не страшишься ли, Вседержитель?.. Дай же прелюбословам вертограда сего краткий час и долгий миг, дабы оглянулись, а оглянувшись — успели, узрев, уразуметь и, уразумев — ужаснуться плодам посевов своих, Господи!..
Рассказывает Яан САН-КАРО, журналист со связями. 36 лет. Гражданин ДКГ
10 — 13 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Тридцать шесть, ни больше ни меньше. А с утра уже пошел и тридцать седьмой. Такие вот дела. Хотя по виду и не скажешь. Впрочем, умываясь, обнаружил в укладке несколько сединок, две, нет, даже три. Вырвал их с корнем и долго рассматривал. Потом спалил над слабеньким огоньком зажигалки. И долго, с ожесточением натирал щеки лосьоном…
Не хочется стареть. Тем паче, если всегда выглядел пацан пацаном и успел привыкнуть. В работе сие подчас даже помогало: кто ж заподозрит в чем-то конопатенького любознательного дебютантишку? А что касается телок, так их отчего-то как раз и доводит до полного оргазма тот факт, что с Королем Сенсаций, Золотым Пером, и прочая, и прочая, в общем — с почтенным мэтром (Господи-ж-Боже-ж-ты-ж-мой! Это я — то почтенный мэтр! Приехали, Яник!) можно накануне койки сбегать на дискотеку и там не слишком уж выделяться среди прочих парочек.
И тем не менее: тридцать шесть. Ни то ни се. Время, как говорится, собирать камни. А если не хочется, а? Если не все еще разбросано толком — тогда что?! В частности, и поэтому тоже за последние шесть лет я так и не покушал маминого именинного пирога со свечками. Зачем видеть, как из года в год свечей становится все больше? Не хочу смотреть, что мама, хоть и в праздничном платье, а стала совсем седой, что дядя Гиви еле ходит, да и то — с тростью, а Берта Исааковна, «железная леди» нашего старого двора, постоянно пытается припомнить, о чем это она только что говорила, и злится на всех вокруг, потому что вспомнить сама не умеет…
Не хочу! А маме нужно позвонить…
«Привет, мамуля!» — сказал я в трубку и поздравил с рождением великого сына. И, ясное дело, тут же услышал в ответ, что я — кретин, забывший про старую мать, которой уже недолго осталось, но меня все равно любят и поздравляют, и сегодня вечером, конечно же, будет пирог с тридцатью шестью свечками, и что Гиви с Бертой звонили и обязательно зайдут, а тетя Мэри слегла с микроинсультом, но она все равно не забыла и звонила вот только что, а еще к семи придут Фицпатрики, и я вдвойне кретин, потому что их девочки очень хорошие, особенно Пеппи, а кстати, как я тут питаюсь?.. Так вот, девочки Фицпатриков, это же чистое золото, особенно Пеппи, но и Лу тоже ничего, и я вообще кретин втройне, потому что совсем не хочу знать, что старой матери необходим внук, пока она еще способна о нем позаботиться, чтобы дитя не выросло таким полным кретином, как ее, прости Господи, убоище-сын, и кстати, сынуля, ты…
«Салют, мам!» — нежно мурлыкнул я и сделал вид, что связь оборвалась сама по себе. Вот и еще одна причина, по которой дни семейных торжеств предпочтительно встречать подальше от дома. Свечки свечками, это да, но еще круче — обязательные визиты тех, с кем нельзя не расшаркаться, ибо они, видите ли, знают тебя с детства. Нет уж, для дня старения лучше подходит компания друзей. А у меня, так вышло, приятелей пруд пруди, а друг только один — но где же, елы-палы, выделить в просторах Галактики вечно мечущегося, словно щепка в проруби, Алека Холмса?..
Он, впрочем, меня находит всегда. Вот и вчера автоответчик выдал видеописьмо: меня поздравили, как обычно, сдержанно и немногословно и пообещали отловить на Земле. Значит, отловят; не помню случая, чтобы Алек не сдержал слова. В общем-то приятно было увидеть эту рожу, не виденную лично уже года… дай Бог памяти… три. Никаких изменений: по-прежнему идеал супермена с мужественной проседью в шевелюре. Вот уж кому седина к лицу, спору нет; но Алек не выглядел пацаном и в двадцать…
Машинально заглянув в трельяж, я засек еще два седых волоска, причем на самом видном месте — на левом виске. Придется теперь прощаться с любимыми моими бачками.
Хор-рошенький подарочек на день рождения.
Проклятый неф!
Хотя, с другой стороны, при чем тут черномазый? Сам виноват. А на самом деле никто не виновен. Просто директору Галактического Центра Психиатрии очень захотелось, чтобы репортаж о его достижениях был навеян именно трижды Королем Сенсаций, четырехкратным Золотым Пером, действительным членом Академии Журналистики, почетным доктором, и так далее и тому подобное Яаном Сан-Каро. Желание понятное и похвальное. А ваш покорный слуга никак не мог отказать старому приятелю. Долг чести! В конце концов, если бы не он, не видать бы мне своего первого «короля». Попытайтесь-ка без связей попасть на Авиньон, тем более — повидаться с самим «папиком Беней» (именно так он просит себя называть). Слабо, да? А я и попал, и повидался, и на том репортаже впервые выскочил в Короли Сенсаций. Хотя, если честно, по сей день стыдно перед старичком: сам он никак не тянул на «гвоздь» номера, и пришлось жать на идиота Монтекассино — ну, вы же помните, на всех разворотах: «ДА, ОН БЕЗУМЕН! говорит магистр» — и улыбающаяся харя в шапочке с помпоном…
Позже я отправил на Авиньон открыточку с извинениями, а папик Беня в ответ прислал мне телеграмму с анафемой, что стало поводом к еще одному, антирелигиозному, репортажу.
Так мог ли я, учитывая все это, отказать в пустяковой просьбе бывшему главврачу авиньонской психушки?
И бродя по сияющим коридорам, рассматривая оборудование, беседуя с персоналом, я никак не предполагал, что наутро мне предстоит выщипывать сединки…
Все произошло удивительно быстро. Потом мне сказали, что не прошло и двух минут, но мне они показались часами. Коридор опустел мгновенно; исчезли сестрички, лаборанты и даже мой дружок-главврач, миг назад крутившийся рядом со своими пояснениями. Я стоял посреди белизны один-одинешенек, а навстречу огромными, грациозно-оленьими прыжками мчался молодой изумительно красивый негр в развевающемся, чудом удерживающемся на широких иссиня-черных плечах белом халате, и в уши мои ворвался внезапно дикий, истошный и при всем том не лишенный некоей членораздельности вой: «Яввооаа! Яввоа! Яжжеввоооажжо! Яввоа-а-а!»; негр мчался медленно-медленно, словно в кошмаре, и за ним поспешали санитары, но не очень торопились догнать, потому что в правой руке бегущего впереди был здоровенный, криво, словно сабля, изогнутый осколок стекла, выписывающий в светящемся воздухе замысловатые восьмерки; и кровь, красная на черном, текла, и хлестала, и капала на пол, но негр, похоже, не замечал этого…
— Явво-о-оааааа!
Ослепительно ласковые, печальные глаза заглянули мне прямо в душу, близко-близко.
— Я — Вождь А!
И острый-преострый кончик стеклянной сабли замер у моего подбородка, чуть-чуть касаясь кожи.
— Скажи, брат, ведь я — Железный Вождь А Ладжок?
— Да! — уверенно ответил я, и голос мой ничуть не дрожал. — Ты — Железный Вождь А!
— Но ты ведь не лжешь мне, брат? — нежно спросил негр, и глаза его наполнились слезами. — Ты ведь знаешь, что я — Железный Вождь А Ладжок?..
— Воистину так, о Вождь! — звонко выкрикнул я, щелкая отсутствующими на больничных тапочках каблуками. И стеклянное лезвие слегка дрогнуло.
— Зачем же они лгут мне, брат?..
— Они заблуждаются, о Вождь! Прости им заблуждения их, ибо не ведают, что творят, — посмел посоветовать я.
Негр нахмурился. Затем пальцы его разжались, осколок упал на пол и разбился вдребезги, а санитары кинулись вперед. Не сопротивляясь, он горделиво позволил связать себя и увести, но до той секунды, пока не исчез за поворотом коридора, все оборачивался ко мне и посылал царственные, милостиво всепрощающие кивки…
А я, держа руки по швам, выкрикивал здравицы. И только минут двадцать спустя меня наконец сумели привести в чувство.
Главврач, трясясь и бледнея, суетился вокруг, бормоча что-то о дурацких накладках, о наплыве буйных, о вспышке мании величия, почему-то вдруг о Дархае, об идеях квэхва, и снова о накладках и о том, что век будет обязан; все это доползало до меня расплывчато, словно через войлочную стенку, но я поднялся и, машинально кивая и поддакивая, выпил с ним по стакану чего-то, вроде бы спирта, не знаю, и пообещал, что, конечно, никогда и никому… а потом вышел на улицу и долго стоял, прижавшись лбом к шершавому дереву, и дышал, дышал, дышал…
Выпитое комком висело в желудке, очень хотелось блевать, но никак не получалось.
Нет, ребята, мне далеко до Алека, и еще дальше — до покойника Рамоса, они храбрые парни по жизни, а я нет, я, честно говоря, балаболка и порядочный трус. И не в моих правилах лезть на рожон, если только не ради репортажа. Но почему-то в меня стреляли не шесть раз, как в Холмса, а целых восемь, хотя Алек об этом, конечно, не знает. И никто не знает. Не знают, что я, болтунишка и паникер, высаживался на Карфаго с ударными отрядами наших «астрофизиков», что мне в заброшенной штольне набрасывали на шею удавку бравые ребятишки любезнейшего дона Аттилио, что я захлебывался ядовитой грязюкой в предгорьях Вигдкунь-Янг’манга, когда собирал материалы о действиях повстанцев генерала Татао. И не знают, разумеется, что свой знаменитый сюжет о Дархае я лично понимаете? — лично снимал под Коранг-Гхотхалом, у того овражка, через который рвались правительственные части, пытаясь предотвратить соединение оранжевых отрядов «дедушки Тана» с ченгами лесных джугаистов.
Потом меня поразили егээсовские танкетки, накрытые тем знаменитым залпом. Их пушки напоминали подплавленные штопоры, скрученные морским узлом. Каратели те, кто сумел каким-то чудом уцелеть, — бежали, прикрепив к огрызкам деревьев записки: «Мы отступаем, потому что нгенги прислали вам оружие массового уничтожения. Но мы вернемся!»
Они не вернулись.
Обо всем этом я давно уже не заикаюсь в компаниях. Какой смысл? Алек, например, хоть и молчит всегда, вызывает уважительный интерес. Со мною наоборот: даже если верят, слушают вполуха. И даже обидно, что все эти нервы, и пять ранений, и — что уж скрывать! — мокрые от ужаса штаны, были не более чем рутинной работой, этаким пьедесталом для нескольких всеми уже забытых тысяч слов и двух-трех километров пленки…
Впрочем, если бы не все это, разве мне бы доверили «делать мнения»?..
В последний раз, крайне внимательно, я изучил укладку.
Нег, слава Богу, седина искоренена. Можно и за работу. Которая, кстати, уже почти завершена, как и обещано заказчику. Работенка — первый сорт! Загляденье! Не грех и самому полюбоваться…
Врубив «ноутбук», я перечитал — одну за одной — все три статьи и черновик четвертой.
Нет, в самом деле, пальчики оближешь! Особенно заголовки, впрочем, они мне всегда удавались. «Война или мир? — вот в чем вопрос!» — чем плохо? Не без кокетства, конечно, но сойдет; «Оружие и мечта — две вещи несовместные» — уже лучше; «Гонка вооружений: идеалы или интересы?» — суховато, зато по существу. И я уже знал, что последняя, подводящая резюме циклу статья будет названа просто и без особых претензий — «Прощай, оружие!».
Обесточил комп. Упаковал дискеты. С наслаждением потянулся, покидал шмотье в чемодан, благо езжу всегда налегке — и тринадцать часов спустя, наглотавшись люминала и проспав всю дорогу, спускался по трапу в Хрущовой-Никитовке. Вообще-то я предпочитаю рейсы, приземляющиеся на мысе Кеннеди, но сегодня мыс был переполнен — Земля принимала дархайских туристов. С полчаса я подергивался, натыкаясь взглядом на значки с портретом их вождика (поневоле вспоминался кафельный коридор, красное на черном и рвущее душу протяжное «Яввоаа!»), но достаточно быстро глаз привык. Тем паче что до отпуска оставалось только побегать по Лондону, что я и начал делать с тринадцати сорока по Галактическому…
Не нарушая традицию, по редакциям я пошел в алфавитном порядке: «Абракадабра», «Авоська», «Агинская правда»… и так до самого закутка с «Яхвистським прапором». Много времени эта процедура все равно никогда не занимала, что лишний раз подтверждает разумность идеи сконцентрировать редакции всех изданий Галактики не только на одной планете, но и в одном городе. Кстати, когда небезызвестного Уго фон дер Вельтзена спросили, зачем он настоял на переносе всей прессы в Лондон, он, тогда еще весьма влиятельный член Совета Земли, вполне жизнерадостный и ни капельки не парализованный бодрячок, подхихикивая, ответил: «О! Чтобы была возможность хоть как-то затыкать им глотку!» Н-да. Бедный Уго круто переоценил свои силы: в борьбе со свободой слова он заработал инсульт, а слово так и осталось свободным. По мере возможности, разумеется…
Кстати же, кроме моей мамы и Берты Исааковны, мало кто помнит теперь, что именно юный стажер ОМГА Сан-Каро был тем, кто указал господину фон дер Вельтзену на достойное его место, в смысле — на больничную койку. Всего лишь три простеньких вопроса, но таких, после которых в стажерах не засиживаются…
За пару минут до шести с Лондоном было покончено. Я промчался по переходам и галереям Пресс-Центра, являя собою маленький, буйный, но ужасно демократичный тайфунчик. Едва завидев меня, главные подпрыгивали в креслах, и уши у них делались, как у спаниеля. Еще бы: явился Король! И дискетки мои рвали с руками, даже не заикаясь об эксклюзиве, тем паче что каждому было намекнуто, что итоговая статья достанется именно ему, только ему и никому иному, кроме него.
А вот отмечать начало законного отпуска в баре не пожелалось. Там неплохо, нет слов, но, с другой стороны, вполне возможны маложелательные встречи с Жаклин, Фросей, Терезой, Офрой, Гюльджамал или, чего доброго, с Сян Таоминь, или, паче того, с Индирой… хотя нет, Индюшечка, я слышал, уже опять замужем, так что отсюда, слава Богу, опасности нет, зато у стойки вечно сшиваются Наоми, Рэйчел, придурочная Людмила — да кто ж их всех упомнит? Вот так вот нарвешься и море визга с выяснениями отношений. На фига мне, пардон, все это? Существует, в конце концов, презумпция невиновности, и лично мне вполне хватает печального опыта моего дружбана Алека с его идиоткой первой супругой, паскудой второй и его же трехлетними стенаниями по Катьке Мак-Келли. Плавали, знаем… а на собственных ошибках учатся только клинические кретины.
И я отбыл отдыхать полноценно. Естественно, в Одессу.
В самолете был сплошной Дархай. Дархайцы слева, дархайцы справа, спереди и сзади — тоже дархайцы. А дархаец-попутчик — это трагедия, особенно для журналиста. Мало того, что свихнувшийся негр никак не выскакивал из памяти, так еще и в соседнем кресле оказался квэхвист-агитатор. Естественно, в пятнистом комбинезоне. И конечно же, по должности говорливый…
Видите ли, ребятки, я в принципе ничего не имею против дархайцев. Я в свое время съел с ними пуд соли, и там, в горах, у меня осталось немало добрых приятелей, а генерал Тан Татао, на мой взгляд, вообще личность уникальная. Но что касается идей квэхва — увольте! Я ведь тоже не вчерашний и читывал «Оранжевую Истину», и с листовками лесных джугаистов из Фронта имени Нола Сарджо доводилось иметь дело — все эти документы тоже не отличаются особым креном в сторону гуманизма; но когда за свод законов и последнее откровение выдают перевранную таблицу умножения плюс тупые высказывания молодого садиста о, это уже интересно только для психиатра…
И поскольку я не врач, то пришлось предложить соседу сделать глоток из моей дорожной фляжки. Он, понятное дело, отказался. Я, естественно, приподнял бровь и предложил тост за Вождя А. Затем — за великую миссию Армии Единства. Затем — за ниспровержение лжеидей квэхва-юх. И, разумеется, за всеконечную погибель изверга и нгенга Тан Татао. После чего завинтил крышку, упрятал флягу обратно в чемодан, умостил соседушку поудобнее, так, чтобы головка не сильно свисала, — и облегченно вздохнул.
Был у меня когда-то такой вот активно разговорчивый знакомец, человек не злой, но очень глупый. Работал он в Космофлоте, гонял «грузовики» на периферии. Мне тогда как раз заказали серию очерков о героях безвоздушных трасс, ну, я к нему и подрядился матросом на рейс. Шли мы обратно порожняком, и какой-то курчавый хмырь в черной тройке уболтал нашу дубинушку самую чуточку свернуть с курса… Впрочем, в книжке я про все это написал интереснее, но, конечно, только половину правды. Половину остального я сообщил исключительно в «Мегапол». А еще кое-что не сообщил никому и не получил четвертого «Золотого Пера», зато могу теперь гулять по Одессе целым. Так что Алек Холмс по сей день считает меня таким же долбанугым, как он сам, а дон Аттилио убежден, что я вполне порядочный молодой человек, которого тогда правильно сделали, что не удавили. И я, говоря по правде, согласен с обоими…
А что до «Золотого Пера», так пусть его, шелуха это все.
Совсем другое дело, когда в один прекрасный день тебя вежливо приглашают, куда следует, и доверяют «сделать мнение». Когда выдают сверхсекретные материалы и просят — понимаете, вежливо, за чашкой чая! — разъяснить людям, что и как. И почему именно так и никак иначе. И как хреново будет им всем, ежели не так.
Вот тогда-то ты и можешь сказать: да, я состоялся как журналист. А уж сколько пришлось пахать, и мотаться, и гадить в штаны под пулями — вот это уж твои, и только твои проблемы…
Когда дархайцы уносили моего соседа из салона, он как бы пробудился и успел-таки всучить мне значок с профилем своего любимого и родного вождика. Я принял эту бяку с благодарностью и честнейшим образом нес в руке — до первой урны.
А в «Ореанде» было хорошо, как всегда. И номер мой был готов, и занавески подобраны именно такие, какие я люблю, и Эмма меня не забыла за год, в чем я убедился этим же вечером. Так что радовать красавицу у моря своим присутствием я выбрался уже не то чтобы утром, а где-то так за полдень. Прошелся пешком до Ланжерона. Выкупал себя, отчего и поимел немалое удовольствие. Купил квэхвистскую газетенку и с еще большим, просто неописуемым наслаждением воспользовался ею по прямому назначению в пляжном сортире. Совершил, так сказать, акт возмездия. После чего явственно осознал, что настало время заняться наконец чем-нибудь возвышенным.
Пошарив взором по окрестным пескам, густо усеянным загорелым мясом, я обнаружил вполне подходящий объект. Пощекотал, надеясь, что возвышенное поймет правильно и хихикнет. Ошибся. Возвышенное поняло как раз наоборот, дрыгнуло ножкой, и я едва не лишился пары зубов. Затем девица помогла мне подняться, отряхнула… и тут я ее узнал. Память-то у меня профессиональная! Конечно, лето девяносто восьмого, Уолфиш-Бей и эта краля впритирку с пареньком-гитаристом…
«Стоп-стоп, это сколько же ей сейчас?» — испугался я, но заднего хода решил не давать, исходя сугубо из внешних характеристик. Из экстерьера, можно сказать, ну никак больше двадцати пяти на вид не дашь, а что касается фигурки, так во-още что-то с чем-то…
Ладненько. Я сконцентрировался и пошел в атаку. Спустя пять минут меня соизволили вспомнить. С трудом, правда, но не без удовольствия.
— Лемурка, — спросил я не без грациозной фамильярности, — а что слышно об Андрюше?
И нарвался на ледяную паузу.
— Андрея нет, Яан, — сообщила она, помолчав. — И очень прошу: называй меня Эльмирой…
Я умный. Поэтому решил данную тему замять. И перешел к общему трепу. Трепалось легко. Она, оказывается, дважды сходила замуж, оба раза не очень удачно; впрочем, в подробности личной жизни мы по молчаливой договоренности углубляться не стали. Зато, как выяснилось, ей попадались мои репортажи, и стиль Яана Сан-Каро был одобрен. Что ж! И среди женщин подчас попадаются особи, не лишенные тонкого вкуса.
Короче говоря, грех было не продолжить беседу за ленчем. А потом, понятное дело, за ужином. Эльмира вполне заслуживала того, чтобы посвятить ей половину отпуска. Или даже весь. Решив так, я поиграл оперением, распушил хвост и самую малость приоткрыл копилку. Уж на что, а на язык я никогда не жаловался, да и врать мне в общем-то надобности не было.
Итак, общий джентльменский набор.
Сперва — о неравном поединке с боевиками некоего «крестного батьки», ясное дело, без каких-либо имен.
Реакция: недоумение, переходящее в легкий интерес.
Далее, вкратце — о переходе через Вигдкунь-Янг’манг с этаким ненавязчивым самокритичным юморком.
Интерес усугубился.
И наконец, уже после ужина, на веранде: гвоздь программы — а знаешь ли, дорогая, я ведь лично знаком с Ози Гутелли! И довольно близко…
Взрыв недоверия. Презрение к треплу. Правильно, так и надо, милая, так и нужно, радость моя. Ругайся, ругайся… а теперь посмотри-ка на карточку, а?
Все. Готово. Приехали. Поцелуй, распахнутые глаза и шквал вопросов. Методика отработана досконально, и не помню случая, когда дала бы сбой.
Короче, я дал ей исчерпывающую информацию, перемежая факты заслуженными поцелуями. Мы с Ози ведь и вправду знакомы, вот только репортажа на эту тему у меня так и не получилось. О чем было писать? О том, как, ни слова не вымолвив, бухая в тюльку, корова взгромоздилась на меня и принялась ерзать, пыхтя и подвывая? Или о том, как в пять утра заявился восстанавливать семью ее девятый муж — или восьмой? — ну, в общем, тот, который абсолютный чемпион по боевому къям-до? Отдам должное Ози: она закрыла меня своим телом в полном смысле слова, и пока они восстанавливали семью прямо на коврике в прихожей, я летел без парашюта с четвертого этажа, а с балкона вслед мне свистел Озин импресарио старая лысая скотина, судя по всему, как раз и вызвавшая того бугая…
Так что ни слова о личном знакомстве с мадемуазель Гутелли моим золотым пером не написано. Но сняться-то на память мы успели! И грех не пользоваться этой универсальной отмычкой, отпирающей в отпуске дверцы любого, самого неприступного сейфа.
Гуляя по закоулкам парка, мы с Эльмирой успели достичь многого. Даже очень. Но не всего. Поэтому заключительную байку о Черном Муаммаре и его последнем караване я завершал уже в номере. Здесь, где волны кондишна разгоняли духоту, накал страстей Черного Муаммара мгновенно потускнел на фоне прочего, и только к трем часам ночи мы смогли наконец более или менее спокойно обсудить, стоит ли все-таки выключать свет, и если да, то кому это следует сделать. Вставать обоим было лень…
Утром меня посетило ощущение, что мною попользовались. Дама, несомненно, была довольна, я, в сущности, тоже, но практически ничего, кроме шевеления и шепота, не помнилось, а это скверно. Мне следует контролировать себя, особенно сейчас, когда мнение только начинает делаться. Ну-ка, не стрепанул ли я, часом, чего о Договоре? Не приведи Аллах! Контрольная Служба таких ляпов не прощает, можно, часом, и не проснуться однажды; за доверие приходится платить, хотя бы другим в науку…
Нет, вроде ничего такого не было. Да и при чем тут, собственно, пляжная девочка Лемурка?..
И все же нечто не давало покоя. Ощущалось этакое, скажем, томление духа. Стоило бы, конечно, довериться интуиции и повспоминать получше. Но — не вышло. Нежная ладошка прошлась по моей беззащитной груди, по животу, ласково потеребила ниже… и стало понятно, что между нами далеко не все еще прояснено и необходимо немедленно уточнить позиции.
Уточнили. Стороны пришли к обоюдному удовлетворению.
Примерно через час я заказал кофе в постель.
А потом, поплескавшись в бассейне и наскоро устроив повторение пройденного, мы с Лемуркой выбрались наконец в мир.
И тотчас же, прямо на лифтовой площадке, меня хлопнули по плечу.
— Стоять!
Я оглянулся. Никого.
Новый тычок. Теперь — спереди, под микитки.
— Стоять, я сказал!
Ненавижу эти дешевые штучки. Я крутился на месте, а Лемура и пара случайных попутчиков уже начали недоуменно переглядываться.
— Ладно, Алек, хватит! — взмолился я. И получил пощаду. Стервец Холмс возник из ниоткуда, и мы обнялись. Лемуру Алек, похоже, не узнал, а напоминать об Уолфиш-Бее надобности не было.
— Ну что, в бар? — поинтересовался я.
Лемура пожала плечами, Она явно не выспалась и выглядела сейчас если и не на свои годы, то на хороший тридцатник.
Алек лучезарно улыбнулся.
— Прошу прощения у прекрасной дамы, но я попросил бы позволить мне отнять у нее кавалера на несколько минут…
И киска, оттрахавшая меня минувшей ночью не хуже, чем рота ландскнехтов беззащитную девственницу, проследовала в подвальный ресторанчик, залившись краской и не возразив ни словечком.
Вот единственное, за что я всегда завидовал Алеку: меня бабы никогда не стеснялись поиметь, но никак не желали слушаться беспрекословно. С Алеком же и то, и другое. Хотя, говоря откровенно, на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется болт с левой резьбой; великий разбиватель сердец Аллан Холмс тоже споткнулся на смазливой рожице малолетки Катьки Мак-Келли.
— Пошли, — коротко сказал Аллан, крепенько подхватил меня под локоть и повел в крохотный барчик на этаже. Я шел покорно, смирившись с тем, что пообщаться не выйдет, поскольку Алек, выходит, опять на работе, и всей-то свиданки будет минут на десять делового разговора. Жаль. Я очень соскучился по нему…
— Коньяк. «Камю». Две по сто, — приказал Холмс бармену неподражаемо полицейским тоном. — Закуски не надо…
Сели в уголке. Вздрогнули. Повторили. Теперь только я сообразил, что супермен наш выглядит плоховато: во всяком случае, таким потерянным я его не видел, пожалуй, со дня похорон Рамоса. Я тогда знал то же, что и он; собственно, от меня он и узнал суть дела. Но я рассказал ему, и никому больше. Наверное, именно тогда, шесть лет назад, мы и перестали быть друг для друга просто добрыми приятелями.
— Слушай, Янька, — он, как всегда, взял быка за рога, — что тебе известно о Клубах Гимнастов-Антикваров?..
— Ничего! — коротко ответил я.
— Ясно. А о квэхвистах?
Тааак. Дархайские квэхвисты тут явно ни при чем. Что же касается земных… я ухмыльнулся и поведал Алеку все как есть, в том числе и относительно нефа в психушке.
Против ожидания, он не ухмыльнулся в ответ и не стал острить.
Выслушал. Кивнул. И сказал:
— Понимаю. Еще что-то?
«Ого!» — подумал я. Ежели Холмс говорит таким тоном, да еще и со мной, значит, дело действительно серьезное. Ладненько…
— Слушай, Алек, — я доверительно понизил голос, — не надо выпендриваться, говори, что нужно…
Холмс прищурился.
— Лады. Есть, понимаешь ли, психи. Хорошо владеют оружием. Кидаются на людей. И все — квэхвисты. Смекаешь?
Я посмекал.
— Каким оружием?
— Всяким. Мечи, алебарды, луки, бумеранги…
Вот эти-то «бумеранги» меня и добили. Я перегнулся через столик.
— Тебя это сильно беспокоит, Алек?
— Представь себе.
— Так вот… — Если Холмса что-то беспокоит всерьез, я открываю копилку нараспашку. Дальше Аллана не уйдет, а к тому же через недельку-другую мнение будет сделано, Договор подписан и Контрольная Служба не будет иметь ко мне претензий. — Слушай сюда, парень! При чем тут бумеранги? Не пройдет и месяца, как от Большого Оружия и следа не останется. Не важно, каким образом…
И я многозначительно ткнул пальцем вверх.
Глаза Холмса сузились и неприятно похолодели. Сейчас он был очень похож на покойного Рамоса.
— Понял тебя. А как насчет малого?
— Хрен его знает… — Я и вправду не знал ответа: заказчики об этом не упоминали. — Изымут, наверное…
— Яа-асненько…
Он слышал меня, но, похоже, не видел. И на скулах его медленно, словно живя своей отдельной жизнью, ходили желваки. Ого! Всяким я видывал Холмса, и таким тоже. Но редко.
— Спасибо, Яник! Счастливой охоты, — заключил он. И сгинул, словно не сидел только что напротив. Умеет же, стервец. Впрочем, тотчас возник снова уже повеселевший.
— Да, кстати! На свадьбе будешь свидетелем. Ясно?
Ответить я не успел — Холмс исчез окончательно.
— Счастливой охоты! — сказал я в пространство.
Потом, прикинув, заказал еще стопочку. Новость того стоила. Еще бы, Холмс женится! Представляете? Значит, блудливые малолеткины глазки его все-таки отпустили. Такую радость не грех отметить!
Рассчитался. Спустился в подвальчик. И обнаружил Эльмиру за угловым столиком с каким-то унылым типом. Причем на удивление знакомым. Откуда? В памяти всплыли разрозненные обрывки: приспущенный флаг на штаб-квартире Союзного Космофлота, детские лица в траурных рамках… Да, помню ту статью, помню… «Гада на виселицу!» — так она называлась… и тысячи писем помню в поддержку: да, мол, надо вешать… в общем, крепкий материал, хотя и не сенсация… и это самое лицо… нет! — тот хмырь не может сейчас так выглядеть, ему ж уже под полтинник. Скорее просто похож…
Поймав мой заинтересованный взгляд, мужичок дернулся и растаял, почище, чем Алек. Ну что ж, люблю предупредительных парней, не обременяющих меня лишними скандалами. Даже если это и вправду был всего лишь муж Эльмириной кузины…
Официант подскочил с меню, грянула музыка, сочный голос незабвенной Ози доверительно сообщил, что она, сильная женщина — тра-ля-ля! — ждет у окна своего мужчину, и в такт тягучей мелодии где-то глубоко под скатертью маленькая ладошка прикоснулась к моему колену, нагло устремляясь дальше, под шорты.
Я укоризненно посмотрел на владелицу шаловливых пальчиков. Лицо Лемуры выражало полнейшую незаинтересованность, и синеватый дымок тоненькой сигареты поднимался аккуратным столбиком, под стать обрабатываемому под столом предмету…
Отпуск начинал удаваться!
ГЛАВА 5
… И призри, и пощади, и огради, и не обидь малых мира сего, Господи, ибо благ и человеколюбив еси. Кому и спасти их, как не Тебе, многомилостивому? Не обрати гнева Своего на них, слабых, не виновных ни в чем перед Тобою, даже и в рождении своем, ибо не их была на то воля, но Твоя, более же ничья; обогрей их теплом любви Своей, коль скоро все они суть дети Твои, Ты же есть велик во благости, и благость Твоя безраздельна. Снизойди к ничтожеству их и даже в великом гневе сумей не повредить им, Господи?..
Рассказывает Катрин МАК-КЕЛЛИ. Сотрудник аппарата Звездного Дома. 23 года. Гражданка ДКГ
17 — 20 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Я плачу только на кухне у мамы. Мама гладит меня по макушке и называет красавицей, куколкой, умничкой, а я сначала реву белуга белугой, а потом постепенно успокаиваюсь и только всхлипываю, прижавшись к теплому маминому плечу. Странно, да? Катенька Мак-Келли, мечта всех мужиков Галактики, — и вдруг плачет. Никто б не поверил. А на самом деле ничего странного. Ну да, не урод, сама знаю, а толку? Хотя завидуют мне по-страшному, и всегда завидовали, и подруг у меня никогда не было как раз поэтому. Не считая, конечно, Чалы и Эвелины. Но Чала, она мне скорее старшая сестра, да и сама писаная красавица, куда там мне до нее, а Эвелина — совсем особый случай. А так… просто ужас! Девчонки в школе терпеть меня не могли. Как же, самые крутые мальчики, кто с третьего класса, а некоторые даже со второго, срочно обзавелись песиками всяких пород, и эти песики все время хворали, так что мальчишки постоянно толклись в папиной приемной, чтобы хоть мельком повидаться со мной…
Да ну их, девчонок! Разве я виновата, что в семь лет стала «Мини-Мисс Галактикой»? И в шестнадцать, и в восемнадцать я тоже никак не надеялась получить корону. И вовсе ни с кем не спала, как болтали! Просто жюри решило так, и даже в газетах писали, что оно в тот раз было объективным. И папа тогда сказал, что газетам можно верить. А сама я никогда и не думала, что так уж красива. И никак не ожидала, что после второй, взрослой уже, короны меня невзлюбит, а после третьей люто возненавидит как раз та половина человечества, прелести которой я должна была олицетворять.
Ну и пусть шипят! Зато нас с мамой все это просто спасло, когда умер папа. Ветлечебницу, конечно, пришлось закрыть и продать: мама зверей всегда побаивалась, а мне вести дело было совсем не по силам. И жить бы было совсем не на что. Вы представляете: вечно замотанная уроками мама и я, молоденькая, совсем глупая девчонка. Да еще бабушка тогда была жива, хорошая, добрая, но совсем уже старенькая…
И как бы мы выжили, если бы не я?
Я долго думала, куда пойти работать, советовалась с мамой, пыталась даже сама разобраться в предложениях, а потом решилась — и вытянула наугад. И не ошиблась нисколечки! Конечно, модельный салон мадам Чалори Ранкочалария-Нечитайло — это не гигант вроде «Кардена» или «Ив Сен-Лорана», но к тем я бы и побоялась идти, а у мадам Чалори платили никак не меньше, и самая шикарная публика все чаще заказывала обновки именно там.
А главное — сама хозяйка! Разве могла я подумать, что грозная мадам Ранкочалария-Нечитайло, великая кутюрье, окажется просто Чалой, милой и доброй Чалой, умеющей все понять и всегда помочь? Обидно, что мы теперь так редко видимся, зато каждое воскресенье я звоню ей, и мы болтаем по полчаса, если не больше.
Она и теперь такая же красивая, как пять лет назад, совсем не расплылась, фигурка высший класс, и глаза темные и глубокие, как у всех дархаек. У меня, правда, глаза получше, да и ноги, наверное, тоже, ну и что? Господин Нечитайло все равно в ней души не чает, и она его тоже обожает, хотя и держит в ежовых рукавицах. Прямо не знаю, как так можно! Смешно даже: он — огромный, бородатый, а Чала — маленькая и хрупкая, но стоит ей повысить голос, и Игорь Иванович становится по швам, как солдатик из музея. Жуть, правда?
Вообще, там у них была интересная история: Чала на Дархае была замужем за тамошним президентом, или премьером, или еще кем-то, я в этом не разбираюсь, и Игорь Иванович ее спас от бандитов и увез с собой на Землю, даже каюту ей отдал, а сам спал всю дорогу в трюме, вот, — а потом супруг начал требовать, чтобы ему вернули жен, но наши власти так ему и ответили, что здесь ему не Дархай и жены сами могут выбирать, кто у них теперь мужья…
Ой, да что ж это я! Вы ж, наверное, сами помните, это во всех газетах было, даже и по стерео показывали. Я тогда была маленькая, и то запомнила, как мама сидела у визора, аж обед один раз подгорел…
Процесс «Ранкочалар против Ранкочаларий», вспомнили, да? Только представьте: пятьдесят жен, и ни одна не пожелала остаться с этим занудой профессором! Противный очкарик, конечно, проиграл дело, хотя и нанял самых лучших адвокатов… а потом он хотел даже украсть Чалу и еще одну ее подружку, но тут уж вмешался Игорь Иванович, и остальные астрофизики из их лаборатории тоже вмешались, и те гады еле ноги унесли!
А день окончания процесса у нас в салоне всегда отмечали как семейный праздник, и приходили все кто мог из подружек Чалы, конечно, вместе с мужьями такими бравыми, красивыми, молодыми еще; я даже удивлялась, отчего это такие здоровенные мужики, а почти все уже на пенсии?..
Как здорово было! Я даже решила выйти за астрофизика и вышла бы, наверное, потому что сын пана Ярузека (это приятель Игоря Ивановича из Единого Союза, очень интересный мальчик, между прочим) за мной вполне серьезно ухаживал и у нас уже начало намечаться кое-что…
Но тут я встретила Аллана. Аля. И Чала через пару месяцев вдруг подошла ко мне и намекнула, что возраст — не помеха, и что Аллан, кажется, любит меня, и что она уже поговорила с моей мамой и все ей объяснила… а я тогда только и могла радоваться, что кто-то за меня думает, потому что сама думать не могла. Мне хватало и того, что есть Аль, что он рядом и что он — со мной. И когда он вдруг исчез, оставив непонятную, глупую записку (ну хорошо, я сама знаю, что была виновата, но я бы попросила прощения!), я поклялась, что никогда больше не приеду в город, где мы познакомились…
И все же вот она, Одесса, — за окном земной резиденции шефа. Как и тогда, четыре года назад, шумная, солнечная, веселая. Хороший город. Он дважды подарил мне Аллана Холмса — тогда и сейчас; я люблю Одессу и больше совсем не сержусь на нее!
Шефа пока что нет, и Эвелины тоже — она, как всегда, при шефе, и Аль вернется только завтра. Ой, как много времени у тебя, Катька! На все хватит… а все-таки представляю, как удивится шеф, когда узнает, что любимая сотрудница убежала под венец, даже не предупредив заранее начальство. И пусть себе удивляется, сердиться-то не станет, я знаю; Аль ему понравится, они ж даже знакомы немного, шеф сам вручал ему орден за какую-то там работу, не знаю какую, Аль мне не рассказывал подробно… а вот чего я боюсь, так это не взревновала бы Эвелина. Ведь на нее иногда находит: прижимается ко мне, рычит на всех, никого не подпускает. Глупая! Она, конечно, тоже полюбит Аля! Я специально купила мягкого розового слоника; Аль подарит его Эвелине, и они подружатся, девочка обожает новые игрушки и тех, кто их дарит…
Вообще Эвелина моя — существо капризное, хотя и очень доброе. Я потому и приехала сюда на целую неделю раньше нее и шефа, чтобы подготовить комнатку и резиденцию по ее вкусу; кроме меня, это никому не удается, разве что шефу, но у него не всегда хватает времени на Эвелину. Конечно, на все церемонии они ходят вместе, как полагается. Шеф ведет ее за руку, и она висит на нем, словно ребенок. Даже смешно бывает, когда приезжает какая-нибудь шишка из Единого Союза и приволакивает с собой полдюжины хорошеньких девчат — ведь вся Галактика прекрасно знает, что это за мымры, и что все эти референточки умеют стрелять не только глазками, тоже всем известно. А вот шеф не признает никаких охранников, потому что раз избран народом, так и защищаться не от кого. Так он говорит, и очень правильно, по-моему, потому что охранники — это просто дураки какие-то, все время цепляются, проходу не дают, и ну их вообще! А вот Эвелина, так это ведь просто маленькая слабость сильного человека. Она, между прочим, очень забавная в своей матроске и шортах: все время ухмыляется, почесывается, клянчит конфеты. И очень сильно любит меня. Кажется, даже больше, чем шефа…
Ой, совсем заболталась! Дел ведь полно! Прическу нужно сделать? Нужно! Платье подобрать нужно? А как же! Ресторан заказать к приезду Аля, чтоб все как у людей, тоже надо. И с пастором насчет венчания кто договорится, если не я? Не Аллан же! Ему это как раз безразлично, он, по-моему, и в Бога не очень-то верит, а вот меня папа научил относиться к этому серьезно. Папочка сейчас, конечно, в раю, и он будет недоволен, если родная дочь пойдет замуж без венчания, просто придет и распишется…
Я вышла из ванной, скинула халатик, оделась.
Села на краешек кровати, взглянула в лицо Алю. Он замечательно получился на этой фотографии, спокойный такой, мужественный и очень красивый. Три года я прятала этот снимок в комоде, не решаясь выкинуть…
Посмотрела. Показала язык. Дурак ты, Алька! Ну виновата была, сама знаю, так ведь я же совсем дурочка была, а ты большой, сильный, мог бы понять. Эти мальчики ничего же не значили, ни Алексис, ни Жэка, так просто, на пляж сбегать, пока ты по командировкам своим… ну, поругал бы, даже побить мог, если захотел… было за что… А ты взял и сбежал. Кого испугался тогда? Катьки своей, что ли?.. Глупо. Катька, между прочим, наглоталась тогда снотворного, сунула твое фото под подушку, написала записку маме и Чале и легла спать. Сама не догадываюсь, как Чала сообразила тогда, что к чему; может, почувствовала что-то или еще как, а только влетела ко мне, выбив двери, вместе с Игорем Ивановичем и с Ози, ну да, той самой, знаменитой.
Ози, по-честному, лучшая Чалина подруга, она очень добрая и несчастная; наверное, они поэтому с Чалой и подружились. Чала ведь сильная баба, любит всех опекать, а Ози — она слабая, хотя на вид и большая, и пьет она здорово. Но зато она хорошая! Бывало, приедет к нам в салон, поставит на стол бутылку, и пьет, и плачет: вот, мол, девчонки, опять с мужем надо расходиться, а я его люблю, и он меня тоже любит, и третьего своего я тоже ведь сильно жалела, он у меня нервный был, а вот приходится разводиться, чтобы волну поднять по новой, а мне плевать на тот рейтинг клятый, я счастья хочу-у-у!.. Плачет в три ручья и жизнь свою проклинает…
И никогда в компании, когда даже в духе была, ни песенки не спела, как ни просили.
А вот в тот раз я Чалу даже и не заметила сразу; Ози Игоря Ивановича тут же вытолкала, а ее послала за врачом, даже накричала, кажется… подумайте только: на Чалу кричать!.. а сама села рядышком со мной, ну точно как мама, взяла за руку и говорит: ты, девонька, меня слушай, Чалку не слушай, она у нас королева, а мы-то с тобой дуры бабы, вот я тебе, как дура дуре, и скажу: мужичишка твой к тебе еще приползет, козел старый, не может того быть, чтобы к такой, как ты, да не приполз, а вот сама ты, Катюнечка, слушай-слушай, так вот, ты сама уматывай-ка из моделей, потому как сейчас, не приведи Господь, выскочишь со зла да сдуру за какого-нибудь лоха, вроде моего первого… я ведь, говорит, такая же дурочка была, в первую машину прыгнуть норовила, жизни не знала, Аркашку не слушалась… так что ты, девонька моя, меня не повторяй, мне-то, идиотке старой, уже некуда отступать…
Сидели!мы, значит, и выли вдвоем; а тут и Чала входит с доктором, и Ози ей с ходу: слышь, Чалка, Катюха у тебя больше не работает, к маме ее отправляем, ясно?! А Чала, умница, поглядела на нас, глаза пришурила и головой кивнула: ладно, мол. И вдруг подсела к нам, обняла, да как завоет — куда там нам с Ози!..
Так и ревели мы, три бабы-дуры, пока доктор, спасибо ему, каплями не отпоил…
А полгода спустя я познакомилась с Эвелиной. Сестра милосердия в зооклинике — это, конечно, не ведущая модель салона мадам Ранкочалария-Нечитайло, но на жизнь нам с мамой хватало вполне, и бабулю похоронили честь по чести, а на мужиков я, честно скажу, глядеть не могла, хотя и подкатывались. Вот и привезли к нам Эвку — на длиннющей черной машине с затемненными стеклами; я в такой каталась только однажды, когда меня вовсю кадрил сынок кого-то из кобальтовых воротил. Привезли, тут же на носилки и сразу в операционную. Ранения были не то чтобы так уж опасны, но очень странные для зверюшки; она вела себя молодцом, только тихонько скулила и смотрела на нас большими печальными глазами. Я взяла ее за руку, как Ози меня, и погладила по голове, а она посмотрела на меня, словно ребенок и вдруг начала тереться щекой…
Это потом уже зоопсихологи объяснили мне, что Эвелина — не совсем обезьяна. То есть обезьяна, конечно, но не совсем. Не знаю, как лучше сказать. Но у нее не только глаза человеческие, а и разум тоже почти как у нас. И умеет она очень многое…
За восемь ночей, что я просидела над ее постелью, бедняга отвыкла быть без меня; когда ее приехали забирать, сперва хныкала, упиралась, кричала, потом начала отмахиваться от санитаров, а потом вдруг взвилась с места — и я увидела в первый и, надеюсь, в последний раз, что на самом деле умеет ласковая и послушная Эвочка… Я тогда перепугалась ужасно, думала: кого-нибудь она обязательно убьет, но все обошлось; теперь-то я знаю, что Эвелина убивает только тогда, когда без этого никак не обойтись…
Крутили ее ввосьмером и не сразу справились, но все же связали и увезли. А напослезавтра меня пригласили в Звездный Дом, угостили кофе с молоком, как я люблю, и разложили все по полочкам. Я думала отказаться, но тут в комнату вбежала Эвка и принялась визжать и подпрыгивать, а потом притащила откуда-то и засунула мне в руки своего любимого плюшевого львенка. Вот так я и стала личным секретарем Президента ДКГ, а главное — нянькой, воспитательницей, подругой и старшей сестрой сверхтелохранителя Большого Босса.
… Ну что, Катька, пора?
«Да!» — ответила я сама себе, поглядела напоследок на фотографии, улыбнулась маме и Чале, послала воздушный поцелуй Ози, щелкнула по носу Эвелину. А господину Холмсу опять показала язык. Причем весьма торжественно. Никуда ты не денешься от меня, глупый-глупый Алька! Утречком прилетишь, а я тебя — цап! — и в церковь, и выйдем мы с тобою оттуда, как положено: мистер и миссис Аллан Холмс. И не позволю я тебе трястись из-за того, что я, видите ли, тебя моложе. Ученая уже. И вообще, пойду-ка я прямо сейчас к тебе в номер, займу его нагло и приготовлю все к твоему приезду; и попробуй хоть слово сказать, нос откушу!
И я успела сделать все, и пастор оказался седенький и очень милый, и прическа — просто прелесть, и белое платье с коротенькой фатой — как раз такое, как когда-то у мамы; даже не помню, как бежала я по улице, возвращаясь в «Ореанду» с горой покупок. Мужики оглядывались мне вслед, бабье шипело. Ну и что? Когда женщина счастлива, все вокруг прекрасно, даже подруги!
Дверь Алькиного номера была приоткрыта, и я вошла без стука, соображая на ходу, что сказать горничной. Но никакой горничной там не было, и вещей Алека почему-то тоже не было, хотя он, точно помню, оставил чемоданчик, когда уезжал позавчера, зато на полу лежали какие-то ужасные грубые циновки, а перед стенным зеркалом разминался незнакомый смуглый паренек в ярких шароварах.
Проскочила, что ли?
Пожав плечами, я вышла в коридор, посмотрела на табличку с номером — и зашла снова.
В комнате, оказывается, были двое. Парнишка по-прежнему плавно изгибался перед зеркалом, а в единственном кресле, задвинутом в угол, плотненько сидел лысоватый, довольно полный старичок в халате с бордовыми драконами. Он внимательно изучал свежий выпуск «Ночей Копенгагена» (какая гадость!) и тоненько хихикал. Увидев меня, лысенький засуетился, уронил куда-то журнальчик, вскочил и неожиданно изящно шаркнул ножкой:
— Какая приятная неожиданность!
Тут я его узнала. Днем, когда я шла в город, он истошно вопил в нижнем холле, что, как ветеран земной сцены, возмущен, что номер для его артиста снят с брони. Я спросила: как они тут оказались? Они ничего не знали. Администрация сообщила им только то, что другой, ничем не худший номер, вот этот вот самый, неожиданно освободился, и предложила вселяться…
Извинившись, я вышла. И у меня хватило еще сил, удерживая слезы, спуститься в подвальный бар.
В баре было прохладно, сумрачно и пусто.
Несколько ранних посетителей за столиками у дальней стенки и я. Одна. Совсем одна. Как три года назад, только еще хуже. Много хуже. Ой, Боженька, да как же мне плохо!..
Официант! Телефон, пожалуйста! Скорее, прошу вас!..
Кнопка за кнопкой: восемь-один-ноль-один-девять-четыре-семь-ноль-пять-пять-ноль.
Гудок. Щелчок.
Чала! Чалочка!
И гулкий, не ждущий ответа голос Игоря Ивановича: «Говорит автоответчик семьи Нечитайло. Мы уехали в отпуск. Вернемся после двадцать шестого или немного позже. Сообщение можете оставить…»
Но я не хочу оставлять сообщений, мне плохо, неужели вы не понимаете, мне очень плохо…
Официант, водки, пожалуйста! Да-да, двойную!
Огонь обжигает глотку, но легче не становится.
Снова — кнопки: восем-один-ноль-два-четыре-семь-восемь-пять-два-один-три.
Короткие гудки. Сброс. Набор. Щелчок.
Ози!!!
Сброс. Короткие гудки.
Официант! Еще водки! Только не надо разбавлять!.. Ладно, друг, не обижайся, это я шучу так…
Ну-ка: восемь-один-нолъ-четыре-четыре-семъ-ноль-два-восемь-один-один.
Гудок. Щелчок.
Мама! Мамулечка! А кто? Что с ней?! Обследование? Какое обследование? Ой, Господи!.. Но ничего опасного, тетя Клара? Да, конечно, прилечу… У меня? Скажите маме, что со мной все в порядке…
Официант! Теперь джин! Без всяких тоников!
Тепло разливается по телу, в голове приятно гудит. Думается легче. Аль… Ну и как тебя назвать? Трусом? Ничтожеством? Или просто — подлецом?! Не знаю. Надо подумать. Надо понять. Я же не просила тебя ни о чем в тот вечер: мы могли поздороваться и разойтись, Аль… а теперь — зачем эта дурацкая фата? Зачем прическа? Что я скажу старому ласковому пастору?..
Дрянь! Трепло и трусло!
Я смотрю в полумрак. Зал незаметно заполнился, и в синевато-розовом тумане движутся, прижимаясь друг к дружке, расплывчатые фигуры. Карлики! Злые, злые карлики! Разве вы, вы все, знаете что-то о любви? Разве умеете любить?
Трусы… пигмеи…
А ты, стан Аллан Холмс, хуже всех… мразь и предатель.
Офиц-и-и-ант! Еще водочки!
В зале темнеет. Перед моим столиком возникают две… нет, одна… фигура… гадкий гном, мерзкий носатый ли-ли-пут. Огромный ли-ли-пут, ростом почти с Их!.. с Игторя Ив-вановича…
О чем это он? Пытаюсь сосредоточиться. Трудно.
— Вставай, красотка! Йошко Бабуа хочет с тобой танцевать сегодня!
Уйди, карлик… не хочу… никого не хочу…
— Я — Бабуа!
Зачем он так кричит? Ведь у меня же болит голова! В зале становится совсем тихо. Все умолкли. Все чего-то ждут. Отпусти руку, нахал, мне больно!..
— Дэвочка, — спокойно говорят мне, — музыка ждет!
— Не хочу-у-у! — ору я. Или шепчу?
— Ты нэ понымаешь, дэвочка! Я — Бабуа, и ты пойдешь со мной. Сначала мы будэм танцевать. А потом пить шампанское навэрху. Я так хочу. Ты понымаешь тэпэр?
Меня больно хватают за руку и тащат из-за столика; завтра наверняка появятся синяки, думаю я и тут же забываю о таких пустяках, потому что противные губы, пахнущие табаком и спиртом, впиваются мне в рот и мерзкий язык злобно, гнусно втискивается меж сжатых зубов.
Я кричу. А вокруг — никого. Люди жмутся к стенкам, их нет, только белые маски где-то далеко, и носатые чернявые рожи скалятся вокруг…
Аль! Алька! Трус, ничтожество, помоги!.. Эвелина, где ты?!
Никого. Нет людей. Только кривые ухмылки и шепоток:
— Бабуа, Бабуа! Глядите: Бабуа гуляет!
Божечка, неужели же им интересно?
Туман вдруг рассеивается. И меня становится как будто бы две: одна плачет, вырывается, а ее тащат в круг злобных гоблинов, и некому ей помочь, а другая Я смотрит на все точно со стороны; эта вторая Я бесплотна, ей не страшно, она просто стоит и видит все, что происходит.
Она видит: давешний смуглый парень удивительно легко прорывает кольцо, толпящееся вокруг меня первой. Он останавливается напротив того, кто рвет с меня жакет, и улыбается спокойной, дружелюбной улыбкой.
— Отпусти сестру, друг-землянин, ибо сказал Вождь: поднявший руку на сестру — плохой брат и не благо творит!
Ослепительно белым оскалом щерится носатая рожа.
— Пшел вон, бичо!
И шуршащий шепот от стенок, из дальних углов:
— Парень, отойди, не нарывайся, это же Бабуа!
И поверх шепотка — мелодичный, чуть гортанный голос:
— Позволь напомнить, друг-землянин, что и так заповедал Вождь: не внимающий слову блага — не брат!
Короткий смешок.
— Э! Понюхай, бичико, и подумай: пора ли тебе умирать?
Перед самым лицом паренька покачивается узкое лезвие, выпрыгнувшее из наборной рукоятки.
Хватка разжимается, и Я первая падаю на стул, судорожно стягивая края порванного жакета. Прямо передо мной две тени: большая и маленькая. О чем это они? Та Я, что, никому не видимая, стоит в стороне, слышит:
— Жаль, землянин, но велено Вождем: не слышащий — пусть умолкнет…
Мгновение тишины. И вновь голос, уже не мелодичный, напротив, отливающий сталью:
— Нгенг!
Только одно слово, похожее на плевок.
Знакомое слово… Я слышала его раньше, но где? Ах да, это же дархи; именно так говорила Чала всякий раз, когда при ней вспоминали ее первого мужа.
Почему так тихо? Совсем-совсем тихо…
Только медленно звучит в густых от дыма сумерках ресторана:
— Дай. Дан. Дао. Ду…
И тотчас взрывается тишина. Большая тень взлетает в воздух, на кратчайший миг словно бы зависает, перекувыркивается и с визгом летит к стене, переворачивая столы. Звон стекла, крики, ругательства. Круг гоблинов, только что мешавший дышать, распадается…
Какой грохот… и как чудовищно болит голова!..
Кто-то маленький, чернявый, с измятым лицом, похожим на комок взбитого фарша, прикрывается табуреткой и вопит, булькая кровавыми пузырями:
— Братва! Бабуа бьют!
Крик угасает в табачном чаду, в душном запахе пота, вместе с плавно опадающими на пол пиджаками. Груда тел в центре зала то рассыпается, то слипается вновь, и мальчишка прыгает вокруг нее, время от времени ныряя в месиво и нанося короткие удары, после каждого из которых что-то внутри горы людей болезненно вскрикивает.
Первая Я визжит, закрыв лицо руками; вторая Я наблюдает. Паренек дерется умело и красиво; не так, как Аль: Аллан почти не движется, он просто стоит, а те, кто напал, отлетают от него, словно наткнувшись на стенку; и дружок его, психованный журналист, я видела однажды, тоже дерется не так: Яник просто бьет бутылкой о бутылку и кидается вперед, полосуя все, что стоит на пути. Нет, парнишка напоминает скорее всего Эвелину: такие же прыжки, такие же движения, но все, пожалуй, отточеннее и четче, чем у Эвки…
На полу хрипят и ползают те, кто уже не может встать, к запаху дыма и пота добавляется нечто удушливо-кислое, выворачивающее; вновь возникает тот, большой и носатый — в одной руке нож, другая висит плетью, он криво улыбается и идет прямиком на меня, мне страшно… но мальчик уже рядом, а на скользкой стойке, притопывая пухлыми ножками, надрывается ветеран земной сцены:
— Бабуа, стой! Бабуа, не будь идиотом, ты его не знаешь — это артист!
Совсем рядом — противное хлюпанье.
Носатый ломается пополам, воет, рухнув на колени, и упирается лбом в линолеум, а вопль старичка переходит в пронзительный визг:
— Лончик, деточка, я тебя умоляю, береги пальцы!
Снова рев и копошение на танцплощадке в центре зала. Сирена. Топот сапог. Ничего не вижу. Только обрывок властного крика:
— Стояааа…
Чмокающий всхлип. На мой столик тяжело шлепается кобура с обрывком портупеи.
— Лончик, перестань! — Визг, похожий на иглу бормашины, режет барабанные перепонки. — Эти при исполнении!
Та Я, которая видит и слышит, начинает исчезать.
Дымка. Пробки в ушах. Сквозь плотно сжатые пальцы не видно совсем ничего, только гадостный запах становится гораздо гуще.
Нечеловеческий вой:
— Отвэтите, суки, гадом буду! Я — Бабуа-а-а… Ааааа…
Глухие удары, словно кого-то бьют сапогами.
И совсем уже издалека, едва различимо:
— Лоничка, хватит уже! Это профессионалы, они справятся. Ой, ребятки, а можно я тоже чуточку вдарю, а?..
Тьма.
… Не помню, как я оказалась в номере. Толстячок, потирая оцарапанную лысину, доказывал что-то в передней хмурому, тяжело дышащему сержанту. Грубая циновка, хоть и покрытая пледом, казалась пыточной решеткой.
Боже, как стыдно!..
Паренек принес воды.
— Выпей, сестра, тебе будет легче.
— Почему ты называешь меня сестрой?
— Ты красивая. Ты похожа на птицу токон.
Господи всемилостивый, какие у него глаза! Он смотрит на меня, как я в детстве глядела на отцовскую Библию. И пальцы его, массирующие мою ушибленную ногу, медлят уходить, задерживаются, но осторожно, робко… Он отводит взгляд. Боже мой, это же еще ребенок… Но не карлик. Он — мужчина. С таким спокойно, такой не обманет, не предаст, не бросит. Все, Катька, все, принцев нет, они остались в сказках, ты одна… Но я же не хочу быть одна, я не могу, не справлюсь, я же не Чала…
Сухие твердые пальцы смелеют; как они ласковы, эти руки, только что месившие стадо пьяных мужиков! Нежно-нежно, почти трепетно касаются они меня, и я изгибаюсь, я расслабляюсь, чтобы ему было удобнее.
Скрипит дверь.
— Ой! — говорит кто-то, кажется, толстячок, и дверь скрипит снова.
Прикрываю глаза. Юбка сползает с бедер, я привстаю, помогая ей поскорее перестать мешать; внутри меня поднимается теплая волна, словно разогревая туго сжатую пружину… сейчас она разожмется… Господи, ну как же давит лифчик!.. О!.. Нет, уже не давит… мне легко и сладко…
Меня крепко обнимают, властно и бережно одновременно; он трется лбом о мои губы, словно не замечая, что они раскрыты, что они ждут его, и шепчет, шепчет…
— Кесао-Лату, — бормотание его еле слышно, невнятно, — Кесао-Лату… Ты не такая, как все. Наставница Тиньтинь Те ложилась на спину и отдавала приказы. Она учила, а ты даришь, о Кесао-Лату…
Шепот захлебывается, гаснет в сбивчивом дыхании.
Прижимаюсь теснее. Еще теснее…
О-оооо!.. Как же он хочет меня!..
Ну иди же, глупый, иди скорее!.. ну же, ну… какая у тебя гладкая кожа, какие мягкие волосы… как ты напряжен… весь… целуй же меня… я с силой толкаю его голову вниз, туда, где разгибается жаркая пружина… целуй меня! целуй!.. всюду целуй, милый!.. о-о-о!.. да, да, так!.. так хорошо… можно, уже все можно… я хочу тебя, любимый мой, я стосковалась по тебе… бери, бери меня… иди в меня, Аллан… Аааааааааааль!..
— Мое имя Лон! — Он отшатнулся, и дыхание его стало ровным. — Тебе уже лучше, сестра?
Я рухнула в пустоту, и на дне пропасти копошились страшные сны…
Когда солнце укололо глаза, в висках ломило, горло пересохло; мохнатая накидка укрывала меня по шею, аккуратно расправленная юбка лежала рядом вместе с лифчиком, разорванными трусиками и блузкой, а на голом полу под зеркалом, скрестив руки на груди, спал мальчик…
Как же его зовут? Не помню.
Будить его я не стала. Зачем? Стыдно.
Когда я открывала дверь, он, кажется, проснулся и чуть приоткрыл глаза, но, наверное, я ошиблась — ведь шла я очень тихо, как мышка, на цыпочках.
Коридорная у стойки, поджав тонкие губы, проводила меня понимающе неодобрительным взглядом, и, сама не знаю отчего, вместо своего сто одиннадцатого я ткнула пальцем в кнопку «1».
В этот ранний час постояльцы еще отсыпались, и холл был пустее пустого. Только пять или шесть крепеньких мальчиков тусовались, покуривая в кулак, около высокой стеклянной двери, да еще на улице, у самого подъезда, красовался серебристо-жемчужный, почти такой же длинный, как у шефа, автомобиль…
Заметив меня, растрепанную и жуткую, парни притихли; четверо, которые в кожанках, вышли к машине, а двое, похожие, как братья, оба в отличных темных костюмах, направились мне навстречу.
Приблизившись, они одновременно, словно по сигналу, чуть приподняли широкополые мягкие шляпы, а затем тот, который казался на вид немного старше, негромко и учтиво сказал:
— Синьорина Мак-Келли? Просим проследовать с нами. Дон Аттилио эль-Шарафи хочет лично выразить вам свои глубокие соболезнования…
ГЛАВА 6
… Но и тех, кто в великой, суетной, жалкой гордыне своей отверг, не размыслив, милость и благость Твою, лишь внешне признавая заповеди Твои, и, подменив подвиг мишурою, нарушает их ежечасно, — и их не накажи свыше меры, Человеколюбец, ибо есть они таковы, каковы есть, не без воли Твоей на то, и, возомнив многое, лишь испустошили сердца свои в погоне за тем, что воистину невесомо станет в чаше на Страшном Суде Твоем, Господи. Просвети же таких, дабы укрепилась рука гордых в служении наконец добру и любви, яко же все в руце Твоей, Господи…
Рассказывает дон Аттилио эль-ШАРАФИ. Администратор Хозяйства. 68 лет. Гражданство неизвестно
20 — 23 июля 2215 года по Галактическому времени
Не стану отрицать: я не выстоял до конца церемонии. Просто не смог. Заболело сердце…
Бибигуль, как обычно, почувствовала что-то и вопросительно, с обычным своим беспокойством посмотрела на меня, отвлекшись от происходящего.
— Тссс… — прошептал я одними губами. — Все хорошо, дорогая, ничего страшного…
И она поверила, потому что мы никогда не лжем друг другу. Но на сей раз я, впервые за долгие годы брака, обманул жену. В тот миг мне было страшно. Очень страшно…
Потому что прихватило не так, как раньше. Не слегка, едва обжигая грудь изнутри. Впервые боль была не болью, а чем-то гораздо большим, чего не пересказать словами; и еще страшнее боли было странное, невесть откуда идущее понимание: нет, это пока еще не конец, это — звоночек. Предупреждение. Или что-то иное?.. Не умею объяснить. Думаю, мало кто сумеет… Не ощутив, такого не понять, ведь каждому из нас свойственно до времени полагать себя бессмертным.
— Оставайся здесь, — шепнул я.
И вышел через низенькую дверку, а парни, пропустив меня, снова сомкнулись, скрывая место, где только что я стоял. Те, кто остался там, внутри, в пропахшем ладаном и потом чаду, которым невозможно дышать, вряд ли обратили внимание на мой уход. Впрочем, стоит ли обманываться? Из коллег, конечно же, обратили, и очень многие. Теперь они будут долго анализировать, взвешивать, прикидывать, как это понимать и не игра ли все это…
А вот обсуждений не будет. Поостерегутся. Разве что наедине с законными супругами. И то не уверен, поскольку кандидатура каждой из законных предложена лично мною. Я знаю, такое нововведение не всем пришлось по нраву, иные и в глаза мне это высказывали. Но я не настаивал. Кто, кроме Создателя, смеет советовать в таких вещах, как таинство бракосочетания? Я спокойно, без обиды выслушивал несогласных, и возражавший, не пожелавший понять своей же пользы, продолжал трудиться на прежнем месте, под руководством более удачливого шефа, счастливого обладателя порекомендованной мною спутницы жизни.
Убежден, что я был прав. Ни за одну из моих протеже мне не пришлось краснеть. Девицы из старых, почтенных семей, умницы и красавицы, прекрасные хозяйки, заботливые матери и страстные любовницы. Преданные настолько, насколько могут лишь мусульманские женщины, и богобоязненные, как подобает истинным католичкам. И ни одна из них, совсем девочек, не позволила себе посетовать на сватовство человека, годящегося ей почти в отцы. А то, что девушки эти искренне, по-дочернему преданны мне, так стоит ли удивляться? Ведь и я относился и отношусь к каждой воспитаннице моей Бибигуль, как к дочери…
Пряный, слегка горчащий дивным запахом влажной листвы воздух влился в легкие, почти пригасив за несколько секунд разгоравшийся под сердцем уголек. Здесь, в тихом кладбищенском парке, было хорошо и несуетно. И гулкий, сочный бас протоиерея отца Гервасия, что из Новоюнницкого прихода, долетал ко мне сквозь тихо дребезжащие витражи очень мягко, хотя там, под сводами, сейчас трясутся иконы и гаснет пламя беловосковых свечей…
Церемония подходит к концу. Что ж, обойдутся и без меня. На Бибигуль можно положиться во всем, а уж в таких вещах она знает толк, как никто. Всего лишь за сутки ею сделано все, что только можно сделать за деньги. За большие, серьезные деньги, столь существенные для тех, кто не знает пока, что такое искорка под самым сердцем.
Радужных бумажек я приказал не жалеть.
Медленно спустившись с паперти, я побрел по аллее, вдоль длинного ряда надгробий, изредка останавливаясь около знакомых, мраморных, а все-таки почти живых лиц. Впрочем, знал я здесь почти всех. И нам было бы о чем поболтать, если бы искусство ваятелей могло наделить истукана даром речи…
Не знаю, тверд ли в вере был мой молодой друг. Скорее всего нет. Он был еще не в том возрасте, когда всерьез задумываешься о душе. При жизни. Но теперь, может статься, для него нет ничего важнее, чем посылочка с пищей духовной с общака. И поэтому пусть будет сделано все, что только в силах Церкви Единой, и да будет покойно его душе в том мире, о коем нам, пока еще живым, известно и много, и мало, а по сути — ничего. Кроме того, что он, мир этот, есть.
Иначе — зачем все?
Я посмотрел Аллану Холмсу в лицо всего один раз, прощаясь. И не стал целовать холодный лоб, хотя хотел бы сделать это. Он был хороший парень, и я не отказался бы от такого сына; к сожалению, мой Джанкарло вырос человеком недостойным, на мои деньги он выучился на искусствоведа, а теперь позволяет себе нарушать мои указания и, более того, заповеди Господни. Даже сегодня, в начале церемонии, он лапал глазами всех дам без разбора, и это было просто омерзительно. Я никогда не был евнухом, я ценю женскую красоту, и дивный лик Мадонны, заказанной некогда папой Сикстом, недаром украшает мой кабинет (разумеется, подлинник!), но с того дня, когда мы с Бибигуль поручились друг за друга перед лицом Господа, я не позволял себе нарушать чистоту веры жалким прелюбодеянием…
Ох, Джанкарло, Джанкарло, боль моя отцовская!..
Да, я не позволил себе попрощаться с Холмсом, как того бы желал. Наверно, потому, что он не понял бы этого и не одобрил. Аллан, полагаю, рассматривал наши контакты сугубо как деловые. А жаль…
Но, кроме того, я знал, что там, под высоко поддернутым саваном, слегка обнажающим смуглый лоб с выбившейся прядью волос, в общем-то нет лица. Ни за какой гонорар ни один из специалистов, приглашенных к телу, не взялся сделать так, чтобы Аллана Холмса можно было показать пришедшим проститься. И я не мог не поверить мастерам такого уровня.
… В сердце снова кольнуло…
Они выкололи ему глаза напоследок, вот в чем вся штука. Когда мы впервые встретились, у парнишки был взгляд злого щенка, и он никак не желал слушать, что говорят старшие. Пришлось надавить через Рамоса, на которого мальчик молился, и лишь тогда, даже позже, когда сам Рамос вышел из игры, мы нашли общий язык. Хотя, надо сказать, в отличие от своего божка-инспектора, Холмс не был психопатом. Фанатиком? Возможно. Но это все-таки не одно и то же…
«Будет трогательно к величественно», — пообещала мне Бибигуль и сдержала слово. На моей памяти так провожали немногих, и каждого из них я знал едва ли не с детства. Лишь самые близкие друзья или по-настоящему достойные враги получали такой прощальный дар, и это справедливо, потому что самый дорогой подарок — тот, который уже нельзя отнять.
И я не думал, что когда-нибудь дам «добро» на церемонию такого разряда, казалось: уже не для кого. Я остался один. Друзей нет. Врагов тоже нет. В смысле, таких врагов, которых я не проводил еще по этой самой аллее…
… У скамейки, просторной и чистой, я остановился и ненадолго присел. Устали ноги. Может быть, стоит рассчитать врачей и набрать новых? Нет, не думаю. Моим можно доверять, мы притерпелись друг к другу за столько лет. А старость не лечат, и дело здесь вовсе не в гонораре…
Да, Бибигуль превзошла самое себя!
Я видел: на самых тупых лицах — а такие есть, к сожалению, среди моих сотрудников — блестели слезинки, когда брат Игнасио, настоятель белых бенедиктинцев, тот самый, чьи шансы когда-нибудь стать папой далеко не потеряны, произносил проповедь. Неподдельная боль была в его медовом голосе и искренняя печаль, и даже мне показалось на миг, что почтенный аббат взошел на кафедру, повинуясь только лишь и исключительно велению собственной, не ведающей корысти души.
И я оценил его красноречие.
Я видел: сплел пальцы на груди и стиснул их так, что побелели костяшки, сам Слоник, хладнокровный исполнитель моих наиболее жестких указаний, когда простер руки к слушателям слепой ишан Хаджикасим, по специальному вызову прилетевший из жаркой Мекки, которую поклялся не покидать еще десять лет назад; не слабеющий с годами голос его вознесся к небесам, и отзвуки его были слаще сицилийского вечернего вина.
И я оценил его старание.
Чек каждому из них я вручу вечером, лично, чтобы не обижать невниманием достойных иерархов; в конце концов, когда-нибудь, возможно, уже скоро, их профессиональные услуги понадобятся и мне самому. Но вовсе не потому покинул я церемонию, что проникновенное слово, заказанное мною накануне, смутило сердце и заставило затлеть проклятый уголек… нет, совсем не в том дело; меня сложно смутить словесами.
Но как же кричала и билась, вырываясь из пытавшихся удержать ее объятий, эта девчушка! Невозможно было слышать это, и видеть тоже было сверх сил. Она выла без слез, и в вое ее не было ничего человеческого. И она вырвалась! И кинулась к гробу, упала, утонув в цветах, и забилась там, в море, в океане черно-красного, пурпурного, и желто-золотого, и белоснежного; попыталась подняться, не смогла, упала снова и поползла к гробу на четвереньках высокому, украшенному строгой резьбой гробу из палисандра с ручками работы самого Кучильерри… а ее оттаскивали и наконец оттащили прочь, оттащили втроем — худенькая стройная женщина с лицом, укрытым густой вуалью, и вторая женщина, ярко, не к случаю, раскрашенная толстуха, ревущая едва ли не громче, чем несчастное дитя… и вокруг них мыкался, пытаясь помочь, верзила с густой бородой…
Я не знал никого из них — список приглашенных составляла Бибигуль, и они наверняка приехали по желанию синьорины… Но крик этот, никак не утихавший, подломил мне ноги, и я понял вдруг, на кого же похожа девочка!.. И еще я понял, что нынче же вечером прикажу вынести из кабинета портрет Мадонны кисти маэстро дель Санти…
Вот тогда-то я и шепнул Бибигуль: «Оставайся здесь…», а сам вышел на воздух.
Тем временем из церкви повалила толпа; пропустив гроб, люди направлялись следом, к месту захоронения. Они не смешивались даже здесь, условности жизни снова побеждали великое откровение смерти, и они проходили мимо меня явно различимыми группами, подчеркнуто сторонясь друг дружки; впереди — Бибигуль, ведущая под руку ту несчастную девочку… она уже не могла кричать, только всхлипывала, а неотступно вслед брели те самые женщины, такие разные, сопровождаемые бородачом; дальше — люди из «Мегапола», то и дело косящиеся в мою сторону и перешептывающиеся; и наконец, мои парни, как велено — при галстуках, с супругами, подтягивающие ряды, проходя мимо моей скамейки.
— Прощай, инспектор! — сказал я вполголоса, когда процессия отдалилась.
Я не пойду с ними. Не хочу смотреть, как станут забивать гвозди, как драгоценный ящик опустят в яму и комья земли полетят вниз, засыпая палисандровые доски.
Я приду позже. Возможно, завтра, если позволит сердце.
Сяду на такую же скамейку, около свежего холмика и черно-гранитной плиты рядом, и стану молчать. Раньше туда, к южной окраине кладбища, я ходил в гости к одному. Теперь их у меня двое…
«РАМОС» — выбито на граните. Ничего больше. Но большего и не надо. Через год, если доживу, на такой же плите, которая ляжет рядом, будет выбито «ХОЛМС».
… Опираясь на трость, я побрел по аллее к северной окраине. Бибигуль не станет беспокоиться, тем паче что позади, деликатно придерживая шаг, движутся Слоник и Кот — этого вполне достаточно на любой случай. Излишняя осторожность жены меня подчас умиляет; с другой стороны, осторожность никогда не бывает лишней. Многие из лежащих тут парней согласились бы с этой простенькой мыслью.
Вот глыба темного малахита и на ней — ангел, распростерший широкие крылья. Османкул… Друг, почти что брат. Он был бы доволен таким памятником. Я потерял его давно, еще во времена Организации, на глупейшем деле, когда он, деловой человек и умница, по приказу престарелого маразматика был вынужден руководить эксом на Госбанк ДКГ и был убит наповал выстрелом сопляка из охраны. А ведь он чувствовал, что не вернется, и долго шептался на кухне с Бибигуль; не знаю, о чем они говорили, но, прощаясь, он впервые поцеловал ее в щеку, а когда нам сообщили о несчастье, моя жена в первый и последний раз на моей памяти рыдала, запершись в спальне…
А вот и щедро вызолоченный бюст размером с корову. Глупый и злой Ханс-Йорген Меченый, преданная душа и полнейшее животное по жизни. Как ни старались адвокаты, а он стал все же последним, кого повесили на Валькирии незадолго до отмены там смертной казни. Что ж, никому не дано права стрелять в детей. Я щедро обеспечил его матушку и поставил именно такой памятник, какой он нарисовал на переданном перед уходом из камеры листке бумаги. Рисовал Меченый, отдам должное, вовсе неплохо…
Джузеппе… Ричард Бык Штайнер… Вонючка Петренко.
Все они здесь, где бы ни были похоронены. Найти, выкупить, если придется взять с боем, привезти сюда и похоронить — я сделал это традицией и убежден, что был прав.
А вот у Наставника нет могилы на нашем кладбище.
Нет и не будет. Наставника Пака пристрелили, как крысу в темном трюме звездолета, и я не стыжусь того, что имею прямое отношение к этому. Ему нечего было уже делать в этом мире. Подозреваю, нечего делать и в том, но Господь милосерден и в благости своей, наверное, подыскал Наставнику местечко по способностям…
Ненавидел ли я его? Когда-то думалось, что да. Теперь не знаю. Скорее просто презирал. Рядовая горилла, устраивавшая всех и потому досидевшая на посту «капо деи тутти капи» почти до девяноста, киллер, сделавший карьеру на ликвидации, — вот кем был Пак Сун Вон; он цеплялся за старые методы и не умел чуять новых веяний. Мишура, обряды, громкие титулы — вместо ясной стратегии. Гоп-стопы вместо серьезного вложения капиталов. Ненависть властей и страх граждан. Вот чем было то, что при нем называлось Организацией; впрочем, и это болото существовало лишь на бумаге; имелись сотни слабо связанных отделов и чисто формальный, редко собиравшийся слет планетарных капо…
Мы стояли на пороге краха. А Пак, докатившийся уже до ликвидации комиссара «Мегапола», ничего не понимал и понимать не хотел. Зато к девяностолетию заказал коллективу авторов книжку воспоминаний. Бедняга всерьез надеялся получить Нобелевскую по литературе.
И тогда я понял, что пора сказать слово.
Среди тогдашнего старичья я считался сявкой, мальчиком на побегушках: «Атти, сбегай! Атти, распорядись!» И так далее. А ведь мне было пятьдесят три года, и я давно подрос. И Бибигуль, урожденная Корлеоне, рода, умевшего делать большие ставки, уже поглядывала на меня с недоумением.
Вот почему — Рамос.
Я ни в чем не сомневался, когда шел к нему. Шел без предупреждения и без охраны. Он, впрочем, тоже умолчал в своем ведомстве о предстоящей встрече. Похоже, тогда он уже никому не верил. И, наверное, был прав.
Я изложил ему свое видение ситуации. И он, поразмыслив, признал мою правоту. Потому что между нами не было крови, а это — великое дело. Лишь тот, чьи благородные предки по отцу рождены в предместьях Палермо, а достойные пращуры по матушке произросли в рощах под Кандагаром, иными словами, только такие, как я, могут до конца понять, что это такое — вендетта. И поэтому я отдал ему Наставника, отдал с потрохами и пообещал еще большее, взамен же попросил одного — не ставить мне палки в колеса. Никогда не забуду его налитых кровью глаз; передо мной стоял псих, это было несомненно, однако, сумасшедший или нет, но он понял мою идею… и мы расстались, вполне поняв один другого.
Я похоронил Организацию и был потрясен, насколько легко оказалось это сделать. Все громкие титулы ушли в прошлое вместе с дурацкими камешками во рту, отсеченными мизинцами, пустой говорильней, пальбой по пустякам и безудержной лестью. Я создал Хозяйство, и спустя два, много — три года моя логика была понята и признана всеми. Новый порядок, если угодно. Но — порядок. Заслуженные мумии поехали разводить цветочки. Те, кто решил пискнуть, отправились на огороды же, но уже в качестве удобрений. Я достаточно много знал о каждом из них, а информация имеет свойство утекать, и никто не посмеет обвинить меня в том, что она утекала именно к Рамосу, а каждый из старых корешей Пака был для него кровником, и он не собирался консультироваться ни с кем, тем более что был к тому времени на пенсии.
Подумать только: крохотная утечка данных время от времени, помноженная на отставного психопата… и все. Мне оставалось только провести зачистку осиротевших кланов, чтобы исключить возможность вендетты. А это было вовсе не сложно…
Да, этой комбинацией я горжусь по сей день.
— Дон? — Я, кажется, задремал; ребята стояли около скамейки, и на лице Владо Кота читалось явное беспокойство. — Вы в порядке?..
— Да, вполне… — откликнулся я, заставляя себя бодриться. В здоровом теле — здоровый дух; это верно и для юридических лиц. И я, душа Хозяйства, должен быть бодр, пока не подрастет Хайдар-Али. Не на Джанкарло же оставлять все…
— Может быть, вам стоит поехать домой? — подключился Слоник и тут же добавил, словно защищаясь: — И хозяйка волноваться станет!..
Ну что ж, пожалуй, в самом деле, не стоит волновать Бибигуль.
Ночью я не смог заснуть. Приснился крематорий и добела раскаленная печь, куда неторопливо заталкивали меня, живого еще, некие тени в красно-белом. И самое страшное, что не кричалось.
Закинув руки за голову, я лежал и глядел в потолок.
Почему-то вспомнился Холмс, хотя я и запретил себе думать о нем хотя бы дня три.
Он ведь ненавидел меня и, может быть, как раз потому, что все мои идеи обросли плотью, встали на ноги, и само существование Хозяйства стало оскорблением для меня, именно потому, что, вопреки всему, во что он верил, Хозяйство подписало мир с Его Величеством Законом, но пакт был заключен на моих условиях.
Лично я верю в закон, как в Бога. Там, где не соблюдается его буква, любая сволочь, возомнившая себя санитаром общества, может открыть пальбу по моим сотрудникам, может ворваться в дом и переворошить вещи, может, наконец, закрыть меня и выбить из пожилого человека все, что заблагорассудится. И сделает это, кстати, под радостный визг быдла, запуганного россказнями о «кознях мафии».
Этого не мог уразуметь Пак, и потому он стал лишним. Я же понял давно, и последние лет десять мои юристы если и имеют дело с Большим Жюри, то разве что по вопросам, связанным с налогами…
И в первую очередь я приказал изменить символику.
Одинокий волк был эмблемой Организации; Наставник гордился им, не соображая по скудоумию, что волков стреляют без предупреждения, тем паче если они одиноки.
На бланках Хозяйства — лошадь. Понурая, усталая коняга, готовая хоть сейчас в хомут.
И это, на мой взгляд, верно.
… Никогда не забуду тот день, когда я изложил свою концепцию дорогим коллегам. Они еще не поняли тогда, что наступили новые времена, и были, по-моему, не слишком довольны… Еще бы! Стол заседаний был столом, а не скопищем пойла с закусоном, а я встретил гостей сидя, без похлопывания по плечу и поцелуев, чем никогда не пренебрег бы Наставник Пак.
— Вопросы? — осведомился я, завершив короткий доклад.
Вопросы, естественно, были.
Как насчет бугровnote 6? — от Рыжего Руффо, несостоявшегося кронпринца, приемного сына Наставника (памятник: вздыбленный лев на нефритовом пьедестале, южный сектор, по аллее налево).
Как насчет бобров? — от Кацуери, лейтенанта «торпед», тоже очень недовольного кадровыми перестановками (памятник: гранитная плита с иероглифами, юго-восточный сектор, сразу около синтоистской часовенки).
Как быть с лохами? — это интересовало всех.
— Отвечаю! — строго сказал я, побренчав колокольчиком. — Все просто…
Действительно, мои идеи были доступны даже для их мозгов; это уже позже я смог позволить себе обзавестись интеллектуалами.
С буграми, сказал я тогда, проще всего. Всенародно избранный пахан не простит покушения на свою власть, но никогда не поскупится оплатить услугу. К примеру: Конфедерация в претензии к Единому Союзу за дикие цены на обогащенный боэций. Это раз. Прямые поставки с Дархая в обход Союза исключены. Это два. Есть, конечно, свободные зоны, где за кума известный вам, господа, генерал Татао, но… вы же понимаете, идти на прямой контакт с ним — это же явный скандал. Ни один «грузовик» конфедератов даже близко не подойдет к орбите Дархая. И это три. Так что разве власти ДКГ не пойдут нам с вами навстречу в какой-либо малости, если транспорты Хозяйства нет-нет да и заглянут на огонек к нашему другу Тану?..
— Вопросы? — терпеливо повторил я.
На сей раз вопросов не последовало. В тишине отчетливо слышен был натужный шорох извилин. Дорогие коллеги мыслили.
— С бобрами будем разбираться индивидуально, в рабочем порядке, — сообщил я. — А вот слово «лох», господа, убедительно прошу забыть. Лохов нет. Есть порядочные, работящие люди. Такие же, между прочим, как мы с вами…
И эта простая посылка была краеугольным камнем моих задумок. Главная задача Хозяйства, указал я, — развлечения. Жизнь человека коротка, и прожить ее он должен весело, чтобы не было мучительно стыдно умирать и было что вспомнить потом. Ограничивать потребителя в удовольствиях — жестоко и недемократично. Если, конечно, у него есть деньги. Да, мы специализируемся на запретных плодах, но мы же никому их не навязываем — к нам идут сами. Да что там идут! Бегут со всех ног! Если мне взбредет в голову завтра закрыть питомники розовых сотюшек на Париэке или, скажем, клубы сийсийного массажа на Фрэзе, — тамошние власти будут мне в ноги кланяться, но миллионы простых граждан восплачут. А это плохо, когда страдают живые люди. В нашей работе главное, чтобы люди были довольны!
Впрочем, об эстетах мы тоже заботимся. Большинство постановок великого, на мой взгляд, Топтунова финансировано мною, и мы с Аркадием Гершевичем любим порой посидеть за ломберным столиком, обмениваясь своими стариковскими новостями…
… Спустя год Хозяйство прочно стояло на ногах. Да что там прочно! В структуру попросились коллеги из Союза, и по сей день моим первым вице является приятнейший господин Копченый Вахтанг Янисович. Пусть формально, но ему принадлежит даже право вето. А в том, что он все больше дремлет, даже на коллегиях, мирно попахивая фирменной наливкой Бибигуль, так в этом нет моей вины; таковы уж они, наши коллеги с той стороны, и с этим приходится мириться…
Сбоев не было. Они появились позже. Совсем недавно.
Лет пять назад пошла полоса случайностей, странных, необъяснимых. Кто-то явно начал ставить нам палки в колеса. Загорались склады, исчезали караваны, ни с того ни с сего умирали опытные сотрудники. Я понял: у нас появился серьезный конкурент. Навел справки. Тщетно. Мои личные друзья из высоких кабинетов недоуменно пожимали плечами, и в искренности их не приходилось сомневаться — от понижения прибылей они теряли не меньше, чем я. Если не больше. Провел ревизию Хозяйства. Зря. Ряды были сплочены, как никогда, оппозиции — ни в намеке.
Зато, как и следовало ожидать, начался отток клиентуры. Впервые за годы существования Хозяйство слегка недовыполнило план. Понизился процент посещаемости, да и прочие показатели оставляли желать лучшего. Это припахивало возможным кризисом, но главное — укусы учащались…
Я не стал созывать коллегию. Дело было слишком важным. Посоветовавшись с Бибигуль, я позволил протечь информации о месте расположения крупной фабрики галлюцина. Как мы с женой и ожидали, на фабрику состоялся налет, но на сей раз налетчики попались. С ними поговорили обстоятельно и без церемоний, но — как ни странно! — сломался только один, остальные подыхали, бормоча что-то невнятное. Да и заговоривший особой связностью речи не отличался. Из груды бессвязицы определенную ценность представляло только упоминание о Клубе Гимнастов-Антикваров.
Эксперты тщательно изучили всю информацию об этих ненормальных, проанализировали их брошюрки. Полистал кое-что и я. Бред этот, говоря откровенно, напоминал мне последние выступления Наставника. Правда, в последние дни жизни у того бывали и здравые мысли. К примеру: «Попытка не пытка, правда, капореджиме эль-Шарафи?»
И я распорядился попытаться.
Мои парни взяли один из мелких клубов, кажется, в Катманду. И не нашли там ничего противозаконного: спортинвентарь, подсвечники, аляповатые портреты и груды совершенно несолидного металлолома. Кроме того, руководитель группы доставил мне увесистый гроссбух со списками. На обложке был вытиснен плод ла, а зашифрованные имена группировались по сферам деятельности — против некоторых стояли птички, черточки, значочки. Когда же отдел дешифровки передал мне результат, я обомлел: почти две страницы занимал список сотрудников катмандинского отделения Хозяйства.
Вот тогда-то я впервые и почувствовал, что у меня действительно есть сердце…
Я кинулся к друзьям. Они по-прежнему ничего не знали, даже те, кому это положено по службе. И сверхтщательная работа над списками тоже окончилась ничем. Никто из зарегистрированных никогда не был ни гимнастом, ни антикваром и даже не слыхивал о таких клубах. Обычные врачи, инженеры, гуманитарии. Много журналистов, космолетчиков и полицейских. Очень много пенсионеров-астрофизиков.
Мы снова оказались в тупике.
Я обратился к Мадонне с убедительной просьбой помочь.
И она не отказала. На связь вышел стин Холмс, прося о встрече, причем по интересующему меня поводу. Я послал ему билет на футбол. Матч был закрытый, звезды играли персонально для меня, и никто не мог помешать беседе.
Он спрашивал. Я отвечал. Это заняло четверть часа, не больше. Скрывать что-либо не было смысла: даже если идет какая-то игра политиков, «Мегаполу» это дело до фени. Тамошние ребята отвечают за покой Галактики. Они не скованы местечковыми интригами, и Хозяйство, умиротворенно подумалось мне, может, пожалуй, уже не беспокоиться о приличном захоронении конкурента.
Холмс слушал внимательно, изредка переспрашивал. И, извинившись, ушел, не досидев до конца первого тайма…
Мог ли я думать, что вижу его — живого — в последний раз?..
… Я так и не сходил на его могилу — запретили врачи.
И посему на третий день после похорон мы с Хайдар-Али и Джульеттой отправились кормить лебедей в Национальный парк. Я стараюсь не позволять им привыкать к отцу: Джанкарло, увы, ничему хорошему детей не научит. Нет уж, мы с Бибигуль сами способны воспитать внучат. Лишь тогда можно быть уверенными, что малыши вырастут достойными, порядочными людьми…
У пруда мы постояли все вместе. Потом детвора с няней отправились к аттракционам, а я присел на свою любимую скамейку, первую у входа. На душе было тревожно. Никак не оставляло ощущение, что я впервые за много лет оказался не больше чем пешкой в чьей-то длинной, хитро задуманной комбинации. Досадное происшествие с Холмсом лишило все происходящее хоть какого-то смысла: поднять руку на стина «Мегапола» — значит перейти все границы не только допустимого, но и мыслимого. Во имя чего?!
Никак не оставляло воспоминание о гроссбухе с плодом ла на обложке. Как там насчет меня? Нет, не зря, вовсе не зря я вчера отправил людей пощупать одесский Клуб Гимнастов-Антикваров. Слоник и Кот справятся, они выполняли и более сложные задания…
У выхода из парка нас ждал сюрприз. Двое совершенно неприметных граждан позволяли себе то, что не принято среди порядочных людей: пасли меня, лишь для приличия прикрыв носы газетами. Ох-ти… Законопослушному налогоплательщику, которого четверть века вели (а не выпасали, как последнюю шестерку!) виртуозы «Мегапола», невыносимо режет глаз топорная работа дилетантов.
Я сделал им ручкой, усадил детей, и мы уехали.
А у ворот резиденции лежал мешок, небольшой и чудовищно грязный, и я сразу, еще не видя, догадался, что там лежит, поскольку хорошо помнил нравы, царившие в эру Наставника.
— Открыть! — приказал я.
И, помнится, удивился, заглянув: оказывается, отделенные от тела, головы вовсе не похожи на себя при жизни. Особенно Слоник…
Очень спокойно я завязал мешок.
Прошел в дом. Подошел к жене. И сказал:
— Бибигуль! Нам необходимо поговорить…
Это было четыре часа назад. Точнее, четыре с половиной. Бибигуль с детьми, наверное, уже на пути к орбите Геи-Элефтеры. Надеюсь, малыши хорошо перенесут полет. И еще надеюсь, что Хайдар-Али не забудет деда. Нет, я верю в это: Бибигуль не позволит забыть…
В здании тихо и спокойно. Сотрудники проинструктированы, жалюзи опущены, арсенал расконсервирован. Каждый знает свое место. Люди работают, как обычно, но — ждут.
Я же сижу в кабинете, спиной к стене, и стираю смазку с позолоченного «кайзера».
Хорошая штука: легкий, удобный, на шестьдесят патронов.
На прикладе — нашлепка: «Дорогому ученику от любящего учителя».
Вот и дар Наставника Пака на что-то сгодился.
Болит сердце. Сильно болит. Все сильнее и сильнее…
И ведь не приляжешь.
Пока Хозяйство не закрыто, Администратор из кабинета не уходит…
ГЛАВА 7
… Если же алчет истины человек, но бредет во тьме, не имея свечи и не ведая пути, пойми и его, Добротворящий, чистого в незнании своем, и суди его не по ошибкам, неволею содеянным, иже избегнуть оных не дано и святейшим угодникам Твоим, но по искренней жажде духовной, боли сердечной и готовности бескорыстной отдать жизнь и благо свои за друга своя, знамые и незнамые. Пойми, а поняв поддержи, ибо Ты веси, что в этих заблудших среди путей неисповедимых, но праведных грядущее торжество Твое, иже замыслено Тобою восторжествовать, Господи!..
Рассказывает Акиба Д. РУБИН, физик боэция. 47 лет. Гражданство двойное
24 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Курьер был юн до неприличия, хмур и до краев переполнен сознанием важности собственной персоны и исполняемой миссии. Он дважды, нет, даже трижды внимательнейшим образом изучил паспорт, проверил удостоверение, затем потребовал диплом, долго читал его, забавно шевеля губами и помогая себе языком, затем осмотрел меня, едва не обнюхав от полноты усердия, и наконец, видимо, убедившись, что я — это я, а не кто-то иной, злонамеренно облачившийся в мою пижаму, вручил мне под расписку в пяти экземплярах довольно-таки толстый пакет, затянутый в футляр из пахнущей вовсю свежевыделанной крокодильей кожи.
После такой процедуры давать на чай рука как-то не поднялась, хотя юноша, кажется, ожидал чего-то в этом роде и, уходя, бурчал под нос нечто мало для меня приятное…
Закрыв за явлением дверь, я вышел на балкон, настроил шезлонг, уселся и принялся за вскрытие. Любопытно было не передать как. Давненько не получал я подобных пакетов, и для полноты сюрприза не хватало разве что группы автоматчиков сопровождения, окружавших посыльного.
Но чего не было, того не было.
Проследив с высоты, как курьер седлает черный, похожий на небольшого лакированного верблюда мотоцикл и убывает, весь в клубах дыма и грохота, я рассупонил медные застежки, лезвием перерезал витые шнурки, расстегнул «молнию», предварительно удалив сургучные печати, распахнул папку — и охренел.
Такого попросту не могло быть.
Но факт есть факт: лист первый (опись вложения) был заполнен лично Теодором…
Тем самым Теодором Иоганновичем Дуббо фон Дубовицки, академиком и ответственным секретарем, который, я абсолютно убежден в этом, согласился бы пойти на контакт со мною лишь в том случае, если бы ему зажали яйца в тиски и долго, убедительно не отпускали.
Уже хорошо. Что бы там ни было дальше, а — приятно.
В папке же покоилась аккуратная кипочка бланков, пронумерованных и по всем правилам заверенных подписями, штампами и печатями.
Вощеный пергамент, золотой обрез по краям; сверху, строго посередине, эмблема Объединенного Института Энергетики: символ разорванной бесконечности незавершенная восьмерка на боку, игриво орнаментированная сугубо паритетным количеством красных и белых многоконечных звездочек.
И, всенепременнейше, готический шрифт девиза: «Urbi et orbi», то бишь нам от мира скрывать нечего.
Первый лист, как уже указывалось, являлся описью вложения, и я немедленно отправил его в корзину. Зато второй от верха до низа занимало перечисление инстанций, ведомств и учреждений, давших «добро» на отправку настоящего письма либо удостоенных чести ознакомиться с копиями оного. В числе прочих такой честью обременили себя Центр Службы Контроля ЕГС и Управление Контрольной Службы ДКГ (ну, этим сам Бог велел!), обе Академии (эти-то тут при чем?!), оба же Ведомства Оригинальных Идей (какой кошмар!), и так вплоть до загадочного ДБЛВК-5, лично мне неизвестного, зато единственного на обе державы и, надо думать, тоже паритетного.
Лист третий содержал собственно послание.
Как положено — в две колонки. Правая половина открывалась обращением «Досточтимый сэр!», а левая, соответственно, «Гражданин Рубин!».
Далее тексты были аутентичны. Меня извещали, что:
а) простили мне необдуманные действия, а равно и высказывания, совершенные, как установлено, из б) политической наивности, а отнюдь не по злому умыслу, как предполагалось ранее, и следовательно в) приглашают (читай: приказывают) и убедительно просят (читай: то же самое, но круче) продолжить работу в клоаке (терминология моя. — А. Р.), именуемой ОИЭ.
Итого: требовали — подчинения, лояльности и стабильных творческих успехов; обещали — звонкие бубны за горами, журавля в небе и телушку за морем.
Подписано: особо ответственные уполномоченные по обеспечению паритета в энергетике Колин Г. Б. Лонгхэнд (как же, знаю этого придурка) и Ю. В. Долгорукий (о, вот это имя мне ничего не говорит, видимо, из новеньких).
Остаток листа занимало пурпурное факсимиле подписи Дуббо фон Дубовицки. Превозмочь себя и подписать собственноручно Теодор, очевидно, все-таки не смог. И черт с ним! В свое время исследование сего графологического шедевра со всеми его росчерками, подчерками, завитками и перезавитушками доставило мне немало удовольствия и едва-едва не подтолкнуло к серьезнейшему изучению психопатологии. На мое счастье, увлечение быстро прошло.
— А теперь, дорогие друзья, — донесся бодрый голос из комнаты, — мы начинаем нашу утреннюю программу «Музыка, которая с тобой», и открывает ее, как всегда, новая песня несравненной мадам Гутелли-Ла Бьянко, которая так и называется…
Как там что называется, я не узнал, поскольку плотно прикрыл балконную дверь. Ла Бъянко, надо же… Это не тот ли Ла Бьянко, который жокей? Или нет, планерист? Да, точно, планерист, жокей был до того. Уже, выходит, не Гутелли-Альперович, ну и на том спасибо. Никогда не слушаю ее новых песен; не то чтобы они мне не нравились, Ози есть Ози, но стоит ли без толку травить душу?
Из холодильника извлек банку холодного чая, крекеры, мармелад, быстренько отсервировался, сел за стол и вновь уставился на папку.
Итак, день начался весело. Можно сказать, с сюрприза.
Эх, ребятки-козлятки, где ж вы раньше-то были, а? Когда я, по вашей, между прочим, милости, мыкался по лицеям, перебиваясь случайными лекциями и уроками для кретинов на дому? Вы сидели и злорадствовали, разве нет? И были уверены, что никто не поможет. А ведь помогли! Совсем чужие люди, которым плевать было на вас и на ваши заморочки с паритетами, допусками и прочей дребеденью, а не было плевать на то, что Рубин умеет работать, может работать и хочет работать…
И вот теперь, когда Рубин, вопреки вашей милости, опять может позволить себе номер в «Ореанде», вы присылаете своего юного кретина на мотоцикле и требуете Рубина обратно, так сказать — взад? А ху-ху, прощения просим, не хо-хо?..
Вот так вот я и думал. И первым зовом души было поднять телефонную трубку, набрать номерок, засекреченный, конечно, но никак не для меня, вежливенько попросить на минуточку Теодора Иоганновича и, услышав родное «Алле-у?», от души, с переподвывертом послать его туда, откуда он, вытрясок, вывалился полвека тому на позор человечеству. А папочку со всем содержимым, соответственно, в мусоропроводик, как того она, папочка, и заслуживает.
Но — первый зов на то и первый, чтобы не торопиться.
Ни звонить Дуббо, ни выбрасывать цидулку я не стал.
Как-никак, а боэций — дело, которому я отдал полжизни…
Похоже, сама природа возмутилась моей беспринципностью: с моря рванул ветер, выхватил письмо из рук и, поиграв пару секунд, перебросил в соседнюю лоджию. Я не стал предъявлять ему претензий: что толку браниться с темной стихией? Я накинул на пижаму халат и, сопровождаемый несущимся вслед последним всхлипом госпожи Гутелли-Ла Бьянко («Но я хочу-у…»), отправился спасать документ.
Успел вовремя. Трясущийся от злобы мальчуган, обитатель номера люкс, уже пристроил роскошное послание к стене и целился в эмблему из не менее роскошного маленького арбалета.
— Простите, — заметил я с порога, — разве принято стрелять в чужую переписку?
Боже правый! Арбалет немедленно развернулся и теперь целился в меня. Правда, недолго — я даже не успел испугаться. Мальчик шумно выдохнул, ослабил тетиву и мотнул головой.
— Забирай!
Не без оглядки я открепил манускрипт и услышал за спиною не слишком даже приглушенное:
— Нгенг!
Прозвучало не очень внятно, однако интригующе.
— Простите, не расслышал?
— Нгенг! — убежденно повторил мальчуган.
О, я не ошибся: сказанное, вне сомнений, относилось ко мне. Ну что ж, жена, в смысле — вторая, в свое время называла меня по-всякому, институтские власти мало в чем уступали ей, да и в транспорте у нас, как известно, не очень-то церемонный народ. От нечего делать я даже составил однажды словарик-определитель. Но «нгенга» там не было наверняка, могу поручиться.
Терпеть не могу лакун в интеллекте.
— Не откажите в любезности, молодой человек, пояснить мне значение термина «нгенг», — почтительно осведомился я у обладателя арбалета.
— Нгенг и слуга нгенгов! — последовало развернутое объяснение. — Холуй нгенгов, обкрадывающих мою планету!
Не скрою: когда меня что-то интересует всерьез, я становлюсь себе самому на удивление настойчивым и терпеливым. В ходе дальнейшего собеседования выяснилось, что мальчик — не просто так, а артист с Дархая, что арбалет атрибут профессии, а словечко «нгенг» имеет, как правило, два основных значения: либо — некий весьма неприятный, злодышащий и мерзотворный глоррт, либо — просто и ясно — гнусное подхвостье оранжевой своры.
Я попытался оправдаться. Мальчик непримиримо настаивал, что не глоргту в клоаке не место. За простое, понятное и такое родное слово «клоака» я и уцепился.
— Право же, душа моя, наши позиции смыкаются. Вы очень точно подметили, что весь этот объединенный гадючник можно, более того, нужно именовать клоакой…
Я не хотел этого, но меня понесло. Возможно, сыграл роль так и не съеденный завтрак. А возможно, и гаденькое, осклизлое какое-то чувствишко, оставшееся после ознакомления с содержимым крокодиловой папки.
И я попытался объяснить мальчику, судя по всему, твердо знающему только, что такое «нгенг», простую истину о наличии в мире вещей куда более скверных. И поток моего красноречия подогревала тупая, въедливая ненависть к самому себе.
Я, к сожалению, не Джордано Бруно, по натуре я скорее Галилей, и фрондер прекрасно уживается во мне с конформистом. Не все решается окладом. Я, хорошо это или худо, не могу жить без своей темы, без своей лаборатории, без моего Института, в конце концов. И я отвечу Дуббо согласием, какие бы условия он ни выставлял. И зря говорил один неглупый, но очень уж древний грек, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Можно, еще как можно…
Но — завтра. А сегодня можно позволить себе толику бунта. Особенно здесь, в гостинице, наедине с заезжим, неимоверно далеким от всех наших проблем гастролером…
… Я человек с двойным гражданством. Белая ворона.
И все, по сути дела, из-за того, что я терпеть не могу скрипку. С самого детства надо мною ножом гильотины висело семейное проклятие, и никто из родни даже не думал усомниться в том, что Ака будет великим скрипачом. Как папа, как дядя Эли, как дедушка по маме и прадедушка по папе. Скрипка была моим проклятием, она преследовала меня во снах, плотоядно причмокивая и плюясь канифолью, и я просыпался в холодном поту, а великие родичи, виртуозы смычка, смотрели на меня со стены сурово, никак не одобряя маленького непослушного Аку…
Я хотел играть в шахматы, но мама поговорила с тренером, и он попросил меня больше не приходить в секцию, потому что не хочет работать с неперспективным; он врал и злился на самого себя и поэтому был груб со мной, маленьким заплаканным мальчиком в бархатных штанишках до колен. Спустя много лет мы встретились на улице, и я кинулся к нему, но старик отвел глаза, не узнавая, и торопливо посеменил прочь…
Я мечтал о математическом классе, но директриса лицея была маминой подружкой еще с консерватории, и на экзаменах мне поставили жирную, отвратительно синюю единицу, а Борька, остолоп и зануда, все до точки списавший у меня, совершенно неожиданно для себя получил «отлично» и был принят, правда, совсем ненадолго…
И девочкам путь в нашу квартиру был заказан, потому что все они вертихвостки, говорила мама, и думают только об одном, а еще из-за них нужно драться, они любят это, и им безразлично, что мои пальцы — чистое золото, почти как у прадедушки по папе, а уличные мальчишки, они как раз и любят ломать такие тонкие, музыкальные пальцы, потому что завидуют тем, кто когда-нибудь, в отличие от них, сорванцов и беспризорников, обязательно станет великим скрипачом…
Пройдет немало времени, пока мама простит мне эту скрипку, и я тоже не скоро прощу себя за то, что продал нежно-розовую сладкоголосую Амати в первом же космопорту. Но я убежал из дому, и это было совсем неплохое время: я дрался в кабачках, где прирабатывал гапером за харч и койку, я подсаживался на пляжах к отставным астрофизикам и предлагал сыграть партийку-другую в шахматишки, а потом прятался в доках от пляжной полиции, поскольку эти горластые деды никак не желали поверить, что пацан мог выиграть их курортную заначку по-честному. А в четырнадцать я поступил в два университета сразу, еще не предполагая, что через год брошу оба.
Мало кто из моих аспирантов, да и коллег знает, что академик Рубин получил университетский диплом уже к тридцатилетию, просто как подарок от доброго приятеля-ректора…
Мне жаль было тратить пять лет на занудную тягомотину, обязательную, как скрипка в детстве. Я хотел изучать математику, играть в шахматы, трахаться и менее всего предполагал, что когда-нибудь буду преподавать сам.
Я искал свою дорогу. На ощупь, не думая ни о престиже, ни о последователях. Придись мне тогда по душе стезя монтажника-высотника, я стал бы им. Но нравилось мне другое. И даже сам Теодор свет Иоганнович, неотразимейший наш Дуббо, как-то признал в узком кругу, что теперь три института заняты исключительно решением «студенческих проблемок» Рубина. Я, помнится, удивился: неужели всего три? Возможно, впрочем, что остальным мои проблемки пришлись просто не по зубам. Наверное я прикусил бы свой длинный язычок, если бы знал, что именно Теодор и возглавлял последовательно все три указанных института, после чего был переведен в администрацию Академии, как неспособный к научной работе…
Я легко загорался и еще легче охладевал. Единственной привязанностью к двадцати годам у меня была только скрипка, и частенько, размышляя под нежное пение струн, я искал и находил решения самых сложных, на первый взгляд попросту нерешаемых задач. И я не мог поверить, что это я — тот самый Ака, который продал свою Амати лохматому бомжу под космоангаром всего лишь за полбанки пива и твердую, как доска, но, правда, целую тараньку.
А потом… потом появился боэций, и это было, как выяснилось, навсегда. Я впервые увлекся по-настоящему, а ОИЭ был накручен на меня, как нитка на катушку, со всеми своими присутствиями, лабораториями и отделами. Разумеется, наматывали нитки строго с двух сторон и безукоризненно равномерно. Еще бы! Проблема боэция — полная паритетность, за исключением права вывоза (смотри пункт 1-й Порт-Робеспьерской декларации). Боэций — это возможность рождения принципиально новых технологий. Это, если угодно, ключ к всемогуществу…
Вот почему для меня были созданы все условия: теннис, рыбалка, спарринг-партнеры по боксу, премилые лаборантки, заранее согласные на все, — и никакой канцелярщины. Для оформления результатов существовала дирекция. И она, не стану отрицать, оправдывала свое наличие: отчеты переплетались в тончайший сафьян, снабжались великолепными заставками, тиснением, виньетками, миниатюрами и орнаментами в мавританском стиле.
Отпахав шестнадцать лет под двойным суверенитетом, как это все мило именовалось (до сих пор не могу понять, как конкретно они меня делили: вдоль или поперек? И кому какая половина доставалась?), я понял, что главная задача не имеет решения.
Мне казалось первые два-три года, что бюрократический кавардак, царивший в Институте, дело рук Дуббо, но позже стало вполне очевидным, что Теодор вовсе ни при чем, что он — всего только исполнитель, причем не из худших. Самое страшное, что музыку эту никто даже и не заказывал — волынка дудела сама по себе, просто так, по инерции.
Тогда-то я, на свою голову, и задумался о политике. Чересчур долго мне позволялось решительно все, и козленочек дободался-таки до стенки…
… Я говорил, незаметно для себя самого переключившись на лекционный лад, с многозначительными паузами, повышением голоса в нужных местах, хмуря брови и посмеиваясь. Малыш слушал не перебивая, подперев голову кулаком. Похожие лица бывают у иных студентов, когда им не все понятно, но очень интересно. После лекций такие ребята обычно подходят стайкой и просят консультации…
Вся штука в том, что я тогда был убежден и убежден теперь, что боэций никакое не лекарство для смертельно уставшей от тысячелетних склок цивилизации. Паритет паритетом, но необходима идея, объединяющая всех. Раз за разом находило человечество вроде бы подходящие идеи, и словно по злому волшебству эксперименты, серия за серией, оборачивались кровавым бардаком.
Я задал себе вопрос: почему? А на вопросы я привык отвечать. И меня не устраивали общие рассуждения, услужливо предлагавшиеся тысячами пухлых томов. Потому что я, как ни крути, профессионал-аналитик и знаю: если решение есть, то оно должно быть простым.
А следовательно, мне по силам его отыскать…
Сегодня я понимаю, что погорячился. Меня ведь пытались спасти, образумить, но куда там! Я несся вперед очертя голову. Как же! Ведь я — Рубин, а не хрен собачий, как вы, дорогие мои друзья! После этих слов Федька попытался дать мне пощечину, но я же драчун, у меня же за спиной космоангары и портовые кабаки! Я выдал Федьке от души, от всей своей нетрезвой в тот момент души, он брякнулся вверх сопаткой, и с тех пор мало кто в Галактике ненавидит меня больше, чем любимый бывший корешок Теодор Дуббо фон Дубовицки…
Даже Ози кое-что сообразила; дурная, веселая, по сей день до чертиков желанная Озька, безмозглая собачонка с изумительным сопрано… она впервые устроила скандал сразу после Порт-Робеспьерской конференции, она вопила, что не собирается дальше жить с идиотом, это она-то, глядевшая на меня, как на икону, с того вечера, когда я отметелил ее второго муженька, вздумавшего буянить у «Максима», привез светящую фонарем под глазом звезду эстрады к себе и приказал завтра идти со мной в мэрию расписываться…
Ведь я же нашел ответ! И он на самом деле был простым, как грабли: человечеству необходимо подлинное единство. Тем более что особых препятствий к нему и нет и все, что разделяет людей, — это страх, вынуждающий защищаться.
От кого? История отвечала: от врага.
Но кто же враг? Ответа не было.
И тем не менее люди свыклись с ожиданием Армагеддона и уже не могли представить себе жизни без этого противостояния. А значит, бессмысленным был и мой боэций со всеми его потенциальными возможностями, потому что нельзя достичь всемогущества, постоянно оглядываясь в страхе…
Нет, я не верю в Бога, и уж тем более я не коммунист.
Но я твердо убежден: рай на земле возможен, и, если хотите, можете назвать его коммунизмом. Но для этого человечество обязано стать единым. И если уж так необходимо государство, то пусть остается одно. Два для Галактики непозволительная роскошь.
Об этом этими же словами я и позволил себе заявить в прямом эфире прямо в глаза побелевшему от ужаса ведущему передачи «Я живу с великой Ози».
Последнее, что успел я проорать в камеру, была фраза, так никем, как выяснилось позже, и не понятая:
— Реальная идентичность двух ведущих государств делает возможным их быстрое и безболезненное слияние; все, что разделяет нас, — выдумки политических проституток!..
Спустя полминуты меня вышвырнули из студии.
А утром в мой кабинет явились Скурлатов (тогдашний Долгорукий) вкупе с Лонгхэндом. Перебивая друг друга, они заявили, что я не понимаю ни идеалов демократии, ни идеи единства, что подрываю основы паритетного сосуществования, поступаюсь принципами, лью воду на мельницу, подливаю масло в огонь и обливаю грязью.
И даже тогда у меня еще был шанс. Парни ясно намекали, что не худо было бы выступить по стерео и повиниться за пьяный бред.
А я предпочел пошутить.
— Я ученый, ребятки, — заявил напыщенный кретин Рубин, — и я привык говорить лишь то, в чем уверен. А ежели вам охота слышать то, что хочется, так идите в хиромантический салон мадам Полонски — там вас обслужат…
Вот тут-то они и сообщили хором, что незаменимых у нас нет, а мой кабинет через пятнадцать минут будет опечатан.
Наутро я прочел в газетах, что обе Академии открытым голосованием лишили меня всех наград и званий, что ректор, по блату устроивший мне, недоучке, диплом, пошел под суд за взятку, что ученики не только отрекаются скопом, но скопом же и клеймят, и вообще моя провокационная выходка гневно осуждена школьниками, домохозяйками, физкультурниками и прочей прогрессивной общественностью, не намеренной давать в обиду родное государство (или оба государства?).
А еще через два дня от меня ушла Ози. Она не хотела, я в этом уверен, потому что ночи накануне ухода были самыми лучшими нашими ночами; она даже к телефону не хотела подходить, но потом приехала эта дархайская стерва Чалка, которая вьет из Ози веревки, увела мою ревущую дуреху на кухню… и через час они уже выходили с вещами. Я попробовал не выпускать, и тогда меня за минуту прямо на лестничной площадке сделали котлетой три бугая с перебитыми носами, а после, когда я уже валялся в луже крови, выродок Топтунов, держа Озькин чемодан, подошел ко мне, сплюнул и сказал одно только слово:
— Козел!
Вот с того дня я и не слушаю песен великой Гутелли. Слишком ясно помнится это звучащее во влажной тишине спальни непередаваемое и незабываемое: «Хоч-ч-чу-у-у…»
Каяться было бессмысленно. И поздно.
И я не задавал никаких вопросов, когда меня, обтрепанного и полуголого, три года назад пригласили наконец на работу по специальности. Ясное дело, не на государственную службу. Но в самом деле, какое дело Рубину, скажите на милость, откуда Ассоциация Приватных Исследований берет боэций? Пусть болит голова у тех, кому платят за охрану стратегического сырья! А дело Рубина — заниматься обогащением руды, и только. Тем паче что по личному распоряжению президента Ассоциации господина эль-Шарафи завпроизводством Рубину уже трижды за последний год повышали жалованье…
И вот — письмо.
После всего, что было, те же люди, приятно улыбаясь, приглашают меня вернуться, приманивая отнятыми некогда побрякушками.
Интересно, Озьку они мне тоже вернут? Или, быть может, предложат компенсацию?..
Нет, не могу понять: что же произошло?
Если им опять нужен Рубин, значит, решено вернуться к фундаментальным исследованиям.
Возможно даже, к путешествиям во времени. Но проблему боэция в одиночку не потянуть никому. Фундаментальные исследования — это реальное, вплоть до полного слияния, единство бюджетов. А следовательно, и структур. Неужели же «верхи» наконец-то поумнели?..
Я пожал плечами и замолчал. Заболело горло.
А мальчик покачал головой.
— Ты интересно говоришь, друг-землянин. И те, о ком ты сказал, творили не благо. Они нгенги, не ты. Прости. Но простота еще проще. Идеи квэхва гласят: «Истина в послушании, труде, скромности; в истине — сила». Вот и все. Так говорит Любимый и Родной.
Совсем детская, подкрепленная ссылкой на авторитет убежденность звучала в мальчишеском голосе, такая знакомая по диспутам первокурсников. И такая наивная…
Я не сдержал улыбки. Конечно же, дружеской, нисколько не высокомерной. Если хочешь учить, никогда не поучай…
— В послушании кому, мой юный друг? В труде ради чего? Что есть скромность?
— Послушание — Вождю, — ни секунды не медля, отчеканил он. — В труде изобилие. В скромности — равенство. И все это — сила!
Я понял: убеждать его тезисами невозможно. Ему необходимо самому найти ответ, не полагаясь на мнения старших. И он найдет, если захочет; у него хорошее, умное лицо. Но чтобы пожелать найти, нужно уметь искать.
Прекрасно!
— Юноша, скажи мне: на Дархае есть стада?
— Стада? — Он, кажется, не понял сразу. — Да, стада свиней…
— Отлично! Их пасут пастыри, они утруждают себя в поисках изобильного корма, они равны между собой. Это так?
— Да…
Я посмотрел ему прямо в глаза.
— Ты — свинья?
Он осекся. Нахмурился, подыскивая нужный ответ, быть может, цитату. Не нашел. Сглотнул слюну. Насупился. Все правильно. Тут не обойдешься набором заученных формул. Тут необходимо размышлять. А он, видимо, до сих пор не знал, что такое логическая цепочка…
Что ж, теперь ему придется думать.
Я уже стоял у двери, когда мальчик остановил меня.
— Постой, друг-землянин. Ты не нгенг. Поэтому возьми на память этот амулет. Это подарок, и в нем — благо. Ты поймешь. Потом. Я же выполню свой долг борца, а после расскажу Вождю о твоих вопросах. Любимый и Родной знает все ответы…
ГЛАВА 8
… Тем же, кто осознанной волей своей отринул кротость в поиске пути праведного, положив одну лишь силу в основание Храма сердец своих, кроме же силы — ничего, дай знак, Творец, пока еще не пробил час гнева Твоего, ибо пред гневом Твоим прахом и тленом ляжет то, что полагают силой они, и пылью рассыпется то, что мощью рекут, и ничем обернется пустошь, кою в слепом самомнении своем мнят сии безумцы могуществом мира сего. А потому, все ведая и все прозревая, предупреди их о пагубе, Господи!..
Рассказывает Улингер МУРАКАМИ, пенсионер. Мастер кэмпо (10-й дан). Верховный наставник школы Ширин. 65 лет. Гражданин ДКГ
25 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Ровно в пять тридцать я киваю почтальону. Так заведено, и меня бы удивило, если бы в один из дней я не увидел его у калитки в обычное время. Мы сталкиваемся строго под моим коттеджем: он — выйдя из-за угла, со стороны плошали Героев Паритета, я — завершая утреннюю пробежку вокруг парка.
Я останавливаюсь. Он опускает на землю туго набитую сумку, озирается, потом молодцевато вытягивается и отдает честь. Сейчас, на рассвете, это вполне допустимо: соседи пока еще сладко спят и некому подглядеть нашу тайну.
— Вольно, сержант, — негромко говорю я.
И почтальон отвечает:
— Есть вольно, ваше превосходительство!
А потом добавляет, уже менее уставным тоном:
— Да вы прямо как куранты, адмирал, по вам хронометры сверять можно…
Эти слова он произносит каждый день, двести пятьдесят семь раз в году, не считая праздников, выходных и отпуска… Они тоже стали традицией.
И он, к сожалению, не прав.
На больших стенных часах уже пять тридцать четыре; минута потеряна в парке, когда я сбил дыхание и позволил себе короткую остановку. Скверно! Минутный сбой в раз и навсегда установленном распорядке — далеко не мелочь. Недаром же в глазах у старины Перкинса, уже выбритого и застегнутого, как положено, на все пуговицы, застыло удивление, граничащее с беспокойством.
— Завтрак! — распоряжаюсь я, проходя в душевую.
Мог бы и не говорить. Капрал Перкинс знает свое дело, мы не расстаемся с ним с самого Карфаго, где он потерял ногу и был вчистую списан с действительной. Но если не отдать конкретного приказа, старый служака просто не поймет меня. У каждого есть свои маленькие слабости.
Тугие, льдисто-холодные струи обжигают кожу. Усиливаю напор и, закусив губу, терплю блаженную колющую боль. Докрасна растираюсь мохнатым полотенцем память о дархайской кампании, накидываю кимоно, тщательно расчесываю волосы.
Выхожу к уже накрытому столу, мельком взглянув на фосфоресцирующую тарелку циферблата. Пять пятьдесят девять. Минута возвращена. И это прекрасно. Адмиралы не должны опускаться. Даже на пенсии.
Яйцо всмятку. Овощной салат. Ломтик сыра. И, конечно же, горячий кофе со сливками. Будь нынче воскресенье, была бы подана ветчина и немного оливок. Но сегодня среда.
— Благодарю. Можете быть свободны! — слегка улыбаюсь я, и Перкинс, щелкнув каблуками, удаляется к себе, принимать пищу и разбирать почту к просмотру.
Утренний кофе я предпочитаю пить в одиночестве.
Впрочем, не совсем. По углам столовой расставлены бюсты тех, кого я всегда рад видеть в рассветный час. Загадочно прищурил левый невидящий глаз бронзовый Ганнибал. О чем-то своем задумался, кривя малахитовую губу, нестарый еще и худощекий генерал Бонапарт. И мрачно хмурит тяжелые брови, заглядывая прямо в душу, великий Жуков.
Они понимают меня. Им известно, что такое отставка…
Я встаю из-за стола, по привычке плотно задвигая стул.
Нелепое словцо — «отставник». Отставить. Выставить. Уволить с пенсионом. Шпаки придумали чертову прорву иносказаний. Но я привык называть вещи своими именами.
Выгнать за ненадобностью — вот вся суть, как ни запутывай ее в болтовню. Вытряхнуть, как мусор…
Пускай. Можно перечеркнуть жизнь человека единым росчерком пера. Но никому не под силу заставить солдата забыть армию, пока он считает себя в строю.
Завтрак окончен. Теперь — то, что важнее еды.
В крохотной комнатке пусто. Лишь циновка на полу, на стене слева от входа — ковер, посреди — укрепленная на треноге старинная гравюра, освещенная неугасимой лампадой.
Повернувшись лицом к ковру, семь и семь раз кланяюсь, сгибаясь ровно пополам. И древний прадедовский меч, спящий на ковровом ворсе, принимает мое почтительное приветствие.
Опускаюсь на циновку.
Приплясывающий отсвет огня лампады подкрашивает гравюру в кровавые и пламенные тона, и поле сражения, изображенное беспорочным резцом великого Хакумаи, медленно оживает…
— Что ты видишь, Мураками Бункэй? — шепчу я.
Тишина обволакивает меня. Мягко ступая, удаляется сущее, оставляя потомка наедине со славой предков…
Я вижу: широкое поле, заваленное телами тех, кто пал, исполняя долг. В живых не осталось никого, только полководец, что привел войско сюда и поставил у выхода из ущелья, отдав приказ — продержаться, пока не придет подмога. О, восемь тысяч было их, а тех, кто шел с той стороны гор, всемеро больше. И они пали, все восемь тысяч пали, как один, ожидая подмогу, а подмога все не шла и не шла, и не было видно в редеющей дымке тумана долгожданных знамен, полыхающих цветами княжества Такэда: желтым — огонь! синим — железо! белым — ветер! черным — земля!..
Мой дух парит над полем смерти и чести.
Я вижу: седой полководец, последний, кто еще не мертв, но уже умирающий от множества ран, стоит среди павших — совсем один, без права умереть, пока не пришла подмога. Меч его сломан, глаза залиты кровью, и не под силу ему увидеть то, что происходит вокруг. Успеют ли свои? Или все, что случилось тут, было вотще?
— Жив ли кто? — кричит он.
А в ответ — тишина.
— Именем князя нашего повелеваю: отзовитесь! — кричит он, но повеление остается неисполненным, ибо мертвые свободны от клятв.
И все же:
— Я здесь, господин! Я слышу тебя! Повелевай! Изрубленный воин встает из груды мертвецов, тяжело опираясь на обломок двузубого копья.
— Назови свое имя! — требует полководец.
И слышит в ответ:
— Имя мое Мураками Бункэй; я асингару левой рукиnote 7, и мой долг повиноваться приказу! Приказывай, господин!
Я вижу: веселый смех торжества озаряет окровавленный лик ослепленного вождя.
— Видишь ли ты что-нибудь на западе? — хрипит он.
— Вижу, господин! — приложив ладонь ко лбу, отвечает воин.
— Что же ты видишь, Мураками Бункэй?!
И радостно откликается асингару:
— Я вижу знамена княжества Такэда! Огонь! Железо! Ветер! Земля!
И падает лицом вниз, потому что давно уже убит, но, даже убитый, не счел допустимым не услышать приказа…
А по полю уже мчится конница и спешит пехота — под желтыми! синими! белыми! черными!.. стягами, и враг бежит, бежит, бежит, и слепой полководец, подобно тростнику, опускается на землю и медленно умирает, не прекращая весело смеяться над глупым, слабым, побежденным врагом…
И последнее, что вижу я: могучий и грозный, спешивается его светлость дайме Такэда Шинген у ветхой хижины; церемонный поклон отвешивает он оборванной старухе, и вслед за ним склоняют головы к земле блещущие доспехами вельможи его.
— Совершивший подобное, матушка Мураками, — милостиво говорит дайме, лишь случайно мог быть рожден крестьянином. Пусть же род ваш отныне посылает под знамена мои не асингару, но достойных меча самураев!..
Так говорит он и протягивает босоногому мальчишке тяжелую катану в изукрашенных ножнах — тот самый меч, что чутко дремлет на ковровой стене в комнате моих встреч с предками.
… Дух мой воссоединяется с телом.
Не вставая с колен, покидаю я прибежище семейной чести, и лишь теперь начинается мой рабочий день.
Семь раз отбивают часы.
Газеты аккуратно разложены на столе и подготовлены к просмотру; рядом карандаши для пометок, отточенные ровно и остро. Капрал Перкинс, как всегда, безукоризненно пунктуален. Старика следует непременно поощрить…
Так, первый в стопке по алфавиту — «Армейские сны».
Пустяковый, не стоящий внимания журнальчик: немного воспоминаний, немного размышлений, кроссворды, как правило, весьма непритязательные. Отложим. Не к спеху.
Далее. «Башни и башенные устройства». Солидное, более чем уважаемое издание. Крайне неинтересное на досужий взгляд, но неоценимое для профессионала. А я — профессионал и потому продолжаю выписывать специальную литературу, хотя кое-кому это и кажется чудачеством…
О! Какая неожиданность! «Батумский ветеран»!
Вот это любопытно. Бюллетень выходит, к сожалению, нерегулярно, у редактора не хватает средств, но уж если выходит, то, как правило, содержит интересные данные. Видимо, кто-то спонсировал выпуск. Что ж, благородно, очень благородно…
Траурная рамка. Опять кто-то из наших. Кто же?..
Что?! Я вздрагиваю, словно от пощечины. Над совершенно незнакомой брыластой рожей нависают темные глыбы слов:
СОТРУДНИКИ И БЛИЗКИЕ С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ ИЗВЕЩАЮТ, ЧТО ВЧЕРА, 24 ИЮЛЯ 2215 ГОДА, НА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОМ ГОДУ ЖИЗНИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ БИЗНЕСМЕН И МЕЦЕНАТ АТТИЛИО ЭЛЬ-ШАРАФИ…
Однако! Только вчера откинулся, а сегодня уже и некролог. И где! Дожили, что и говорить. Проклятые торгаши и сюда ухитрились просочиться. Позор! Можно подумать, мало у них прикормленных газетенок, готовых вылизать и обскулить усопшего благодетеля…
Не терплю этих скунсов. Потому что слишком хорошо знаю, какой ценой оплачены их, будь они прокляты, контрольные пакеты акций. Я был на Карфаго и многое понял уже там. Но еще я помню Дархай, и кому-кому, а уж мне точно известно, во что обошелся нам, землянам, этот поганый сизый камень, трижды будь он неладен, боэций… и все ради того, чтобы какая-нибудь биржевая крыса обзавелась лишним счетом в банке…
Сердечный приступ? Как же! Не уверен, что у этих шакалов есть сердца. Сейфы у них вместо сердец, и что они знают о настоящих утратах? Дали бы этого макаронного урюка мне под начало там, под Кай-Лаоном, и — клянусь погонами! от разрыва сердца он бы точно не сдох…
Я придвинул ежедневник и сделал пометку синим карандашом, означающим первостепенную важность: направить протест в редакцию «Батумского ветерана»…
Но зачем же откладывать? Мыслилось легко, пальцы послушно бегали по клавиатуре. К семи тридцати черновой вариант письма был готов. Могу держать пари, редактор подергается, получив его; я, слава Богу, имею вес в наших кругах, и мое слово пока еще способно испортить репутацию тому, кто ею не дорожит. Спонсоры спонсорами, но офицер не вправе забывать о достоинстве.
Спустя минуту я разорвал набросок. Бессмысленно! Такой некролог оказался и в «Банзай», и в «Ветеранских ведомостях», и в «Гала-Армс», и даже — к тому же еще и на весь разворот! — в уважаемом мною «Военном оппозиционере»…
Странно. Неужели я не прав и это кто-то из наших? Но по какому же ведомству, если мне он неизвестен? Нет, положительно не понимаю. Не стоит торопиться в таком случае. Наведем справки, созвонимся с кем надо. Очень может быть, что и мне придется послать венок и соболезнования осиротевшей семье…
И все же! Не может быть такое лицо у нашего!
И пусть мне урежут пенсию, если я ошибаюсь. Тот, кто водил людей в огонь, умеет разбираться в лицах…
Вот этот, например, — совсем иное дело.
«Погиб при исполнении служебных обязанностей».
Хорошее лицо. Солдатское лицо. Всего лишь тридцать восемь. Юность. Мог бы еще жить да жить. Сказать по чести, не понимаю некоторых соратников, относящихся к «Мегаполу» без должного уважения: ни то, мол, ни се. Глупый снобизм. Эти парни умеют драться и знают, во имя чего драться стоит. А значит, они достойны сравнения с нами, и я лично их чту. Хотя могли бы выбрать и более славную стезю, нежели охрана покоя всяких гладеньких и сытеньких скунсишек вроде этой брыластой штафирки Шарафи…
Под фотографией — статья за подписью Яана Сан-Каро.
«Алек, каким я его знал». Вот так? Значит, знал лично? Прекрасно. Сегодня у нас встреча, и после беседы о важном я, пожалуй, позволю себе расспросить всезнайку-журналиста о его знакомце. Слишком уж хорош у этого старшего инспектора послужной список. Я бы, пожалуй, доверил ему «Саламандру».
Если бы кто-то сегодня доверил «Саламандру» мне.
— Сэр?
Перкинс возник неслышно. Значит, уже без полминуты восемь тридцать, и в столовой меня ждет чашка жасминового чая, а затем, до десяти ноль-ноль короткий дополнительный сон.
В последнее время я не могу обойтись без него.
По ночам я не высыпаюсь.
… Каждую ночь, мешая отдыхать, мне снятся танки. Их совершенные силуэты проходят в неясном бело-розовом тумане бесшумно и величаво. Я пытаюсь догнать их, но они уходят вдаль, уплывают — и лишь башни разворачиваются одна за другой, словно отдавая мне прощальный салют.
— Прощайте и вы, друзья! — тихо говорю я вслед.
Во всей Конфедерации больше нет «Саламандр». Да что там — в пределах Галактики не нашлось места для супертанков. Их пустили в переплавку почти сразу после провала Дархайской кампании, накануне сокращения кадров. «Армия — не богадельня», — вот что сказал Президент в узком кругу, и дегенеративная обезьяна старого кретина тут же начала кивать и согласно подфыркивать. Правда, на заседание Комитета начальников штабов наш, с позволения сказать, главнокомандующий явился все же без мартышки. И выразил свою мысль помягче: «Дархай доказал неэффективность традиционных методов ведения войны. Пора признать, что современный конфликт великих держав может быть либо глобальным, либо вовсе не быть».
Смягчение формулировок не изменяло сути.
Мы молчали, а министры поддакивали.
Вторично на моей памяти Вооруженным Силам выносили смертный приговор, на сей раз решительный и обжалованию не подлежащий. Армию убивали хладнокровно и вполне сознательно. За что же? Да, идея «стратегии локальных конфликтов» себя не оправдала, я согласен. Готов согласиться и с тем, что наличие Большого Оружия гарантировало взаимное ненападение. Но при чем тут армия? Эти шпаки не могли или скорее не хотели понять главного: наша миссия — не убивать, даже не одерживать победы.
Армия — единственный гарант прочной стабильности, и ради этого никакой военный бюджет не слишком дорогая плата. Пока волнорез прочен, волны не смоют берег.
В те дни наши издания печатали не кроссворды, а некрологи. Полосы, развороты некрологов. Инсульт. Инфаркт. Несчастный случай. Грипп. Злокачественная малярия. Рак. Часто некрологи были правдивы, еще чаще — нет. Цензура старалась уберечь нервы налогоплательщиков от действительности, но мы-то знали, что происходит на самом деле.
Виджайя Сингх и Фернан де Вальехо пустили себе пулю в лоб. Старший Ярузек, мой добрый приятель-соперник из войск Союза, забыл раскрыть парашют во время соревнований; это он-то, мастер-наставник десанта первой категории! Да что там!.. И сам я, теперь можно признаться, не раз был на грани необратимого поступка. Возможно, такой выход и был бы лучшим, но я был в ответе за Дархайскую Ассоциацию, и не в моих правилах бросать начатое дело на полпути…
Нет, это не было настоящей жизнью, скорее — всего лишь имитацией ее. И все же мы ощущали себя нужными. Соревнования, обсуждение и издание мемуаров, разумеется, для внутреннего пользования, совместные походы, пикники по праздникам — все это помогало отвлечься от омерзительной реальности. Были дела и посерьезнее. Именно по нашей инициативе возникла идея сбора средств в помощь партизанам генерала Тан Татао, и не могу исключать, что вы помните, насколько успешны были результаты этой кампании. Три каравана с продовольствием, медикаментами и еще кое с чем отправили мы на Дархай, и сам генерал Тан в ответном письме искренне благодарил нашу Ассоциацию от имени дархайского народа, не намеренного склонять голову перед зарвавшимся тираном…
Он очень постарел, генерал Тан, судя по присланной мне фотокарточке с теплой дарственной надписью; когда я видел его в последний раз, это был высокий, худощавый, очень подтянутый человек лет на десять моложе меня тогдашнего. Теперь же на меня глядел со снимка иссохший сморщенный старец, и на домотканой крестьянской одежде чужеродным пятном смотрелись оранжевые овалы погон. Встретившись, я, пожалуй, не узнал бы его. Впрочем, тогда, в Барал-Гуре, мы не были так уж коротки; слишком много было в Империи начдивов, и мне недосуг было уделять внимание каждому…
Фотографию эту я вклеил на почетное место в свой памятный «дархайский» альбом рядом с другой, не менее дорогой мне, — той, где мы запечатлены вместе с начальником имперского Генштаба.
Отчетливо помню: мы убыли на уик-энд в его загородную резиденцию; был чудесный сентябрьский день, и мы, не скованные неизбежной субординацией будней, расслабились под стать неоперившимся лейтенантишкам. Мы беседовали обо всем понемногу, в первую очередь о перспективах осенней кампании. Я полагал, что необходимо учитывать возможность падения столицы; маршал же был убежден, что войска противника неизбежно застрянут в отдаленных предгорьях и рельеф местности не позволит врагу выйти к Барал-Гуру ранее окончания весенней распутицы.
Он исходил из исторических прецедентов, стратегических соображений, да, наконец, из элементарной логики.
К сожалению, он ошибся.
Помню, я позволил себе задать вопрос:
— Маршал, а если все же?..
Договаривать не пришлось. Он понял.
— Видите ли, дорогой мой, — он чуть улыбнулся, и удочка в его руках не дрожала, — девиз моего рода: «Жизнь воина коротка; путь воина бесконечен; преграды для воина нет; победа для воина — не цель». Вот так. И не иначе. Что я могу еще сказать?
Я кивнул. Все было ясно. Такой девиз украсил бы и щит моего предка, сражавшегося после смерти.
Впрочем, все это уже история.
И мой предок, и маршал, и Дархай.
Как бы то ни было, но это был человек огромной воли и кристально чистого мужества. Пятнадцать лет назад я, по праву председателя правления Дархайской Ассоциации, назвал в его честь сына одного из моих парней, понюхавших, чем пахнет ад той проклятой планеты.
Иным имя это казалось излишне экзотическим, они предрекали малышу тяжкие комплексы, неизбежные издевательства и драки со сверстниками.
Глупцы! Где им было понять красоту древнего дархи?..
Въяргдал — так звали начальника Генштаба, что означает «Недремлющий лебедь». И что это, как не истинная поэзия?
А драться мальчишкам всегда полезно. Сталь закаляют в огне…
Мальчуган не подвел ни меня, ни имя. Каждому любителю боевых искусств известен сегодня Въяргдал Нечитайло, абсолютный чемпион Галактики среди юношей по классическому ниндзюцу.
По сын Игорька был вторым моим крестником Первому, сынишке моего адъютанта, родившемуся в дни, когда отец его находился в служебной командировке на Дархае, мы, по общему согласию, отменив уже состоявшиеся крестины, дали имя Джеймс Патрик. И никого не касается, почему мы поступили именно так…
— Сэр?
Перкинс, похоже, чем-то недоволен. Ах вот оно что! Десяти еще нет, всего лишь девять сорок семь, а к телефону просят срочно. Старый ворчун не одобряет столь вопиющих нарушений расписания. В принципе не одобряю и я; как правило, с восьми тридцати до десяти ноль-ноль мой телефон отключается. Но сегодня совсем особый случай.
— Переключите на меня, капрал!
В трубке — бурчание; затем возникают связные звуки, и, как я и ждал, это говорит Яан Сан-Каро.
— Господин Мураками?
— Слушаю вас.
— Прошу прощения. — Он, кажется, несколько возбужден, и в этом нет ничего хорошего. — Я хотел бы предупредить, что вынужден несколько запоздать. С вашего разрешения, буду к часу. Понимаете, к часу! Согласно договоренности.
— К тринадцати ноль-ноль, — машинально поправляю я. — Вас понял. Возражений не имею.
Он отключает связь. Я вешаю трубку.
Все-таки этот профессиональный говорун не глуп и не болтлив. Как только я намекнул позавчера, что не очень доверяю своему аппарату, он тут же перешел на безличные, внешне совершенно невинные выражения.
Итак, не в полдень. Встреча перенесена на два часа. Согласно договоренности — это значит, что к новому сроку нужно прибавить час. В сущности, особой разницы нет. И все же досадно. Не могу поручиться, но мне отчего-то кажется, что сейчас любая отсрочка — непозволительная роскошь. Хотелось бы ошибаться, но не исключено, что в данном случае многое могут решить даже минуты…
В столовой десятикратно бьют часы. Сейчас должен позвонить Огюст.
— Сэр? — На лице Перкинса довольная улыбка. — Вас просит его высокопревосходительство господин Ришар!
О, капрал высоко чтит Огюста. Да и я тоже, признаюсь, еще какой-нибудь месяц назад, даже меньше, был бы рад этому звонку. Но не теперь…
— Переключайте на меня!
Больше всего не хотелось, чтобы Огюст заговорил тем тоном, какой месяц тому сам бы собою разумелся. Он, будто прочитав мои мысли, был сух и подчеркнуто официален.
— Вы не передумали, адмирал?
Вот как — уже на «вы», и даже без приветствия! Ясно…
— Даже не собирался…
— Вы отдаете себе отчет в возможных последствиях?
— Полностью и безусловно, господин генерал-аншеф.
Голос в трубке сорвался.
— У вас еще есть шанс, адмирал! Вы, возможно, не понимаете… День «Икс» настал!
Кажется, старый друг решил меня немножечко пугать. Видимо, напряжение последних недель помутило нечто в его обычно очень и очень толковой голове.
— Послушай, Огюст… — Я постарался придать своему голосу как можно больше неподдельной сердечности. — Ты что, первый день меня знаешь?..
Хмыкнул и добавил вполне по-курсантски:
— Тебя послать или сам пойдешь?
Мембрана заверещала серией возмущенных гудков.
Вот так. Значит, сегодня-завтра все кончится. Началось же, по крайней мере для меня, почти месяц, а если быть точным, то двадцать один день назад.
Огюст Ришар заявился ко мне почти в полночь, когда я, вернувшись из спортзала Ассоциации, уже прочно готовился ко сну. Впрочем, в моем доме он был желанным гостем в любое время суток и прекрасно знал это. Недоступный Перкинс при виде обожаемого господина генерал-аншефа захлопотал почище наседки, я, вздохнув, отложил пижаму, а Огюст, чего никак не ожидалось, подошел и повертел ручки приемника, настраиваясь на программу политических новостей.
— Бардак! — констатировал он, выслушав и нисколько не сомневаясь, что я пойму и поддержу.
— Бардак, — согласился я.
— Надо бы с этим кончать… — то ли вопрос, то ли утверждение.
— Да уж не худо бы… — в тон вопросу поддакнул я.
Огюст забавно прищурился. Он всегда был весельчаком и подчас откалывал штучки, за которые любой, кроме него, шута горохового, мигом распростился бы с парой кленовых листьев. Скажем, во время высадки на Карфаго он вдруг начал петь непристойные куплеты, забыв, что ударные взводы уже включили рации в шлемофонах. Скандал был неординарный! Под разухабистый припев «Ну-ка, где твой штык, капрал?» хохочущая десантура вмиг прорвала заслоны, и к вечеру мы рапортовали Центру о восстановлении демократии на планете. Что касается Огюста, то подполковник Ришар, естественно, сохранил погоны, заявив, что хотел всего-навсего подбодрить ребят…
— Слушай, Улли, — сказал он, — есть разговор.
И мы поговорили.
Все, что сказал мне в тот вечер Огюст, не вызывало возражений. Действительно, вокруг творился бардак, и предел происходящему должен был быть положен. У себя в Ассоциации мы не раз беседовали на эту тему. Скорее мечтали: выступление, изоляция политиканов, расстрел пары-тройки ворюг, строгая власть, абсолютный порядок и безукоризненная справедливость. В теории все было прекрасно, но где же взять исполнителей?..
— А если исполнители найдутся?
За полвека, что я знаю Огюста, балаболка ни разу еще не был так серьезен.
— То есть? — Я уже не хотел спать. — Кто?
— Кретины. Фанатики. Но оружием владеют и абсолютно послушны. Считай сам: нас на Земле…
И, уловив мой вопросительный взгляд, пояснил:
— Другие планеты — не наша забота. Мы (Огюст уже говорил «мы») имеем тысяч десять, верно? Да этих ишаков тысяч с полсотни, может, больше. Разве не хватит?
Я спросил напрямик: не сошел ли ночной гость с ума? Какое оружие у названных им кретинов? И неужели он забыл о спецподразделениях? И как насчет арсеналов Службы Охраны?
Вот тогда-то он, подмигнув, и сообщил о скором подписании Договора. И ликвидации оружия. Всего. Кроме холодного…
Это в корне меняло ситуацию! Я подпрыгнул, как мальчишка, и мы долго тискали друг друга за плечи.
На следующий день я приступил к инспекции контингента.
Москва, Рим, Дели, Бамако, Шанхай… полпланеты за полторы недели, с ума можно сойти. Результаты обнадеживали: тупые, полностью подконтрольные, двинутые на собственном праве учинять насилие — идеальный материал, вот только в грядущем мироустроении места этим нелюдям не было.
— И не будет, — твердо сказал Огюст, и я ему снова поверил. Действительно, даже одна моя Ассоциация, — сорок семь возрастняков и два десятка подростков легко справится и с тысячью этих идиотов после того, как они выполнят свою миссию. А ведь мой друг Ришар наверняка привлек и «Буйволов с Карфаго», и «Пятнистых парней», да и мало ли кого еще — задавать вопросы на этот счет было бы верхом бестактности.
А вот один вопрос у меня все же оставался.
Ровно неделю назад я его и задал, совершенно не предполагая, что спустя несколько минут все, чем и для чего я жил последние дни, полетит в тартарары.
— Слушай, Огюст, — я был спокоен в тот миг, и креветки имели удивительный вкус, — ну ладно, Земля это Земля, тут нас, отставных, достаточно. А как с другими планетами?..
В вопросе не было никакого подвоха. И Огюст ответил — мимоходом, даже не особенно задумываясь. И тотчас вскинулся, осознав непоправимость ошибки. С кем угодно бы это прошло, но не со мной. Потому что я пропахал Дархайскую кампанию от начала и до конца и слишком хорошо понимал, что означает его ответ.
— Это безумие, Огюст, — тихо сказал я, не надеясь ни на что, — они вас перережут.
— Руки коротки, — хихикнул он, но в улыбке не было искренности.
— Перережут, Огюст, — повторил я. — И я не буду играть в эту игру…
— Поздно, — ответил Ришар, и в его голосе прозвенели траковые гусеницы «Саламандр». — Ты уже много знаешь. Слишком много. И потом, я не понимаю…
— Понимаешь. Вы задумали беспредел. Это конец всему. Не бардаку, а именно всему. Поверь. Я там был, я знаю!
Все было напрасно. Колесо катилось, от Огюста, безусловно, мало что зависело, и в моих силах было только наотрез отказаться — от своего имени и от лица Ассоциации — принимать участие в том, что было уже неизбежно…
Огюст признал мое право остаться в стороне от событий и спросил, гарантирую ли я молчание.
Я не гарантировал.
Тогда его высокопревосходительство генерал-аншеф Контрольной Службы в запасе Огюст Ришар сообщил, что никогда не забудет, кто спас ему жизнь на Карфаго, и что лично мне, пока это в его силах, безопасность будет обеспечена…
Я не стал благодарить.
Всю неделю мой телефон не остывал. Выловить вездесущего Яана Сан-Каро оказалось много сложнее, чем я ожидал. Но это была последняя надежда. Нет смысла идти по инстанциям: Огюст действует, конечно же, не по своей воле, и кому надо, те знают о готовящемся. Знают и ждут…
А этот репортеришко — самый информированный парень из всех, о ком я слышал. Он не может не сообразить, что к чему. И любой его материал, насколько я понимаю, имеет прямой эфир. А там, когда пойдет шум, будет видно!..
Я не ангел. И, Бог свидетель, не демократ. У меня свои взгляды на жизнь. Путч? Да! — и я бы первый поднял Ассоциацию на баррикады. Хунта? Сколько угодно! — и я не отказался бы войти в ее состав. Репрессии? Извольте! — должен же кто-то быть кровавой собакой, так почему не я?
Но я не позволю поганым шпакам, тощим дархайским обезьянам и свихнувшимся стукачам из жандармерии пустить под откос весь мой мир…
А между прочим, уже четырнадцать ноль-четыре. Где же, черт его возьми, писака? Он должен был бы не то что прийти — прилететь; стоило мне только заикнуться о Договоре и осторожно намекнуть на остальное, как он сказал, что будет ровно в поддень. Или перезвонит, если выйдет задержка…
Четырнадцать ноль-пять. На улице — крик. Одинокий, болезненный. И сразу многоголосый гомон.
Что там еще, к дьяволу?
Я отодвигаю штору, выглядываю.
Ясно. Яан Сан-Каро не придет ко мне по более чем уважительной причине. Его убили только что, несколько секунд назад, как раз около моей калитки. Он лежит на тротуаре, и голова его издали кажется кровавой кляксой.
Достаю бинокль. Пока толпа не скрыла от меня лежащего, успеваю рассмотреть подробности. Ничего нового. И ничего интересного. Репортеру размозжили голову бумерангом. Отменный, кстати, бросок — видна рука мастера.
Ну что ж, мир его праху, а я поплотнее задвину штору. Что бы там ни было, а ни к чему изображать куропатку.
А гомон на улице превращается в дикий, исступленный крик. Это уже не шорох любопытно-равнодушной толпы. Это — смерть. Я знаю, как кричат, когда убивают.
— Сэ-э-ррррр…
Внизу трещат створки дверей, и вопль Перкинса переходит в задушенное сипение. Жаль старика. На протезе ему было не уйти. Да и куда уходить? Надеюсь, его не заставили мучиться.
Шаги по лестнице — вверх. Дверь кабинета вздрагивает от ударов. Она крепкая, она пока еще держится, но надолго ли ее хватит? Не думаю…
Открываю сейф. Так. На полочке вместо любимого моего «бэд-бэби» крохотная кучка белесого порошка. Все! Значит, правда. А я, признаться, так и не поверил до конца. Зря…
Подписали, мерзавцы. И уничтожили, как и обещано.
Жаль, что уже не узнаю как.
А дверь содрогается. Хорошо же вы держите слово, генерал-аншеф Ришар! А впрочем, что зависит от бедняги Огюста?.. Может, и его уже нет? Нельзя исключать…
Противно умирать, как какой-нибудь скунсик Шарафи.
Победа для воина — не цель, — так, кажется, говорил мой дархайский знакомец маршал Въяргдал Кирриклочьяр?..
Хорошие слова!
Я снимаю с настенного ковра прапрадедовский катанадзаси, дышу на полированную голубоватую сталь, и сквозь мягкую гладь туманного озерка на клинке медленно проступает удивительный волнистый узор…
Что ты видишь, Мураками Улингер?
Я вижу знамена княжества Такэда. Огонь! Железо! Ветер! Земля!..
Кончиком лезвия нажимаю на кнопку замка и встаю в позицию «сон осторожного дракона».
Добро пожаловать, господа!
Меч хочет пить…
ГЛАВА 9
… Но есть и иные. Исполнившись гордыни, они рекут: «Нет Бога в небеси, но Я есмь бог себе и людям, ибо знаю пути в рай и не страшусь чистилища!» Об этих не смею и просить Тебя, Отче мой и Властелине, поелику непростимей наихудшего рекомое. Но, предстоя и ответствуя пред Тобою за паству свою, возлюбленных и увы! — грешных чад, стоящих — прозреваю сие! — у края геенны, молю тебя со страхом и ужасом пред неизбежностью грядущего искуса, и вопию, и тоскую, и стражду, и ничтожествую, и сиротствую ныне во прахе у стопы Твоей, об одном только умоляя: НЕ ПОГУБИ!
Рассказывает Эльмира Минуллина, специалист широкого профиля. 34 года. Гражданка ЕГС
О событиях 25 июля 2215 года и последующих дней
Мы так и не успели сфотографироваться вместе с Андрюшей. Он смеялся: дурная примета. А я не настояла. И сколько осталось мне жить, не прощу себе этого. Мы ведь были слишком мало знакомы, и я уже не могу вспомнить его лица. Но в последний раз я плакала в тот день, когда мне, через третьи руки, передали короткое известие о его гибели…
Чем мог стать для меня Андрюша? Сегодня, на четвертом десятке, я твердо знаю: всем. Он был единственным, только в юности это не сразу понимаешь. И дело вовсе не в сексе; сколько его было у нас, этого секса?.. И что я понимала тогда в таких делах, наивная соплюшка, только и умевшая, что раздвигать ножки, бормоча: «Ой, не надо, ну не надо же…» А дело в том, что спустя год, уже выскочив замуж за очень хорошего, прямо-таки прекрасного — лучше и не найти парня, я однажды ощутила внезапное и непреодолимое отвращение в тот миг, когда муж входил в меня, и осознала без всяких логических объяснений: бессмысленно пытаться сделать жизнь на пустом месте. И потом, когда я уходила, а муж валялся в ногах и плакал, мне было его жаль, но как-то отстраненно, холодно и безразлично; это был чужой человек, а мой, тот, без которого я не могла, исчез…
Бывший муж хлюпал носом, я размеренно и чуждо утешала его, а сама думала в это время: как отыскать Андрюшу?
И я добилась своего.
Меня отфутболивали в министерствах, не принимали в конторах, адресная служба ничем не смогла помочь, а Ведомство Дальней Астрофизики отделывалось формальными отписками, но мне понятно было, что существуют не только эти пути. И в одной из коек, куда я попала через длинную и тщательно продуманную цепь случайных знакомств, в перерывах между рывками и содроганиями мускулистого мужского тела, в тот неуловимый миг, когда, не задумываясь ни о чем, мужики отвечают на все вопросы, я узнала правду.
Оказалось, вокруг нас было слишком много лжи, пусть даже святой. Армии никто не распускал, их только припрятали, а войны продолжались, и Андрей был солдатом. Чуть позже, заплатив за это недолгим вторым замужеством, я узнала место: планета Дархай. И поехала туда, потому что память не желала ни молчать, ни тупеть, и я не могла уснуть по ночам…
Я сошла на дархайскую землю, уже почти ненавидящая родину, которая убила и забыла Андрюшу. И я в первый же день полюбила Дархай, потому что Дархай не забыл ничего. Там, на площадях Барал-А-Ладжока, я встречалась с любимым часто, за все прошедшее время наверстывая несостоявшиеся свидания…
В полуночной мгле я подходила к бюстам, укрепленным на невысоких постаментах, и гладила родное лицо, и бронзовая поверхность, еще не успевшая остыть после жаркого дня, отвечала на мое прикосновение живым теплом.
Я говорила с Андреем, и мне казалось, что он слышит меня…
А потом я встретилась с Вождем Дархая.
Ладжок принял меня просто, по-дружески. Все вокруг замирали под его взглядом, а он, простой и скромный, по-моему, невыносимо страдал от этого. И еще — от того, что ничего не мог изменить. Слишком много добра сделал он людям своей планеты, и не в силах им было любить его меньше. А когда любишь чересчур, любовь, как и все излишнее, становится приторной.
Не знаю, может быть, и поэтому он говорил со мною не как со зазвездной гостьей, а просто как с девушкой Лемуркой, невестой погибшего друга. Он хорошо знал Андрюшу, они были ровесниками, кажется, даже дружили; Вождь воевал вместе с моим любимым (оказывается, моя фамилия могла бы быть Аршакуни) и не пожалел своего расписанного на год вперед времени, чтобы поехать со мной и показать места, где сражался за единственно правое дело Далекий Брат Дархая.
Мне не все понятно было в объяснениях Ладжока, но в одном я не сомневалась ни тогда, ни теперь: дело, за которое погиб Андрюша, не могло не быть справедливым…
Это понимание явилось не сразу; мне пришлось многое увидеть и о многом подумать всерьез. И стоя на смотровой площадке над Пропастью Бессмертных, я наконец осознала: борьба не завершена, она продолжается.
И Вождь, стоящий совсем рядом, выслушал и ответил:
— Ты все поняла правильно, сестра. Так и нужно. Разум лжив, сердце — нет. Где бы ты ни была, помни: здесь, на Дархае, твои друзья!
Он умолк и слегка обнял меня. Всего лишь на миг, по-братски. Ничего похожего на желание не было в его движении, но это было мгновение потрясающей, необъяснимой близости; на миг мы стали словно бы единым целым, и мне показалось, что на краю пропасти со мною стоит Андрей…
А дома давно уже никто не помнил ни об астрофизике Андрюшке, ни о лейтенанте Аршакуни.
Его будто и не было никогда на свете; наверное, помнила бы мама, но она, как я узнала, так и не перенесла давнишнего известия о сходе горной лавины.
Жил — и сгинул. И вместе с ним сгинула навеки наивная Лемурка, противница насилия и защитница всего живого. Вегетарианские бредни кончились; я узнала вкус плохо прожаренных бифштексов, и он пришелся мне по нраву. Меня мутило от пацифистских брошюрок. Паритетологи с платиновой сединой и золотыми устами портили воздух в эфире, но в упор не видели, да и не желали видеть правды. Нигде не писалось ни о кошмаре, что творился на Дархае до появления А Ладжока, ни о том, с чьего благословения происходило все. Монополии Конфедерации оставались чистенькими в глазах биомассы, формально принадлежащей к роду людскому.
Нет, поняла я, не может быть и не будет мира между добром и злом. Нужно драться. Хотя бы и в одиночку, но драться. Конечно, на стороне добра. А значит, на той стороне, где сражался Андрюша…
Если мне, глупой девчонке, это было отчетливо ясно уже в девятнадцать, то взрослые дяди понять не желали. Понимаю: у них было слишком много дел поважнее. Информаторы вопили о перестановках в правительстве, о финансовых аферах, газеты на все лады обсасывали пикантные подробности кризисов на фондовых биржах, и разве было во всей этой повседневной круговерти место для таких отвлеченных, а значит, и вовсе не существенных понятий, как добро и зло?..
Мое заявление о приеме в Службу Контроля вернулось, кажется, даже не прочитанным. Второе, третье, десятое — точно так же. После тринадцатого меня наконец изволили пригласить на беседу. Чинуши находили сотни отговорок — от недостаточной подготовленности к столь ответственной работе и давно забытого мною членства в дурацкой Лиге Друзей Живого до неразборчивости, на их взгляд, в сексуальном поведении и труднообъяснимой поездки на Дархай.
Ну что ж, я пошла другим путем, знакомым и безошибочным.
На одной из крутых тинейджерских дискотек имел место белый танец, а рядом со мной почему-то случился паренек в драных джинсах и при серьге в носу. Он, конечно, выглядел старше своих неполных семнадцати и вниманием сверстниц был вовсе не обделен, но уже через три дня бедолажка часами выстаивал на коленях под моим окном, ловил на улицах, пытаясь всучить цветы, и глаза его умоляли: еще! еще! ну хотя бы разочек!..
Поиздевавшись вволю, я изредка снисходила.
А месяц спустя его папашка, надутый индюк, видевший жизнь исключительно сквозь тонированные окна своего членовоза, в панике телефонировал старым приятелям, ручаясь за меня, как за себя самого, клал голову на рельсы и давал руку на отсечение — в обмен на мое твердое обещание, что ни о каком браке не может быть и речи, и пусть он будет спокоен за свое ненаглядное чадо…
После чего последовало собеседование в отделе кадров СК, бывшее чистой формальностью. Увы, для оперативной работы я и впрямь была не готова, а наверстывать времени не было. Мне дали направление на двухлетние курсы спецреференток при Службе Охраны Совета ЕГС.
Я очень старалась быть лучшей на курсе и вовсе не по протекции была рекомендована в личные референты Председателя. Пусть в сэнсэи вылезти мне так и не удалось, но мой красный пояс присужден по заслугам. Стрельба навскидку, по-македонски, далась мне удивительно легко, а экзамен по основам «Камасутры» был сдан без подготовки, в том числе и достаточно сложный вопрос по практике непрерывающегося оргазма.
Не нужно улыбочек! В нашей профессии порой более чем необходимо раскрутить мужика, а то и бабу, но настоящего специалиста не сделаешь на одном обаянии. Кроме того, высокие политики — тоже люди, и они хотят, а жены у них в основном возрастные, и посторонние контакты, естественно, напрочь исключены, так что в круг обязанностей хорошего референта входит совсем не только умение метко стрелять и знание иностранных языков…
Я так волновалась, выходя на работу, что очень удивилась ее несложности. Мы с Гавриилом Никитичем быстро нашли общий язык, а Инесса Максудовна, поначалу косившаяся на меня и почти не желавшая разговаривать, тоже скоро признала, что если уж иначе нельзя, то пусть лучше я, чем сразу пятеро, как раньше…
А с тех пор, как я рассказала и показала ей кое-какие спецэффекты и мы стали частенько отдыхать втроем в различных комбинациях, наши отношения с мадам сделались более чем доверительными; Инесса Максудовна даже всплакнула, узнав об Андрюшке…
Изредка СК, недовольная тем, что я, как выражались они, слишком уж прижилась, пробовала ставить мне палки в колеса, и однажды нам с мадам это надоело. Никогда не забуду: Гавриил Никитич лежал в глубоком трансе, жизнь Единого Союза замерла, а несчастный Председатель Коллегии Службы Контроля шелудивым мопсиком метался между дверями моей квартиры и воротами дачи мадам, умоляя ее не подавать на развод, а меня — взять назад заявление об отставке.
Он так выл, не очень внятно упоминая чьих-то пятерых детей, которых кто кормить станет, если с ним вдруг того… ну, вы понимаете, что я не выдержала первой. Хорошо, что для Инессы у него были другие аргументы, но она все равно крутила фасон дольше, до того момента, пока в отставку не подал Председатель Коллегии…
А потом мы все втроем уехали в отпуск, оставив Союз на попечение вполне достойного доверия человека, и никогда не забуду, как волшебно пролетели те тридцать дней и как рыцарски галантен с нами обеими был сознающий свою вину Гаврюша…
К сожалению, у Председателя были секреты и от меня, даже после двенадцати лет беспорочной службы, неоднократно отмеченной высокими правительственными наградами.
И я, и мадам считали, что это непорядок, но ничего не поделаешь, у мужиков бывают заскоки; так, например, Председатель упрямо стоял на том, что дома о делах не говорят…
Так и в этот раз.
… Четыре месяца назад в Совете начали готовить к подписанию какой-то очень важный Договор с конфедератами. По сей день не могу понять, как с ними вообще можно было о чем-то говорить. Я попробовала указать Гаврю… Гавриилу Никитичу на недопустимость таких поступков, но он ласково посмеялся над моим «р-р-революционаризмом», а когда я, обидевшись, заявила, что даже Служба Контроля не ставит мне в упрек переписку с дархайскими друзьями, резонно заметил в ответ, что не ставит-то не ставит и ставить не будет, но только потому, что новому Председателю Коллегии очень не хочется на пенсию задолго до срока.
Крыть было нечем.
Я поехала в Ялту, как обычно, за две недели до Председателя, детально проинструктировав, как повелось, на прощание Инессу. Мне предстояло сориентировать к визиту резидентуру СК на Планете-для-Всех и заодно проверить обстановку.
Все было тихо. Мир, гладь и во небесах благолепие.
Я прощупала ситуацию, осталась довольна, сообщила о данном факте в Центр и позволила себе чуть-чуть расслабиться. По стечению обстоятельств без отрыва от производства. Никто бы не потребовал от меня такого, но, согласитесь, грешно было отказаться от возможности поработать в неформальной обстановке с хорошо известным в определенных кругах Сан-Каро, штатным рупором Контрольной Службы конфедератов!
Позволив объекту заметить и оценить себя на пляже, я, красиво поломавшись, глотнула наживку, вот только рыбачок понятия не имел, какую рыбку изловил…
Никак не могла ожидать, что Яан, взятый отдельно от своего многотомного досье, окажется на диво неплохим парнем, талантливым, добрым и почему-то странно закомплексованным. Особых новостей он не имел, и не надо. Зато трахался так, даже без раскрутки, что пару раз я не успевала заметить, как вырубалась; девять раз без перерыва — это прекрасно, но я уже не в том возрасте, хотя и выгляжу, сама знаю, моложе. Тем более что Никитич, как ни бодрится, а уже не тот, что даже лет пять назад, и мне приходится работать с ним в ущерб себе. Не всегда, конечно, но чаще, чем хотелось бы.
Да… Наверное, в одну из тех ночей я и подзалетела…
Я сперва не поняла, что произошло.
Потом поняла, но побоялась верить.
А потом, поверив, села и безуспешно попробовала заплакать.
Врачи ведомства уверяли меня, что такого уже не будет. Никогда. Результат злоупотребления абортами, говорили они, и сочувственно пожимали плечами. Но как же я могла позволить себе ребенка при такой работе? Гавриил по натуре добряк, но некоторые вещи, зная его характер, себе лучше не позволять. Пару раз я рыпнулась по глупости — и закаялась. С меня на всю жизнь хватило истории с морячком, не говоря уж о пареньке из Конотопа, которого неизвестные покалечили прямо на улице, в сущности, почти вовсе ни за что…
Яан никогда не узнает, что у меня будет ребенок. Но, как ни странно, я рада, что это произошло именно с ним. Так хорошо мне бывало только с Андрюшей, но я ведь почти не помню, как это у нас было…
А Никитич и мадам будут рады. У них ведь нет детей. Был сын, но он погиб давным-давно на «Адмирале Истомине», и после того, как Инесса оправилась от инфаркта, Председатель приказал убрать из дома все фотографии забавного толстопузого парнишки, не знаю даже, как его звали. Мои об этом не вспоминают никогда, зато мадам в последнее время все чаще горюет, что на старости лет Бог не дал внуков…
Тогда же, в Одессе, я встретилась с неприятным человеком. Он передал мне привет от хороших людей и был с ними знаком, я уверена, но от этого парня, кем бы он ни был, за версту разило провокацией. Я это поняла сразу: никто, кроме провокатора, не посмел бы задавать прямые вопросы от имени Вождя А. Причем этот Эдик был на диво информирован и буквально вытягивал из меня информацию о Никитиче, а также почему-то и о приятелях Яана. Разумеется, я объяснила ему все, что подумала, и сообщила о беседе куратору земного отделения СК, Судя по всему, на мое сообщение не обратили внимания.
24-го под вечер Гавриил Никитич прибыл на Землю. Он был вымотан перелетом, раздражен, чем-то очень озабочен и ночью, как ни старался, ничего не смог и поэтому еще больше расстроился. А ведь на следующий день предстояла крайне важная встреча, и мне пришлось выбиться из сил, чтобы он хоть немного взбодрился и поверил в себя.
С утра вид у Председателя был усталый, но вполне довольный; облачившись во фрак, он сделался настолько импозантен и мил, что я долго не могла поверить, он это или все-таки опять двойник. Хотя двойника я, как правило, отличаю от оригинала:
Рядом с Гавриилом фигляр из Конфедерации, прикативший в резиденцию, выглядел попросту развалиной. Разумеется, этот демократический зоофил опять приволок с собой свою неизменную макаку: она крутилась у него под ногами и даже напоминала чем-то своего хозяина, хотя, на мой вкус, была гораздо привлекательнее его.
Беседа была совсем короткой.
Гавриил и конфедеративный болван подписали какие-то документы, обменялись ими, привстав, пожали друг другу руки (меня передернуло от гадливости) и одновременно нажали кнопки на странных овальных приборах, лежащих на столе.
Я, наверное, удивилась бы этой непонятной процедуре, но не успела, потому что в этот же миг произошло страшное…
По обоюдному желанию, хотя и вопреки всем инструкциям, встреча происходила на открытой веранде около сада. Резиденцию с вечера оцепили тройные посты КС и СК, в сад не проскочила бы и мышь, но именно оттуда, из темно-зеленой листвы, и прилетели стрелы.
Я стараюсь забыть — и не могу: сначала тихий свист, и тут же Гавриил Никитич вскидывает руки к горлу, пальцы его рвут бордовую бабочку — все слабее и слабее, а глаза уже совсем мертвые, и прямо под кадыком топорщатся желто-синие короткие перья.
Тянусь пальцами к кобуре: пистолета нет, только серый порошок, жирно липнущий к пальцам. Где оружие?!
Где?!
Я на миг растерялась, но кто бы не растерялся?
Разве что обезьяна!
И она среагировала мгновенно, куда профессиональнее меня; судя по всему, на конфедерата уже бывали покушения и ей приходилось работать не только на макетах.
Я еще не отняла ладонь от пустой кобуры, а зверюга уже выдернула, злобно воя, из-под тельняшки сверкающие ножи, метнула их куда-то в зелень и огромными прыжками помчалась вслед за жужжащими молниями.
Прыжок в гущу кустов.
Вой переходит в торжествующий визг…
И обрывается.
Когда я добралась туда, коллега умирала. Она поймала убийцу, она даже ранила его, но он оказался ловчее. Неподалеку валялся постовик из КС с перерезанным горлом, чуть в стороне — двое с эмблемами СК на шевронах, а тот, кто стрелял, сильно хромая, убегал через лужок.
Обернувшись, он увидел меня и, почти не целясь, выстрелил из большого пистолета. Секундно мелькнуло лицо: совсем обычный смуглый подросток, немного похожий на дархайца. Спустя еще секунду я зарылась носом в траву: в ноге, чуть повыше колена, трепетали все те же проклятые двухцветные перья…
Пистолет?! Или?..
Я не додумала. Не смогла. Я ничего не запомнила точно. Кажется, я привела всех погибших в порядок, уложив их на веранде. У Гаврюши и господина Президента были одинаково обиженные, ничего не понимающие лица. А коллега смотрела укоризненно. Помню, я поцеловала Гавриила в спекшиеся губы за себя и за Инессу, и мне показалось, что они слегка шевельнулись. Но этого же не могло быть… не могло!
И еще припоминаю, как я брела, спотыкаясь и падая, по вопящим улицам и меня обжигали языки пламени, то и дело вырывающиеся из окон первых этажей… Я брела в «Ореанду», сама не знаю зачем и к кому. И я боялась умереть, потому что во мне не ворочался еще, но уже жил человечек, которому умирать было никак нельзя…
А в разгромленном и загаженном отеле лишь в номере доктора Рубина все осталось на местах. Впрочем, имя хозяина я узнала через неделю, когда уже немного пришла в себя, и он, не очень интересуясь моим согласием, лег вместе со мной. В первый раз в жизни я ничего не ощутила в момент близости; он, наверное, был неплох, но мне было все равно, я лежала пластом, даже не думая делать вид, что мне хорошо, хотя, наверное, следовало бы сделать приятное хозяину номера, где меня пригрели и подлечили ногу.
Вместе со мной доктор приютил еще двоих: постоянно рыдающую брюнеточку Катрин (она кричала по ночам, звала то Аллана, то какую-то Эвелину) и толстенького лысого старичка — этот держался молодцом и даже ухитрялся добывать откуда-то консервы и медикаменты.
Мы мало разговаривали. Доктор Рубин объяснил нам, что был бунт, что квэхвисты резали людей, но вроде бы сейчас поулеглось. Я спросила: где полиция и где спецподразделения? Спросила без особого интереса; все это казалось мне тогда не настоящим, случившимся словно бы не со мной…
Он пожал плечами.
Изредка в дверь грубо стучали. Иногда хозяин выходил в коридор, иногда визитеры, смуглые, кого-то напоминающие мне люди в пятнистых куртках, заходили к нам. Но вскоре исчезали с гортанными извинениями. Когда толстяк поинтересовался, почему мы все еще живы, доктор Рубин, поглаживая себя по волосатой груди, заявил, что знает заклинание от «нгенгов».
Нгенг… Это слово мне что-то, кажется, напомнило. Но что? А, не все ли равно…
Не знаю, чего мы ждали. Но жизнь входила в свою колею; доктор ложился со мной все реже, чем-то ему приглянулась Катрин; он бывал с нею подчас даже груб, словно мстил за каких-то общих знакомых… Однажды я услышала из их комнаты «Чала» — и сразу же сдавленный всхлип.
Старичок Аркаша добывал все больше питания, половину отдавал хозяину, понемногу доставалось и нам. Однажды, понимающе покосившись на меня, он вынес и протянул мне банку тушенки из личных припасов, а затем прищурился с намеком… и я пошла на обмен, потому что тот, кто жил во мне, хотел есть. Впрочем, Аркаша не потребовал слишком многого…
Целый месяц я полужила-полудремала.
Целый месяц мы жили под защитой заклинания.
Но и его сила закончилась к концу августа. Очередные посетители не постучались в дверь, они просто выбили ее и ворвались в номер. Я видела, как рассекли голову старичку Аркаше, как завалили орущую Катрин… скоты были грязны и щетинисты… и вдруг все происходящее сделалось ярким, словно упала пелена, и я рывком поняла, что наконец-то проснулась!
Посмевший прикоснуться ко мне умер на месте, не пискнув. Я выскочила в коридор, где хрипел, дергая ногами, доктор Рубин, нагнулась над ним… нет, не помочь!.. рванула с груди амулет и, накинув цепочку на шею, помчалась вниз по ступенькам…
Странно: все происходило словно бы не со мной!
Я услышала голос и поняла, что это работают молчавшие много дней шары-информаторы. Они вопили, выли, орали. Срывающийся голос призывал «истинных землян» истребить скверну, смести с лица планеты пришлую дархайскую мерзость.
Воззвание повторялось каждые две минуты; я стояла, вжавшись в груду хлама, а в коридоре ревело:
— Режьте макак! Я — Солнце Власти, Единственный Вождь Квэхва, Эдуард Вышковский, несу ответ за вас всех!
Вот тогда я успокоилась.
Что бы ни происходило, квэхвисты тут ни при чем. Никто из них не посмеет гнусно говорить о Вожде А.
Я вышла на улицу, и первое, что увидела, — это сотни мелких схваток на набережной и черные столбы дыма над развалинами. Дархайцы в пятнистых куртках сражались, как львы, каждый против десяти — пятнадцати вооруженных… дархайцев же, одетых в пестрые национальные костюмы!
Я обращала внимание еще в июле: в этом сезоне на Земле было необычно много туристов с Дархая.
Сейчас они убивали друг друга…
Они?.. Но ведь… Нет! Не может быть!
Дархайцев убивали земляне. Но — земляне в развевающихся дархайских лвати?1
Люди вспарывали людскую плоть острым железом, и взвизгивающий лязг сливался в омерзительно-надсадный шелест. Ни одного выстрела! Почему? И кто эти твари в маскарадных лвати, которые давно уже никто не надевает на Дархае?!
Я постояла на пороге отеля, пытаясь осознать.
А потом крикнула:
— Л-ла тьянгг-г ре Андрей Аршакуни!
И мне ответили:
— Андрей Аршакуни с нами!
На клич ко мне прорывались истерзанные, порубанные, но не сдавшиеся дархайские борцы. Кто-то, лишенный половины лица, скошенного сабельным ударом, протянул мне меч, и я пошла вниз с крыльца, прорубаясь сквозь потные лвати лжеквэхвистов. Эти выродки были сильны только стаей против одиночек. Сотня настоящих бойцов, сплотившись, рассекла их, как топор полено.
И мы пошли вперед. Я вела или меня вели? Не знаю. Но нас становилось все больше. Из переулков, тупиков, подворотен к нам, отражая звонкую вездесущую смерть, рвались хрупкие пятнистые фигурки. Они падали, вновь поднимались, сбрасывая с себя бело-красно-грязное тряпье и рычащее мясо.
Дойти удавалось не всем. Но — многим.
Во время минутной передышки меня назвали Старшей Сестрой. И я поняла: этим людям нужно было объединиться, чтобы победить. Равные между собой, они не знали, как быть, а старшие групп, видимо, погибли в самом начале. Не появись я, знающая имя Андрея и не похожая на них, изверги перебили бы дархайцев поодиночке.
Борцы целовали значки с портретами Далекого Брата и Вождя А и просили меня вести их в бой.
— Что случилось? — спросила я, утирая пот.
Мне наскоро объяснили: по лучезарной воле Любимого и Родного они отправились на Землю, чтобы познакомить местных братьев квэхвистов с некоторыми новыми идеями, изреченными Вождем. Совместными усилиями должны были дархайцы и квэхвисты Земли развернуть страстную проповедь светоносных идей…
Курс лекций назывался «Плоды Ла».
Теперь — неожиданно — братья обернулись против них, и никто из имевших право командовать не вернулся с торжественного обеда…
Все это звучало чуточку высокопарно, но дархайцы не умеют лгать. Я ни на миг не усомнилась в их рассказе…
Нас было уже около двух тысяч, и к нам приставало все больше ободранных и озлобленных землян, выбегающих из полусожженных домов. На одной из площадей я впервые увидела, как плачут дархайцы. Они опустили мечи и окровавленными кулаками грозили небу, проклиная глоргтов, закутавшихся в ти-куанги борцов.
Посреди площади, подвешенные к фонарному столбу, болтались на закопченной медной цепи обгорелые человеческие останки.
— Смотри, Старшая Сестра, как харрингенг Вышко расправился с кайченгом Лоном Сарджо, лидером нашей группы!
Там, на площади, я наконец поняла все.
Это конфедераты. Конечно же, грязные конфедераты!
Я же говорила Гавриилу: от них можно ждать всего.
А он лишь посмеивался. И дождался!
Прикрывшись пустой бумажкой, демократические выродки подготовили мятеж. Они убили моего Гаврюшу. Они не пощадили и своего Президента, разыграв его, как шестерку. Они перебили моих сограждан, обитавших на Земле, а затем обрушились на дархайских туристов, ослепленные волчьей злобой против мира и прогресса.
Кто он, этот Солнце Власти, Вышко? Чего он хочет?
Не важно. Кто бы он ни был — властолюбивый маньяк, сотрудник КС, платный провокатор, — его путч направлен против двух единственно верных оплотов Справедливости в Галактике.
Против Единого Союза и Дархая…
Мы добрались до логова подонков и выжгли его дотла. Хорошо помню: в углу чисто прибранного двора Клуба Гимнастов-Антикваров я поразилась, увидев высоченный — тысяча? две? — штабель подгнивших человеческих тел, подготовленный к сожжению. Канистры с бензином стояли рядом; огонь просто не успели поднести, а на тех, кто лежал в штабелях — на всех-всех, — были военные мундиры…
Из комнаты в комнату шли мы, вычищая грязь, соленые комки летели в лицо из-под вертящихся лезвий, и не было времени ни оглядываться, ни утираться…
— Харрингенг! — закричал кто-то за моей спиной.
Я обернулась. Вжавшись спиной в стену, стоял тот человек, что заговаривал со мною в баре — давным-давно, целый месяц, целую жизнь назад. Пока еще живой. Вокруг было тихо…
Все кончилось. Мы победили. И только он, последний из нгенгов, был жив, и волнистый крис дрожал в его руке…
— Кто ты? — спросила я, запретив борцам убивать.
Он промолчал. Он не хотел говорить со мной.
Как учили на курсах, я сжала взгляд в точку и вонзила его повыше переносицы нелюдя. Стало больно. Выжигая чужую волю, убиваешь и себя. Но результат порой стоит того.
— Кто ты?
— Я — Эдуард… Вышковский… — выхрипел он. — Солнце Власти.
И я поняла, что он не лжет. Он верил!
— Конфедерация? — спросила я, не сомневаясь в ответе.
Но ошиблась.
— Гниль! — ненавидяще скривился нгенг.
— Союз?! — В это я не могла поверить. Но спросила.
— Гниль! — повторил он с еще большей ненавистью.
— Так кто же ты? И зачем?
— Гниииииль! — В крике уже не было смысла. И в допросе.
Глаза его внезапно расширились. Щелкнул об пол выпавший из рук крис. Нгенг смотрел на меня. На мою грудь. И борцы, построжев лицами, тоже смотрели — на выбившийся из-под блузки амулет доктора Рубина.
— На тебе — знак власти, врученный Вождем кайченгу Сарджо, Старшая Сестра, — бесстрастно сообщил мне седой дархаец, стоящий рядом. — Убей харрингенга, Старшая Сестра!..
Людское кольцо вокруг меня раздвинулось, словно я внезапно стала занимать больше места, чем обычный человек.
И я приняла это как должное. И, надменно вскинув голову, поднесла к сухим губам знак моей власти.
Красно-черный самодельный значок фэн-клуба «Челесты».
— Взять его! — приказала я. И не узнала своего голоса.
Нелюдь не сопротивлялся, когда ему заламывали руки. Он был сломлен. Теперь он хотел одного: жить.
Мне же хотелось смеяться. Нет, в самом деле, разве не смешно: здесь, на Земле, совсем недавно были футбольные клубы! Разве не смешно? Разве не смешно?! Разве не?..
… На закате харрингенг предстал перед судом.
Приговор надлежало исполнить мне, борцы ждали этого, я знала и мне хотелось, очень хотелось сделать это своими руками, но тот, кто живет во мне, запретил.
Я ушла со двора, приказав не медлить. Но еще долго-долго, больше трех часов, до тех пор, пока на западе не угасли последние отсветы ушедшего на покой солнца, сквозь затворенное окно пробивался хриплый, бесконечно жалобный вой.
Оставленный наедине с борцами, умирал харрингенг…
Сейчас на Земле спокойно, если можно назвать покоем тишину душегубки. Кое-как наладилась связь: города откликаются, и некоторые согласны признать контроль Земного Центра…
Другие… До них еще дойдут руки. Может быть. Но Лондон, Чикаго, Шанхай, Кампала — молчат. Молчит вся Америка. Вся Африка. И Азия тоже. Тишина везде, где нгенги, издыхая, сумели взорвать атомные станции…
Они не прошли — это главное. Они перебиты. Остатки затаились в норах. Это не страшно. Страшно другое — нелюди сделали все, что смогли: среди выживших почти нет инженеров, ни одного учителя. Сгорели склады. Взорваны плотины. Не удалось спасти космолеты, но к чему они, если нет навигаторов? Живые молят о помощи: начались эпидемии. Чем помочь? Нечем. Ни аптек, ни врачей. Нгенги позаботились и об этом.
Дальняя Связь молчит. Что с Внешним Миром? Где помощь?
Не знаю. Никто не знает. Хочу верить, что дьявольский план конфедератов провалился и Союз жив. Иначе корабли ДКГ уже давно были бы здесь. Но если нгенги не прошли, так почему до сих пор здесь нет кораблей Союза?!
Ответ один: что бы ни произошло там, за облаками, Внешнему Миру пока не до нас. И, значит, мне нельзя плакать.
Потому что я одна несу ответственность за миллионы жизней… нет, скорее за сотни тысяч. Или — за десятки?..
И еще за одну, самую важную. Ту, что уже бьется во мне.
Я научилась приказывать и карать.
Иначе нельзя: люди напуганы, голодны, больны. С ними нельзя сегодня быть доброй, потому что они обезумели.
Как же легко они все-таки обезумели!..
Ну что ж. Смертны люди. Надежда бессмертна. О нас вспомнят. Иначе не может быть. Не скоро? Пусть так. Братья мои, дархайцы и земляне, вместе стоят на страже у дверей. Мы готовы ждать. Мы будем ждать. И мы дождемся.
Так говорю я, Старшая Сестра Эльмира, в его двадцать третий день Ожидания…
И ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО ОТРЫВКОВ ИЗ «ОБЩИХ РАССУЖДЕНИЙ»
(Вместо эпилога. Или еще нет?)
И знаете, что я сказал по поводу всего этого? Правильно: «Аминь». А мог бы, между прочим, сказать и «кисмет». Да и еще много другого-всякого, не запрещай сан сквернословить. Одним словом, чему быть — того не миновать…
Хотели того сатанги или нет, но именно они подложили человечеству свинью и, вынув камень из-за пазухи, кинули его в Галактический огород, да еще и показали кукиш в кармане.
Вам кажется, я опять чересчур образен? Что поделать — такова была объективная реальность. И все мы, современные и образованные люди, так сплясали под их дудочку, что сегодня единственным более или менее нормальным в просторах Галактики остается, кажется, ваш покорный священнослужитель, стааа-а-а-аренький папка Бенедикт XXVII.
Боэций боэцием, и о том, как делить его, в конечном итоге договорились, да вот результатом всей прелести оказалось нечто уж очень невнятное, именующее себя режимом, прости Господи, каких-то квэхва.
И ведь поначалу никто ничего и не понял!
Открылся паритетный институт, начали исследования, а сатанги, уладив конфликты в рамках культурного мира, решили, разнообразия ради, поработать и в провинции. К примеру, на все том же Дархае. Они выделили несколько особей для консультирования тамошнего мальчугана — вы ведь помните… да, того самого А Ладжока, который прислал мне однажды свой портретик шесть на девять. И так, очевидно, наконсультировали, что мальчишечка, когда немножко подрос, осмелел до того, что погнал в шею с планеты не только послов обеих держав, что еще можно как-то понять, но и, чуток обождав, самих сатангов.
Кто знал — недоумевал, но в конце концов события на Дархае — внутреннее дело суверенной страны, и их оставили в покое, благо поставки боэция А Ладжоком благоразумно не прекращались.
А вот сатанги, представьте, обиделись! Во всяком случае, позволили себе хоть какую-то эмоцию. Они решили лишить Дархай своего благосклонного внимания и занялись работой на благо остального человечества.
К тому времени многим из власть имущих стало очевидно, что назрело объединение. Конфликты мало того, что попахивали гордыней, так еще и переставали самоокупаться. Если нет причин воевать — зачем армии? Если даже мафия остепенилась — к чему полиция, тюрьмы, палачи? Если люди способны заботиться о себе сами — на фига целый штат перстов указующих?
С другой стороны, к объединению было не подступиться, пока арсеналы ломились от оружия. Не приведи Господь, возьмет да и рявкнет. Само. Или кто-то, паритетно разоружаясь, что-нибудь да и прибережет. И что?.. Если же уничтожать с гарантией, то как?
Вопросы, вопросы, вопросы… и никаких ответов. Не меньше полусотни, а по моим сведениям, так и вся сотня солидных корпораций подряжалась демонтировать железки, но, узнав условия — все и сразу, — все как один отказывались, дружно плюнув на гонорар.
Представляете? Тут-то сатанги, донельзя довольные, надо сказать, логикой событий, и предложили помочь: вы, мол, подпишите чин чином, а мы уничтожим. Все и сразу, как заказано. Под «все» они разумели, естественно, оружие солидное, сделанное на базе высоких технологий. А мечи, бумеранги, всякие там сюрикэны и прочий антиквариат оставался человечеству на память. Нельзя же уничтожать музейные ценности…
И никто не удосужился задуматься, что именно такими ценностями и были с некоторых пор перевооружены дархайцы. Смекаете? То-то. А Галактика, к сожалению, так и не собралась смекнуть. Христопродавцы-журналисты даже похваливали иной раз Вождя А за решительный шаг вперед по стезе разоружения.
Как сатанги оформили оружие — Бог веси, но сделали они это основательно, со всей сноровкой и аккурат в момент подписания. Вот было только что, а вот и нет его.
И сразу же А Ладжок приступил к построению Всеобщего Единства в галактических масштабах. Не ладилось у него там что-то на Родине, судя по всему, вот и решил выйти из кризиса путем неординарным. Долой, понимаете ли, противоречия!..
Почти четыре миллиона молодых и обученных дархайских туристов осматривали достопримечательности основных планет обеих держав как раз накануне заключительной встречи в верхах, и их весьма гостеприимно встречали наши доморощенные квэхвисты… О, я же совсем забыл! — среди общего благоденствия тех дней было полно полагавших, что благоденствуют не в соответствии с заслугами. И таковые толпами уходили в самые разные нирваны и нирваночки, в том числе, увы, и в изучение квэхва. Право, уж лучше бы сийсили себе понемногу, прости опять же Господи, сотюшек, оно бы и ладно было.
Но кто ж мог знать?
Так вот, в братском единении они и принялись к вящей славе Ладжоковой кротко пропагандировать означенные идеи на трех с лишним десятках планет единовременно. Хвала тебе, Боже милостивый, милосердный, что на Авиньоне нам вполне хватало веры в тебя. Отчего и живы. Ведь духовенство пропагандировали в первую очередь. Почти как интеллигенцию и журналистов. Подряд. Судя по всему, земные братья заранее подготовили списки для агитбригад.
… Вся кампания поначалу шла столь успешно, что уже на пятый день «Голос Дархая» передал речь А Ладжока, в коей Железный Вождь поздравлял возлюбленных младших братьев с полной победой Единства в планетарном масштабе и сообщил, что принимает на себя нелегкие обязанности гаранта стабильности в Галактике.
И вот тогда-то, не раньше и не позже, проявилась в полный рост вся красота комбинации!
Идея полного Единства прекрасна, спору нет. Но не для всех же! Кое-кто рассуждал совсем иначе. Сперва, понимаешь, вояк на пенсию, потом, глядишь, жандармерию туда же, а после… а? То-то. Пенсий не хватит! Такие разговоры велись втихомолку, вприкидку, все больше по саунам и охотничьим домикам. Но велись! А те, кому следовало бы о них знать, ничего не знали, поскольку те, кому следовало бы сообщать, сами в таких беседах активно участвовали.
Не спорю, сомневавшихся тоже можно понять. Я и сам не лишен тщеславия. Но когда мне сказали однажды, что мое место в сумасшедшем доме, я плюнул и ушел туда, куда послали…
А эти ребята предпочли превратить в дурдом всю Галактику.
Ах, нет конфликтов? Так будут! — решили они.
И задумались: откуда взять, если действительно нет?
Вот тут и подвернулся А Ладжок с его экспортом плодов ла и мечтой о расширении всех видов экспорта. Что стоило шепнуть ему пару слов? Не малыш уже, должен сообразить, особенно ежели добавить, как его, Ладжока, везде чтут и до чего обожают. Поверит, куда денется, привык уже верить в такое…
И поверил. И клюнул на свою голову. Ибо никак не учел, что имеет дело с такими зубрами, рядом с которыми сам едва-едва паршивый ослик…
Схема-то была проста: сперва туристы вкупе с земными идиотами пропагандируют всех, кто шибко умный и не нуждается в отеческой опеке, потом земные кретины пропагандируют туристов, чтобы всякие инородцы закаялись впредь вмешиваться в великое и святое, а на предмет урегулирования шероховатостей с психами-землянами были заранее подготовлены и настроены застоявшиеся в стойлах стратеги и тактики, соскучившиеся по размахиванию острыми предметами…
Красиво! Богато! Шикарно, я бы сказал…
На Дархае неприятно удивились. Во всяком случае А Ладжок даже захворал с горя, а через четыре дня и вовсе скончался после тяжелой непродолжительной болезни. Именно так гласило коммюнике, подписанное членами Временного Совета Равных. Спустя еще неделю некое Око Единства порадовало Галактику, сообщив, что убийцы Железного Вождя (читай: Временный Совет) разоблачены и стерты с лица Дархая. Ровно через десять дней, вопреки предыдущим данным, эфир сотрясли откровения какого-то Комитета Спасения и Возрождения. Данный Комитет объявил об исполнении приговора в отношении так называемого Ока Единства, ближайшего подручного и подлинного убийцы кровавого тирана и авантюриста А, вместе с ним несущего ответственность за гибель миллионов юных борцов.
Затем названия комитетов, советов, ассамблей, собраний, центров и хунт замелькали, словно в калейдоскопе, исправно пополняя коллекцию разоблаченных, низвергнутых и посмертно реабилитированных. Иные резвились по два-три часа, кое-кому везло подольше. Лично мне запомнилась колоритная дама Тиньтинь Те, объявившая себя мужчиной по имени Вакилья, якобы отпрыском Оранжевого дома по линии бастардов Огненного Принца Видратъхьи и в течение целых двух дней называвшая себя Харьядарваном X Ранкочалар. Если не ошибаюсь, он (она) успел (ла) издать Ордонанс о Реставрации, после чего в обе столицы вошли наконец, кажется, даже без боя, отряды горцев генерала Тан Татао. Затем Дархай надолго умолк, и что творилось дальше — Бог весть. Последним всплеском активности после длительного молчания стал усталый, подхрипший от вдохновенного восторга голос: «Говорит Свободный Нол-Сарджо-Тун! Пусть славятся и живут в веках бессмертные идеи юх-квэхва-юх! Друг Джугай с нами!»
Помню, радио замолкло, потрещало и завершило: «И пусть знает оранжевая свора, засевшая в Барал-Гуре, что Дархай все равно будет Единым!»
… Да, план был хорош. Однако никто не учел побочных эффектов. Две недели славной, от души и сердца организованной резни изрядно оздоровили общество, избавив остаток населения обеих держав от вредных мыслей на всякие темы. Заодно с головами, такие мысли придумывавшими. И основной задачей населения, помимо упорного труда и лояльности перстам указующим, сделалась мечта о лютой мести подлым конфедератам, развалившим Единый Союз, и, соответственно, мерзким заединщикам, растоптавшим демократическую непорочность Конфедерации…
Редкие рейсы чудом уцелевших космолетов из порта в порт поддерживали иллюзию существования держав; на деле же мудрые и абсолютно легитимные лидеры каждой отдельно взятой планеты знать не знали и слышать не собирались о какой бы то ни было центральной власти и подчас уже рекомендовали подчиненным требовать побольше подлинного суверенитета.
Единственная накладка: как сообщают достойные доверия источники, дебилов на каждой из Содружества Независимых Планет рождается все больше. Но это уже забота медиков.
Которых, между прочим, тоже почти извели в ходе чистки.
К слову сказать, было и исключение: Земля.
Еще в дебюте на Планете-для-Всех произошел сбой. И виной тому был некто… кажется, Верховенский?.. или нет? — я не силен на имена. Плановую критику он провел едва ли не успешнее всех. Но — нетривиально. Держу пари, у этого умника имелся кой-какой административный опыт; во всяком случае замыслы устроителей шоу он просек. И внес коррективы, справедливо полагая, что есть пророк и в Отечестве своем. Порезав излишних болтунов, он взялся не за дархайских туристов, как следовало бы по плану, а наоборот — за бедных вояк, никак не ждавших этакого подвоха. И лишь потом, предупредив возможные эксцессы, показал «макакам» (так он называл собратьев по идее), кто в доме хозяин. Впрочем, под конец накрылся и сам. Почему? Точно не знаю, а врать не люблю…
Что там сейчас и как, известно смутно. Мало достоверной информации. Одно точно: ничего хорошего. Понятное дело, планета-курорт, без всяких ресурсов, да к тому же и со взорванными энергоблоками. Надеюсь, сколько-то душ все же выживет в городах-музеях. А может быть, кому-то из особо везучих посчастливится удачно одичать.
Скорее всего недораскритикованным туристам с Дархая.
Насколько мне известно, они забились в самую глушь, от мира отгородились напрочь — и ждут избавителя. Не Вождя, как ни странно, в Вожде они хоть и тупые, а все же разуверились. А — вы не поверите! — того самого принца Видратъхью, о коем я уже вскользь поминал. Мол, спустится в назначенное время с небес и уведет на Дархай…
Что ж, в конце концов, любая вера достойна уважения.
Поболе их преуспели уцелевшие наследнички пророка со славянской фамилией. Заняли недогоревшие небоскребы, наловили энное количество очумевшего населения, нарекли пойманных лохами и повелели оным пахать и сеять. Ибо, по их разумению, меч рождает право, а тот, у кого меча нет, и есть лох.
Там весело. Поскольку они, отдав должное, изобретательны и полета фантазии не чужды. Что скажете, к примеру, о праве первой ночи с обоими новобрачными подряд прямо на Круглом Столе?! Впрочем, те из них, которые мягкотелые либералы, пока еще не словили полного кайфа. Они обходятся без жениха.
Каждую пятую среду они созывают толковище в центре бывшей Одессы и держат отчет перед Великим Бригадиром. С недавних пор пост сей прочно занимает некто Йошко I Крутой, в девичестве Бабуа. После разборки полетов — короткая тризна и разъезд делегаций. До следующей пятой среды.
Были, правда, и такие слухи, что кое-кто на Земле верит в нас, грешных. Боюсь, не воздается им по вере их… Да и на пользу ли пойдет помощь от тех, кем мы все стали?
И есть еще, говорят, там какой-то Старец…
И ведомо, дескать, ему все, что было и что еще будет.
Но об этом — молчок! Что я, дурной, о таком к ночи?..
… А у меня на Авиньоне — благодать. Одна беда: бедняжка Джамбатиста совсем свихнулся и теперь сам пользуется моим пони. Прямо в библиотеке. Мне же не до шалостей. Забот полон рот: обустроить беженцев, по счастью, малочисленных, к делу приохотить. Ну и, конечно, внушить веру, ежели сумею…
Трудно! Но — пытаюсь. И не без успеха. А говорили — шизофреник. Ох-хо-хо! Да я нормальнее многих, а по нынешним-то временам, так, пожалуй, и всех!..
Боженька! Хоть мы порой и ругались, но шепни мне на ушко, будь добренький: на хрена Тебе все это было нужно, а?.. Я ж никому ни полсловечка, Ты ж меня не первый год знаешь!..
А сатанги исчезли, словно и не было их вообще.
Впрочем, возможно, и не было, дети мои, возможно, и не было. Очень возможно.
Хотя — как сказать…
ХРОНИКА ТРЕТЬЯ. Операция «Ностальгия»
ГЛАВА 1. «БРАТВА, В НАТУРЕ, СФИЛЬТРУЕТ БАЗАР…»
Земля. Месяц пробуждения цветов. Люди башен
13 апреля 2233 года по Галактическому исчислению
Солнце взбесилось нежданно. Вчера еще пристойно теплое, как ему и подобает по ранней весне, оно полыхнуло с утра, вмиг раскалив небо добела, и влажный ветерок, лениво тянущий с моря, к полудню превратился в сгустки испарений, забивающих глотку почище комьев промасленной пакли. Мгновенно распахнулись неторопливо набухавшие почки. Молоденький тоще-долговязый лесок, некогда бывший бульваром, за пару часов оброс яркой, даже и на взгляд, липкой зеленью свежей листвы и шуршащей занавеской закрыл вид на море: и пока еще серую, но начинающую понемногу наливаться синевой гладь воды, и руины порта, скалящиеся обломанными клыками проржавевших кранов.
Вид открывался с пятого этажа и выше, но туда хода не было: рухнувшие лет десять тому лестничные пролеты не вели никуда, и даже сумей кто-то настырный чудом взобраться по остовам гнилой арматуры, он был бы разочарован: от пятого, заложенного наглухо кирпичом этажа тянулись в небо лишь перекореженные развалины.
Окна же заселенных уровней были затворены намертво; незачем было смотреть вниз, да и не хотелось, тем более что все окна, кроме бойниц, были заперты. Лишь те, чей черед выпал заступить на шухер, сидели в тесных проемах, сторожко вглядываясь в происходящее под башнями, ловили малейший намек на угрозу. Лица парней, одетых, как и подобает в военное лихолетье, просто и невычурно — легкие тренировочные брюки напуском на кроссовки и безрукавки коричневой кожи на голое тело, — были сосредоточены и не обременены печатью раздумий: не выслужив хотя бы тоненькую рыжую цепочку, не имеешь права и размышлять.
Пусть думает лошадь. У нее голова большая.
Или пахан. На то он и пахан.
Но лошади паслись сейчас вдалеке от башен, стреноженные и поставленные под надежный присмотр. Не хозяйский, нет. Они чувствовали беду и ржали, выкликая хозяев, но тщетно…
Конюшни были захвачены еще в первый день, с лету.
А тот, кому полагалось думать за всех, думал. Напряженно и сосредоточенно. И никак не мог придумать ничего. И оттого медленно стервенел.
Ибо надежды не было.
К полудню пятых суток осады хаза скисла по жизни, и кодле, почти всей, от седоусых козырей до последней, не нюхавшей еще серьезных разборок сявки, сделалось очевидно, что ловить уже нечего.
Умные фраера не пошли на приступ, они путем прикинули, каково станет рубиться в хитрых закоулках хазовых переходов и путанице галерей. И поступили мудрее: попросту обнесли все три башни хазы невысокой стенкой в человеческий рост, за пару часов накидав ее из битого кирпича и перекрученных обрезков арматуры, а потом оцепили их по периметру кольцом лучников и принялись ждать, зорко контролируя оба подъезда и сбивая стрелами взмывающих из окон почтовых голубей.
Последний турман хазы был сбит на третий день осады.
Тогда же, окончательно врубившись в расклад, пахан приказал рыпнуться внаглую. В этом был определенный смысл: навязав фраерам рукопашную, можно было надеяться сделать их вмокрую до того, как лучники успеют вписаться в гасиловку. А потом вызволить лошадей и дернуть за атасом в хазы Поскота. Слабая надежда, в натуре, и все же.
Поэтому рыпнулись без гнилых ломов, с яростным нахрапом отрицаловки, врезались в мгновенно сомкнувшиеся ряды осаждающих — и откатились вспять, к подъезду хозяйственного корпуса, оставив на пыльных вздыбинах треснувшего асфальта пятерых самых борзых из шпанки и даже одного козырного, поймавшего, несмотря на крутую выучку, длинное фраерское перо в бок.
Фарта не вышло. Контратакуя, фраера погнали давшую ноги братву, не давая опомниться, и на плечах бегущих ворвались в холл хозяйственного корпуса. Территория хазы сократилась ровно на треть, хуже того, накрылись кладовые с прикидом, железом и, главное, со жратвой. Вторые сутки там копошатся группки фраеров, перебирая и распихивая по телегам трофеи.
Утрата конюшен лишь предвещала полный звездец. Потеря хозхорпуса сделала его явственно ощутимым.
Но самое страшное: к полудню, отыскав заветные места по наводке ссучившихся в момент лохов из поселка, осаждающие перекрыли водопровод. Как раз накануне нежданно упавшего на зону зноя…
Теперь разве что шпанюки-шестерки, едва-едва выбившиеся в люди из лохов, и то не все, а самые тупые, могли питать какую-то надежду. Да еще пидоры. Но они, мало терявшие при любых вариантах, ни на что и не обращали особого внимания, а суетились под клиентами в обычном темпе, словно и не замечая тяжелой тишины, пропитавшей духоту коридоров.
Братва расползлась по нарам, глуша тоску, и то тут, то там время от времени возникали — пока еще сквозь стиснутые зубы — тихие, шепотливые, но очень нехорошие базары…
Катили на пахана. И ему было известно об этом.
В три пополудни у первого подъезда протрубил рог: фраера изволили наконец прислать парламентера.
Спустя несколько минут безоружный фраерок с белым флагом был встречен у входа и препровожден в башню.
А в четыре пахан объявил сходняк.
Кряжистый и седой, с малоподвижным, почерканным бугристыми шрамами лицом, прикинутый строго по закону — в единственный на хазе костюм с галстуком в тон, он сидел под мраморным изваянием Хранительницы, возвышающейся в межоконном проеме, и медленно оглядывал собравшихся.
И сквозь тяжелый прищур набрякших век наряду с беспокойством сквозила гордость.
Было чем гордиться? Лучшая кодла зоны, не имеющая равных даже среди дурных хаз на той стороне залива, сидела именно за этим столом; пахан расчетливо не жалел дувана, сманивая к себе всякого, чье имя прогремело на толковищах; умный, он жертвовал долей, приобретая неизмеримо большее. Недаром паханы ближних хаз, да и не знающие закона блатные Поскота все опасливее и опасливее косились на венчающую бульвар почерневшую от давнего огня корону трехбашенной хазы.
Отборные урки сидели здесь — все, как один, невзирая на удушливую жару, затянутые в кожу, соответственно случаю, все — с массивными цепями на мощных шеях, почти все — с золотыми же браслетами.
Иным из них не западло было бы и основать собственную хазу: на первый же свист отозвалось бы немало братвы. Однако же доныне такого не бывало ни разу, и этим тоже по праву гордился пахан. И хотя облом последних дней изрядно поколебал веру братвы в паханский фарт, но пока что авторитеты, все до одного, привычно опускали глаза под пудовой тяжестью взгляда того, кто возглавлял стол.
А перед ними, спиной к двери, стоял посланец — парень в начале пути, не более пятнадцати весен от роду, но до краев наполненный силой. Меховая, из шкуры дикого дворового кота безрукавка чуть прикрывала широкие плечи, и еще были на нем узкие брюки, некогда именовавшиеся джинсами. Они были ветхи, но посланец, видимо, гордился ими и не раз уже обновлял, ставя на прорехи домотканые заплаты.
И был он единственным, не опустившим глаза под изучающим прищуром пахана.
— Говори! — дозволил пахан.
Посланец расправил плечи и стал словно бы выше ростом.
— Так говорит Старшая Сестра! — начал он, и с каждым словом голос его делался все звонче. — Люди правды пришли не по ваши жизни. Люди правды хотят выкупа. Тогда они уйдут.
Братва коротко переглянулась.
И сам пахан чуть приподнял бровь, изумленный.
Выкуп?! Неслыханное дело! Не было такого, чтобы фраера наезжали на бригадных, потому они и фраера. Ужели мир перевернулся? Но если так, то, значит, ничего не потеряно и зря погибли кореша на разборке. Выкуп есть выкуп, и фраера ответят потом…
— Чего не хватает людям квэхва? — доброжелательно улыбнулся пахан. — Есть у нас прикид — можем поделиться. Найдутся и лишние лохи, способные пахать…
И вновь братва перекинулась многозначительными взглядами вполприщура.
Умен пахан! Самое ценное, что держит хаза, назвал он, не затягивая базара, но и самое бесполезное для фраеров. Кому неведомо, что прикид козырных не носят они, лохов же не держат и не желают держать?
Посланец покачал головой.
— Чего же хотят люди квэхва?..
И посланец назвал цену. А назвав, приготовился умереть, ибо никогда и никому, произнесшему подобное, ни одна кодла не позволила бы остаться в живых.
Даже под угрозой собственной гибели.
И он бы умер на месте, глупый юнец, если бы пахан, тяжко грохнув перстнями о полировку, не заставил скрыться в ножны уже выскочившие на волю перья.
— Иди. Жди. Ответ будет. — На устах пахана уже не было улыбки.
И когда сявки вывели оборзевшего фраерка, в зале воцарилось нелегкое молчание. Не сговариваясь, братва скрестила взгляды на мраморном изваянии, осеняющем кресло пахана. На фигуре клевой телки, округло стройной, нежной и шелковистой, словно бы и не каменной вовсе, чью красоту никак не портило даже отсутствие невесть кем и когда отбитых рук.
На Хранительнице хазы.
Ибо такова и была цена.
Братва молчала.
Молчали козырные, потеющие — все пятеро, как один, — в одинаковых куртках из скрипучей черной кожи, умостив квадратные подбородки на тяжелые кулаки.
Молчали подкозырки — дюжина бугаев в куртках из ломкого коричневого заменителя, невыносимого в носке, но положенного законом на сходняке.
И конечно же, молчали сявки, не имеющие права голоса, но обладающие привилегией слушать старших и набираться ума, что само по себе возвышало над обычной шпаной.
Сходняк ждал первого Слова.
И оно не замедлило всколыхнуть вязкую тишь.
И было это Слово:
— Беспредел!
По праву прожитых весен сказал это козырный, занимающий кресло по левую руку пахана. Иссиня-сед и мутен глазами был он, помнящий еще те давние годы, когда хазы лишь начинали править закон и на тоскующую впусте землю первые блатные сгоняли первых лохов, не по делу забывших о первейшем долге человека долге на труд и о высшем праве его — праве иметь над собой господина.
— Беспредел! — повторил старик и заплакал.
И братва оцепенело смотрела, как горько, по-детски рыдает вещий старец, оплакивая себя, дожившего на исходе честно и славно прожитых лет до такого позора.
Чудовищный выкуп затребовали фраера. Забрать Хранительницу — вырвать у хазы душу. Такое бывало раньше, давно, когда не отгремели еще кровавые войны за передел зоны и братва еще не установила закон. Но те времена минули, и цена жизни кодлы мудро облеклась в кипы прикида и головы лохов. Отданное ради мира всегда можно взять, накопив силы для крутой разборки. Но — Хранительница?! Что в ней фраерам, живущим не по благородному закону хаз?..
И первым словом, повисшим на устах каждого, было: «Нет!»
Так требовал закон. И еще он указывал отделить кощунственный язык, осмелившийся высказать такое, вместе с головой, голову же, окутав шелком, отослать тому, кто прислал гонца.
Но каждый из сидящих здесь помнил о судьбе ближайших соседей, сидевших в хазе у моста. Там сейчас одни лишь руины, и обнаглевшие лохи играют на пепелищах отрезанными головами тех, перед кем вчера еще пресмыкались…
Причина лютости фраеров, доныне загадочная, стала явной. Конечно же, мостовым тоже предложили такой выкуп; но они не сдали своего мраморного мужика с пращой, нет, они гордо отказались и поступили с посланцем по закону; и их выморили жаждой, а потом перестреляли, как петушков, до последнего шпанюка…
— Жду базара! — обрывая тишину, произнес пахан.
И лица братвы окаменели.
Вякнет ли кто? Последнее слово закон оставляет за тем, кто сидит во главе стола. Если же слово это — единственное, значит, вера в паханский фарт жива и решать ему. А коли нет — тогда пусть несогласный качнет права и перьям решать, кому как стоять на хазе…
— Есть базар!
Конечно же! Козырь вторых этажей ударил перстнем о перстень в знак желания вякнуть, и на лице пахана не было удивления. Если от кого из братвы и стоило ждать подляны, так именно от этого, борзого не по летам. Всем известно, что козырю вторых этажей не в кайф шестерить. Что ж, он в глухом авторитете, и не только на своих этажах.
Увы, умом он не блистал никогда. Возможно, поэтому и не косил ставить собственную хазу, хотя пустую башню в округе отыскать нетрудно и кореша за ним пойдут. Сам знает, что не управится. Проще взять под себя уже обустроенное…
Не говоря ни слова, пахан скинул на руки подскочившему шестерке пиджак и галстук и накинул на плечи скрипуче-глянцевую черную куртку. Непомерного веса цепь мелькнула на груди, в тугих завитках пего-седых волос, выбивающихся из-под полурасстегнутой рубахи.
Став одним из равных, он готов был слушать.
— Фраеров надо мочить, я давно говорил! Мочить, а не травить с козлами баланду!
Что спорить — козырь вторых этажей виртуозно владел благородной речью хазы, много круче, чем старики, пожалуй, и чем пахан. Он был молод, он вырос с этой речью, отличающей истинного воина от ничтожных поселковых землероек. И еще он был смел. Но — не более того. И не таким решать судьбу хазы.
— Выйди и замочи! — очень спокойно отвел наезд сидящий во главе стола.
И братва хмыкнула. А серые глаза козыря вторых этажей, не терпевшего насмешек, налились кровью.
— Можно пробить крышу и кинуть дымы! Блатные помогут; фраера скиснут, если встанет вся масть.
И братва хохотнула, уже не стесняясь. А тот, кто сидел во главе стола, даже не стал отводить дурной наскок.
Круто заявлено: вся масть! Когда оно было в последний раз, чтобы даже не вся, а хотя бы кодла ближних хаз шла на дело по связке? Да, бывало такое! И фраерам тогда житья не давали, и даже черных — тех, что сидят за заливом, щупали не по разу. Было! Но где эти дни?..
— Гнилой твой базар, корешок! — отхохотав, вставился кто-то из подкозырков. — Ладно свистишь, а не по делу. Кому не известно: скурвилась масть. Друг друга едим и тем сыты бываем…
И покосился тишком: доволен ли вставкой тот, кто сидит во главе стола?
— А Бригадир?! — Губы козыря вторых этажей дергались, и в уголках их уже вскипала белесая пена. — У него ж мусоров немерено — три сотни лбов, кабы не пять! Что мы, за так долю на общак сдаем?!
Козырек порол фигню и с каждым словом падал все глубже, сам того еще не соображая. Но остальные соображали отлично, даже безгласные сявки. И шестерка, бережно держащий на весу пиджак и галстук, сделал осторожные полшажка обратно к торцу стола.
— Бригадир? — опередив соседа, подал голос еще один подкозырок. — А ему как раз и по кайфу, что хаза хазе глотку рвет. Против общего слова какой он Бригадир? Ты вот, корешок, попробуй-ка на общак не сдать, так тут песня иная: в момент мусора под хазу придут…
И братва хмуро закивала.
Известно: легавый бригадному не товарищ; мусор козырю не поделъник…
Базар спекся. Никто не пойдет за дураков, это было уже вполне понятно. Всем, кроме козыря вторых этажей, окончательно сорвавшегося с катушек.
— А вот при Бабуа!..
Он вдруг побелел и затих. Но поздно. Что он мог помнить о бывшем в дни Бабуа? Ничего. Да никого это особо и не колебало. Но сидящий во главе стола сам был из тех, кто некогда замочил Крутого Йошку на малине, качая волю для хаз, и сказавший вслух о той давней бузе должен был либо заделать седого козыря, либо умереть сам.
А козырек вторых этажей был горазд звездеть у параши, но не умел прикидывать наперед.
И поэтому умер.
Свистнув мимо лиц братвы, тонкое перо вошло ему под кадык, и тело бывшего авторитета грянулось оземь, раскинув по сторонам отягощенные фунтом золота ладони.
Сидящий же во главе стола не спеша повязывал галстук, и никто на весь сходняк уже не осмелился возбухать.
— Гаси базар, братва!
Пахан говорил веско и кратко. Его власть была подтверждена и признана, но вместе с правом власти вернулся и ее долг. Ему, никому иному, надлежало ныне выручать хазу.
— Фраера не понтуют. Им нужна Хранительница, и они возьмут ее. Отдадим будем живы. Не отдадим — скачают с моченых, как у мостовых. Надо отдавать. Пока еще лохи не поймали фасон…
Мудро! Хранительница, конечно, важна, но куда важнее удержать лохов. Пока что они просто бродят вокруг башен и глазеют на осаду. Привыкли к разборкам, а фраеров от блататы не очень и отличают. Но еще день-другой — и забуреют, а уж тогда защемить поселки по новой встанет в кровь; да и тех, кого помочить придется, тоже жаль: лох — барахло ценное, его не вдруг и вырастишь, а охотиться на лохов вольных себе дороже…
— Позволь слово? — почтительно промолвил подкозырок, тот самый, догадливый, и пахан милостиво кивнул:
— Базарь!
— Но ведь без Хранительницы хаза — не хаза. Если лохи узнают?..
«Этот подкозырок заслужил повышения», — подумал пахан. Он коверкает язык хазы словечками землероек, но он далеко не глуп. И, кажется, предан.
— Упакуем. А потом… Зырь сюда, братва!
Пахан широко распахнул окно и указал вниз.
Там, около самой стены, окруженная меченосцами, стояла женщина. Длинные, абсолютно седые волосы ее волной ниспадали до самого пояса, но она вовсе не казалась старой — слишком легка и стройна даже на далекий взгляд была ее фигура, и ноги, обнаженные короткими шортами, походили на девичьи. И еще одна стояла рядом с нею, очень похожая, только копна волос искрилась под солнцем не серебряными бликами, а теплыми отсветами светлого янтаря.
Они прибыли совсем недавно, уже во время сходняка; коноводы стояли поодаль, удерживая под уздцы тяжело дышащих лошадей. Седая что-то говорила, подтверждая неслышные в зале слова резкими жестами, и собравшиеся вокруг нее фраера почтительно внимали.
— Сама пришла! — присвистнул кто-то за спиной пахана.
— Клевая сука! — не пряча восхищения, добавил другой.
Пахан обернулся:
— Она не дура. С ней можно толково базарить, я знаю. Я сам пойду к ней. Может быть, она оставит нам Хранительницу. Если же нет, то…
Договаривать он не стал. К чему? Брата и так поняла. И ноздри козырных вздулись, словно предвкушая сладость будущей погони и мести.
… И спустя недолгое время, когда пахан вышел из подъезда, кольцо меченосцев распахнулось, пропуская его к седоволосой воительнице.
Они шли втроем — пахан, толмач-шестерка и широкоплечий пацан-посланец, еще не вполне поверивший в то, что остался жив. И именно к нему, нарушая обычай, а может быть, и не желая соблюдать чужой закон, повернулась она, до времени не обращая внимания на пахана.
— Я рада, что ты жив, Андрэ!
Голос ее был сух, но милостив, а в глазах второй, невероятно похожей на нее, но совсем молодой, плясала откровенная радость. И выживший посланник улыбнулся в ответ радующейся и вытянулся по швам перед похвалившей.
— Ты можешь просить поощрения! Чего ты хочешь?..
Нет, она не желала видеть пахана! Она занималась своими делами, награждала и указывала, а он стоял перед нею, скрипя зубами от унижения, но готовый вытерпеть все во имя того, чтобы долг пахана был исполнен, а хаза выжила. И кроме того, он знал: случись иначе, и он точно так же не замечал бы — долго! очень долго! — седую женщину, пришедшую просить мира.
— Говори же! — Улыбка ее тоже была сухой.
— Я… — Голос посланца прозвучал неуверенно, совсем не так, как перед братвой, когда он стоял, готовый умереть и не боясь смерти. — Я хочу этой ночью лечь с Яаной!
Судя по улыбке златовласой, Яаной звали ее, и она не желала противиться награждению заслужившего.
Седая же нахмурилась:
— Это невозможно, Андрэ. Ты же знаешь: Яана лежала со Звездным и с той ночи принадлежит лишь ему…
Парень упрямо набычился, избегая взгляда седой.
— Звездный далеко. Он уехал давно, а кровь Яаны горяча. И я имею право просить того, что прошу. Не с твоего ли дозволения, Старшая Сестра, я был первым, кто лег с Яаной?
— Это невозможно, — ледяным голосом повторила та, кого назвали Старшей Сестрой.
— Но, мама! — вскинулась было золотоволосая и тотчас затихла, обожженная холодным огнем равнодушных серо-синих глаз. И пахан мельком позавидовал — хотел бы и он уметь так вот, единым ударом взгляда, окорачивать непокорных…
— Но ты достоин награды, — словно и не услышав вскрика, продолжала холодноглазая, — и ты будешь награжден. Сегодня ты ляжешь со мной!
Подойдя вплотную к пунцово вспыхнувшему парню, она спокойно и уверенно прикоснулась к пряжке его пояса.
— Или, быть может, ты думаешь, что я сумею наградить тебя хуже, чем моя дочь?
Юное лицо внезапно затвердело, и дыхание стало прерывистым. Меченосцы жадно следили за пальцами Старшей Сестры, и пахан, на которого сейчас не глядел никто, мог бы дать зуб, что многие из них, если не все, завидуют в этот миг извивающемуся в судорогах сявке…
Конечно же, они знали, каково ему сейчас!
У фраеров слишком много мужиков, и бабье само решает: когда и со сколькими; этот обычай омерзителен целомудрию хаз, но однажды, давным-давно, и пахану довелось узнать сладость пальцев Старшей. Она тогда еще не была седой, и фраера заключили мир с хазой, тот мир, который сами же нарушили ныне; и Старшая потребовала скрепить договор именно так…
Много отдал бы пахан за повторение той ночи.
Увы! Тогда, скрепив соглашение, Старшая встала и ушла, не дав себе труда одеться. И он даже не видел ее с тех пор.
— У-у-ооооо! — выстонал паренек.
Глаза его закатились под веки, из прокушенной губы текла алая струйка, но он, похоже, не чувствовал боли. Зато прелестный лик златокудрой был в этот миг таков, что мать вряд ли бы обрадовалась, оглянувшись.
Впрочем, она была слишком занята.
И лишь доведя дело до конца, слегка улыбнулась — снова одними лишь губами.
— Иди. Придешь на закате! — Никакого волнения не было в ее голосе, и тем же самым тоном она обратилась к пахану, словно только теперь заметив его: Говори!
Плевком в душу было все, что произошло, но ради хазы, ради долга перед братвой пахан был готов на худшее.
— Старшая! Гнилые понты гонишь…
И тотчас затараторил шестерка-толмач, знаток языков, еще не шпанук, но усердием выслуживший право на кожаный браслет:
— Госпожа! Мой повелитель удивлен тем, что договор нарушен без видимых причин!
Седая молчала.
— Ежели хаза в чем не права, братва, в натуре, сфильтрует базар…
И снова заблеял толмачишка:
— Мой повелитель готов допустить, что условия договора не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. От лица своих вассалов он готов пересмотреть условия…
— Хватит! — Серо-синий лед вновь налился огнем. — Говори сам. Коротко. И без фени…
Еще один плевок. Что ж, придется стерпеть и это.
— Хранительница? — отстранив толмача, отрывисто бросил пахан, и тьма его зрачков устояла против сине-серого огня.
Старшая фраеров оценила и тон, и взгляд. Улыбка ее чуть смягчилась, намекая, что владыку хазы узнали и вспомнили…
— Идол наш! — прозвучал короткий ответ. — Так велено Звездным!
Кем?! Неясно. Но спорить, видимо, не было смысла.
— Еще?
— Звездный велел поглядеть. Лишнего не возьмем.
— Лошади?
— Пополам. Уведем всех. Половину пригоним. Потом.
— Лохи? Прикид? Жратва?
— Оставьте себе.
— Оружие?
— Оставим. Стрелы увезем. Можете выкупить. Потом.
Последнее прозвучало насмешливо, но без зла. Фраерская сука решила мудро. Так на ее месте поступил бы и сам пахан. Без коней невозможна погоня. Без стрел невозможна война. Выкупить? Не на что. Делать новые — долго.
Что ж, месть обождет. Главное теперь — сшибить гонорар с лохов. Они всегда борзеют, когда хаза в прогаре. Тем паче в руинах, говорят, снова завелись вольные. Ну и что? Мечи оставят. А с перьями в руках кодла выстоит и один к десяти…
— Просить могу?
— Проси.
— Прикажи завернуть Хранительницу. Пусть лохи не видят.
Седая понимающе кивнула.
— Нет вопросов.
И пахан благодарно склонил голову перед великодушием среброволосой воительницы.
… Спустя три часа, загрузив телеги, фраера двинулись восвояси. А братва высыпала из башен и выстроилась в две шеренги, обнажив отточенные до синего звона перья.
Пришло время разобраться с лохами.
За все: за перекрытую воду, за камни в окна, за наглый свист и разграбленный хозкорпус, за взгляды исподлобья на каждого, кто защищает их, жалких землероек, от вражеских наездов и по праву носит благородный кожаный прикид.
Еще до темноты масть возьмет свое, лохи снова поймут, что господа опять остались — господами.
А лохи уже выползли из руин. Нестройная толпа, полусмазанная вуалью сумерек, медленно разрасталась, многоруко размахивая дубинами и обрезками труб.
Их было много, больше, чем думалось, пожалуй, с тысячу, и пахан укорил себя за то, что давненько не пускал поселку кровь. Землеройкам позволили расплодиться сверх меры, а это уже может быть опасно.
Ну что ж! Нынче же ошибка будет исправлена. В конце концов, пахану не впервой было петушить немногим меньшие толпы, имея за спиной всего лишь полсотни бойцов, и не почти семь десятков отборной кодлы, как сейчас.
Даже град камней никого не смутил. Десяток-другой вольных крыс с пращами, выползших из подвалов, ничего не решат. Пускай ведут лохов за собой — первыми и лягут.
Тем легче будет потом.
Жаль, конечно, что фраера увели лошадей. Для конницы не составило бы труда рассечь и погнать толпу. Пешим, нет спора, сложнее…
Страха не было. И все же нечто настораживало.
Лишь за миг до столкновения грудь в грудь пахан понял, что именно. И похолодел.
Скрип. И мерный шорох. И снова, снова, снова — скрип!
Боязливые, панически боящиеся козырного прикида, лохи шли не каждый сам по себе, как бывало. Они надвигались спокойной волной, шагая в ногу, и на плечах идущих в первых шеренгах зловеще похрустывали пока еще неловко сидящие, только что — впервые! — надетые кожаные глянцево-скрипучие куртки…
ГЛАВА 2. «ЧТО-ТО МЫ НЕДОДУМАЛИ, КОЛЛЕГА…»
Демократический Гедеон
18 апреля 2233 года по Галактическому исчислению
Встреча была проведена в полном соответствии с протоколом. Едва лишь дряхлый, разболтанно трещащий клепками скверно обновленной обшивки, космолет замер на бетонной посадочной полосе, к трапу, сияя лаком и золотом вензелей, подкатил правительственный экипаж, запряженный шестеркой вороных чистокровок, и офицер в парадной форме, при галунах и аксельбантах, соскочив с запяток, вытянулся в струнку, отдавая честь неторопливо спускающемуся по ступеням пассажиру.
Офицерик лучился юностью и гордыней.
Далеко не каждому из сослуживцев доверил бы господин Президент встретить и препроводить во Дворец высокого гостя. И хотя он, конечно же, никому и ничего не расскажет — ни маме, ни даже Эльзе, нет, не расскажет, ведь он же давал подписку! — но такая потрясающая новость, как прибытие космолета, хочешь не хочешь, а разнесется по столице, и это даст ему, адъютанту Его Превосходительства, бесспорное основание многозначительно хмурить брови и закатывать глаза, отвечая холодным молчанием на неизбежные расспросы…
— Ваше Превосходительство господин Председатель! От лица Его Превосходительства господина Президента имею честь доложить, что…
Он очень старался вычеканивать слова, как положено, и у него получалось! Но прибывший, седой, с редкими длинными усами старик, немного похожий на истощенного моржа, не оценил усердия.
Вяло кивнув, он проследовал в экипаж, уселся на мягкое сиденье, задернул шторы и аккуратно уложил на колени большой портфель из тисненой крокодильей кожи, украшенный тускло золотящимся, полустертым изображением вздыбленного медведя.
— Трогай! — приказал офицер кучеру, и юношеский голос сорвался, выдав глубоко спрятанную обиду.
И шестеро вороных красавцев ходко рванули с места, вынося экипаж с бетона посадочной полосы на асфальт трассы, ведущей к центру столицы.
Мелькали кварталы, оставались позади запущенные скверы, немногочисленные прохожие таращились вслед вихрем пролетающей карете. А прибывший дремал, так и не отдернув шторки. Не на что было глядеть. Тот Гедеон, который помнился, исчез безвозвратно. А современные виды вовсе не интересовали господина Председателя Совета Единого Ормузда. Даже не глядя, мог он сказать, что увидит там, за окошком.
Пыль. Бетон. Угасшие фонтаны. Кладбища автомобилей.
Снова пыль. Постовые с бердышами на каждом углу. Хмурые лица.
И опять — пыль.
Все, как дома…
Впрочем, узорная решетка дворцовых ворот распахнулась без скрипа. Масла пока еще хватало. Дворцовая охрана раздвигала алебарды и козыряла, почтительно пропуская президентский экипаж. И мраморная лестница, ведущая к парадному входу, была чисто подметена и свежевымыта.
Если бы собрались еще подкрасить фасад…
Почти не глядя на группку встречающих, старик с наивной молодцеватостью взбежал по мрамору ступеней, опережая сопровождение, прошел по анфиладе затемненных комнат, безошибочно узнавая дорогу, — и полуобшарпанные, некогда обильно позолоченные двери кабинета гостеприимно распахнулись перед ним.
— Добро пожаловать, коллега!
Кабинет Его Превосходительства пожизненного Президента Демократического Гедеона выходил окнами в дворцовый парк, но, хотя стояла теплая, солнечная погода, окна были плотно закрыты и полузавешены тяжелыми бархатными портьерами.
Дряхлому, болезненно расплывшемуся старцу, заполнившему собою инвалидное кресло, было холодно, и свет, судя по всему, неприятно резал ему глаза. В кабинете царил приятный полумрак, именно такой, который одобрял и любил господин Председатель. Обстановка строга и скупа — ничего лишнего. Единственная роскошь: на большом столе, меж двух бронзовых канделябров — коробка компьютера с надлежащей периферией.
Прибывший отметил это не без зависти; последняя персоналка Ормузда вышла из строя полтора года назад, и с тех пор даже он, лидер нации, не мог позволить себе подобного облегчающего труд излишества.
— Ну что же вы, коллега? Проходите, располагайтесь. Не угодно ли чаю с дороги?
Голос, исходящий из груды жира, растекшейся в инвалидном кресле, был приятен и до боли знаком. Да и кто, кроме старого приятеля, мог бы хозяйски распоряжаться в этом кабинете? И все же вошедший медлил.
— Право же, коллега, это я! — Туша весело хихикнула, и лишь ухо старика сумело различить в смешке тоскливую горечь — молодежи подобного не понять. Честь имею представиться, коли уж не узнаете: Мигель Хуан Гарсия дель Сантакрус де Гуэрро-и-Карвахаль Ривадавия Арросементе, с вашего позволения, сеньор, пожизненный Президент здешних мест с окрестностями, к вашим услугам!
После двух инсультов у него еще были силы шутить.
И гость, на миг утратив самообладание, почти бегом преодолел разделяющие порог и кресло пять шагов и, сломавшись пополам, обнял паралитика.
— Дон Мигель! Боже, могли я подумать?
Он всхлипнул — искренне, без притворства. И хозяин кабинета, уловив неложность сочувствия, позволил себе расслабиться и всхлипнуть в ответ.
Простительная, понятная слабость.
Всего лишь секундная. И — наедине.
— Спасибо, коллега. Зато вы — молодцом. Поделились бы секретом, что ли?
Президент уже взял себя в руки. И гость вдруг позавидовал калеке. Потому что спросил себя самого: смог бы я так? И честно ответил самому себе: нет!
— Так что ж, может, все-таки чаю?
— Не откажусь, коллега. Дорога, признаться, была утомительна…
Чай возник мгновенно, словно по волшебству, хотя дон Мигель, не подав видимых знаков, всего лишь мигнул. Порядок в гедеонском дворце был железный. И Председатель Хаджибулла вновь позавидовал воле Президента.
— Итак, нас всего лишь двое.
— К сожалению, дон Мигель.
— Молодежь… она не понимает.
— Увы…
Старики многозначительно переглянулись. Встреча эта, первая на высшем уровне после Катастрофы, замысливалась не так, совсем не так, и предварительная работа была проведена на совесть. Кто же мог предугадать, что ни Президенты пяти планет, осколков Демократической Конфедерации, ни лидеры четырех обрубков Единого Союза не откликнутся на серьезные, взвешенные и подкрепленные доводами предложения?..
— Вы упомянули, что я готов предоставить заложников?
— Разумеется, дон Мигель. Ни в какую. Кстати, вашему внуку очень нравится у нас на Ормузде…
— Правнуку, коллега, правнуку!
— О, даже так? От души поздравляю…
Обвислые плечи Президента чуть колыхнулись, изображая пожатие.
— Пусть их! Все равно их ресурсы не столь существенны. Главное, что откликнулись вы, дружище.
— Мог ли я не откликнуться, дон Мигель? Наши… э-э-э… коллеги, Хаджибулла слегка усмехнулся, и вислые усы дрогнули, — они, знаете ли, из нынешних. Им простительно не понимать. Мы-то с вами — иной коленкор…
— К сожалению. Итак, к делу!
С душераздирающим скрипом над подлокотником воздвиглась механическая рука, и чашка с подостывшим чаем оказалась точно у губ Президента.
— Прекрасный напиток. Между прочим, с наших, гедеонских плантаций. Рекомендую захватить с собой фунтов двадцать, в качестве дара доброй воли, скажем так. М-да. Так вот… похоже, в свое время мы с вами что-то недодумали, коллега?
Гость медленно опустил веки.
Он не раз размышлял об этом. Тогда, двадцать лет назад, все казалось кристально ясным. Всеобщая неразбериха, разброд и шатания, крах морали. И ко всему — безответственность лидеров, возомнивших себя объединителями Галактики и готовых во имя этой дурацкой идейки попрать все национальные идеалы. Союз, его Родина, и Конфедерация, Отчизна дона Мигеля, стояли на краю пропасти. И то, что было задумано и претворено в жизнь, казалось единственно верным выходом из кризиса.
Побочные эффекты? Чушь! Они тоже были учтены и последствия просчитаны. Временный развал? Пусть! Элементы разрухи? Пусть! И пускай даже кретины помоложе поиграют в планетарные суверенитеты! Все равно: пять-шесть лет самостийности планет покажут и олигофрену необходимость восстановления держав. Но на иной основе. На основе дисциплины, морали и абсолютного порядка. И, конечно же» на базе паритета…
Не вышло. А жаль.
— О, коллега, еще как жаль! — отозвался паралитик, и Председатель Хаджибулла сообразил, что последние слова произнес вслух. — Не вышло. И знаете почему?
Это прозвучало неожиданно жестко, с оттенком превосходства. Дон Мигель не сомневался, что уж ему-то ответ известен, и был уверен на все сто, что известен ему одному. Он ждал отрицающего взгляда, виноватой улыбки, недоуменных вопросов: он полагал себя всеведущим и упивался своим всезнанием.
И зря.
— Знаю, — ответил Хаджибулла.
— Вот как? — Президент, кажется, не поверил; вопрос прошелестел скрытой усмешкой. — И каков же ваш вариант?
На миг гостю захотелось не делать хозяину больно. Ответ можно было смягчить — тоном, формулировкой, недоговоркой, наконец. Но Председатель сам был стар и хорошо знал, что старости вредно, когда ее щадят чересчур.
— Земля! — безжалостно сказал Хаджибулла.
И дон Мигель обмяк в кресле.
— Вы правы, коллега, — произнес он после долгого молчания уже другим, несколько севшим голосом. — Но если не секрет: что вам известно? И откуда?
Гость отставил в сторону чашку и откинулся на жестковатую спинку, собираясь с мыслями.
Не стоит играть в пинг-понг с доном Мигелем. На карту поставлено слишком многое. Человечество, сколько еще осталось его, вырождается, и это факт, прекрасно известный им обоим. Преждевременная смертность. Волна за волной, все шире и шире — эпидемии самоубийств. Рост сумасшествия. Падение рождаемости, причем в геометрической прогрессии. И самое страшное: выжившие растут дебилами. Не полными, нет, но интеллектуально ограниченными. А вот и дети уже тяготеют к клинической дебильности. И объяснений этому нет.
Вернее, не было до сих пор.
— Я отвечу, — кивнул Председатель. — Но сперва позвольте вопрос: как насчет высшего образования на Гедеоне?
Рука-рычаг дрогнула от резкого разворота кресла, и на пижамные брюки Президента пролилось немного мутной жидкости.
— Крах! — коротко и горько ответил дон Мигель.
Хаджибулла кивнул.
— На Ормузде не лучше. Специалистов вырастить невозможно. Врачей нет, кто поспособнее, тянет на фельдшера наших времен, да и таких почти не осталось. Об инженерах, компьютерщиках, теоретиках я даже не хочу говорить… Иными словами…
— Одну минутку, коллега!
Чудовищным усилием воли дон Мигель заставил непослушное тело принять величественную позу.
— Позвольте мне, как инициатору встречи. Иными словами, и вам, и мне понятно: цивилизация катится в тартарары. Да что цивилизация! Все человечество! К коему мы с вами, к сожалению, имеем честь принадлежать! И наш долг перед историей…
Сиповатый поначалу, голос его налился медью.
— Не нужно, дон Мигель, — поморщился гость.
Патетика была излишней. Она нервировала. На десятом десятке, право же, можно позволить себе не болеть за судьбы человечества в целом. Наедине с собой Председатель Хаджибулла не стеснялся признаться, пожалуй, даже с некоторым злорадством: картины угасающих планет, пустынные небеса над пустынными водами и твердью, кошмарные толпы вымирающих висло-губых кретинов вовсе не пугали его, отнюдь! — было в них даже некое мрачное величие, словно бы именно он, Хаджибулла, забрал с собой, уходя в неведомое, весь мир.
И это было бы просто-напросто здорово, если бы среди груд мусора, прячась от липких лап идиотов, медленно погибая и не находя спасения, в этих видениях не являлись его внуки.
Вот о них забыть Председатель Совета Единого Ормузда не хотел и не мог. И во имя их, и только их будущего он был готов на многое. Как, впрочем (он знал это наверняка), на многое пойдет и пожизненный Президент Демократического Гедеона, тем паче что у дона Мигеля, оказывается, есть уже и правнуки.
Что же касается остального человечества, всех этих полутора десятков миллионов индивидуумов, то против них Председатель Хаджибулла тоже, в сущности, ничего не имел.
Если удастся задуманное, пусть уцелеют и возродятся.
Так сказать, за компанию. А заодно будет выполнен, как верно отметил дон Мигель, и долг перед историей…
В полной тишине лидеры обменялись улыбками.
Слов не понадобилось. Старость ужасна, нет сомнений. Но есть у нее и преимущества. В частности, она может позволить себе цинизм.
Гость расстегнул портфель.
— Видите ли, друг мой… Стыдно сказать, но на старости лет я увлекся вещами, о которых не мог бы подумать всерьез еще лет десять назад. К примеру, мистикой. Вы вправе назвать это старческим склерозом, в конце концов, вы ведь моложе меня…
— На два года, коллега, на два года, — саркастически ухмыльнулся Президент.
— Вот-вот, на целых два года. Да, так о чем это я?
— О мистике.
— Да, спасибо. Так вот, возможно, это и впрямь старческий склероз, и тем не менее…
Тонкими, слегка подпорченными подагрой пальцами Председатель расстегнул портфель и добыл из недр его плоскую, несусветно старомодную видеокассету.
— Надеюсь, у вас найдется видеодвойка? Не сомневался ни минуты. Как вставить? Благодарю…
Экран стереовизора вспыхнул, развеивая полумрак, и в кабинете объявился еще один гость, яркий и аляповатый, щедро изукрашенный расстроенным механизмом цветорегуляции.
Еще молодой, бледный и худощавый, увенчанный буйной короной торчащих дыбом курчавых волос, на которых чудом удерживалась коническая шапочка с кистью, он был дивно задрапирован в нечто наподобие складчатого балахона, щедро усыпанного многоконечными звездами, полумесяцами и соцветиями крючковатых кабалистических знаков. Съемка велась, очевидно, в рабочем кабинете; ничем иным нельзя было объяснить наличие на заднем плане вешалки с разноцветными мантиями, стоящих рядком у стены разновеликих жезлов с загогулинами, полочек с аккуратными рядами черепов. Имелся там также большой хрустальный шар, водруженный на медную треногу. И несколько летучих мышей висели вниз головами на потолке, лениво пошевеливая перепончатыми крылышками.
В янтарных, немного навыкате глазах странного человека приплясывала легчайшая дымка безумия, в должной пропорции перемешанная с давящей уверенностью и умело, хотя и с заметным трудом сдерживаемой истерикой.
— Ну и?.. — Удивлению дона Мигеля не было границ.
— Одну секундочку, друг мой. Сейчас он начнет…
Экран на миг погас и тут же вспыхнул ярче прежнего.
Тишина сменилась потрескиванием помех, треск — шуршащим шелестом, потом прерывистым писком, перешедшим в негромкий заунывный вой. Затем какофония стихла.
— Я — Полонски! — торжественно сообщил носитель балахона. — Я последний маг Вселенной!
— Понятно, — констатировал Президент. — И где же вы нашли эту радость, коллега?
— Вы не поверите, сам пришел, — вполне серьезно ответил Председатель Хаджибулла.
— Очень славно. Но, знаете ли, мне недосуг наслаждаться гостями из астрала. Может быть…
Завершить фразу он не успел.
Экран пошел полосами, разводами, перекрестьями соцветий. Буйнокудрый юродивый сгинул и тотчас явился вновь, но уже нисколько не похожий на опереточного полушута-полубезумца, каким был пару мгновений назад.
Негромкая спокойная тьма плеснула с экрана, разбавив искристым хрустальным блеском полумрак кабинета; чудовищную силу источала она, и Президент, машинально попытавшись заслониться руками, с изумлением ощутил, что руки, неподвижные, бессильные руки — слушаются!.. и сквозь тьму, пронизывая ее, но не въявь, пролетали багровые отсветы пламени; пламя было темнее мглы, и свет его нельзя было понять, но лишь угадать… и, сотканное из непостижимого разумом, не вмещаясь в рамки экрана, возникло лицо…
…лицо ли?..
…возникло ли?..
Лик явился из ниоткуда, и черты его расплывались в вечности огненной тьмы и бесконечности темного огня; и только глаза, одни лишь глаза, и ничего, кроме них, жили в безбрежности этого видения; иные черты лишь угадывались, слабо, нечетко, глаза же давили и подминали, втягивали и выматывали; темнее тьмы были они, ибо глубоко-глубоко в провалах зрачков не искрились ни хрустальные искры, ни пламенные отсветы… и только чуть-чуть, намеком, грезились подчас там светящиеся следы полета летучих мышей, крепко сжимающих в лапках тонюсенькие черточки посохов…
— Боже правый!
В течение следующего часа дон Мигель не издал ни звука. И Председатель Хаджибулла, хоть и знающий каждое слово наизусть, не отрываясь, вслушивался в течение голоса…
…голоса ли?..
Нет, голоса не было. Приходило знание. Видение за видением. Образ за образом. Смутные, непостижимые, они складывались в единую картину, исключающую сомнения.
Ибо все начинается с колыбели. Колыбель же человечества — Земля. Со дней сотворения и по нынешние дни сплетались над нею нити жизней, прожитых людьми, каждым в отдельности и всеми вместе. Боль дополнялась радостью, а ненависть любовью, и так из рода в род, и бесконечно, и безгранично; и пришедший в мир становился частью его, а уходящий не исчезал вполне, оставаясь вздохом ветра и шумом травы; из поколения в поколение сплетали венок бытия бывшие, оставляя его сущим, а через них — грядущим… и так, шаг за шагом, становился человек тем, чем стал. Даже уйдя с Земли, не рвал человек нить и возвращался, дабы укрепить ее; даже не возвращаясь, не терял человек связи с Землей, ибо подпитывалась и укреплялась связь силой, привезенной теми, кто побывал на Земле; и там, на планете-колыбели, окреп дух человечества, и неизбежно иссякнет он, если разорвана нить; не прожить в люльке жизнь, но и не избыть память о ней; и так будет вечно, бесконечно, всегда, пока жив человек, когда же не станет так, исчезнет и тот, кто именует себя человеком…
Бин-н-нь-г!
Экран взорвался с глухим причмокиванием, но осколки не разлетелись по сторонам. Их просто не было, осколков; вместо экрана зияла черная дыра, и в глуби ее медленно угасали багряные отсверки…
— Боже правый! — У дона Мигеля рвался голос.
Неверящими глазами он рассматривал собственные руки, вертел перед собою сжатыми кулаками, разминал пальцы… и в глазах его стояли слезы.
— Господи! Мои руки… они ожили!
— Не волнуйтесь, коллега, это ненадолго, — совершенно серьезно ответил Председатель Хаджибулла. — У меня после первого просмотра тоже кое-что ожило…
— Да? — Губы Президента жалко скривились. — А сколько же примерно?..
— Месяцев шесть могу гарантировать. Возможно, больше.
— Вот как?! — Дон Мигель с надеждой поглядел на коллегу. — А знаете что? А не уступите ли вы мне этого вашего… как его?..
— Полонски. Алекс Полонски. Охотно бы, друг мой, но… увы!.. он сейчас в коме. После сеанса. Выйдет ли, не знаю…
— Жаль.
Президент покачал головой и с видимым удовольствием собственноручно вытер влажные глаза.
— Помнится, была в свое время владелица салона, если не ошибаюсь, тоже Полонски. Этот, ваш, не из тех ли?..
— Внук. Кстати, именно мадам в свое время предсказала Катастрофу.
— Ну и что же?
— А ничего. Экранизировали. Помните: «Мир будет спасен» Топтунова? Ну, там, где полицейский срывает путч…
— Знаете, помню! Эх, нам бы того полицейского!..
— Вы думаете? — лукаво прищурился гость.
И хозяин от души рассмеялся. А затем переплел послушные пальцы и отчетливо, почти сладострастие похрустел ими.
— Вы ведь знаете, коллега, я скептик. Но я верю! Дело в том, что к таким же выводам пришли и мои аналитики…
Замолчал. Укусил себя за мизинец. Прислушался.
— Болит… Болит же! — сообщил с ребячьим восторгом.
И продолжил прерванную мысль:
— Представьте себе, у меня тут осталось немного аналитиков. Странно, да? В общем, шанс есть. Но…
— То-то и оно, что «но»! — Хаджибулла хлопнул ладонью о подлокотник. — Вы предлагаете колонизировать Землю? Но как? Это же не-воз-мож-но!
— Минуточку!
Как ни пытался Президент сосредоточиться, у него никак не получалось. Мешали руки. Кроме того, под клетчатым пледом все явственнее обозначалось подрагивание коленок.
— Кто говорит о колонизации? Сие невыполнимо даже технически. Гедеон — что уж скрывать! — имеет три космолета и астрокатер. В распоряжении Ормузда — два космолета.
— Три!!!
— Не надо, коллега! Два. Зато один из них — грузовой. Так что друг без дружки нам не обойтись…
Меж век дона Мигеля плясали бесенята. И высокий гость помимо воли насторожился. Слишком давно знал он этого толстяка, чтобы не придать значения мимике. По пустякам дон Мигель не озорничал и в мальчишеские пятьдесят пять, на Дархае…
— ?! — выразительно приподнял бровь Председатель.
— Ничего сложного! — откликнулся недавний паралитик. — Не откажите ознакомиться, коллега.
Несколько минут Хаджибулла внимательно изучал ровные столбики текста, возникшие на дисплее. Когда же чтение завершилось и старомодные роговые очки вернулись в фетровый футляр, на впалых щеках гостя играл слабый румянец.
— Вы — гений, дружище, — очень искренне сказал Хаджибулла.
— Полноте, коллега! Просто у меня было время подумать.
Президент кокетничал и не скрывал этого. Величие и простота его идеи были вполне очевидны с первого же взгляда.
В самом деле: человечество, в сущности, больно. Злокачественной формой ностальгии. С метастазами и вполне вероятным летальным исходом. Ностальгию лечат Родиной. Но ведь если не по средствам ехать на курорт, можно принять лекарство!
— Вы — гений! — убежденно повторил Председатель.
Вторично дон Мигель возражать не стал.
— Хорошо, пусть гений. Дело не в этом. Как там сказал ваш кудесник «сгустки людских воль»? Отлично. Мои спецы выражаются по научнее, но суть та же. Вы видели список? Три четверти фондов Музейного комплекса уцелели. Вот их и следует вывезти. Здесь, кстати, не обойтись без вашего «грузовика»…
Гость размышлял, машинально поддакивая и кивая.
Камень и полотна, всего лишь! Обтесанный камень и раскрашенные полотна… Гос-с-споди, как же все просто! Не книги! — там нужно уметь искать смысл. Не наука! — на познание ее тайн нынче нет сил. А живые, концентрированные аккумуляторы энергии. Творческой энергии, черт возьми!..
Конечно, со временем любой аккумулятор садится. Но на десяток лет подпитки остатков человечества должно хватить. А к тому времени что-нибудь да придумается…
— Э, коллега! Да вы ж меня не слушаете! — оборвал размышления укоризненный смешок Президента. — Повторяю: нам хотя бы звездолеты подремонтировать, и то хлеб. Тогда можно всерьез подумать и о колонизации. Если, конечно, доживем…
Судя по тону, в последнем дон Мигель нисколько не сомневался.
— Согласен! — без раздумий ответил Хаджибулла. — Целиком и полностью. Принцип дележа?
— Разумеется, паритетный. Идея моя, «грузовик» ваш. Экспонатов по списку хватит обоим. В крайнем случае создадим комиссию…
— А остальные? В смысле — коллеги?
— Молодняк обойдется. Цивилизуем, когда дойдут руки.
— Возражений не имею.
Рукопожатие скрепило пакт.
— Прекрасно. А теперь… — Дон Мигель выдвинул верхний ящик стола и самолично разлил по рюмкам прозрачную влагу.
— За удачу! И попрошу вас, коллега, еще минутку внимания…
Дисплей вновь включился. И на сей раз Хаджибулле хватило короткого взгляда. Изумленный излом тонких губ был выразительнее любых возгласов.
— Документация Рубина?!
— Так точно! — В толстяке после опрокинутой рюмки пробудился дремавший полвека вояка. — Строго говоря, только по металлургии, но большего и не нужно. Люди тоже найдутся, не из лучших, правда, но выбирать не приходится, знаете ли… В любом случае Рубин бездарей не держал.
— А сырье? — Гость нервно покусывал ус.
— Да, это проблема проблем. Придется поклянчить у наших дархайских друзей. Если там все по-прежнему, данную миссию я возьму на себя. Лично. Сколько, вы сказали, у меня времени? Полгода?.. Полагаю, управлюсь…
Президент доверительно подмигнул.
— Вам, коллега, при вашем бычьем здоровье не понять, как надоедает нормальному человеку паралич!
Хаджибулла не ответил улыбкой. Он был явно встревожен.
— Простите, друг мой! Документы у вас, технологи у вас, контакт с поставщиками ваш. Дьявол вас разрази, при чем тут Ормузд?! И для чего мне знать об этом? Вы же всех нас…
Звонкий щелчок ногтем о ноготь недвусмысленно пояснил, что имеет в виду Председатель.
— Э нет, — почти пропел дон Мигель. — Не нужно путать меня с нашими юными кретинами коллегами. И не нужно забывать о паритете. В одиночку, знаете ли, удобно только умирать…
И коллега Хаджибулла, с минуту помолчав, склонил в знак полного согласия едва намечающуюся плешь.
— Ну что ж, подведем итоги! В какие сроки «грузовик» будет подготовлен к рейсу?
Морщины на лбу Хаджибуллы сделались глубже. Он устал. Ему хотелось дремать. Но отдых следовало отложить до взлета: дряхлый космолет нуждался в плавном выходе на орбиту, и время начинало поджимать. Разговор и так затянулся.
— М-м… С полгода, не меньше. Придется повозиться.
— Ясно. Срок приемлем. А мои люди там пока что организуют доставку груза к месту посадки…
Президент вальяжно подпер голову рукой.
— Скажу откровенно: нам чудовищно повезло, коллега. Не знаю, есть ли Бог, но если есть, то он за нас. Судите сами. Музейный комплекс не заражен радиацией. И, во-вторых, он обитаем. Причем туземцы окажут любую потребную помощь.
— О! — Изумление выбило Председателя из дремотной вялости. — И кто же они?
— Откуда мне знать? Какие-то чудики выжили, и как раз в районе музеев. Вы не поверите! — Дон Мигель вкусно хохотнул. — Двадцать лет они терзали меня радиограммами, просили, понимаешь, о помощи. При этом почему-то путали меня с Единым Союзом. Я их на всякий случай не разочаровывал — а вдруг, думал, пригодятся. И пригодились, как видите. Что скажете?..
— Я ведь уже сказал: вы — гений. Добавить нечего.
— Не спорю. Мой человек, кстати, уже там. Освоился, установил контакт с аборигенами. Наладил сбор и сортировку. Списки, которые вы видели, между прочим, его работа…
— Хорошая работа, — одобрил гость. — А что за человек?
— Майор Нечитайло. Вполне надежен. Впрочем, можете познакомиться…
На дисплее возник портрет, снабженный столбиком текста. Весьма характерное лицо: резкое, надменное, словно отчеканенное из красноватой меди. Более всего напоминающее маску индейского вождя из старинного стереофильма.
— Нечитайло Въяргдал Игоревич, — вслух прочитал гость. — Однако! «Недремлющий лебедь»! Он что же, дархаец?..
— Мать дархайка. И даже из дома Ранкочалар. Наложница моего тогдашнего подопечного, мир его праху. Его же семиюродная сестра. И, кстати, племянница вашего протеже, принца Видратъхьи… Помните такого, коллега?
— Еще бы! — содрогнулся Хаджибулла. — То-то, гляжу, кого-то он мне напоминает. Ну-ну. Так. О! Мастер классического ниндзюцу! Да, этот, пожалуй, не пропадет…
Исподволь взглянул на часы.
— По законам Империи, между прочим, этот ваш майор мог бы при известных обстоятельствах претендовать на престол…
Развел руками. Поднялся. Плотно натянул треуголку.
— Увы, дорогой друг, мне пора.
— Понимаю, коллега. До встречи. И… спасибо вам за…
— Не стоит. Прошу вас, не стоит. Если Алекс оправится, считайте, он в вашем распоряжении. Разумеется, с возвратом.
Стиснув зубы, Президент вдруг резко оттолкнулся от подлокотников. И встал. Неумело. Трудно. Всего лишь на миг. И тотчас ноги подломились, не удержав веса… но подломились по-живому! С болью!!!
И дон Мигель рухнул назад в коляску, сияя гримасой счастливой муки.
— Вот. А вы говорите, не стоит. Плесните-ка, сделайте одолжение!
Бережно принял пузатую рюмку. Отсалютовал ею.
— Ну, на посошок… За операцию «Ностальгия»!
Старики выпили, не чокаясь. Без алаверды. Не нужно было слов, чтобы высказать, как им — даже им! — не хватало все эти годы звонкого земного неба…
— Все! — Хаджибулла привычным движением поправил пышный плюмаж. — Долгие проводы — лишние слезы. Крепитесь. И если не затруднит, сообщите своему «претенденту» мой личный код. Есть пара вопросов. Сугубо интимного плана. Все-таки Земля…
— Понимаю, коллега. Попытаюсь. Но обещать не могу.
— Что так? — Председатель приостановился у двери.
— Видите ли… — Дон Мигель выглядел несколько смущенным. — Дело в том, что майор Нечитайло уже второй месяц не выходит на связь…
ГЛАВА 3. «А-ВИДРА, И ТОЛЬКО ОН, И КТО, КРОМЕ НЕГО?..»
Земля. Месяц быстрых гроз. Люди идеи квэхва
5 мая 2233 года по Галактическому исчислению
Осторожно приподняв заостренную голову, большая сивая крыса принюхалась и вновь припала к земле. Нет, двуногие не ушли. Хотят обхитрить. Ее. Но она хитрее. Она стара и опытна. А двуногие злые и жадные. Им жалко вкусного, жалко мокрого, жалко того, что пищит. А ведь у них много. Этого. Почему они не хотят поделиться со старой, серой? Со ставшей обузой для стаи. С одинокой.
Совсем одна. В зеленом, мокром, где некуда даже укрыться от злых. От двуногих…
Плохо. Плохо здесь. Ночью гремело, и крыса промокла насквозь. Некуда было укрыться. Темное, твердое — далеко. Оттуда прогнали. Мелкие, юркие, острозубые, рожденные, выкормленные. Ее. Рождавшую, кормившую, защищавшую. Темное, твердое — нельзя. Там кусают. Ее. Старую, слабую, голодную…
Крыса пошевелила усиками. Двуногие где? Хорошо. Остатки сладкого, теплого есть. Хорошо. Уже холодные. Уже не пищат. Хорошо. Она не умрет. Сегодня не умрет. Еда есть…
Плохо. Темно когда. Придет тень. Пугать. Гнать. Не велеть есть сладкое. Не велеть брать то, что пищит. Тень — плохо. Гонит. Делает боль. Тень от зеленого. От плохого…
Пусть. Потом. Сейчас — хорошо. Тень — нет. Еда есть.
Двуногие ушли. Она перехитрила. Двуногих нет!
… Ссссс-ш-ш-ту-ххх!
Глухо чмокнуло — и большой, с полпса, серый ком, пища, покатился по ярко-зеленой траве. Бумеранг ударил хитро: точно в цель, но самым краешком, вскользь и не по голове, чтобы не убить сразу. И ошеломленная на миг крыса почти тотчас ожила, вскочила, напружинив старое, но все еще хищно-мускулистое тело.
Двуногий вот! Он обхитрил! Он подкрался и бросил!
Тяжелое, свистящее, летящее ниоткуда ударило. Больно. Ударило очень. Злой двуногий. Жадный двуногий. Он близко. Он взять сладкое, холодное. Он близко уже…
Двуногий, умри!
Крыса прыгнула, целясь в лицо человеку.
Но смуглый юнец в чистеньких, добела выгоревших, некогда пятнистых лохмотьях, легко уклонившись от жутких клыков, перехватил красноглазую убийцу в полете, скрутил ее, смял — и рванул. И еще раз! И еще! И еще!..
Крыса заверещала, истекая жаркими алыми струйками, бьющими из кровавых дыр на месте лапок и хвоста. А спустя мгновение, недобитая, была брошена на траву.
И тогда из ближних кустов поднялись люди.
Плотным кольцом обступили они умирающую тварь и не проронили ни слова, пока она корчилась в предсмертных судорогах, подбрасывая себя в воздух и расплескивая во все стороны соленые веселые капли.
Крыса получила по заслугам. Люди Барал-Лаона ничем не обидели ее. Она же приходила в ночи. Красть младенцев, которых и так немного. Которые нужны Барал-Лаону. Это не по доброй идее квэхва. Это по злому закону Земли. Проклятой страны демонов, куда заманили исчадия тьмы доверчивых людей Дархая…
Крысу не жаль. Люди Барал-Лаона никому не приносят зла. Но они — дети идеи квэхва, и они умеют постоять за себя. Крыса забыла об этом. И поэтому крыса будет страдать. Долго. До тех пор, пока не умрет.
А потом будут наказаны те, кто послал ее.
Это будет справедливо.
Юнец, наказавший людоеда, стоял, горделиво расставив ноги, и кровавые потеки на его лице, не высыхая, смешивались с крупными каплями пота. Он победил. Он отныне борец, взявший жизнь врага. Когда вернется Кайченг, к рукаву пятнистой куртки победителя будет прикреплена нашивка. И одна из женщин, он еще не знает, которая из восьми десятков готовящих пищу людям Барал-Лаона, ляжет перед ним и раздвинет ноги. Он не знает еще, кого определит для этого Кайченг. Хорошо, если это будет Конопатая Мью. Он видел ее у ручья; она грелась на солнце, и ему понравилось смотреть. Хуже, если пришлют бабушку Дхяо. В любом случае решать не ему…
Как бы то ни было, он был счастлив.
Люди Барал-Лаона смотрели на него с одобрением, а разве есть награда выше, чем похвала тех, среди кого вырос?
Вот — Конопатая. Она рада. Вот мать. Она довольна. Доволен и отец. И мелкота приплясывает на месте, предвкушая, как сегодня же будет играть во внутреннем дворе поселка в него, одолевшего ночного людовора.
А вот — Вещий. Ему следует поклониться.
Победитель преклоняет колена перед невысоким сухопарым мужчиной с наголо обритой головой и сетью мелких морщин, рассыпанных по щекам. Стар ли он? Наверное, да. Люди Дархая стареют рано. Сколько зим встретил и проводил он? Не менее пятидесяти, это наверняка. А может быть, и больше. Он, и Кайченг, и отец победителя крысы были среди тех, кого обманом увели с благословенного Ю Джуга заоблачные демоны. Но и Кайченг, и отец, и Однорукий Крампъял были тогда немногим старше, чем юный борец. Вещий же и в те дни был стар, и кое-кто болтает, что старик обладал нашивками даоченга. Победитель крысы уверен: это досужие побасенки. Разве есть на всем свете столько людей правильной идеи квэхва, чтобы набрать целое дао? А если болтуны не лгут, так отчего же главенствует в Барал-Лаоне не он, а Кайченг?..
Нет, одолевшего крысу не проведешь. Он молод, но не по годам мудр.
Старик прикасается ладонью к потно-кровавому лицу юноши, проводит пальцами вниз, вверх, ощупывает, размазывая по коже светло-розовые потеки. Он ничего не видит пустыми провалами глаз, но руки сообщают ему все, что следует знать.
— Дай. Дан. Дао. Ду, — говорит слепец.
И люди Барал-Лаона отзываются размеренно и тихо:
— Дай. Дан. Дао. Ду…
Они чествуют победителя. Они воздают ему, с позволения Вещего, наивысшую почесть, возможную до того, как вернется Кайченг.
Старец наклоняется к затихшему людокраду. Крыса уже не пищит. Лежит на испачканной кровью траве рваным серым комком, и бусинки глаз неподвижно таращатся в синее предгрозовое небо. В равнодушное небо обители демонов. Перед которыми слабы, но которых не боятся люди отважной идеи квэхва.
— Терпеть больше нельзя, — говорит старец, выпрямив спину. — Терпеть больше нельзя!
Хмурые лица оживают.
Верно сказано. У терпения и миролюбия есть предел. Не в крысе дело. Она была лишь прислужницей зла. Дело в демонах. Они не дают покоя честным людям квэхва. Они не хотят сидеть в грязных руинах своих городов. Им мало крови людей Земли, заслуживших свою участь. Демонов давно пора покарать. Они близко. Они здесь. Вот в этой роще; иные из людей Барал-Лаона даже видели их, когда выходили на сбор кореньев. Исчадия зла хитры; они притворяются то призрачными девами, то забавными, безобидными на вид клубками шерсти. Исчадия зла трусливы: они никогда не нападают сами. Демоны подсылают своих прислужников. Нынче крысу-людоеда. А две луны тому — стаю диких дворовых котов, обитавших в отдаленных руинах…
Что нужно было котам от людей квэхва? Люди квэхва не ходят в груды камня, где вольготно живут коты. А стая пришла и натворила немало бед. Многие были порваны и выжили не все; загончик для псов разорен, и обглоданных скелетов полезных было так много, что поселку даже не нужно было столько копалок и шильц. Коты пришли не сами, нет: их послали, их позвали, их навели…
— Пусть зло будет наказано! — повелевает старец.
В отсутствие Кайченга он имеет право отдавать приказы. И люди довольны. Они торопятся в поселок. Они приносят много хвороста, и достаточное количество пакли, и прикатывают бочку с темной вонючей водой, которая бывает полезна в зимнюю стужу.
Каждое из трехсот деревьев обкладывают они тем, что умеет гореть, и обливают тем, что заставляет пылать. Это правильно. Так следовало сделать давно. Как сделали это со своими демонами люди поселка Пао-Пао, что лежит в полудне пути, у самой соленой воды. Демоны топили детей и не разрешали рыбе идти в сети. Они не слушали увещеваний. И тогда смелые люди квэхва залили в мелкую соленую воду много-много бочек темной вонючей воды, которая умеет гореть, и духи зла метались в волнах, и зеленый старик звал на помощь, и девы, покрытые чешуей, клялись не вредить больше, но поздно было — ничем могли и не хотели помочь демонам беспощадно-справедливые люди квэхва из поселка Пао-Пао. Вот как нужно поступать с демонами. Тогда они закаятся причинять зло…
По каменным тропинкам леса прошли мстители, мимо железных ворот, хранимых обезглавленными людьми Земли, крошащимися под дождем, и обильно умастили прибежище демонов тем, что дарит пищу огню.
И, высоко неся факел мести, вышел вперед Вещий.
— Слушайте, злые! — произнес ой торжественно, и в пустых глазницах мерцало темное пламя гнева. — Разве докучали вам люди квэхва? Разве оскверняли мы пыль любезных вам развалин?.. Ничего вашего не взяли мы, разве лишь немного кореньев и плодов, да еще собак приютили, ибо необходимо мясо человеку!.. Небеса подтвердят: все взятое оплачено честно. Разве не дарили мы вам лучших щенков, толстых и тяжелых? Разве не бросали вам самые спелые из собранных плодов?! Вы же злом ответили на добро и сами пожелали войны. Так сгиньте же и будьте прокляты, как проклята на веки вечные ваша обитель, трижды неблагословенная Земля!
— Земля! Земля! Земля-а-а… — откликнулось эхо.
И запылал костер.
Затрещали, закорчились, вздыбливаясь и хрустко ломаясь, корявые ветви, стоном отозвалась земля, и с визгом лопались мохнатые кустарники. А старец смеялся, указывая на огонь пальцем, и громко извещал людей обо всем, что видят незрячие очи. Скулил и завывал лес, метались, не умея спастись, призрачные девы, истекали дымом пушистые карлики, тщась зарыться в горящую, спекшуюся землю, и козлорогий, вопя, скакал по угольям на обожженных, плавящихся копытах…
И люди миролюбивой идеи квэхва, не видя, внимали Вещему, и радостно было им, потому что наказаны демоны и не скоро посмеют, устрашенные, вернуться в обугленный лес.
Нет сомнений: когда вернется Кайченг, он одобрит хорошее пело, тем паче что совершившееся не повернуть вспять и того, что случилось, не изменить.
Если же найдет сделанное неверным, то разве поднимет руку на старца?
Покарав злых, люди ушли с места, ставшего запретным.
Никаким трудом нельзя заниматься более в день битвы с демонами. Следует вернуться в поселок, омыть лица студеной колодезной водой, а затем, собравшись за вечерним столом, молчать и слушать слово Вещего.
Так заведено издавна.
… Барал-Лаон лежал совсем близко от леса. Один из поселков людей праведной идеи квэхва, не самый большой, но и не из мелких. Тринадцать десятков борцов и тех, кто станет борцами, если не уйдет до зрелости в Темные Ущелья. Вполне достаточно для того, чтобы сила поселка устрашила чужаков, а слово поселка было достойно принято на Совете. Хороший поселок, ничем не отличающийся от иных. Длинный дом женщин и длинный дом борцов. Дом мелкоты, еще не достигшей возраста разделения. Просторный стол, за которым принимают пищу люди, собравшись вместе, как велят вековечные идеи квэхва. Колодец. Яма с дождевой водой, собранной впрок. Что еще? Еще — врытые в землю хранилища пищи. И, конечно же, псиный загончик, заботливо прикрытый навесом от непогоды. Оттуда вечно доносятся рык, визг, тявканье, но уши людей терпеливой идеи квэхва привычны к этому шуму и почти не замечают его. Пес — благословение Ю Джуга; пес дает мясо и жир, пес дает шкуру и кость. Пес предупредит, учуяв чужака, и отгонит дикого дворового кота, если решится тот подкрасться к поселку в одиночку. Без пса не выжить. Поэтому, забивая щенков для котла, надлежит испросить прощения у него, лопоухого, и воззвать к Великой Суке, к Кесао-Лату, описав ей злого врага, что пришел и совершил недоброе дело…
А вокруг поселка — земляной вал в человеческий рост, укрепленный тыном из металла. В прошедшие дни ходили люди квэхва в дальние руины, собирали необходимое и платили за взятое надлежащую цену. Там стал Одноруким могучий борец, великий охотник Крампъял, там лишился второго глаза Вещий. Зато вырос над валом густой частокол, переплетенный твердыми колючими веревками, и чужим не под силу одолеть на совесть воздвигнутую преграду. Те, кто пытался, убедились в своем бессилии. Вон их головы — скалятся костяными ухмылками на остриях, предупреждают заносчивых: нет сюда ходу; здесь, не обижая никого, обитают люди добродушной идеи квэхва!
Чужаки понятливы. Давно уже не набегают на поселок ни злобные жители руин, ловко мечущие камни издалека, но бессильно-трусливые в схватке, ни кожаные бродяги, твердо сидящие на спинах уродливо высоких безгорбых куньпинганов…
Если и бывают изредка, то — с миром, с меной.
Это хорошо. Так и предписывает миролюбивая идея квэхва.
Омыты были лица и очищены руки. И сели люди Барал-Лаона за общий стол, уже уставленный блюдами вареных клубней и чашками мясного отвара, приготовившись слушать Вещего.
В торце стола, на том конце, что ближе к входу в длинный дом борцов, восседает старец. Он уже подготовил себя к изречению Предания: синим и алым раскрашены щеки, повязкой укрыт высокий мудрый лоб, помеченный крылатым знаком — отметием гордой птицы токон, не живущей в неволе. Птица распростерла крылья, она хочет взлететь, но сетка морщин удерживает ее, и вся страсть, весь огонь полета изливается в тихой, исполненной веры речи Вещего.
— Слушайте и не забывайте, люди квэхва! Было некогда так: создав твердь небес и нежность земли, назвал сотворенное Дархаем великий созидатель Ю Джуга, и означало имя это «Страна, Не Знающая Злосчастья». Сказанное, немедля обретало силу каждое слово Ю Джуга, и было по воле его. Без краев раскинулся вширь и вдаль, без границ распростерся вглубь и ввысь счастливый Дархай, и вольно гуляли в вечно цветущих садах люди, явившиеся из мечты всеблагого Ю Джуга. Он же, поразмыслив, нарек пришедших из грез Лунгами, и значило прозвище это «Незлобивые». Воистину незлобивы были сыны и дщери мечтаний всевеликого, ибо не ведали зла, от явления на свет стремясь лишь к добру…
Каждое слово из тех, что лились из уст старца, было ведомо детям мудрой идеи квэхва, плечом к плечу сидящим за широким столом. Ибо из вечера в вечер, из луны в луну, год за годом повторялось предание, дабы не истерлась в памяти людской истинная правда и подлинная суть.
— Бесконечно долго было так, и не было иначе. Творя и переделывая мир, не мог оставаться всегда с возлюбленниками своими беспредельный Ю Джуга, однако и оставить их без надзора и присмотра не желал знающий все. Потому плюнул на ладонь себе великомощный, присыпал слюну щепоткой пыли предсущности, смял; и так возник под сияющим небом Дархая яростный Хото-Арджанг, чьим уделом стало с той поры надзирать за миром и покоем Лунгов. Но пылок был нрав назначенного бдить, и подчас увлекался он охотою на легкоперые облака, оставляя без защиты и охранения тех, кого призван был защищать. Тогда дунул на ладонь свою Ю Джуга, добавил в дуновение толику ясного звона; и так возникла среди вершинных снегов Дархая легкоустая Кесао-Лату, чьей долей определил всенеодолимый услаждать и наслаждать Лунгов в те дни, когда отвлекается от предначертанного Хото-Арджанг…
Тихо и внимательно слушали люди. Первый намек на сумерки уже явился дню, подгустив светлые тени, но прозрачность ветра пока что не желала отступать. Ничто не перебивало речи Вещего, кроме не замечаемого никем псиного подскуливания и подвывания. Да еще шуршали сандалиями те, кто нынче надзирал за котлами, расставляя на широкой столешнице необходимое для трапезы.
— И пока было так, ничто не могло смутить покой стократ преосвященной страны Дархай. И за пределами мира, далеко за сугробами сизых туч, злобствовали демоны, тщась и не умея разрушить то, что создано на благо и пребывает вовеки, по воле демоносокрушающего Ю Джуга. Но пришел день, когда воспылал Хото-Арджанг греховной страстью к Кесао-Лату и предложил ветроголосой взойти на ложе свое. И не преодолела зова неправедного лона Дева Небесных Снегов. Впустила она громоносное копье в алмазную пещеру, истекла потоком недозволенных наслаждений — и рухнули стены добра, обороняющие Дархай, ибо в непорочности Кесао-Лату заключалась тайна незримой преграды, к коей не в силах были подобрать ключ демоны…
Ни ветер не окреп, ни тучи не затянули спокойное небо, но сгустился вдруг предвечерний зной, уплотнился, стал вязким. Людские лица заблестели каплями испарины, и даже псы в загоне, прекратив ненадолго свою вечную возню, расползлись по углам, тоскливо поглядывая в посмурневшую гущу теней…
— Явившись из-за облаков, окропили черным зельем зла ясный лик сотворенного блага злые демоны, и нашлись у них подручники среди людей, ибо многие, уподобившись Хото-Арджангу, возжелали наслаждений для себя и презрели чаяния иных, нисколько не худших. И нет слов, чтобы высказать горечь полноты бед, сполна испытанных Дархаем. Но!..
Радостной усмешкой озарился лик сказителя.
— Проведал о злой беде великий Ю Джуга. И в славе своей, и в силе своей явился в сотворенный край, дабы искоренить зло. Сперва приказал встать пред очи свои достойным презрения подручным. И пришли в трепете. И не было им что ответить на гневный упрек, ибо виновны были они. Тогда сказал всеисправляющий жалкому Хото-Арджангу: не будь! И не стало мнившего себя божеством. Легкой карой было небытие и по заслугам, ибо всего лишь подчинился желанию своему преступивший приказ. Гнусно-злонравной же Кесао-Лату повелел надстоящий стать отныне и навсегда Великой Сукой, и рождать псов, и выкармливать их, и вновь оплодотворяться, и не знать перерыва в родильных муках, и не ведать сладости осознанной любви. И было это справедливо, ибо вожделение бешенолонной навлекло беду на возлюбленных детей Ю Джуга… Миг наступил. И как всегда, именно на этом месте Однорукий Крампъял ударил бочонкоподобным кулаком по столешнице, заставив подпрыгнуть братаны и мисы.
— А-Видра, и только Он, и кто, кроме Него?!
Прорычал и хмуро поглядел по сторонам: не возразит ли кто? Но не было безумца. Ибо лишь лживый язык опровергнет истину, и кроме того, кто осмелится сказать против Крампъяла, ломающего в пальцах молодую березку?
Как каждый вечер случалось, так случилось и ныне. И привычным укоризненным взором невидящих глаз одарил несдержанного Вещий, ибо верно было сказано, но не в должный срок.
— Подкравшись сзади, убили демоны могучего Ю Джуга, ибо крепко задумался он о том, как избыть горе Дархая. Убив же, рассмеялись, зная, что некому отныне встать против них!
В душной тишине раннего вечера отчетливо и горько всхлипнула женщина. Вещий же привычно возвысил голос, призывая не предаваться до времени отчаянию.
— Умер телесно Ю Джуга, но не могли убить злобные последний его крик. По вершинам горным лавиною пронесся стон, вспенился в бурунах морской волны, в ветрах распахнул крылья, обернувшись ясноперой птицей токон, — и встал из огня боли всесотворившего пламенный принц Видрат, и меч мести ярким сполохом полыхал в его руке, и ряд к ряду плотнились за спиною принца Видрата могучие исполины, чье светлое имя было Ван-Туаны, означает же это на благородном дархи «Жаждущие Равенства». И неизбежна была битва, и казалось всему сотворенному, что последней для злобных станет она!..
Восторгом вспыхнули глаза самых младших из мелкоты, что сидела в конце общего стола, но все так же скорбны были лица взрослых, знающих предание наизусть.
— Нет, не стала! Всего лишь крик лежал в основе гнева, и не одолел злобу крик. Пал принц Видрат, но завещал перед гибелью Солнцу и Луне не позволить тому, кто придет вслед, ковать меч из крика багровых зарниц. Вслед же за павшим пришел рожденный от брака крови Ю Джуга и пашни, принявшей в себя эту кровь, яростный герой, Железный Вождь А Ладжок, и мощь воли его превосходила всесилие павших Ван-Туанов. В кровь и землю добавил восхищенный ветер отзвуки крика того, кто не мог умереть вполне, и родились от тройного союза светоносные идеи квэхва. И вновь неизбежною стала битва, и вновь метилось всему сущему, что гибельной для гнусных станет она!..
В заметно сгустившейся предвечерней мгле тонули стиснутые горестными гримасами губы Вещего, и казалось, что не шевелит он ими, но откуда-то извне из туч ли? из отдаленных ли руин? — долетает древний сказ.
— Нет, не стала! Не сломили в битве отважного А Ладжока хитрые, не одолели злокозненные. В ужасе осознали они, насколько близка погибель. А осознав, прикинулись светлыми духами и втерлись обманом в сердца не знавших дотоле лжи и лукавства людей Дархая. Улестили доверчивых, сказав, что ведут на помощь Железному Вождю А, и увели с собою за облака, бросив на мучения в гиблых зазвездных краях, имя которым Земля!..
— Земля! Земля! Земля-а-а? — подхватило эхо, И словно бы удивление звучало в вернувшемся голосе; но не услышали нот сомнения люди квэхва, потому что не хотели услышать. Да и не было им дано…
— И пал железный вождь А Ладжок, не лицом к лицу сраженный, но подлой хитростью. С той поры и владеют яснозаревым Дархаем демоны гадостного зла, и торжествуют они…
Вещий рывком поднялся и воздел к исчерна-синим небесам длинные худые руки, увитые жесткими веревками вспухших жил.
— Зря торжествуют и тщетно! Не угасла воля к воскрешению светлой правды добра, нет смерти великому Ю Джуга. Сказано им, и ведомо людям, очнувшимся от лукавых чар: придет час и настанет миг, и явится из далеких стран возродившийся из бесплотия Ю Джуга. Не богом вернется он, но человеком, подобным божеству. Пламенный дух Огненного Принца унаследует он и совокупит его с твердой стойкостью Железного Вождя; двуединый, придет он из безвестности, и будет имя его…
— А-Видра! — взревели мужи.
— А-Видра! — тонкими голосами поддержали женщины.
— А-Видра! — завизжала мелкота.
Обессиленный, рухнул на скамью вещун, но не закончено было пока еще предначертание, и надтреснутый голос зазвенел вновь.
— Не поверит сначала людям квэхва, что раскаялись, двуединый герой и не назовется. Но без ошибки узнают его прозревшие, ибо будет лик его горд и резок и знаком им по отпечатку своему, сохраненному Книгой Книг; ликом Огненному Принцу будет подобен он, и не ошибутся люди. Ибо будет это…
— А-Видра!
— И грудь его украсит дивный амулет, знак крови и земли, не подвластный никому, кроме Железного Вождя. Чернью и багрянцем расцветет он, и не станет заблуждений. Ибо будет это…
— А-Видра!
Хлестнул ветер, предвещая грозу, и редкие тяжелые капли рухнули на столешницу, звонко рассыпаясь в мельчайшую водяную пыль. Рывком исчезла духота. И в мгновенно посвежевшем голосе старца звонко рассыпались трели задорной юности.
— И тогда, узнав, испытают его люди квэхва. Сорок лучших из лучших борцов поднимут мечи на пришедшего, и спустят с тетивы быстролетящие стрелы, и метнут в него хитробьющие бумеранги, но тщетно! Отобьется, и уклонится, и увернется пришелец, и так узнают люди наверняка, кто есть он. А узнав, преклонят колени и поклянутся исполнять любой приказ без сомнений, и сжалится он, и укажет, где же Дархай, и снизойдет отдавать приказы, потому что будет это…
— А-Видра, и только Он, и кто, кроме Него?!
Громовой раскат ошеломил сидящих за общим столом, и в первый миг показалось, что это тучи рассыпали наконец свои каменные бубенцы. Но не рассекла верхнюю темень кривая змея огня, зато у распахнутых ворот возвышалась темная в сумерках фигура, почти на голову превышавшая рост Однорукого Крампъяла, и на непомерной ширины плечах совсем крохотной казалась туша громадной свиньи.
Вернулся Кайченг.
Сбросив ношу на руки подбежавшим женщинам, он прислонил к столу широкий, слегка изогнутый меч, освободил плечо от ремня, удерживающего лучный чехол, и присел на положенное место. И капли дождя замедлились, поредели еще более, а спустя миг вовсе исчезли, словно знали, что идеи квэхва повелевают пришедшему в час трапезы вкусить пищу за общим столом.
Четыреста глаз, не считая Вещего, вонзились в Кайченга, немо вопрошая. Всем ведомо было, для чего покидал исполин поселок, и не нашлось бы ни одного, кто не жаждал бы услышать, чем же завершился поход.
Но устои воспрещают начинать с главного.
Поэтому Кайченг заговорил не ранее, чем преломил лепешку и вкусил ее, окунув прежде в отвар псины:
— Вот, убил свинью. — Голос его гремел и подавлял, даже и уменьшенный вполовину. — Видел следы выводка. Стоит выйти. Свинья слаще, чем пес.
Никто не оспорил очевидного.
— Что было здесь?
Однорукий Крампъял отвечал толково и кратко, а Кайченг жевал и слушал, изредка задавая вопросы.
На большой тропе видели людей башен? И? Ах, разъехались мирно! Что ж, значит, помнят урок.
Приходили люди Старшей Сестры? Что принесли? Соль? Доброе дело. Что взяли взамен? О! Поди ты…
Крыса-людоед? Скверно. Завтра выйду, накажу. Уже? Добрее доброго дело. Кто покарал? Хвалю. Останешься сегодня с бабушкой Дхяо. Нет, с Конопатой. Бабушка Дхяо опытна, но Мью слаще, я знаю. Подвиг достоин того.
И наконец опустевшая миска со скрипом отъехала к краю общего стола.
— Я был там, — пророкотал Кайченг. — Все были там: кайченг из Пао-Пао, и плешивый из Дзхъю, и остальные, всего числом четыре десятка и десяток без двух. Все смотрели Ему в лицо, а потом поглядели на меня. И я показал. И все поняли, что это — Он…
Бережно достав из-за пазухи Книгу Книг, великан почтительно приложил ее ко лбу и передал, как должно, в затрепетавшие ладони Вещего. Цены не было истрепанному томику, прочитать хоть строку из коего не в силах был ни один из людей идеи квэхва. Ибо на взлохмаченном переплете явственно просматривался потертый временем, но нетленный лик Огненного Принца. Величайшим достоянием Барал-Лаона по праву слыла единственная на все поселки Книга Книг, и пуще зеницы ока надлежало ее беречь.
Резкое, надменное лицо.
Видрат, порожденный вскриком боли Ю Джуга…
— На груди же его покоился амулет, смешавший цвет крови с цветом вспаханной земли, — тот, о котором вещают предания. И все поняли еще раз: это Он. Но сам Он отрицал, не желая признаваться, как и предупреждают мудрые. И тогда мы напали на него, все четыре десятка и десяток без двоих…
Оборвав речь, Кайченг поднял ладони к лицу, всмотрелся в короткие чудовищно толстые пальцы, и в свете зажженных мелкотой факелов видно было, что он не в силах поверить в случившееся даже сейчас, два дня после того…
— Он бросил меня на землю! — Бесконечное изумление звенело в грозовых раскатах. — Он опрокинул меня, как щенка, и я уже не смог встать. Я! А потом он бросал наземь остальных, всех, кто подходил спереди и прыгал сзади. Одного за другим и всех сразу. Даже Большого Джаргджа из Тун-Кая. И ни один бумеранг не ударил его, и стрелы летели мимо. Пока мы нападали, Он отражал и разил, но был незрим, словно ветер. А после снова явился во плоти, привел нас в чувство и спросил: почему?
Молчание слушающих было подобно безмолвию полнолунной ночи. Даже неугомонная мелкота притихла, никак не смея поверить в чудесно сбывающуюся сказку.
Лишь много ударов сердца спустя Вещий нарушил тишину.
— И что же?
Кайченг шумно, по-кунпинганьи вздохнул.
— Мы не стали отвечать. К чему? Он знает все и так. Мы преклонили колени все, кто был там, даже те, кто пришел ради того, чтобы ничему не поверить. Он отказывался открыться, но наша мольба была искренней, и покорность раскаявшихся не отвергли.
— Открыл ли Он, где Дархай? — тихо вопросил слепец.
— Отдал ли Он приказ? — хрипло прорычал Однорукий Крампъял, бывший до увечья кайченгом поселка.
— Да, — чуть встряхнул лохматыми кудрями гигант. — Он приказал идти в руины и собирать бесполезное. Это странный приказ. Простым умом не постичь, для чего. Но Он сказал, что знает, где Дархай. И тогда мы — три десятка, и еще полдесятка, и трое — дали клятву на верность Ему. Именем Ю Джуга присягнули мы, от себя и от наших поселков.
— Во благо поступили вы! — торжественно одобрил Вещий. — Не нам задавать вопросы Ему. Ибо Он есть…
И не досказал. Не сумел. Не смог. Слабый голос его утонул в рыке Однорукого:
— А-Видра, и только Он, и кто, кроме Него?!
ГЛАВА 4. «И ТРИЖДЫ МЕРТВ НЕ ИМЕЮЩИЙ МЕЧТЫ!..»
Земля. Месяц звонкой травы. Люди аршакуни
19 июня 2233 года по Галактическому исчислению
Травы звенели. Иссыхающая в нещадном жару, степь мечтала о влаге. Мечтала без надежды. Пролетела быстрая вода и сгинула, и еще неблизко было до освежающих ливней месяца усталого зноя. Когда солнце докарабкалось до зенита, все живое, все шуршащее, снующее и ползучее зарылось в землю, пережидая ярь.
Кроме людей. Колонна носильщиков, согбенных под тяжестью неудобных угловатых тюков, медленно и упорно ползла по ломким, скрежещущим под босыми ногами травам, стремясь добраться до лагеря. Там тень. Там вода. Там накормят и позволят отлежаться под навесами, блаженно вытянув истоптанные, гудящие от усталости ноги…
Иные из бредущих, самые смелые, бормотали сквозь зубы невнятные проклятия. Но — тихо. Так, чтобы не услышали сопровождающие колонну всадники. Нельзя браниться. Тех, кто бранится, бьют хлыстом. Не сдержавшихся повторно — лишают воды. Провинившихся трижды — карают. Носильщики видели уже, как умеют карать всадники, и потому не роптали в голос.
Разъедая почти ослепшие глаза, капли пота скатывались по лбам из-под ременных повязок, удерживающих тюки; ошпаренные солнцем спины взбухали мгновенно лопающимися волдырями, и все труднее становилось идти.
Но лагерь был близок. Сто шагов. Передышка в пять вздохов. Еще сто шагов. Опять передышка… и вот уже первые палатки. Ну! Еще! И еще шажок! Немного осталось! Немного… и вот уже тюки опускаются на вытоптанную траву, осторожно, чтобы не повредить содержимого, а люди, понурившись, не имея сил даже и радоваться завершению мук, бредут к навесам, где ждут их уже лохани, полные горячей, прогорклой, но такой желанной воды… а чуть позже туда будут принесены и чаны с варевом. Все! До завтра всадники никуда не прикажут идти. Отдых заслужен, и уже никто не шипит вполголоса ставшие ненужными слова обиды и гнева…
Спешившиеся сторожа тоже рады. На глазах у носильщиков они не позволяют себе слабости. Бросив поводья подбежавшим лагерным, они чинно, перекидываясь нарочито веселыми шутками, расходятся по палаткам. Их труд на сегодня не окончен. После трех часов дремоты придется заступать в охранение. Им нельзя отдыхать. Они не носильщики. Они — полноправные люди аршакуни, и поэтому их ноша должна быть тяжелее ноши иных, не в пример слабым, чей удел — лямка и ноша на спине.
Лишь один из них, судя по всему, предпочел бы сейчас снова оказаться в пылающей печи степей, да подальше. Чтобы не глядеть в бешеные синие глаза девушки, преградившей ему путь. И товарищи смущенно торопятся отойти, оставляя парня наедине с яростной златовласой всадницей.
— Я ждала тебя, Андрэ! Я ждала до рассвета! Ни слова в ответ.
Парень мнется, старательно отводя глаза.
— Почему, Андрэ?!
Гнев девы передается ярко-солнечной, в цвет волос наездницы, кобыле. Она прядет ушами и, коротко, с ненавистью проржав, напирает грудью на виновато переминающегося человека. Это боевая лошадь; ей ничего не стоит смять хрупкую плоть и размесить ее по траве твердыми копытами.
И хозяйка почти не старается сдержать кобылицу.
Она очень красива, дева, восседающая на солнцешерстном злом звере. Так красива, что даже ко всему, кроме воды и отдыха, равнодушные носильщики, отказывая себе в лишних мгновениях блаженства, распахнули глаза и приоткрыли щербатые рты. Точеное, слегка скуластое лицо цвета темного меда словно светится изнутри; пухлые губы не испорчены даже гримасой обиды. И тяжелая волна совсем чуть-чуть подвыгоревших волос, искрясь в лучах солнца, окутывает всадницу, плотной накидкой защищая спину от зноя…
— Почему, Андрэ?!
По-прежнему — молчание вместо ответа. Парень тяжко вздыхает, косясь на приятелей, уже пустивших по кругу чашу с квасом. По лицу видно: он жалеет, что когда-то родился. Ему нечего ответить.
И бешенство в синих озерах сменяется бурей.
— Она?.. — неожиданно тихо и хрипло сползает с девичьих уст, и простое слово похоже на брань, за которую карают носильщиков.
Юноша понуро молчит.
— Она! — звонко выкрикивает дева.
И тонкий хлыст, просвистев в стонущем от зноя воздухе, крест-накрест перечеркивает алыми полосами редкобородые щеки. Парень не отшатывается, он, похоже, рад каре. Глаза не задеты, но лучше лишиться зрения, чем хотя бы раз в жизни столкнуться взглядом с таким прищуром, похожим На небесный плевок…
— Йих-хха!
От удара пяток гулко екают конские бока.
— Й-ай-их-ха-а! — мечется в ополоумевшем поднебесье пронзительный визг.
Сбивая с ног неосторожных, не успевших отпрыгнуть, златовласая мчится к центру становища. На скаку сбрасывает себя с конской спины. Не глядя, отшвыривает стража, попытавшегося заступить путь, и влетает в большой шатер единственный на весь лагерь настоящий шатер, почти втрое превосходящий размерами самую вместительную из палаток.
Ярость подкрашивает синевой прохладную тень.
— Я ненавижу тебя, мать!
Но женщина, раскинувшаяся на ложе, не реагирует. Ей не до того. Облокотившись на войлочный валик, она полусидит, по пояс укрытая широким покрывалом. Руки ее расслабленно раскинуты по сторонам. Легкий жилет, накинутый на голое тело, нисколько не стесняет тяжелые, слегка обвисшие груди. Глаза женщины полуприкрыты, губы мучительно изломлены, она дышит тяжело и размеренно, а ниже пояса, там, где покрывало возносится холмиком, нечто медленно шевелится.
— Ненавииижу!
Вихри разбиваются о скалу. Сидящая запрокидывает голову, дыхание ее становится чаще, прерывистее, скулы затвердевают, и серебряно-седая прядь падает на лоб.
— А-х-хххх!
Золотоволосая озирается, уже не сознавая, что происходит.
Шаг к ложу.
— Стоять! — хлестко щелкает окрик.
Синее пламя никнет, споткнувшись о серо-голубой лед. Веки той, что на ложе, почти сомкнулись, и тяжелый укол невидимых зрачков, впившись в лоб златовласой, заставил ее пошатнуться и замереть.
— Еще, малыш, еще! Аааах-х!
Напряженные черты полулежащей обмякли. Глубокий вздох освобожденно вырвался из груди, а из-под покрывала вынырнуло курносенькое, совсем юное девичье личико. Спустя миг и вся она, худенькая и нагая, выбралась из душной тьмы и свернулась клубочком, припав к плечу среброволосой, подставив под медлительно-нежные пальцы крохотную тугую грудку с малиновым, похожим на вишню соском.
— Успокоилась? Теперь говори.
Голос владетельницы шатра очень походил на голос той, что посмела нарушить покой, разве что несколько ниже и бархатистее. Вообще, во всем, до мелочей походили юная и зрелая одна на другую; их можно было бы счесть сестрами, если бы кожа старшей не была чуть пошершавее и суше, а золото походило на серебро.
— Я ненавижу тебя! — вновь прозвучали жуткие слова, на сей раз — вполне спокойно. Внятно. Осмысленно.
— Опять? И за что же на этот раз? — Гнев девы, кажется, забавлял сребровласую. Она не сердилась!
— Андрэ! — бичом ударил крик.
— А! Понимаю. Теперь, значит, Андрэ. Ну а почему же ты снова решила ненавидеть меня?
— Ты лежала с ним. Ты, — еще один крик-щелчок.
— Лежала. В награду за доблесть.
— А после? Второй раз, и третий, и вчера? Ведь он вчера был с тобою?
— Допустим, Яана. Даже наверняка. И что же?
— А то, что он не пришел ко мне!
— К возлюбленной Звездного?
Она явно веселилась, дразня дочь. Легкая улыбка то и дело появлялась в уголках губ, а пальцы тем временем мяли и гладили почти утонувшую в узкой ладони грудь курносой, и девчушка время от времени тихонько повизгивала.
— Мать! — Янтарно-загорелое лицо Яаны потемнело. — Ты сама знаешь, что это не так. Звездный далеко. Может, его уже и нет. И ты сама велела мне пойти с ним!
— Это верно. А разве тебе было плохо?
— А? — На миг Яана растерялась. — Нет. Мне было хорошо. Но он не здесь. И я хочу тех, кто близко. Я хочу Андрэ! Зачем он тебе?
— Во-первых, затем, что его имя Андрэ, — с неожиданной серьезностью ответила седая, и по лицу ее видно было, что это не ложь. — Впрочем, тебе не понять. С тебя довольно, что из нас двоих он хочет меня.
— Лжешь!
— Ты думаешь, Яана? Малыш! — Среброголовая приподняла руку, освобождая курносую. — Кликни Андрэ, да поживее!..
И худышка мигом выбежала прочь, лишь входной полог колыхнулся вслед…
Прежде чем успела ткань успокоиться, вызванный явился.
И встал на почтительном расстоянии от ложа, стараясь не встречаться взором с Яаной.
— Ты звала, Старшая Сестра? — Крестообразный рубец мешал ему говорить внятно.
— Звала, Андрэ. — Голос среброголовой был не просто спокоен, но, пожалуй, даже и равнодушен. — Яана сердита. Ты избегаешь ее. Неужели моя дочь тебе противна?
— Нет! — вскинулся юноша. Так неложно, что глаза златовласой на частицу мгновения потеплели.
— Тогда она — твоя. До возвращения Звездного. Разве могу я хотеть дурного дочери? Но… — лежащая откинула покрывало и удивительно гибким движением скрестила ноги, — дорогу сюда забудь. Людям аршакуни следует помнить о целомудрии…
Андрэ замер. Лицо его побагровело, и рубцы вспухли мелкими капельками крови. А потом он упал на колени. Чего никогда не делают люди аршакуни.
— Старшая Сестра! — почти прорыдал юнец. — Не гони меня. Не гони. Не гони меня, Старшая Сестра!..
И вот теперь-то улыбка лежащей стала явной. А голос — грудным и тягучим.
— Разве я гоню тебя, маленький? Ну-ка, назови меня так, как можно тебе…
— Не гони меня, Эльмира! — Юноша почти плакал.
— Эльмира? Разве так нужно? Скажи, как ночью, я разрешаю…
— Лемурка, не гони меня… — уже со слезами.
— Я не гоню тебя, Андрюша. Мой Андрюша… — Голос среброволосой сделался зовущим, и смысл слов перестал быть важен. — Иди ко мне, ну иди же скорее…
Тело ее напряглось, каждая часть его заиграла, зажила; ноги медленно раздвинулись, чуть согнувшись в коленях, и слабый, сладковато-приторный запах ударил в ноздри, бросив рыдающего юнца на ковер, и ползком поволок его к ложу, словно невидимый аркан…
Глаза Яаны остекленели.
— Стой! — Эльмира натянула покрывало до плеч. — Придешь вечером. Можешь идти.
Поглядела вслед. Пожала плечами:
— Вот так, дочь. Что скажешь?
— Я скажу… — тихо, нараспев и оттого вдвойне страшно выдавила Яана. — Ты всегда унижала меня. Всегда. Ты отбираешь тех, кого хочу я. Ты отдала меня Звездному, которого я не хотела. И еще ты отдала Звездному знак власти, который обещала мне. Ты поганая сука, и я не прошу тебе ничего, Старшая Сестра…
— Молчать!
Жесткая сила приказа не допускала и намека на тень ослушания. Легко, резвее курносенькой худышки, Эльмира взвилась с ложа, единым прыжком встав лицом к лицу с дочерью.
— Девчонка! Вот сейчас ты и впрямь ненавидишь. Ох как ненавидишь! Будь я на твоем месте, я сказала бы: возьмем мечи и выйдем в степь. Ну, пошли?!
Неуловимо быстрое движение; невесть откуда взявшийся короткий меч лег в руку Старшей Сестры, и ярость во взоре златовласой испарилась, начисто вымытая ужасом.
— Что ты, мама?!
Дева рванулась к выходу — и не успела. Резкий рывок изящных, почти стальных пальцев, и вот она уже отброшена на влажное материнское ложе.
— Ты назвала меня сукой, дрянь! Меня! Что ты понимаешь? Что ты вообще можешь понять?! Ты, рыжая стерва, неспособная отбить мужика у меня, старухи! И знаешь почему? Потому что тебе просто хочется, и ты даешь, а я делаю из мальчишек мужчин, и они чувствуют это!..
Зарывшись в войлочные подушки, Яана дрожала всем телом, и никто сейчас не назвал бы ее красивой.
— Ты боишься! От тебя завоняло, как от падали, едва речь зашла о мече! А я уже не могу без меча, тебе ясно?! Почти двадцать лет я не женщина, я даже не человек! Я — Старшая Сестра, хочу того или нет… И чтобы хоть ненадолго забыть об этом, я кидаю под себя мальчишек и имею их, как хочу, но все равно наступает утро, и я опять — Старшая Сестра!..
За шевелящимся пологом мягко шлепнуло тяжелым о твердое: рухнул без чувств страж, услышавший крик всегда спокойной Старшей Сестры. И она взяла себя в руки.
— Пойми: в одной руке — ты, бесхвостая лягушка, в другой — меч, а вокруг только смерть. А я обязана была выжить, потому что у меня была ты, и еще потому, что люди смотрели на меня и надеялись. Тебе ясно? Надеялись! И я выжила и заставила выжить других, и знаешь почему? Потому что у других была только надежда, а у меня была мечта. Мечта, Яана!..
Захлебнувшись, Эльмира умолкла. Сбросила безрукавку, оставшись совсем обнаженной. Провела ладонью по лицу.
— Ты ведь никогда еще не убивала, разве нет? Ты даже не хотела смотреть, как это делают другие! Еще бы! Принцесса боялась запачкать ручки. А я не боялась. Мне нельзя было бояться. И я рубила головы!..
Среброволосая резко выкинула вперед ладони, едва не задев Яану, и та отшатнулась, вжавшись в войлок.
— Я рубила головы этими самыми руками! Людям, которые верили мне и любили меня! Ты можешь понять, что это такое?.. Я убивала их не за измену, не за подлость, а потому, что им было не под силу мечтать!.. И остальные учились, если хотели жить! Ты этого не помнишь, ты росла уже с мечтой. С моей мечтой, которая единственно верна!..
Яана шевельнулась, отодвигаясь подальше, и вдруг шмыгнула носом.
— Прости меня, мама… Я больше не буду…
Какое-то время Эльмира молча глядела на дочь, глядела сверху вниз, раздувая ноздри. А потом опустилась на краешек ложа и крепко обняла смуглые плечи беззвучно плачущей золотоволосой красавицы.
— Маленькая, глупая девочка, разве мама может хотеть тебе зла? Мы живем в мертвом мире, в мире, где можно выжить, но нельзя жить. Земля умерла уже давно, когда еще все было не так. Ты не помнишь, но я — то помню. Здесь не жили; сюда приезжали отдыхать, и отдых быстро надоедал. Посмотри: люди аршакуни уже и не помнят почти, как было когда-то. А ведь многие должны помнить! Не так уж много прошло лет. Мертвая Земля крадет память о живом мире. И я мечтала о том дне, когда за нами прилетят со звезд братья и заберут отсюда всех, кто еще жив. Разве мечта не сбылась? Пришел Звездный, и значит, я не зря ждала столько лет. И я не хочу — понимаешь, Яанка, я не хочу — и не буду думать, для чего мы собираем всю эту дребедень. Звездному виднее, Я знаю только одно: это просьба, а не плата за билет…
— Билет? Что это? — Синие глаза округлились совсем по-детски.
— Не важно. Важно, что братья не забыли нас. Мы улетим отсюда, все вместе. Улетим, чтобы наконец-то не быть людьми аршакуни, а просто жить. Ты ведь даже не знаешь, роднуська, как живут там, где нас пока нет!..
Мать подмигнула дочери и указала пальцем вверх, в белый кружок жаркого неба, ровно обведенный краями дымового отверстия; щелкнула блаженно зажмурившуюся девушку по кончику носа — совсем не больно, любя.
— Мечта моя сбылась, и я разбила передатчик. К чему он, если Звездный уже здесь? И я отдала ему знак власти. Амулет не нужен. Меня люди аршакуни чтят и без него, а тебе — зачем? У тебя не будет власти. Зато у тебя будет семья. Настоящая семья. Тебе этого пока что не понять. Но поймешь. Поэтому я и велела тебе лечь со Звездным. Подумала: а вдруг? Но нет так нет. Если хочешь, лежи с Андрэ, у него многое, полезное для женщины, получается неплохо. Но запомни: я не хочу, чтобы ты привыкала к кому-либо из людей аршакуни. Не хочу и не позволю. И только ради того, чтобы так не случилось, я отнимаю у тебя твоих сопляков. Когда-нибудь ты поймешь и это. Когда встретишь там, в настоящей жизни, своего единственного. Когда выйдешь замуж…
Помолчала, словно прислушиваясь к чьему-то зову, долетевшему издалека. Улыбнулась незнакомой Яане улыбкой. Подула в смуглое юное лицо, настороженно-доверчиво глядящее снизу вверх, взъерошив ласковым дуновением пушистые прядки золотых нитей.
И вымолвила — тихо, с глубоко скрытой болью:
— За того, кто будет похож на твоих отцов. На первого из аршакуни… или хотя бы на того, чье имя ты носишь…
Встала.
Прошлась по шатру, подбирая разбросанную одежду.
Накинула безрукавку. Натянула шорты. Туго зашнуровала сандалии. Перестегнула плечо перевязью короткого заспинного меча. Пристегнула к плетеному поясу ножны с длинным немного изогнутым концом.
С каждым движением вновь становясь Старшей Сестрой.
— Мне нужно идти. А ты оставайся здесь. И спи!
Колющий свет в прищуре серых глаз.
Девушка роняет голову. Она не хочет спать. Но веки смыкаются помимо воли. Приказ четок, и ослушаться нельзя. Никто из людей аршакуни не решится на подобное. Никогда.
Мыслимое ли дело — не чтить Старшую Сестру?
Белоголовая воительница выходит в жар и сушь лагеря.
Подзывает стража.
— Она спит. Не впускать никого…
Криво усмехается.
— Кроме Андрэ. Если она захочет.
А утоптанная площадка перед шатром не пуста. Пятеро всадников, придерживая поводья, караулят группку угрюмых оборванцев, связанных одной на всех веревкой, от шеи к шее. Кони запаленно пыхтят, наездники покачиваются в седлах, и кожа их серее раннего рассвета, но белые зубы весело блестят меж обметанных темной коркой губ. Они довольны! И каждый, кто справедлив, признает, что есть причина, и редкий не позавидует удачникам!
Еще бы! Восемь голов подвальных людей пригнали они в лагерь. Восемь живых голов, снабженных широкими спинами, способными принимать тюки, и крепкими ногами, умеющими перемещать ношу. Редкая удача! Успех, выпадающий не всякому! В лагере не хватает рук, работы непочатый край: даже половина мест, указанных Звездным, пока еще не обследована, и многие из тех, что найдены, лежат далеко в трех, в пяти часах нелегкого пути по жаре, даже и в девяти, если дорога лежит через развалины…
Наездники похваляются молча. Добыча говорит сама за себя. Людям аршакуни не к лицу бахвальство. Друзья оценят и без слов, а врагов в лагере нет.
Нелегко обнаружить подвального. Стократ труднее изловить его, на ощупь знающего тайные тропинки подземных переходов. И горе тому, кто сунется под землю, если ловкий подвальный, ускользнув от аркана, предупредит ватагу. Их следует брать немедля, врасплох, но мало кому под силу подкрасться незаметно к обитателям подземелий: они не отползают далеко от своих нор, а слух их и обоняние изощрены тысячекратно в сравнении с обычными людьми. Хорошо еще, что многие из них подслеповаты!
Подвальные опаснее крыс, чьим мясом питаются. Из чьих шкурок шьют одежду, неснимаемую, пока не расползется по швам от грязи и пота. Чьи клыки превращают в страшные метательные иглы, густо смазанные ядом, добытым из протухших серых и бурых тушек. Поэтому люди аршакуни никогда раньше не связывались с обитающими под землей. Не было нужды. Вести обмен подвальные не научены, новостей не знают, на выползающие в степь окраины развалин не суются.
Нечего доселе было брать с бесполезных.
Теперь — есть: они сами.
Почему — они, если можно взять выкуп покорными лохами у тех, кто сидит в башнях? Это непонятно. Но пусть излишне любопытный пойдет и спросит у Старшей Сестры…
Среброволосая приблизилась, и всадники спешились, прекратив наконец заслуженное, но сверх меры затянувшееся выставление себя на завистливый показ.
Старшой дозора выдвинулся вперед, готовый дать отчет.
Ни к чему. Нужно ли знать — как? Главное, среди людей аршакуни нет убитых. И задетых отравленными иглами, что еще хуже быстрой смерти, тоже нет. Сломанная при падении ключица и пробитая камнем из пращи голова — пустяки. Зарастут…
Зато! Вот стоит восьмерка сильных и смелых мужчин, превыше всего ценящих свободу. Они невероятно грязны, они вшивы, повадки их отвратительны, но тем не менее они заслуживают уважения. Ибо в подвалы идет лишь тот, кому невыносимо рабство. Как нестерпимо оно людям аршакуни, не живущим в неволе…
Косматые, свалявшиеся бороды. Въевшаяся в поры грязь. Неизводимо витающий над телами запах нечистот и гнилой влаги заплесневелых подземных стен.
Но! Лучше так, чем идти к башням, и есть вполсыта каждый день, и видеть солнце, расплачиваясь за это вылизыванием кроссовок и пресмыканием перед кожаными куртками. Недаром люди башен, изловив подвального, поджаривают его на медленном ленивом огне, согнав полюбоваться зрелищем толпу послушных лохов из ближайших поселков.
Почему подвальные не идут к людям аршакуни?
Их приняли бы, и умыли, и обеспечили едой, и каждый пришедший стал бы равен остальным. Потому что все, знающие цену свободе, — братья… Братья, заплутавшие во мгле подвалов.
Как к заблудшим братьям и обращается к пленникам Старшая Сестра:
— Вольные люди! Не было между нами раздоров доныне. Мы жили, как жили мы, вы жили, как жили вы. Не лежала кровь между людьми подвалов и окраин. Но теперь все не так…
Отточен, краток и даже подвальному понятен призыв.
Скоро придут братья из-за звезд; предвестник их уже явился людям аршакуни, и уже спешат высокие корабли, чтобы забрать достойных в пространство, лежащее за небесами. Туда не возьмут тех, кто в башнях, ибо они унижают и гнетут подобных себе; туда не захватят и тех, кто в поселках под башнями, ибо они жалкие, недостойны полета к новой жизни. И тем, кто обитает у лиманов, не взойти по сходням — они чужие братьям, спешащим из-за звезд. Счастливая участь уготована лишь людям аршакуни, по вере и мечте их. Люди же аршакуни, всей душой любящие вольных братьев своих из-под земли, готовы взять подвальных людей с собою, не сделав различия между теми, кто вырос под солнцем, и теми, чьи глаза, открывшись впервые, столкнулись с тьмой. И пусть не таят обиды дорогие младшие братья из подвалов, что привели их в лагерь вот так, связав попарно за шеи. Приглашали и добром. Звали у нор. Не скрывали ничего. Но никто не явился по доброй воле. А ведь людям аршакуни нужна помощь: далеким братьям требуется нечто, что есть в избытке на Земле, но слишком мало рабочих рук, и не к лицу полноправному человеку аршакуни подставлять спину под тюк…
Вот почему пришлось пригласить так, как пригласили.
Но теперь все будет хорошо. Люди окраин готовы поделиться с людьми подвалов и своей мечтой, пронесенной сквозь годы, и былью, в которую она обратится со дня на день…
— Вот и все, дорогие мои, — просто заключает Эльмира.
Но пленники смотрят не на нее. А на три косых креста, вкопанных в землю в тридцати шагах от шатра. Кресты велики, каждый — в полтора человеческих роста; сделаны из ржавых металлических труб, накрепко связанных проволокой. И к каждому прикручен человек. Вернее, человек — лишь на одном. Но скоро и он станет обвислым куском мяса, облепленным мушней и мошками, подобно висящим слева и справа от него…
Быть может, удайся подвальным перекинуться хоть словцом с собратьями, привлеченными к совместному с людьми аршакуни труду раньше, они бы прислушались к доброму совету носильщиков. Но так не случилось. И поэтому они не могли знать, что зрелище это хоть и отвратительно, но не страшно.
Нечего бояться человеку, имеющему мечту и волю к ее воплощению. Если же человек слаб, он мертв; если лжив — мертв вдвойне…
Все очень просто. Проще некуда. Но подвальные соображают туго. А посоветовать беднягам некому.
— Сука! — сиплым басом выкрикнул один из подвальных.
Он был не прав. И ясный серый свет под разлетом серебристых бровей мгновенно потускнел, уподобившись крысиной шкуре.
— Ты назвал меня сукой? Ты, подземная плесень, посмел назвать меня сукой?..
Каждое слово падало четко, слог за слогом, вовсе не громко, и всадники, в отличие от подвальных, с детства знающие Старшую Сестру, попытались сделаться незаметными.
— Ты, не имеющий мечты, посмел?..
Темные, в кровавых прожилках глаза, обрамленные безресничными веками в гнойничках ячменей, не опустились.
— Убьешь? Убей. В неволю не пойдем.
— Не просто убью, — задушевно, как лучшему другу, сообщила Эльмира, и дозорные, понимающие цену слов, побледнели.
— Ясное дело, — понятливо согласился подвальный. — Об чем речь? У тебя, вишь, аж два резака, у меня — ни одного…
— Бери любой!
В единый миг оба клинка покинули ножны и веревка, охватывающая короткую шею красноглазого, упала наземь.
— Ну!
В следующий момент мечи скрестились.
Подвальный оказался не прост. Возможно, ему довелось пожить в башне и он сбежал оттуда, сманенный вольным зовом руин? Или обучился чему у диких, занявших берега лимана? Они неохотно принимают чужаков, но подчас случается и такое…
И Эльмире, полагавшей, что схватка завершится на втором, много — третьем ударе, пришлось повозиться; подвальный не боялся смерти и очень хотел убить; он не желал помогать мечте людей аршакуни… Единожды ему удалось даже задеть клинком тонкое предплечье, и вдоль загорелого локтя потекла тоненькая алая слезинка, но сразу вслед за этим короткий меч Старшей Сестры описал затейливую кривую, похожую на многократную восьмерку, и липкие колтуны бороды расцвели багрянцем.
Кончик бугристого, в рытвинах и прыщах носа был отсечен начисто.
Еще один радужно сияющий просвист. Ухо… Второе…
Подвальный взвыл, кружась на месте.
Четвертый и пятый удары, неподражаемо, почти неправдоподобно скользящие, аккуратно срезали ему брови.
Шестой и седьмой — щеки.
Восьмой — уколом — пошел в пах.
— Уууббей, шшука! — взбулькнул подвальный, выронив меч.
— Нет. Рано, — отозвалась Старшая Сестра.
Меч ее гудел и шелестел, медленно, словно капусту, обрывая подвального. Слой за слоем. Обтесок кровоточащего мяса корчился и кувыркался, пытаясь увернуться от неутомимо жужжащей боли. И семеро подвальных, ничем не оскорбивших Старшую Сестру, созерцали кару, уподобившись застывшим в степи сусликам. По глазам их было видно: они уразумели все и готовы стать хорошими, не замысляющими побега носильщиками…
— Нннеее… нннааа… — содрогаясь, сипело на траве то, что было недавно злым и глупо-дерзким подвальным. — Бууу… ууу… меее… ааа… хооо… ууу… мечтать!
Последнее слово выскочило звонко и внятно, словно один из кровавых пузырей на губах, лопнув, выпустил его на волю.
Старшая Сестра опустила меч.
Обвела медленным взглядом связанных, не обделив ни единого искоркой серо-голубого сияния.
— Я не верю ему, друзья. Он говорит, — Эльмира прислушалась, — что будет мечтать. Что уже хочет мечтать… А я не верю. Мечту не вбивают в сердце острым железом. Мечта — это крылья. И трижды мертв не имеющий мечты!
Клинок подпрыгнул — и маленькое багровое, отделившись от большого багрового, покатилось по жаркой траве, окрашенной во влажный осенний блеск кленовых рощ.
— Вымыть и накормить! — приказала Зльмира.
И старшой дозора ретиво дернул намотанную на запястье веревку, приглашая новых носильщиков следовать за собой. Туда, где их умоют, накормят и дадут место для сна.
Людям аршакуни пристало быть гостеприимными с младшими братьями, знающими цену свободе…
ГЛАВА 5. «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ, А ОНИ ОСТАНУТСЯ С ТОБОЙ…»
Земля. Месяц медовой капели. Обитель
16 июля 2233 года по Галактическому исчислению
Глухарь токовал совсем близко, в полную силу, но даже зоркие глаза охотника не могли разглядеть его в предрассветном сумраке чащобы. А! Что-то шевельнулось среди мохнатых еловых лап. Так и есть — вот он, глухарь, весь виден. Всегда так бывает: смотришь, смотришь — нет птицы! А ведь точно знаешь тут она. И вдруг — видишь. И диву даешься: ведь в то самое место и смотрел, а не различил…
Ну, правду сказать, теперь попривык. Навострился. Это Лесные, с которыми Старый любит по ночам потолковать, глаза поначалу отводили. Не принимали за своего. Нынче — ничего, подобрели, признали: бери, стреляй, коли глаз верен и рука не дрожит. Свыклись, понимаешь. Опять же и Водяные, на что уж нравные, а пошли на попятный: ладно, чур с тобой, пришлый: закидывай крючок, кидай острогу. Но уж не обессудь: что добыл, с того отдай долю.
Спасибо Старому. Научил. Надоумил. Не дал пропасть.
Не сводя глаз с птицы, охотник ждал. Вот глухарь снова заскрипел, вытянув шею. Бить? Нет. Неудобно пока. Сбоку надо бы зайти. Смолк глухарь, подняв голову. Настороженно прислушался. И охотник тоже замер, не шелохнется, ждет, пока новую песню заведет хвостатый. Тихохонько отпрыгнул влево и снова притих. Ближе и ближе к птице. Вот! Теперь хорошо бить, удобно: глухарь шею вытянул, крылья растопырил.
Снизу, под самое крылышко целить надо…
Дождавшись еще одной песни, охотник осторожно поднял лук. Тяжелая, со стальным наконечником стрела ударила точно. Большая черная птица, обламывая мелкие сучки, рухнула на грязноватые остатки талого, усыпанного хвоей снега. Охотник кинулся на нее, придавил. Зевать никак нельзя: бывает и так, что подраненная птица вскинется да и улетит. Это со стрелой-то в боку! И гоняйся потом за ней по всему лесу, да и не за ней уже, а за стрелой.
Стрелы, они дорогого дороже. Считанные!
Стоя над трепещущей добычей, охотник поискал глазами — где чащоба погуще? Повернулся к буреломным завалам, сказал, как Старый наказывал:
— Прими, Лесной, свою долю, да с родовичами поделись, не пожадничай! Это от меня тебе. А от Старого приглашение: приходил бы ты, Лесной, на квасок, совсем Обитель позабыл!.. Неладно так-то!
Наколов на острый сучок краснобровую голову глухаря, охотник выдернул из тушки стрелу, подобрал копье и прислушался. В глухой чащобной дали неистово и страстно пел еще один глухарь. На ином конце, там, где дрягва-болото легла, откликался другой. Чуть ближе, рукой подать — третий. Сквозь темные лапы елей уже проползало понемногу бледное зарево раскрывающейся зари. Ночные тени уползали, прятались под коряги и выворотни.
Боится света нечисть. Ей только во тьме хорошо. А охотнику и в ночи не страшно. Зря, что ли, Старый ожерелок из кладун-травы на шею накинул, провожая с вечера? Никакая пагуба не пристанет с таким-то оберегом. А днем так вообще иное дело: добрые Лесные в обиду не дадут.
Охотник глубоко, во всю глотку вдохнул влажный весенний воздух. Дыхание перехватило студеной свежестью. Ох! Словно меду напился. Не первый ведь раз уже, а все равно никак не привыкнуть… Хорошо в лесу! Вон глухарь, который за прогалиной, тот вовсе от дурной весенней радости охмелел, взахлеб токует. Можно бы и его взять, но зачем? Глухаря им со Старым сверх меры довольно будет. А лишнее из лесу зачем брать? Только Лесных обижать попусту. Притом и обратно пора: Старый настрого наказал с зарей вернуться. Так уж лучше просто постоять, голоса птиц послушать, пока еще костер на восходе только собирается разгореться…
Да и пути пока что нет. Не было Знака.
Ух ты! Словно бы и впрямь вспыхнул лес!..
Только что чуть брезжило за стволами, а вон, глянь-ка, вмиг полнеба пламенем окатило. Вот-вот лопнет земля, разродится, выпустит на волю жар-птицу…
Тихо прошелестело. Темная четырехпалая лапа, заросшая то ли шерстью, то ли корой, вынырнув из ниоткуда, ухватила глухариную голову, сдернула с сучка, подбросила на мохнатой ладони, ровно на вес прикинула — и сгинула в никуда, унося положенную долю.
Вокруг зачмокало, зачавкало, заурчало.
Вот и Знак. Открылся путь.
Стало быть, пора!
Охотник окинул напоследок прощальным взором ельник, и частые кустарники, и набросы подгнившей хвои, взвалил на плечо тяжелую глухариную тушку — и вышел.
Из предутренья — в последневье.
Из студеной весны — в летнюю теплынь.
Из леса — в Обитель.
К Старому.
И, как всегда бывало, лишь переступил порог, так и не стало тотчас охотничьего наряда. Ни куртки меховой без ворота, с короткими, по локоть, рукавами, ни кожаных узких штанов, перевитых тонкими ремешками пониже коленей, ни добротных поршней-кожаниц…
Оно и удобнее по жаре: сорочка да порты, ничего больше.
— Ну, каково сходил?
Старого не поймешь. Легко ему, многоликому, а человеку каково? Спросят вот так, а видны одни лишь очи: белый огонь да черное пламя. А голос всегда ровный. И звучит не разобрать как-то ли ласково, а то ли хмуро…
Неопределенно хмыкнул охотник. Плечами дернул. Кинул глухаря с плеча. Полетела тушка на пол, да не долетела, как всегда и бывает. Невидимые на лету подхватили.
— Ладно, сам вижу. Принял тебя лес. А самого видел ли?
Охотник кивнул.
— Углядел, отче. Понять не понял, а заметить заметил. Лапу мохнатую, и только.
— И того много, — прищурил левый, ночной, глаз Старый. — Сам Хозяин мало к кому выйдет. Бывало, гуливал, себя показывал кому ни попадя. А нынче разве изредка ко мне заглянет, и то хлеб. Да и ты ведь не я.
— Куда уж мне, — без обиды согласился охотник, вытирая руки расшитым рушником.
— Ешь, однако. Вот дичина твоя уже и поспела, — указал Старый. И продолжил, то прикрывая нестерпимые очи, то поглядывая, как охотник споро, без лишних слов рвет зубами нежное мясо под хрустящей корочкой: — И воде ты глянулся, по всему судя…
Хрустко перемалывая глухариные косточки, человек кивнул л промычал нечто невнятно-согласное.
Было дело. Третьего дня на берегу синь-озера сидел; ни шатко ни валко, хоть и золотая осень кругом, а рыбешка — по разу в час, и то сплошняком мелочь, стыдно и с крючка снять. И вдруг — клев. Да какой! Одна за одной пошла, рыбищи-чудища, иные и в руку длиной, от кончика пальцев до плеча. Лещи, сазаны, щуки зубастые, а под самый закат уже усатого зацепил. Пришлось в воду, в осоку… ступни в кровь изрезал, покуда вытащил пудового.
Зато когда крепко размахнулся и зашвырнул налимью печень почти что на самую середину озера, на миг явственно угляделось, хоть и сумрачно было: в сколах темной всплеснувшейся глади вынырнул сам Хозяин, ухватил чешуйчатой лапой долю — и поминай как звали. Зелен был водяной дед, струился весь, а очи бледные, точь-в-точь рыбьи…
— А ко мне нынче друзья-приятели забредали. Погостевать, стало быть, потолковать о том о сем…
Ба!
Прекратив хрупать, охотник поднял голову от стола.
Забредали, выходит. Это кто ж, забавно б узнать? Уж не Старая ли? Коли так, то и славно, что разминулись. Невредная бабка, да смешная: сто лет в обед, кабы не больше, а туда же — платочек не как-нибудь повязан, а бантиком, сарафан всегда с расфуфыриной, с цветочками всякими. Не иначе к Старому подкатывается, дура. Это дело Старому вовсе без надобности, трудно ль понять?.. Или Крылатый наведался? То дело иное; хоть и молчун, а порой, ежели раззадорить как следует, такого наговорит — после на десяток рыбалок думать хватит. Точно, кто-то из этих. Забрели бы Чужие, так Старый бы так сразу и сказал: Чужие. А никак не друзья-приятели, при всем нашем к ним почтении. А Лесные с Водяными, ежели и наведывались, так ни к чему и поминать особо, это гости частые, привычные, да, почитай, и не гости вовсе…
— О тебе речь вели, — сообщил Старый. И прищурился.
Ох и не к добру же эти прищуры! Ни разу не случалось, чтобы просто так глаза узил. Знал ведь все заранее — и когда по первым разам в лес либо на озеро посылал, и после! Ведал, что леса оборвется и что нога, не так на мхах пойдя, вывернется, а уж про косолапого наверняка загодя провидел и не предупредил же ни намеком, жучина старая…
Впрочем, стар ли Старый иль молод, то охотнику ведомо не было. Дивное диво: сколько себя помнит, жил тут, все вместе да вместе, а каков он есть, Старый-то, и по сей день невдомек. Без облика? Не скажешь! Есть обличье, да только какое-то эдакое, что ни миг изменяющееся: и старое, и молодое, и хмурое, и любезное, и всякое; вроде и видишь его, а после не описать. Ни словом, ни даже воспоминанием.
Одни очи чего стоят! Ладно что огненные, разноцветные, так к тому ж еще и меняются цветами: ныне левый — светел, правый — темен, а мигнет разок, и видишь — наоборот.
А что о таком думать? Старый, он Старый и есть.
— Всяко рядили, — продолжает Старый, — а к единому пришли. Хочешь не хочешь, а пора тебе имя давать…
Поперхнулся охотник, выронил изо рта недожеванный кус.
Ну дела!
Сколько раз доселе подступался к Старому: скажи, мол, кто ж я есть таков, что не знаю о себе ни капельки, ну, скажи же, страсть как любопытно… а в ответ одно и то же: обожди-де до времени, вот дадим тебе имя, тогда все и узнаешь. А кто ж даст? Ответил: Земля!.. Отчего не теперь? — В ответ на то лишь черно-белый прищур, да еще Невидимые возмущенно шелестеть начинали…
— Поснидал? — полувопрос-полуутверждение. — Тогда иди-ка сюда…
Подумалось: в глубь хоромины зовет. Не так оказалось. Подошли к двери. Только не к той, откуда привык в лес аль на озеро уходить, а к иной, той, что напротив. Заповедная дверка. Невысокая, гладкая и — чужая. Единое на всю Обитель, от чего живым духом не несет. Гладкая, на ощупь скользко-неприятная, сделанная словно бы из множества слитых воедино стрельных наконечников. А по скругленным краям — ряд клепок.
Давно спрашивал Старого: а там-то что, покажи?
Отмолчался Старый.
Скребся сам. Без толку. Не живая дверь. Ни рукой, ни заповедным словом не отпереть,
А когда единожды — со злого озорства — кладун-траву к холодной глади прижал и словом заповедным усугубил, так после полчаса ничком на досках валялся в своей же блевотине: ровно жахнуло изнутри чем-то горелым… а Невидимые метушились обочь и сердито цвиркали. До того сердито, что даже и зримыми слегка стали: то белое мерцание виделось, то черное — словно отсветы очей Старого, но пожиже…
— Иди. Потом потолкуем.
Натужно проскрипев, дверь чуть приоткрылась. И стало видно, что там, на дворе — день.
Серый. Пасмурный. Волглый.
И не захотелось вдруг выходить.
В ту, привычную дверь шагал радостно, без заминок. А тут удержало что-то. Не захотело пускать. Не посоветовало.
— Иди! — как подтолкнуло.
Что поделать? Не поспоришь. Сделал шаг.
Обернулся. Все, как всегда: сгинула Обитель. Нет ее, как не было. И не будет, покуда Знак не явится.
Осмотрел себя. Странный наряд. Ранее такого не бывало.
Вместо поршней на ногах тяжелые твердые чехлы, дополголени прошнурованные толстыми нитями. Жмут. Давят. В таких по лесу и часа не прошагать, не говоря уж о том, чтобы добычу не спугнуть. Вмиг учует. Порты и куртка тоже невиданные: плотные, душные, ни душе, ни телу не в радость. Томят. Гнетут. Скверная лопотъ; разве что утиц в дрягве сподручно в этаком наряде караулить. Болотный окрас, под гнилую зелень; так вот в тугаях залечь — не то что утица, кабан и тот мимо прошагает, не хрюкнув. Совсем сольешься с зыбунами.
Поглядел вокруг. Лес? Не лес. Болото? Никак не болото.
Серые деревья натыканы пучками тут и там; ветви перевиты дикой порослью. Куда ни кинь глаз — хоромины нежилые. И неживые. Оплывающие. Осыпающиеся. Гниющие. Иные хоть и целы на вид, а все одно: гиблым духом дышат. Провалы окон глядят слепо, и обвислые двери щерятся беззубой угрозой.
Живого нет. Ни птичьего цвирка, ни звериного шороха.
Лишь у высокого входа в ближнюю хоромину — табунчик тарпанов. Смирно стоят. Понуро…
Поди ты! Губы человека вытянулись в удивленную трубку.
Тарпаны-то привязаны! И ремнями перетянуты!!!
Дела-а-а…
Где ж видано, чтобы вольный зверь себя ремнями стянуть позволил? Не подпустит. Вихрем улетит. Копытом зашибет. Волком грызться станет, а в неволю не пойдет.
«Это кони. Твои кони», — беззвучно подсказал Голос.
Мои?..
Учуяв человека, соловый тарпан встряхнул гривищей и призывно заржал.
Ноги пошли сами.
Подошел к табунчику. Так и есть. Не тарпаны. Подменыши. Похожи, спору нет. Как падаль — на живое. Не более того…
А звери тянутся, волнуются. Рады. Знают, видать.
Откуда бы?
На сизо-серой траве ровными рядками лежат расписные доски. Иные — поодаль, свалены небрежной грудой. Отдельно — истуканчики. Светильники на много свечей. Бусы с пушистыми хвостиками.
«Это поклажа, — вновь ожил Голос. — За ней и шел».
Рука, словно сама по себе, тянется к нашитому на груди мешочку. Полезное дело, краем сознания отмечает человек. Надо бы перенять. Удобнее, чем в калете носить…
Пальцы перебирают листики — словно бы тонкая береста, а в то же время и никак не она, — скрепленные меж двух кожаных створок.
По белым рядкам — черные значки, словно рябчик, испачкав лапки сажей, туда-сюда бегал. Иные строки зачеркнуты, супротив других — непонятные отметины. Крестики, птички, кружки, перечеркнутые наискось.
Руны? Нет, не они. У Старого есть таблицы с рунами, он порою говорит с ними, спрашивает о чем-то, рассказывает сам. Руны — угловаты, резки. Эти значки — округлы.
И чем-то знакомы. Чем? Не вспомнить.
Они — из другой жизни. Как кони. Как этот болотный душный наряд.
Из жизни, которой не было.
Человек замирает. Незримая мягкая ладонь ухватывает сердце в щепоть и начинает медленно, туго, жутко давить.
Невозможно вздохнуть.
Где ты, Голос?! Худо мне! Ху-у-удооооо!
«Это гибель твоя», — отзывается замирающий отклик.
И все. Нет Голоса. Затих.
Только спутанные кони беспокойно взвизгивают, глядя на павшего на колени человека.
Грудь рвется изнутри. Руки непроизвольно хватаются за жесткую ткань, рвут ее.
На миг, всего только на полвздоха становится легче.
Человек недоуменно глядит на сорванный с груди оберег.
Красное. Черное. Увесисто-небольшое.
Знак неясный, непонятный, неведомый.
На черно-красном — крошечный шарик, оседлавший человеческую ступню в странном поршне. И те же немые значки, что и на бересте не бересте меж кожаных створок.
«Мяч!» — вспыхивает вдруг слово.
«Челеста!» — откликаются значки.
… Человек умирает, корчась на жесткой мертвой траве, и к нему возвращается память. Понемногу. Рывками. Урывками.
Вразброс:
…конус космокатера тонет во мгле степной ночи; трава больно колет обнаженную спину; звенящее напряжение в каждой клеточке тела и разметавшаяся на плече нежность девичьих волос, золотящихся даже в неверном полусвете луны; и срывающийся шепот: «Да, да, еще, Звездный»; и спустя мгновение: «Но ты возьмешь нас с собой? Всех нас? Ты заберешь нас к себе?»; вопросы, на которые просто невозможно сейчас, здесь, ночью, в траве ответить: «Нет»…
Это было. С ним? Со мной. Давно? Не очень.
Врасхлест:
…гул бумерангов, свист стрел, протяжный шелест клинков; люди кидаются со всех сторон; странные люди: они убивают его, но не хотят убивать; и он оставляет их в живых, уложив на землю лицом вниз; а они ползут к его ногам, гордые могучие люди, и молят: «А-Видра! Прикажи!!!»…
Это было. Со мной? Да. Когда? Тогда же.
Врастяжку:
…тягучий взгляд грузного старика, складчато колышущегося в никелированном кресле; взгляд изучает, давит, сгибает; таким взглядом не имеет права обладать калека; но это не просто калека, это Высшая Власть, и нет необходимости размышлять, почему власть парализована; «У вас отличный послужной список, майор… Думаю, нет нужды напоминать вам о том, что такое присяга?»; нужды нет, он помнит…
Удушье.
Человек не умер еще; он изгибается на сером, пытаясь вобрать в легкие хоть глоток серого, и никак не может; он очень силен, и он борется со смертью изо всех сил, но разве под силу кому одолеть всесильную, если уж закогтила?
Бейся не бейся — осилит.
Раскаленные крючья рвут грудь изнутри, расплавленная смола заливает гортань снаружи, разъяренные кошки вопят меж висков; сознание сдается, и воля меркнет, могучее тело покорно расслабляется, подчинившись уже свершившемуся, и человек блаженно отдается мутной волне покоя, уносясь вдаль…
В яркую, ясную, явную, ярую даль…
В ярую даль…
В ярь… даль…
В… Я… Р… Г… Д… А… Л…
— Въяргда-а-ал! — захлебывается далеко позади, за чертой, безнадежный зов угасающей жизни, боящейся угасать.
Смерть.
Человек открывает глаза.
Тьма.
Он наг. Напротив — светлый круг, выхватывающий часть грубоделъного стола. Густая чернь резко очерчивает грань белизны, не расплываясь серым на стыке.
За столом — Старый.
— Ты вернулся, — говорит он бесстрастно. — Спрашивай, человек!
Обнаженный не медлит с вопросом;
— Въяргдал — кто?
Отвечающий не задумывается:
— Ты. Был, пока не умер. Теперь он мертв. А ты жив.
— Кто — я?
— Земля уже назвала тебя. Имя тебе… Не звуком — образом приходит знание….мягкое, душистое, то, в чем жизнь: хлеб….звонкое, сладкое, то, в чем смысл: победа….темное, тайное, то, в чем суть: судьба. Вот оно: хЛЕБ… поБЕда… суДЬба!
— Имя тебе — Лебедь.
И человек согласно склоняет голову.
— Почему я умер?
— Потому умирает Земля.
Снова — сон наяву:
…подернутый серым, медленно изгнивает заживо лес, тот самый, где поют по весне глухари; косолапый, пьяно шатаясь, бредет сквозь кустарник, и поределая шкура его отливает тусклой гнилой серью; и Хозяин, понуро сгорбившись на пеньке, закрыл мохнатый лик четырехпалыми лапами, ожидая конца…
…присыпанное серым, тягучее, иссыхает озеро, то самое, где рыбачил на заре; гноящаяся тина заткала некогда прозрачную гладь, рыбы вязнут, пытаясь выпрыгнуть в серый воздух; и Водяной дед, бранясь, рвет тину перепончатыми щупальцами, тщась вызволить хвостатых дев, но не может, и злится, и пытается гнать бессильную волну, осыпаясь сухой тусклой чешуей… Что это?!
— Для чего я умер?
— Для того, чтобы прийти и увидеть, — отзывается Старый, и голос его скорбен.
— Увидеть — что?
— Нас…
Круг света распахивается вширь.
Широкий стол перед Лебедем. А за столом — и влево, и вправо, теряясь в неизмеримой дали, — нелюди и люди.
Все они здесь: и Старая, и Крылатый, и лесной Хозяин, и Водяной дед, и иные, вовсе незнакомые, к Старому на огонек не забредавшие — это нелюди. Люди же подальше сидят, отсюда и не разглядеть лиц.
Все они здесь, и все глядят на него.
Неотрывно.
Молча.
Ожидающе.
— Для чего я жив? — гулко спрашивает Лебедь, и эхо обегает безмерность, распугивая снующих в высоком тумане крылатых тварюшек, то черных, то белых.
Это Невидимые. Но сейчас и они зримы.
Они и откликаются:
— Для того, чтобы спасти Землю.
Хор мелодичных голосов слаженно-звонок.
Нет. Это не хор. И не голоса.
Это — Голос.
— Почему — я? — вновь спрашивает Лебедь и сам себя поправляет: — Почему я жив?
Старый распахивает двусветно сияющие глаза.
— Потому что лишь тебе это под силу. Любовь Земли и Мощь ее вместе поручились за тебя, человек!
Двое, покинув стол, приближаются к тому, кто получил имя.
Женщина молода. Лицо ее прекрасно, хоть и подернуто вуалью тумана. Короткая юбка не скрывает округлых коленок, и тугая крепкая грудь под тонкой, ничего не прячущей тканью колышется в такт шагам.
— Ты справишься, Ярик!
И память Въяргдала, еще не угасшая до конца, срывается с уст Лебедя детски удивленным вскриком:
— Тетя Катя!
Улыбка ее полна нежности. И голос исполнен веры.
— Скажи людям Земли, что она любит их!
Мужчина сед. Но движения его тигрино-плавны, два меча изящно поддеты под широкий кушак, и складки украшенного драконами кимоно почти не колеблются, когда он идет сквозь искристый туман.
— Ты справишься, сэмпай!
И память Въяргдала, взбудораженная изумлением, вылетает из груди Лебедя юношески ломким баском:
— Мастер!
Черты седого неподвижны. И в словах не звучит сомнение.
— Скажи людям Земли, что она просит зашиты!
— Ты справишься, милок! — шепелявит Старая издалека.
— Ты справишься! — подтверждает Крылатый.
— Справишься! — шипит Пернатый Змей.
— Справишься! — подпевает ему Шестирукий. И эхо многих множеств, людских и нелюдских, кружится и рокочет вдали и ввыси:
— Справишься! Справишься! Справишься!
— А мы будем рядом с тобой! — заключает Старый.
И все смолкает.
Нет больше Обители.
На серой траве умирающего мира, у ворот с покосившимися фигурными створками, ржут кони, плотно навьюченные тюками. Из плохо зашнурованных мешков торчат края расписных досок.
Двое стоят друг против друга.
На одном — потная, запыленная военная форма, тяжелые десантные ботинки, кепи с кокардой в виде кленового листа.
Второй не имеет обличья. Лишь глаза живут и сияют, не струясь, не истекая, не изменяясь ежемгновенно. Все сказано. И все же:
— Земля отдала тебе что могла и сверх того. Дело за тобой. Запомни: когда слепой увидит, а глухой услышит, тогда сердца подскажут людям, как быть. И ты поведешь их.
— Но…
Тот, что в ботинках, хочет сказать. И не может.
Как передать то, для чего не найдено слов?
Как ему, умершему и возродившемуся, обойтись там, далеко, без этого леса, где поют глухари…
(…где этот лес?..)
…без озера, звенящего надсадной комариной тоской…
(…где это озеро?..)
…без скрипучего снега, испятнанного в просинце петлями заячьих следов?
Можно ли без этого жить? И зачем? И стоит ли?..
Нет слов. Поэтому не имеющий облика понимает.
И огненные очи наливаются мягким теплом.
Уже исходя маревом, растекаясь в наплывах еле слышного перезвона бубенцов, он откликается:
— Не бойся. Хочешь или нет, а они останутся с тобой…
Кося глазом, испуганно шарахаются кони от бесшумной черно-белой вспышки. Гулко отдается в ушах долетевший из нездешних далей громовой раскат.
Кончилось время вопросов.
Тот, кто пришел сюда майором десантных войск Демократического Гедеона Въяргдалом Нечитайло, потуже подтягивает подпругу.
Пришел час отвечать.
Тот, кто стал Лебедем, легко, лишь чуть коснувшись носком стремени, взмывает в седло.
Караван, ведомый всадником, растворяется в пыли, навечно повисшей среди перевитых серыми лианами развалин.
Их путь лежит на юг. Туда, где еще не все мертво.
… Из окошка Обители глядит вслед уходящим в пыль сухой и сморщенный старичок. Лицо его, обычно улыбчивое, сейчас печально. Белая, без всяких украшений долгополая риза ниспадает до пола, чуть приоткрывая щегольские, расшитые жемчугом туфельки. На одной, левой — крест. На другой — полумесяц.
Два призрака стоят рядом. Два морока. Две тени.
— Он сможет, я знаю, — нежным голосом говорит одна. — Он хороший мальчик. Мать гордилась бы им…
— Он сделает, — бесстрастно подтверждает вторая. — Он видит знамена княжества Такэда. Огонь! Железо! Ветер! Земля!..
— В том-то и дело, что Земля… — кивает старичок.
И меленько хихикает:
— Только, простите, при чем тут княжество Такэда?
ГЛАВА 6. «ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТАКОЕ ПРИСЯГА…»
Земля. Месяц усталого зноя. Лебедянь
30 сентября 2233 года по Галактическому исчислению
Приказ А-Видра не допускал кривотолков: всем людям идеи квэхва, способным держать в руках оружие и жаждущим обрести благословенный Дархай, не позднее предпоследнего дня месяца усталого зноя явиться в ставку Двуединого, лежащую близ мелких заливов, промедлившие же да не увидят светлого лика животворящего Ю Джуга.
Это был не очень понятный приказ. Каждому известно, что люди квэхва отважны и умелы в бою. Но всякий знает и то, что им не по нраву сражаться иначе, как защищая свои поселки от незваных гостей. Лихие же гости давно, очень и очень давно поняли, что налеты на поселки мирных людей квэхва — дело глупое и опасное. Поэтому никто не угрожал покою и упорному труду тех, кому не было дела до чужих свар.
Однако возможно ли смертному, не рожденному из соития почвы и ветра, понять всю глубину замыслов А-Видра? Ведь и первый приказ его — собирать безделицы, захороненные в руинах, тоже не могли постичь разумные люди идеи квэхва. Они просто подчинились, не задавая себе ненужных вопросов, на которые все равно не могли бы ответить даже умудренные годами Вещие. Они приняли приказ к исполнению, и малые отряды день за днем уходили в развалины, исполняя точный приказ.
Они задыхались в непривычной, горькой пыли омерзительных мертвых камней, они теряли родичей — по счастью, очень немногих — в бессмысленных стычках с гнусными земными людьми, выползающими в сумерках, а подчас и среди дня из глубоких подземных нор. В крысиные шкуры были одеты эти земляне, а что может быть отвратительнее для людей идеи квэхва, ненавидящих этих тварей? Да и сами подземные повадками походили на крыс. Они боялись открытой схватки, предпочитая нападать внезапно, по двое, по трое на одного. Тогда люди квэхва перестали бродить в руинах по одному, они трудились группками в пять-шесть человек, и подземные угомонились, резонно испугавшись грозной силы.
А возможно, они просто поняли, что людям идеи квэхва вовсе не нужны ни их норы, ни их руины, ни их крысы, без которых жизнь подземных прекратилась бы. Люди квэхва приходили, брали нужное — и уходили восвояси. Нужное же им было совсем не надобно подземным. Правда, случалось и так, что какой-либо пустяковины, указанной А-Видра, не обнаруживалось на должном месте. Тогда упорные люди квэхва подходили к ближайшей норе и громко просили поискать и отдать. Если подземные откликались и выносили сами, люди учтивой идеи квэхва благодарили их и уходили в поселок. Если же нет, они просили еще раз, а потом начинали настаивать.
Нет, они не лезли в подземные жилища, куда их не приглашали. Ведь это верх невежливости! А к тому же под землей бесполезны и смелость, и выучка. Догадливые люди квэхва просто затыкали все близлежащие выходы пучками особых трав, смоченных в гадко пахнущей жидкости, поджигали их и тихо стояли, наблюдая, как с воплями выскакивают из нор очумевшие крысы и вперемешку с ними нечистоплотные подземные жители.
А потом вдвойне учтиво благодарили оставшегося в живых после обстоятельных расспросов подземного, указавшего, где скрыта вещь, нужная А-Видра, брали ее и покидали руины. Поэтому обитатели нор очень скоро пришли к разумному выводу о пагубности нанесения обиды людям щедрой идеи квэхва и по первому же требованию вытаскивали на поверхность все, что было необходимо уважительно пришедшим просителям.
Как бы то ни было, приказ А-Видра был хоть и непонятен, но мудр. Чем больше скапливалось в поселках каменных и металлических изваяний, раскрашенных холстов, натянутых на излишне вычурные рамы, бесполезных для кухни вазочек из тяжелых, украшенных разноцветными твердыми каплями сплавов, тем меньше досадных случайностей происходило с людьми надежной идеи квэхва. Урожай в это лето выдался превосходящий самые смелые надежды, крысы вовсе не появлялись в виду сторожевых, случайная стая диких дворовых котов обошла стороной один поселок, и другой, и третий и канула где-то в каменных завалах, даже не подумав нападать. И суки этим летом щенились одна за другой, принося невиданное количество потомства, причем очень немногие щенки умирали…
Разумно рассудив, иные, самые проницательные из рассудительных людей идеи квэхва, стали воздавать хвалу штабелям аккуратно упакованных вещей, необходимых А-Видра. Собравшись подле прочных навесов, защищавших принесенное в поселки от дождей, они садились на корточки и долго пели благодарения заботливым вещам, столь тонко знающим нужды людей несуеверной идеи квэхва.
Если же этот приказ был непонятен, но мудр, то стоило ли предполагать отсутствие смысла в следующем?
Тем более что А-Видра, отдавая указание, не забыл и о жатве. Сбор был назначен как раз на то время, когда урожай будет убран, уборка отпразднована и, не стесненные ничем, люди идеи квэхва получат возможность без ненужных размышлений подчиниться велению Двуединого.
Вот почему стоило красному бумерангу, везомому запыленным гонцом, облететь поселки, все мужчины, уже познавшие сладость того, чем обладают женщины, не мешкая, собрались в путь. Женщины, снаряжая их в дорогу, шушукались и перешептывались. Они опасались, что А-Видра уведет мужчин на Дархай, бросив их, беззащитных, на проклятой Земле. Насмешливые мужчины поддразнивали длинноязыких, доводя их до слез шутливыми угрозами, сами же, собравшись кружком, толковали о том, что там, на Дархае, женщины, конечно же, есть и они, нет сомнения, краше и слаще, нежели здешние, а также и о том, что, как ни крути, а путь на Дархай долог и труден, и стоит ли обременять себя такой обузой, как сварливые долгокосые балаболки. Однако же, посудачив, сходились во мнении, что женщины женщинами, а зовут все же не для этого…
Ведь ежели б было так, то А-Видра велел бы мужчинам брать с собою и детей. Без детей нельзя. Там, на Дархае, люди, разумеется, тоже стареют, хотя и не так быстро, а в старости без подросших детей, способных позаботиться об отце, очень и очень трудно. Это понятно всякому. А то, что понимает каждый из людей чадолюбивой идеи квэхва, то, без всяких сомнений, стократ ясно демонопугающему Двуединому А-Видра.
Красный бумеранг позвал — и вот они идут к мелким заливам, уважающие приказ люди идеи квэхва.
Они идут из Барал-Лаона, известного множеством вражьих голов, насаженных на частокол в науку обидчикам; идут из Пао-Пао, люди которого раньше славились как рыболовы, но потом злые демоны распутали рыбу, и хотя люди поселка отравили всех демонов в заливе, но рыба все равно не вернулась; идут из Дзъхью, где много еще не рожавших женщин, и просят за них не так дорого, как в иных местах, причем если упорно поторговатъся, то цену можно сбить вдвое; идут из Туи-Кая, где кайченг год тому, дружески состязаясь в борьбе, случайно свернул шею тому, кто был кайченгом до него…
Они идут из десяти поселков, и еще из десяти, и еще из двойной десятки поселков, и из десятки без двух. На плечах у них узелки со взятой впрок снедью и разнообразной мелочью, необходимой на чужбине. В руках у них — копья, тяжелые, ударные и легкие, метательные. На шеях — пращные шнуры. За поясами изогнутые полированные бумеранги, самое страшное из орудий, которое способно защитить владельца от угрозы, если, разумеется, рука владельца опытна и тверда.
Люди быстрой идеи квэхва выходят из поселков небольшими группами, но единый путь сводит различные поселки вместе, и отряды вырастают, разбухая с каждым днем. А на берегу мелкого залива, вблизи рубежа, где земли людей квэхва смыкаются с землями, подвластными Женщине, Которая Повелевает, их уже ждут. Уже готовы палатки, и на всех хватает варева, вкусного отвара мяса и душистого отвара рыбы. А-Видра милостиво приветствует приходящих, и число палаток быстро растет.
Вчера еще их было не более пяти десятков, а сегодня уже более шести, и день еще только начинается. Одна палатка — четыре палки, сплетенный из прутьев навес, травяные циновки вместо стен. Вполне достаточно: еще очень тепло, но уже не жарко. А от ветра и дождей укрывают отменно. Каждая — ровно десять людей неприхотливой идеи квэхва.
Больше шести десятков палаток. И в каждой — по одному десятку тех, кто пришел на зов.
Люди идеи квэхва поражены собственной многочисленностью.
Они думают и обсуждают. Они приходят к выводу: счастливы люди, живущие на землях Женщины, Которая Повелевает, и счастливы надменные люди из башен, что вблизи, и из башен, что вдали, на той стороне залива, счастливы все живущие в обитаемом мире, что нет на свете никого миролюбивее их, людей ласковой идеи квэхва. Если бы было иначе, никто не смог бы устоять перед подобным многолюдьем. Никто-никто. И тогда в поселках появилось бы много прекрасных, полезных и нужных вещей, наличие которых возвышает мужчину и украшает женщину. Конечно, люди идеи квэхва проживут и так, но, может быть, лучше все-таки было бы, имейся они в поселках? Трудно сказать. Следует долго думать.
А быть может, задумываются некоторые, для того А-Видра и созвал их, не знавших о своем изобилии? Ведь он умудрен, и замыслы его неисповедимы. Если так, то, конечно, к прежней жизни возврата нет. И те, кто посмеет противиться воле А-Видра, решившего вознаградить преданных ему людей квэхва множеством замечательных предметов, будут наказаны за наглую скупость, столь неприятную людям подельчивой идеи квэхва. Так говорят умные, а остальные согласно кивают, прихлебывая варево. А если А-Видра призвал их для этого, то так и будет, к чему спорить? Конечно, преданием заповедано вмешиваться в дела людей проклятой Земли, но А-Видра виднее. А предметы, полезные и красивые, которые несправедливо есть у других и не по праву отсутствуют у достойных людей квэхва, безусловно, неплохо бы иметь…
Такие разговоры и другие разговоры ползают по стану, скрашивая безделье, непривычное людям квэхва. Впрочем, многим безделье это приходится по нраву. Трудно и обременительно трудиться каждый день, хотя и похвально. Хорошо с утра до вечера отдыхать, ожидая положенного горшка с варевом и наслаждаясь умными беседами. В поселке так не поживешь. Там необходимо трудиться. Но, оказывается, трудиться вовсе нет необходимости, если ты приходишь с оружием в руках на зов того, кому принадлежит право приказывать всем, даже кайченгам. Когда увиливает от труда один, это скверно. За это следует наказать. Когда же пребывают в праздности многие десятки десятков, а вся работа сделана и с остатками легко управятся оставшиеся в поселках женщины, праздность наверняка непредосудительна. И называть ее надлежит иначе.
Как? Над этим тоже следует долго думать…
А на шестой день от начала сбора на той стороне ровного поля, где проходит рубеж земель, появляются люди. Их много, хотя, конечно, меньше, чем людей многолюдной идеи квэхва, и у них тоже есть при себе оружие, а многие из них на уродливых безгорбых куньпинганах, и это несколько уравнивает силы, ибо один всадник равен по силе примерно двоим пешим людям идеи квэхва, если дело дойдет до рукопашной.
Они располагаются лагерем на своей стороне поля, и многие из тех, чьи глаза острее, видят среди них всадника с длинными, развевающимися на ветру волосами. Всадницу! Сама Женщина, Которая Повелевает, пришла сюда и привела своих людей, судя по многочисленности, всех способных держать оружие. Это очень, это очень-очень нехорошо: приходить к чужим рубежам с таким изобилием вооруженных людей. Это означает, что Женщина, которой мирные люди идеи квэхва не причинили ровным счетом никакого зла, вполне возможно, пожелала напасть на поселки, причинить людям квэхва множество незаслуженных бедствий и отнять у них предметы, необходимые и хорошие, без которых жить станет затруднительно.
Быть может, это и не так. Но всегда следует исходить из худшего. Жизнь на проклятой Земле многому научила смекалистых людей идеи квэхва. Нельзя забывать, что здесь не благословенный Дархай.
Все много десятков десятков единодушно сходятся в одном и том же: многократно мудр Двуединый А-Видра. Он прознал о кознях, и предвидел, и предупредил…
С утра же дня седьмого, когда у мелкого залива собрались обитатели всех поселков, с той стороны поля прискакал гонец. И А-Видра удостоил его краткой беседы. После чего по стану поползли слухи, и слухи эти были не лживы, ибо А-Видра их не опровергал.
Из далеких зазвездных краев пришли демоны, те самые, о которых говорится в предании. Лишь им ведомыми чарами пленили они душу Женщины, Которая Повелевает, — и вот она здесь, а с нею почти два десятка и еще два десятка десятков ее пеших людей и свыше пяти десятков десятков верховых. И демоны тоже пришли, и они требуют выкупа за то, что не тронут землю, возделанную людьми квэхва. Старший же из демонов, имя которому Жанхар, требует встречи с А-Видра, и Двуединый не отказал, назначив гнусному исчадию явиться к полудню.
Ровно в поддень с той стороны поля выехала группа конных и неспешно потрусила к стану. На самом рубеже, у кривого дерева, обозначавшего пределы земель, чужих встретили, встав из влажной после дождя травы, дозоры неприметных людей квэхва и, расспросив, позволили тому из них, кто назвался Жанхаром, проехать дальше, остальным же велели ждать. Сказано было учтиво, но сопровождающие Жанхара люди Женщины не стали выпытывать, от боязни ли идет приятная речь людей идеи квэхва. Они спешились, сели в кружок и принялись сосать из фляг свой вкусный напиток, который так высоко ценят при обмене; они пили и закусывали сушеными фруктами, даже не думая дружески угостить присматривающих за их поведением проголодавшихся на посту сдержанных людей идеи квэхва.
Что до Жанхара, то он без всяких препятствий проследовал к стану, и въехал в стан, и после короткого обыска уединился в шатре А-Видра. Внешним же обликом своим демон мало отличался от обычных землян, да и сыны Дархая могли бы сойти ему за братьев, если бы не смуглость их кожи и не курчавость волос. Оружия демон при себе не имел, и руки его были нежны и слабы, словно у ребенка, еще не приступившего к труду. Конечно, А-Видра не боится оружия; в его силах одолеть четыре десятка кайченгов и увернуться от четырех десятков бумерангов, но осторожность никогда не помешает, в чем твердо уверены многоопытные люди предусмотрительной идеи квэхва.
Они беседовали совсем недолго.
А потом в центре стана взревели трубы, свитые из коры, призывая тех, кто пришел на зов А-Видра, к общему построению. Грохот их был раскатист и повелителен, и, вторя громоподобным раскатам, гулко рассыпалась дробь больших барабанов, сделанных из тщательно обработанной и натянутой на металлические чаны кожи годовалых подлесков.
Люди квэхва покидали палатки и строились ровными рядами — десяток за десятком, поселок за поселком. Пять десятков десятков в шеренге и две семерки шеренг в глубину. Над колышущимся, тихо гудящим строем густо щетинились пики, способные остановить верхового и тяжелые камни, насаженные на древки, с помощью которых при должной сноровке можно перебить ноги слепо летящему на тебя куньпингану.
И когда трубы затихли, барабаны умолкли, а торопливые прислужники выставили напротив строя ряд расписных досок, что привез с собою, вернувшись из странствия в полуночные края, Двуединый, пришел миг явления А-Видра.
Высокий и гибкий, вышел он из своего большого шатра, оставив там презренного Жанхара, взлетел на подведенного оруженосцем коня, белого, словно снег, и неторопливым шагом выехал на ровное место перед готовыми слушать и подчиняться людьми свирепой в битве идеи квэхва.
Придержав светлогривого, Двуединый вскинул руку к небесам.
— А-Видра! — взорвался воплем строй. И затих.
Ждали слова вождя.
А Лебедь медлил. Он тоже ждал.
Почти семь тысяч вооруженных мужчин стояли перед ним, готовые услышать и выполнить любой приказ. И время отдать этот приказ наступило. Но внезапно исчезли слова, только что готовые слететь с языка, потому что в этот бой нельзя было посылать людей, не знающих, ради чего им спустя недолгое время придется убивать себе подобных и самим превращаться в неживое.
И когда молчание стало затягиваться, а люди, замершие в шеренгах, принялись обмениваться недоуменными взглядами и переминаться с ноги на ногу, легкий шепот, не слышный никому, кроме Лебедя, прилетел из серовато-голубой, затянутой с утра предвещающими дождь тучками высоты.
— Мы уже здесь, милок, — прошепелявила Старая.
— Мы с тобой, как обещано, — вымолвил Крылатый.
— Мы тут, тут, тут, — невнятно зашелестели множества.
А Лебедь, прозванный людьми многое вынесшей идеи квэхва Двуединым А-Видра, приподнялся в стременах.
— Вот вы пришли, и вот вы стоите передо мною с оружием в руках, дети мои, — начал он, и слова полились плавно, ясно и чисто, вытекая одно из другого. Вы пришли, и вы не задаете вопросов, но у каждого из вас в сердце живет вопрос, ответа на который вы жаждете все как один. Зачем он призвал нас к себе? — так думаете вы и у ночных костров спрашиваете об этом друг друга. Знайте же: пришла пора и настало время узнать, где же лежит благословенный Дархай!
Мгновение тишины. И — рев, удесятеренный в сравнении с прежним:
— А-Видра! А-Видра! А-ВИДРА!!!
— Вам не придется далеко идти, и вам не нужно будет покидать места, привычные вам. Потому что…
Лебедь набрал побольше воздуха и выкрикнул звонко и страшно:
— Дархай — здесь!!!
На сей раз ответом было молчание, бьющее по ушам тяжелее недавнего вопля.
Люди квэхва замерли, не смея поверить услышанному.
Они не привыкли сомневаться в том, что сказано имеющими право отдавать приказы, среди коих А-Видра, и этот, несомненно, был первым из наивысших.
Он сказал — значит, это так.
И все же!
Дархай — здесь? Здесь, где крысы и тяжкий труд, где зло обитает в воде и хоронится меж деревьев, где женщины стареют рано и прекращают быть желанными уже к концу третьего десятка весен, где дети рождаются редко и умирают часто, Дархай?
Предание говорит не так.
Но, быть может, А-Видра просто испытывает их?
— Нет пути вспять и нет дороги обратно! — Лебедь кричал изо всех сил, и конь, взбудораженный криком, слегка приплясывал на месте. — С зазвездных высот приходило зло, и вот оно пришло вновь. Демоны вернулись, чтобы забрать с собою душу нашей планеты, чтобы отнять у здешних вод, и земель, и ветров то, без чего не прожить человеку. Я спрашиваю у вас, дети мои: позволим ли мы демонам и людям, поддавшимся на их ложь, обездолить нас и лишить нашего Дархая?!
Двуединый умолк, ожидая, что ответят люди.
Но нетрусливым людям квэхва было страшно. Нельзя не верить А-Видра и нельзя поверить ему. Зачем, для чего говорит он все это? Если он прав, то ни к чему объяснения, все равно не способные ничего объяснить. Если он ошибается значит, ошибка его по грехам заслужена людьми идеи квэхва. Лгать же А-Видра не может. Не способен на ложь тот, чей лик отражен на обложке Книги Книг; не может лукавить носитель амулета, соединившего кровь и почву Дархая; нет нужды кривить душой тому, кто способен в одиночку одолеть четыре с лишним десятка кайченгов.
Зачем же Двуединый причиняет боль душам людей бесхитростной идеи квэхва? Если нужно сражаться, пусть пошлет в битву, и он увидит, как умеют умирать и убивать по воле отдающего приказы отважные люди квэхва…
Так думают стоящие в строю, но каждый из них боится высказаться вслух. Только не страшащийся ничего Однорукий Крампъял из поселка Барал-Лаон, тот самый, что в год Первых Испытаний в одиночку завалил Большого Полосатого, сбежавшего из руин Леса Железных Клеток, решительно выступает вперед.
— Ты говоришь, но не приказываешь, А-Видра, — сипло басит он. — Ты спрашиваешь, а тебе надлежит повелевать. Отдай приказ, Двуединый, и мы подчинимся…
И согласные с ним люди идеи квэхва подтверждают правоту Однорукого, гулко ударяя древками пик по рукоятям мечей…
Они ждут не ответа. Они ждут приказа.
Но какого?
Можно приказать идти в бой. Но нельзя повелеть чужим стать в одночасье своими, нельзя приказать ненавидящим возлюбить, и стократ нельзя отдать мечтающим о Дархае распоряжение встать насмерть на защиту обидевшей их и проклятой ими Земли…
Сидящий на снежногривом коне молчит.
Больше у него нет слов.
И тогда раздается крик. В самом конце строя, на правом фланге, где смыкаются отряды людей Пао-Пао и отряды людей Барал-Лаона, упав на колени, кричит Вещий. Он пошел в ставку А-Видра вместе с мужчинами, способными биться, ибо не мог и не хотел упустить случая хоть недолго побыть рядом с Двуединым. Как и прочие, он слушал и не понимал услышанного.
Но он увидел!
И вот он кричит, ибо невозможно молчать, когда перед незрячими очами отчетливо распахнулась картина: поле, и берег мелкого залива, и удаленные, почти неразличимые развалины вдалеке; и над всем этим высоко в небесах парят невиданные, плавно и несуетно витают над строем непостижимые. Он кричит громко и нечленораздельно, потому что не может найти слов. Одно только ясно различимо в долгом, протяжном крике:
— Ви-и-ижууууууу!
И ничего более. Не описать языком, понятным людям квэхва, ни Пернатого Змея, грозно пышущего огнем и дымом в сторону вражеского лагеря, ни Шестирукого, что уже пристроился к шеренге, совсем рядом с людьми Пао-Пао, но не замечаемый ими; мягкая улыбка на его устах и шесть струйчатых клинков выплясывают медленный танец крови; и сонмище прочих, чешуйчатых и мохнатых, явственно предстает перед прозревшими сокровенное слепыми очами. Те, кто рядом, пытаются поднять его, ибо негоже Вещему преклонять колени, а он бьется в сильных руках, пытаясь — и не умея — высказать, то, что необходимо понять не умеющим увидеть зрячим людям недоверчивой идеи квэхва…
— Вшшиииж-жу-у-у!
Нет Лишь слепец способен узреть то, что незримо.
Зато раскрашенные доски, невесть к чему расставленные напротив шеренг по воле Двуединого, внезапно оживают. Бессмысленные лица на них становятся живыми образами, и темные глаза строго заглядывают в души потрясенных людей идеи квэхва. Ни слова не говорят нарисованные, но слова и ни к чему: все понятно и так; боль, скорбь, и мольба, и вера, и надежда, и любовь — все, для чего не имели имен люди квэхва.
Не имели до этого мгновения.
Новым взглядом обводят лежащую окрест землю потрясенные люди.
Вот из недалекой рощицы выглянула древесная дева, поднесла ладонь к нежно-зеленым волосам, поправила прядки, махнула наудачу тем, кто успел заметить, — и нет ее.
Вот из густо-синей воды мелкого залива приподнялась косматая голова, зыркнула рыбьими глазами, усмехнулась, вспенив бурунные усы, булькнула что-то и была такова.
А вот и влажная трава заколебалась, расступилась на миг; крошечный, полупрозрачный подпрыгнул в воздух, перекувыркнулся, нисколько не страшась такой толпы смертных, почирикал рассыпчатым смехом — и скрылся.
— Веди нас, Лебедь, — говорит Однорукий Крампъял, и никто не удивляется новому имени. — Мы готовы биться. Мы не отступим. За нами — Земля.
— Земля-а-а! — вырывается из семи тысяч глоток. И эхо, убежав и промчавшись, возвращается ответным откликом из-под окоема:
— Я-а-а-а-а! Я-а-а… Я…
Лебедь смеется.
Все оказалось так просто…
(«Запомни: когда слепой увидит…»)
А далеко на севере, среди тяжелых влажных ковылей внезапно возникает шевеление. Оно все ближе. Словно гигантская темная туча спустилась в степь и сейчас направляется к берегам мелкого залива, полукольцом огибая раскинувшийся на том конце поля лагерь людей Женщины, Которая Повелевает.
Туча надвигается. Ее уже можно окинуть взором.
И это вовсе не тьма небес.
Это конница.
Волна всадников движется наметом сквозь травы, волнуя море степной травы. Их много. Их не менее пяти десятков десятков, а то и сверх того. И они надвигаются так, как не умеют те, кто пришел сюда по воле зазвездных демонов.
Те мчатся визгливой россыпью, на скаку выпуская частые и неметкие стрелы. Те подобны жалящим комарам, досаждающим, но не способным убить.
Эти — иные. Твердыми плотными десятками, не рассыпающимися на скаку, идет конница, держа равнение по раз навсегда установленному ранжиру. Ни сокращается, ни увеличивается расстояние между отрядами; влажно блестит на всадниках жесткая кожа, защищающая в бою, и лица их скрыты кожаными масками, предназначенными для большой войны.
Давно, очень давно, с тех пор, как отгремели кровавые дни Йошки Грозного Бабуа, не доставали люди башен из заветных ларцов эти маски, означающие готовность погибнуть или победить…
Конница приближается, завершая полукруг. Резко, словно по взмаху, останавливаются выученные кони около строя приготовившихся к худшему людей, и те опускают изготовленные было луки, увидев мирно притороченные к спинам коней мечи.
Люди башен пришли не с войной.
Но что нужно здесь им, живущим по своему Закону?
Всадники молчат, не спешиваясь. Лишь глаза живут в прорезях масок; черные, синие, карие, водянисто-голубые, даже не имеющие цвета, с расширенными во весь раек зрачками глаза опьяненных дурманом терьякчи из башен Поскота мелькают то и дело в разрезах жесткой кожи…
Зачем они пришли?
Тот, кто возглавлял колонну, могучий великан с двуручным мечом за спиною, спрыгивает в траву перед копытами белоснежного жеребца.
Нет на нем кожаных доспехов. По неписаным правилам башен, лишь отважнейшие ходят в сражение с обнаженным торсом. По всему видно: вожак всадников — из таких. Тяжелые бугры мышц распирают смуглую кожу, расписанную синими знаками доблести. Синева растеклась по всей груди, по спине, по рукам исполина. Мечи, якоря, черепа, звезды — и даже мудрые, мало кому теперь понятные письмена старых времен, прославляющие его благородную мать.
Он коротко, на миг, не больше, преклоняет колено перед Лебедем и вновь встает во весь рост, горделиво расправив непомерной ширины плечи.
— Мы пришли, — гудит из-под маски, и бесстрастность голоса под стать неподвижному равнодушию личины. — Это не наша разборка, и масть не хотела вписываться в нее, но духи нар сказали нам: не оставайтесь в стороне. Свои базары вы решите потом, сказали они, а сейчас пришло время масок и железа!
Рывком он срывает с себя поддельное лицо. И люди, стоящие в строю немногие, те, кому довелось повидать мир, — удивленно округляют рты.
Это не кто иной, как сам Колян Глухой, владетель семи башен, берущий долю на общак с половины Поскота; даже паханы центра прислушиваются к слову его, а на толковищах нет такого, кто посмел бы сказать против. Раньше были. Теперь нет. Прозвище же Глухой получено им еще в юности, ибо и тогда уже был он глух к мольбам о пощаде.
— Бля буду! — тяжелым кулаком бьет себя в грудь Колян, и в глазах его клубится дым терьяка, выкуренного паханом перед битвой. — Бля буду!
Жуткая клятва хаз, выше которой нет ничего для людей, обитающих в башнях, впервые звучит здесь, под вольным небом степей и развалин. Впервые со дней дальних походов непобедимой кодлы Грозного Йошки.
— Приказывай, начальник! Братва порвет пасть всякому, кто встал против зоны. Потому что катят не по делу и потому что это наша земля!
— Земля-а-а! Земля-а! Я-а-а!.. — возвращается эхо.
— Раздели конницу поровну и встаньте на флангах! — спокойно говорит Лебедь, и в глазах его вспыхивает торжество.
Все оказалось проще простого.
(«Когда слепой увидит, а глухой услышит…»)
— Ждите! — говорит Лебедь людям Земли, пешим и конным.
И, спешившись, идет в шатер под знаменем с белокрылой взмывающей ввысь птицей. Где уже заждался его тот, кого земляне прозвали демоном Жанхаром.
И тот, одетый в комбинезон космолетчика гражданского флота, без знаков различий, обращает к нему близорукий, немного беспомощный взгляд, многократно увеличенный большими очками в тоненькой металлической оправе.
— Уходите, Джанкарло! — говорит Лебедь гостю не зло, но категорично. Уходите. Разговора не будет!
— Помилуйте, Въяргдал Игоревич, — восклицает демон в комбинезоне, и лицо Лебедя передергивает короткая судорога — не воспоминаний, нет, но намек на них. — Да как же так можно! Я вам заявляю совершенно ответственно, если угодно, как искусствовед со стажем: без собранных здешними аборигенами экспонатов коллекция утрачивает полноту. А следовательно, и смысл!
— Мне плевать на коллекцию, — коротко отвечает Лебедь.
Его тяготит ненужное присутствие этого человека. И он повторяет уже гораздо жестче, чем в первый раз:
— Уходите!
Очки на крупном носу возмущенно вздрагивают.
— Нет уж, позвольте! Я готов пойти и на компромисс… Давайте так, Въяргдал Игоревич!..
Он раскрывает пухлый блокнот и вчитывается в него, напряженно шевеля губами.
— Ну-с, в принципе можно ведь и поладить. Не знаю, что уж вы там себе задумали, да и не хочу знать; возможно, вы просто сошли с ума, но дело не в том. А дело в том, что, на счастье, основные фонды уже собраны и отсортированы. Поэтому предлагаю…
Пухлый палец поднимается вверх.
— Вы: прекращаете устраивать диверсии и даете возможность спокойно заниматься погрузкой; далее: обеспечиваете нас нужным количеством рабочей силы; и наконец: отдаете мне экспонаты, привезенные из Киевского музея религий. Скажите на милость, к чему вашим… э-э… подданным иконы кисти Рублева, к примеру? Со своей стороны я возвращаюсь на Гедеон и докладываю дону Мигелю о вашей героической гибели. И живите себе здесь спокойно, если уж так нравится. Ну, по рукам?..
— Я сказал, Джанкарло, — устало качает головой Лебедь и опускается на циновку. — Разговора не будет!
— Но вы понимаете, что в этом случае вашим хлеборобам придется иметь дело с людьми госпожи Минуллиной? — разводит руками Джанкарло. — А вы же знаете эту фанатичку…
Лебедь усмехается:
— Что ж, пусть попробуют. Ко мне пришли люди башен…
— О, вот как?!
Человек в очках заметно удивлен. И встревожен. Он на секунду задумывается. Затем аккуратно снимает очки и бережно протирает их.
— Ну что ж, — говорит он совершенно спокойно, уже совсем иным тоном, без тени раздражения и запальчивости. — Я вижу, что договориться нам не удалось. Пусть так. Если вы забыли, что такое присяга, майор Нечитайло, позвольте напомнить вам еще кое о чем. Взгляните!
Джанкарло протягивает Лебедю глянцево блестящие стереокарточки.
Тот кидает небрежный взгляд и удивленно приподнимает брови.
— Ну и что? Это пулеметы. Исчезнувшее оружие…
— Так точно, — кивает человек в комбинезоне. — Исчезнувшее. А если я скажу вам, что два экземпляра этого исчезнувшего доставлены мною с Гедеона? По личному разрешению господина пожизненного Президента?..
Лебедь отвечает улыбкой.
— Бред. Оружие непроизводимо в принципе.
И добавляет то, чего никогда не мог понять сам, да и никто не мог, даже наставники в училище, когда пытались разъяснить курсантам, отчего любое, кроме холодного, оружие, будучи собранным, немедленно превращается в липкий порошок:
— Этический индетерминизм.
— Верно. — Джанкарло отвечает улыбкой на улыбку. — И про принцип, и про индетерминизм. Но вы ведь знаете, кажется, про опыты Рубина? Он работал одно время в лабораториях моего покойного батюшки. В том числе и над этой проблемой…
Голос его становится приглушенно-доверительным.
— И вы не представляете, майор, что может совершить всего только одна щепотка боэция, если добавить ее в сплав. Во всяком случае с этическим, как вы сказали, индетерминизмом она справляется без труда…
Джанкарло саркастически пожимает плечами. Глаза его, лишенные очков, вовсе не так уж беспомощны, как казалось.
— Не скрою, майор, серия была мизерна. Два экземпляра на всю Галактику. И оба здесь, со мною. Что скажете теперь?
Лебедь приподнимает голову. На лице его уже нет улыбки.
— Послушайте, господин эль-Шарафи…
Он уже не называет человека в комбинезоне по имени.
— Кто вы все-таки? Искусствовед? Или?..
Тон его враждебен. А ответ звучит по-прежнему спокойно и даже с холодноватым сочувствием:
— Всего понемножку, майор. Отчасти то, отчасти это. В том числе и искусствовед. И смею вас заверить, весьма квалифицированный.
Он дружески подмигивает.
— Я не блефую, майор. Итак, ваш ответ?
— Погодите.
Не обращая внимания на гостя, Лебедь опускается наземь.
Прикладывает ухо к квадрату травы, оставленному в центре шатра меж небрежно набросанных циновок. Вслушивается. А потом поднимается на ноги, и взор его светел.
— Уходите, господин эль-Шарафи. И скажите тем, кто послал вас, что у землян нет иного выхода. Таков наш выбор. Если вы блефуете, вам же хуже. Если нет…
Лебедь пожимает плечами.
— Все равно уходите. Земля будет сражаться.
ГЛАВА 7. «ПРЕКРАТИТЕ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!..»
Земля. Месяц плачущего неба. Люди и демоны
17 октября 2233 года по Галактическому исчислению
Дождь лил седьмой день подряд. Он начался еще в день великой битвы сперва редкими крупными каплями, затем хлещущими струями и уже к вечеру превратился в сплошную стену воды, сквозь которую почти незаметно проскальзывали рваные стрелы молний. Шум дождя гасил раскаты грома, заполняя все своим выматывающим душу шелестом…
Затем небесные воды поумерили ярость. Грохот и зарницы исчезли, капли сделались легче, но замедлить себя в полете не пожелали. Сплошная стена дождя, подавлявшая гневным напором, сделалась занудливо постоянной, повесив в воздухе серенькую мокрую занавеску. Дороги размокли. Трава, сперва гнувшаяся под тяжестью воды, привыкла и покорно улеглась, даже не пытаясь разогнуть стебли.
Работать в таких условиях было неимоверно трудно. Отряды людей аршакуни, по десятку-полтора каждый, облавным кольцом промчались по степи, вылавливая редких беглецов, уцелевших после великой битвы. Тот, кто сумел уйти, наверняка не ранен и крепок. Он необходим для переноски тяжелых тюков к кораблям Звездных, что приземлились двадцать дней тому близ главного стойбища Старшей Сестры и теперь стояли, раскрыв квадратные нижние пасти в ожидании корма.
Поселок за поселком открывал ворота перед всадниками аршакуни. Защищать изгороди было некому: мужчины, ушедшие на зов А-Видра, не вернулись и уже не вернутся, а не знающая сладости женской плоти мелочь была задорна и упряма, но воевать всерьез, разумеется, не могла. В первом же поселке, где из-за частокола в людей аршакуни полетели стрелы, пришедшие не оставили в живых ни единой души, кроме тех, кто ростом не достиг еще конского колена. Когда пришельцы покидали разрушенный до основания поселок, детвора брела за уходящими, пока хватало сил, с громким плачем умоляя взять с собой и уверяя, что может работать.
Дети говорили неправду. Они не были способны трудиться так, как необходимо было Звездным, чье время истекало; Звездные спешили сами и торопили других. Поэтому на бегущих вслед лошадям детей никто не обращал внимания. И они, устав бежать и плакать, понемногу отстали. Некоторые побрели обратно, к развалинам поселка, но большинство просто остались в мокрой степи, ожидая неведомо чего.
Разумная жестокость принесла плоды. Уже в следующем поселении жители его, прослышавшие о судьбе Барал-Лаона, не стали сопротивляться. Они впустили всадников и без разговоров выдали требуемое. Предметы, собранные в руинах, были старательно упакованы ими в надежные тюки из псиных шкур и приторочены к спинам тяжелоногих коней, приведенных с собою для этой цели людьми аршакуни.
Так женщины спасли жизнь себе и детям.
К исходу пятого дня после великой битвы все, что представляло интерес для Звездных, было свезено в ставку Старшей Сестры, раскинутую на юге, совсем недалеко от мелкого залива. Там вьюки распаковывали и предметы сортировали снова, выбрасывая ненужное. Что нужно, а что нет, указывал старший из Звездных, Тот, Кому Подчинялась Смерть; подчинялись ему и люди, все без исключения, даже люди аршакуни. Впрочем, до общения с живыми убитыми старший из Звездных и не снисходил. Тому или иному из людей аршакуни он подчас бросал короткое слово похвалы или недовольства, и в обоих случаях удостоенный цепенел и долго не мог заставить себя сделать хотя бы шаг. Охотно общался Тот, Кому Подчинялась Смерть, только со Старшей Сестрой, старавшейся держаться поближе к нему. Люди аршакуни сами не понимали, отчего так случилось, но после великой битвы им сделалось страшно глядеть в глаза Старшей, и Эльмира, кажется, чувствуя это, редко призывала пред очи свои кого-либо из своих людей.
Как бы то ни было, но дело свое старший из Звездных, именем Жанхар, знал. Когда, подойдя к очередной груде привезенных из поселка предметов, он присаживался на корточки и принимался за работу, лицо его делалось совсем не страшным, даже скорее привлекательным. Он перебирал вещи бережно, даже трепетно, поглаживая пальцами покрытые зеленью извивы и изгибы, счищая собственным рукавом пятнышки; он гневался и повышал голос, если что-то из доставленного оказывалось поврежденным, и гневу его воистину не было границ, если не в порядке был предмет, который он посчитал заслуживающим внимания.
Однажды он даже ударил одного из людей аршакуни, получив из рук несчастного сорванную с рамы тряпицу, разодранную пополам. Женщина, изображенная там, улыбалась загадочной полуулыбкой; другая половина холстины была туго повязана вокруг головы того, кто доставил груз. На бедняге не было никакой вины, напротив: именно он первым ворвался в проявивший строптивость Барал-Лаон, и бумеранг, брошенный отчаянным дикарем, выписав коварную дугу, сбросил его с коня, едва не проломив голову. Дикаренка покарали мгновенно, даже прежде чем это могло бы послужить уроком таким же непослушным, как он. А отважного перевязали, выбрав для этого самую маленькую и, следовательно, бесполезную из картинок; тем более там было много таких же, даже еще красочнее.
Но Жанхар, Которому Подчинялась Смерть, не внял доводам, извиняющим оплошность, если таковая была. Он грубо сорвал с головы раненого героя повязку и долго рассматривал ее, качая головой и пытаясь приставить одну половину улыбки к другой. Потом бережно сложил оба обрывка, туго замотал их в кожу, перевязал, подошел к растерянному храбрецу и наотмашь ударил его по щеке. Рука Того, Кому Подчинялась Смерть, была пухлой и легкой; удар вышел совсем не сильный, да и рана уже почти не болела, и повязка была не так уж необходима. Но всем окружающим, всем живым убитым и всем людям аршакуни, видевшим великую битву, было ясно, что означает удар Звездного, носящего имя Жанхар.
Поэтому наказанный смельчак отошел в сторону, лег на траву, обратив глаза к слезящемуся небу, скрестил на груди руки и запел песню прощания. А потом он умер, и ни друзья, и ни родной брат, ни даже живые убитые, как их ни секли бичами, вынуждая подчиниться, не осмелились подойти к телу, помеченному печатью проклятия демона.
Звездный же демон сидел в стороне и плакал, качая на коленях плотно зашнурованный сверток, и каждому, имеющему глаза, было ясно, что скорбит он, вовсе не оплакивая безвинно погибшего от его жестокости храброго человека аршакуни, а горюет по жалкому куску рваной ткани с изображением ухмыляющейся женщины, которая даже не обнажена…
В тот день вторично и в последний раз видели люди аршакуни слезы демона Жанхара. Впервые случилось это там, на поле великой битвы, когда еще не остыла кровь и пережитый ужас казался благословением небес, ибо именно этот ужас помог одержать победу. Демон бродил вдоль ряда раскрашенных досок, разбитых и расколотых Смертью, которую он и его подручные сами посылали в бой, и рыдал в голос, непристойно и жалко, словно девица, от которой отказался выбранный ею юноша. Он гладил обрывки деревяшек, ползал по мокрой траве, собирая чурочки, и сквозь слезы кричал на тех, кто осмеливался проходить рядом, требуя не мешать ему, Жанхару, заниматься бесполезным делом.
Впрочем, Тот, Кому Подчинялась Смерть, может позволить себе многое, не опасаясь насмешек…
В шестой день дождь устал. Небо еще истекало мутной влагой, но капли сделались совсем легкими; скорее даже не дождь, а мельчайшая сонная капель, вихрясь в порывах несильного ветерка, стремилась к земле, и хотя мокрое не сохло, а влажное делалось еще более тяжелым и скверно пахнущим, стало возможно собираться в путь.
Звездные были раздражены. Прочные, надежные и вместительные телеги оказались бесполезными; никакая упряжка лошадей, никакие людские усилия не смогли бы протолкнуть громоздкие повозки сквозь липкое, тяжко чавкающее болото, бывшее в дни тепла торной проезжей дорогой. Хвала Мечте — доставало и живых убитых; им предстояло перенести вьюки к кораблям Звездных. Конечно, они уже не были так покорны и напуганы, как в первый день после великой битвы, когда их, выживших чудом, связывали попарно и гнали к указанному Старшей Сестрой месту. Тогда они брели, втянув головы в плечи, и их даже не приходилось взбадривать бичами. Они шарахались от каждого окрика, они преклоняли колени перед самым последним из людей аршакуни и готовы были подчиниться любому повелению.
Терпения и послушания, однако, хватило ненадолго.
Уже на третий день плена некоторые замыслили бунт и побег. Разумеется, зачинщиками выступали не дикари; дикари, напротив, не заслуживали нареканий. Несколько людей башен, из тех, что пережили первую атаку, вспомнили о своей гордыне и позволили себе решить, что люди аршакуни недостаточно бдительны. И когда ночью, под покровом тьмы и дождя, они приступили к исполнению задуманного, они убили часового, тем самым многократно усугубив свою вину, выползли из кольца охраны и были взяты при попытке подобраться к коновязи. Хозяев подвели кони; они откликнулись на тихое поскуливание беглецов, похожее на свист ночного сверчка, но откликнулись радостно и звонко. Люди башен были смелы, но ума им не хватало; они не сумели предвидеть, что боевой конь, соскучившись по хозяину, может не выдержать и забыть о многомесячном обучении, учуяв родные запахи.
Наказание было заслуженным и страшным.
Именно в то утро люди аршакуни и не узнали впервые Старшую Сестру. Обычно холодно-жестокая к виновным безусловно и снисходительная к тем, чья вина допускала смягчение, она на этот раз не была похожа сама на себя. Даже демон Жанхар не сумел превозмочь ужаса и отвращения и удалился в свою палатку, когда Эльмира вынесла приговор.
Обычаи башен не зря были известны людям аршакуни.
Тем, кто пытался бежать, среброволосая женщина предложила выбор: каждый желающий умереть легко, сказала она, получит тонкую деревянную рейку и ею да перережет себе горло в течение того времени, пока она, Эльмира, не опустошит чресла самого юного из людей аршакуни. И свидетели суда побледнели, не стыдясь малодушия, ибо знали, что дождь и туман скроют его. Невероятно короткий положила срок казни Старшая Сестра и добавила: каждый, кто не пожелает умереть быстро и от своей руки, а равно и всякий, кто не успеет сделать это к установленному времени, тот да будет опетушен и отпущен.
Люди башен выслушали приговор и потребовали рейки.
Они успели — все, как один. Точно в назначенный срок.
Лишь один из них, бывший до того, как стать живым убитым, прославленным Коляном Глухим, сумел все же изменить судьбу. Он согласился стать петухом, но в тот миг, когда наказание начиналось, чудовищным усилием вырвался из крепко удерживающих его рук, выхватил меч из-за пояса ошеломленного стража, рассек его от плеча до паха — и рухнул в траву, раскинув руки, испещренные синими знаками доблести.
В одно мгновение он сделался похож на ежа и уже не видел, с какой гордостью, граничащей с преклонением, глядят на него товарищи по неудаче.
Козырные перепилили себе горло, не издав ни стона.
В тот миг они заслужили право не называться живыми убитыми. Остальные, увидев и уразумев, смирились окончательно. И никто больше не задумывал побег.
Утомление небесных плакальщиц означало выступление в дорогу. В тот же день, задолго до вечера, Старшая Сестра и демоны, как называли уже всех Звездных, разумеется, за глаза, люди аршакуни, покинули лагерь.
Разумно. Путь к кораблям неблизок: полтора пеших дневных перехода, если тропы сухи, и не менее трех, когда они залеплены вязкой глинистой грязью. Посреди мокрой степи не заночуешь. Значит, кому-то следует выехать вперед, найти в развалинах подходящее место, выкурить подвальных, ежели они там найдутся, и подготовить все для тех, кто приедет, сопровождая поклажу. Нельзя забывать и о предметах: демон Жанхар гневен, что они мокнут, и требует накручивать на свертки все новые и новые слои шкур, вовсе не считая нужным помнить о том, как излишек мокрой шкуры утомляет носильщиков.
Которых и без того мало.
Не более трех сотен мужчин, способных трудиться, пощадила великая битва. Было больше. Но кто бы стал думать о раненых дикарях? Их оставили умирать там, где они упали, и лишь самые мягкосердные из людей аршакуни побродили какое-то время по грудам тел, избавляя от лишних мучений тех, чьи лица казались им достойными милости…
Возглавить караван Старшая Сестра поручила Яане, и хотя люди аршакуни не поняли смысла назначения, но им стало радостно оттого, что Старшая Сестра, которой они теперь боялись, хоть какое-то время не будет с ними.
А на рассвете, когда дождь, на счастье носильщиков, уже почти иссяк, златовласая приказала каравану выступать немедленно после утреннего приема пищи.
Сама же, взяв с собой малый отряд сопровождения, помчалась вперед, минуя тракт. И влажная трава, хоть и умаляла конскую прыть, все же стала меньшей обузой для всадников, нежели липкая глина торной дороги…
Спустя четверть дня, когда из нежданного разрыва в истончившихся облаках робко выглянуло солнце, Яана и те, кто сопровождал ее, медленно брели по неубранному полю великой битвы, отгремевшей всего только семь… целых семь!.. дней тому.
Здесь это было.
Здесь.
… Вон там стояли они, дикари Фальшивого, выстроившись плотными шеренгами и выставив на флангах конницу шакалов, обитающих в башнях. Твердо стояли они. И не шли вперед, хотя воевать не умели, и можно было ждать глупой, на одной ярости неумелых начатой атаки. Это было бы хорошо. Именно этого и хотел старший из Звездных, Жанхар, о котором тогда еще не знали люди аршакуни, что он демон, Которому Подчиняется Смерть. Именно этого хотела и Старшая Сестра, потому что удар дикарей пришелся бы в пустоту, а конница смогла бы рассечь толпу. И все люди аршакуни хотели, чтобы вышло так.
Но не дождались.
Фальшивый был искусен в деле войны. Он воспретил своим трогаться с места. И он был прав. Не дикари пришли к людям аршакуни, а люди аршакуни вторглись в пределы дикарей. Не дикарей подгонял сделать дело поскорее Звездный Жанхар, которому не хватало времени. Поэтому воины Фальшивого могли стоять хоть до ночи, а потом — еще день, и еще. Им подвозили пищу сородичи из поселков, а люди аршакуни не могли даже надеяться перехватить повозки с едой, поскольку с завтрашнего дня караваны пойдут под охраной людей из башен, в конном бою не менее, если не более искусных, нежели люди аршакуни.
Свои же припасы иссякали.
И если бы не безумие опьяненного терьяком Глухого Коляна, Старшей Сестре пришлось бы изрядно поломать голову, размышляя: как же выманить дикарей в поле?
Думать не пришлось. Простенький прием: люди аршакуни пошли в наступление, встретились с тучей стрел, выпущенных дикарями, попробовали, как злобны предательски бывшие бумеранги, и откатились, изображая паническое бегство. Это мог бы сообразить и ребенок. И уж конечно, это прекрасно понял Фальшивый, потому что тотчас же над его станом взревели трубы, повелевая дикарям стоять на месте. И они подчинились бы приказу, если бы не люди башен.
«Аййяяйяаа!» — завизжал Колян Глухой, с места посылая коня в галоп. Клич подхватили всадники на левом и на правом флангах. Они еще не привыкли к тому, что отныне их вожак — Фальшивый; они знали своего пахана, и только его, и для них не был приказом, который нельзя нарушить, воспрещающий грохот труб.
Они рванулись вперед двумя черными неостановимыми потоками. Они нагнали отступающих людей аршакуни, и отступление превратилось в повальное бегство, потому что конные люди, на фене хаз именуемые «кодло», не знали, что такое пощада. И тогда, увлеченные видом убиваемого врага и не умеющие обуздывать жажду вражеской крови, дикари перестали слышать приказы труб. Качнувшись на месте, словно в нерешительности, они вдруг разом склонили пики и мерным шагом двинулись вперед, вслед коннице Коляна, севшей на плечи людям аршакуни. И это было ошибкой. Но еще не гибелью. Они потеряли бы немало своих и взяли бы немало чужих жизней, но никто не знает, чем кончился бы день, будь это обычный бой.
Но этот бой не был обычным.
Сперва об этом не знал никто. Даже люди аршакуни.
Но лотом мерный шум сотен топочущих ног и звонкий лязг конной битвы внезапно утонули в ровном, удивительно громком треске, и ряды наступающих начали валиться один за другим, словно снопы в пору жатвы.
А спустя несколько мгновений люди аршакуни, потрясенные не менее врагов, сообразили, что трещавшая смерть не причиняет им никакого вреда. И тогда многие сопоставили стук и кровавые брызги в затоптавшихся на месте рядах дикарей с теми неподъемно тяжелыми металлическими штуковинами, за которыми залегли на флангах незадолго до начала сражения Жанхар и его помощники, младшие Звездные…
Дикари не побежали сразу. Они оказались удивительно стойкими. Они продолжали рваться вперед, затянув протяжные боевые кличи. Но едва ли они слышали собственные голоса — руки невидимой Смерти нещадно косили их ряды, раздирая тела на части. Они не прошли и четверти того расстояния, которое нужно было одолеть, чтобы вступить с врагом в рукопашную схватку. Исполосованная смертоносными бичами, растерзанная, уже разметалась по полю конница Коляна, исчезнув в дыму, пламени и пыли. И все пешие дикари продолжали, спотыкаясь, утратив строй, бежать вперед…
И тогда пошел дождь, словно сама Земля разрыдалась, не в силах смотреть на происходящее.
Слезы небес рухнули на поле битвы, пытаясь погасить гибельный огонь в руках Того, Кому Подчинилась Смерть. Тщетно. Ничто уже не могло спасти дикарей, и в самой середине поля громадный, невероятно широкоплечий воин, задыхаясь и напрягая мускулы шеи и спины, пытался привстать, опираясь на единственную руку; ноги его были оборваны выше колен, и он протяжным голосом, перекрывающим даже смертоносный перестук, призывал Фальшивого, умоляя его прийти и спасти.
Трещала смерть и гремела, торжествуя легкую победу, и вдали, под лебединым стягом, не спасенные расстоянием, разлетались в труху и щепки разрисованные доски, и в рассеченных струями дождя ранних сумерках, подсвеченных кривыми извивами молний, мигали и лопались, столкнувшись с плевками невидимой Смерти, невнятные сгустки воздуха, меняющие цвет с черного на белый и наоборот.
И никому не известно, в какое из мгновений один из стучащих укусов встретился лицом к лицу с Фальшивым. Но в тот миг, когда это случилось, дикари — то, что осталось от дикарей! — дрогнули наконец и в панике побежали. А вслед за ними рванулась ведомая Старшей Сестрой конница людей аршакуни, рубя бегущих или превращая их в живых убитых…
Вот так это было. Так.
Здесь. Всего лишь семь дней назад.
А сейчас Яана и ее спутники медленно обходили так никем и не убранное поле. Сотни щуплых тел в пятнистых куртках лежали там, где их настигла смерть, и под непрерывным шестидневным дождем уже несколько дней как начали разлагаться. Над иными уже успели потрудиться набежавшие из дальних руин крысы, а в более открытых местах оставались одни скелеты, слегка прикрытые тканью, мясо склевали не боящиеся ливня вороны. Когда приближались люди, черные птицы нехотя отлетали в сторону и оттуда злобно каркали на проходящих.
Много спустя полудня наконец-то отыскалось то, ради чего они ушли, опередив караван.
Фальшивый лежал на взгорке лицом вниз. Грудь его была изорвана в клочья, спина напоминала сплошное месиво; одеяние, почти такое же, как и у Жанхара, вздулось, туго стягивая распухшую плоть, и правая рука, крепко сжимающая слегка искривленную катану, валялась невдалеке от тела, отсеченная прямым попаданием огненного плевка.
Андрэ, на шаг опередив приостановившуюся златовласую, ногой перевернул застывший труп. Некоторые из людей аршакуни отшатнулись, и в глотках у них хрипело и булькало.
— Держи, Яана! — Андрэ разогнул спину и протянул девушке черно-красную металлическую каплю на тонкой цепочке. Мать запретила искать тело и снимать амулет. Она сказала: побывав в руках Фальшивого, знак власти утратил силу. Возможно, она была права, а возможно, и нет. Это решать не ей. Это решать людям аршакуни,
— Отрежьте ему голову! — приказала Яана.
Спутники отшатнулись, и ни один из них не поспешил исполнить приказ. Даже Андрэ бросило в пот, несмотря на то, что вокруг было сыро и прохладно.
— Отрежь ему голову, — повторила Яана, глядя в глаза Андрэ, и черно-красный амулет колыхнулся на высокой груди.
— Яана… — пробормотал юноша.
Его светло-карие глаза, сощурившись, превратились в щелочки; он не шелохнулся, хотя более всего ему хотелось выполнить приказ и заслужить прощение златовласой. Он очень хотел ее, с каждым днем все сильнее, а она не позволяла ему приходить, отсылая к матери. Но чары Старшей Сестры развеивались, стоило ей оказаться не рядом, а Яана, что ни ночь, являлась ему в горячих, исступленно-бесстыдных снах.
И он попытался было сделать то, что ему велели, но рука отказалась повиноваться, словно токи, исходящие от напоенной кровью земли сковали ее непонятной вялостью.
Яана наконец поняла, что ничего не добьется. Даже от этого трижды скверного предателя, к которому так хочется прижаться всем телом. Что ж. Есть вещи, которые женщине приходится делать собственноручно.
Вдохнув побольше воздуха, она склонилась над полуразложившимся телом. Кривым кинжалом быстро сделала надрез вокруг синей распухшей шеи, затем резким ударом рассекла шейные позвонки и перерезала сухожилия.
— Я не хотела тебя, — сказала она и посадила голову на услужливо подставленную Андрэ пику. И тогда совсем рядом послышалось:
— Прекратите это безобразие!
Почти вплотную, подойдя совсем незаметно, стояли окруженные охраной те, кого здесь не должно было быть, — Жанхар и Эльмира. На смуглом лице Того, Кому Подчинилась Смерть, отчетливо читалось брезгливое негодование, а Старшая Сестра не отрывала взгляда от груди дочери, украшенной амулетом, и зрачки ее медленно сужались и расширялись, словно у разъяренной дикой дворовой кошки.
Юные спутники Яаны отшатнулись, пряча глаза, словно детишки, пойманные на запретном. Выскользнув из руки Андрэ, пика глухо шлепнулась на туго раздутые тела, и голова, соскочив с острия, подкатилась под ноги Жанхару.
И полковник политического надзора, личный секретарь сеньора пожизненного Президента Демократического Гедеона, доктор искусствоведения Джанкарло эль-Шарафи почувствовал, что еще немного, еще совсем чуть-чуть — и его стошнит.
Голова майора Нечитайло, нарушившего присягу и получившего свое, лежала у его ног. Вернее, большая часть головы, почти три четверти ее, а остальное было оторвано прямым попаданием пули, выпушенной из тяжелого стационарного пулемета, и зияющее отверстие истекало бело-сизой жижей. Но и этого обрубка головы вполне хватало, чтобы опознать убитого: резко вылепленный подбородок, четкие очертания скул, римский нос под высоким, чуть скошенным лбом; как ни странно, тление почти не коснулось лица, хотя лежащие вокруг были уже неузнаваемы. Голова ухмылялась, скаля крупные белоснежные зубы, а веко единственного глаза чуть приоткрывало глазное яблоко, отчего лицо казалось лукавым, словно бы даже подмигивающим.
— Госпожа Минуллина, — официальным тоном произнес эль-Шарафи, чуть развернувшись к туземной королеве, — позвольте заметить, что этот человек являлся офицером вооруженных сил Демократического Гедеона и никакие особые обстоятельства не могут оправдать глумление над его телом…
Он был уверен, что поступает правильно. В конце концов, он целых шесть дней размышлял над тем, как поступить с прахом дезертира. Майор Нечитайло, несомненно, был сумасшедшим, и трибунал скорее всего учел бы этот факт как смягчающий вину. Он мертв, а мертвых, тем более умалишенных, не карают. И наконец, сбежав к дикарям, майор Нечитайло, известный в аэромобильных частях под прозвищем Ниндзя, сам выбрал свою судьбу. И вот как дикари отплатили ему…
Следовательно, решение забрать останки с собой для достойного захоронения на родине было вполне обоснованным. Тем паче негоже всякой нечисти издеваться над телами павших землян.
— Госпожа Минуллина! Я требую…
Эльмира не слышала. Вернее, не слушала. Впившись в точку над переносицей Яаны, она пыталась заставить дочь опустить глаза, но безуспешно.
Сила, никогда не подводившая ее, дала сбой. А Яана глядела в лицо матери спокойно и насмешливо.
— Отдай! — Указательным пальцем Эльмира ткнула в амулет. — Или выбрось…
— Нет! — негромко отозвалась Яана, и тон ее очень походил на материнский.
— Отдай!
— Нет! — повторила Яана и усмехнулась. — А если тебе очень хочется приказывать возьми меч и докажи свое право.
— Что ты, доченька!
Эльмира отшатнулась, закрыв лицо руками.
А когда мгновение спустя руки опустились, юноши из отряда Яаны, да и Звездные замерли: за этот краткий миг Старшая Сестра превратилась в призрак.
Лицо ее стало сухим, и кожа обтянула его, словно между нею и костью черепа не было ничего живого; чувственные губы истончились, глаза запали и выцвели.
Но где-то там, в голубоватой мути, где уже не было ни капли серо-синего цвета, полыхал отблеск безумия.
— Ты сказала. Защищайся!
Меч, шурша, пополз из заспинных ножен, и Яана, не отступив, обнажила ятаган.
— Ну!
Железо не скрестилось. Звонкая молнийка мелькнула во влажном туманце и, точно угадав по клинку Старшей Сестры, отшибла его с такой силой, что Эльмира едва не выпустила рукоять.
— Не трогай Яану, старуха!
Андрэ стоял чуть обочь, слегка напружинив ноги и едва заметно покачиваясь всем телом; в изготовленной для взмаха ладони замерла россыпь металлических звезд, и стражники Старшей, рванувшиеся вперед, замерли.
Им нужно было всего три мгновения, но мгновений не было.
Ничто не может остановить полег сюрикэна…
— Андрэ! — с восторгом вскрикнула златоволосая.
Эльмира старела на глазах, и полковник эль-Шарафи, учтиво, с несколько отсутствующим видом смотрящий подчеркнуто в сторону, мельком заметив это, пожалел пожилую женщину.
— Яан-на!..
Жестом приказав спутникам возвращаться к вздрагивающим у края поля лошадям, Яана неторопливо сняла с шеи амулет и протянула матери:
— Возьми. Тебе он нужнее…
Скрывая улыбку, с нарочитым недовольством покосилась на Андрэ:
— Ты тоже уходи. После поговорим…
И когда окрыленный юноша заторопился вслед за товарищами, голос златоволосой сделался чуть мягче:
— Я не знаю, что произошло, мама, но я уже не такая, какой была. Чувствую, но не могу объяснить. И ты тоже — не такая. Я люблю тебя, но больше не верю в твою мечту. Ты учила нас всех — чему? Мы думали, что может ошибаться любой, кроме тебя. Но пришел Звездный, и ты поверила ему. Ты отдала ему и меня, и даже знак власти. И где же он, твой Звездный, мать? Он оказался Фальшивым. Сейчас ты веришь другим, похожим на него. А вдруг они тоже Фальшивые? Это демоны, мама, так говорят люди аршакуни! Скажи: разве те, кого мы ждали столько лет, сделали бы такое?..
Тряхнув слипшимися кудрями, девушка обвела рукой промозглое мертвое поле.
— Неужели же там, куда зовет нас твоя мечта, тоже так?!
Голос сорвался. Горько усмехнувшись, синеглазая дева резко развернулась и пошла к тракту, скользя, балансируя и спотыкаясь о вздувшиеся трупы. Потемневшие от влаги волосы уродливыми комьями свисали до самого пояса.
Она не оглянулась. Ни разу.
И седая женщина, прижимающая к груди твердый кулак с черно-красной железякой на тоненькой цепке, ссутулившись, бесцветными глазами глядела ей вслед…
ГЛАВА 8. «ИСХОДЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ…»
Дархай. Обновленная Империя. Барал-Гур
3-й день 12-го месяца 17-го года Новой Оранжевой Эры. 10 октября 2233 года по Галактическому исчислению
Несильный, намекающе прохладный ветер гнал по столице выцветшие обрывки рекламных плакатов, взвихриваясь высокими смерчиками на перекрестках. Он был юношески неутомим, этот ветерок; обежав парки дворцовых комплексов, он вволю попетлял по узеньким, кривоватым улочкам Старого Города, потрепал не снятые еще транспаранты, висящие высоко-высоко над домами, постучал ставнями окон в коттеджах престижных районов, поскребся в особняки и упорхнул в кварталы новостроек, бродить и блуждать среди плотно прижавшихся друг к дружке, неотличимых на неопытный взгляд многоквартирных домов-многоэтажек.
Ветер подхватывал из сметенных в подворотнях куч сора листовки, тасовал их, перебирал и забрасывал на балконы, в лоджии, в парадные; ветер мурлыкал, урчал, фыркал и вскрикивал, как диктор ежедневной стереопрограммы, заклинающий избирателей не забывать, что есть еще время исполнить свой гражданский долг.
Ветер шалил. И люди, ценя юмор, не обижались.
Выборы закончились неделю назад.
Закончились примерно так, как предполагали аналитики, месяц не слезавшие с экранов стерео; конечно, не без сенсаций, но мелких, вполне предсказуемых и ничего, в сущности, по большому счету не меняющих.
Большинство проголосовало за стабильность.
Единственной неожиданностью, не предвиденной прогнозами, оказалось то, что пятипроцентный барьер сумела-таки преодолеть небольшая, но крайне шумная партийка «Возвращение к Величию», основным пунктом своей программы декларировавшая необходимость вернуть императору статус Бессмертного Владыки и дать Его Величеству возможность показываться народу и обращаться к оному в любой миг, когда упомянутое Величество возжелает, а не только трижды в год по случаю государственных праздников. Впрочем, на следующий же день после опубликования результатов лидер ВКВ предстал на пресс-конференции, к удивлению журналистов, не в традиционном оранжевом одеянии опереточного ван-туана, а, напротив, в весьма ладно скроенном цивильном костюме при бабочке и вполне цивилизованным тоном, коего от него никто не ожидал, сообщил, что мандат народного доверия обязывает его партию и лично его, как единственного ее представителя в парламенте Империи, пересмотреть свой имидж и уточнить основные программные документы. После чего, отхлебнув глоток минеральной воды, изящно промокнул губы и подытожил брифинг заявлением, что возглавляемая им фракция ВКВ готова рассмотреть предложения о вхождении ее представителя в коалиционное правительство…
Это было одним из последних отзвуков трехмесячных баталий, исполненных рискованных, изумительно красивых тактических комбинаций, изобилующих жертвами, разменами и проходами вчерашних пешек в ферзи, трагикомических разоблачений, не повлекших за собою оргвыводов, и драматических, трескуче поданных независимой прессой, но, по сути дела, ничего не решавших отставок.
Выборы стали историей.
А жизнь осталась жизнью. И следовало жить.
Тем более что итоги выборов, даже если отбросить в сторону всю пропагандистскую шелуху, делали эту избранную на ближайшие пять лет жизнь не только предсказуемой, но и сулящей определенные перспективы каждому из граждан Дархая.
И люди спешили жить.
Они торопливо шагали по улицам столицы, каждый по своим неотложным делам, и никто из них не обращал особого внимания на тучного старика, гуляющего за ажурной решеткой парка правительственной резиденции, грузно опирающегося на трость и часто присаживающегося на скамейку.
Дон Мигель был возмущен до глубины души.
Уже десятый день официального визита подходит к концу, а премьер все еще не может найти время для аудиенции. Ссылки на недомогание, на заседания по поводу формирования кабинета, на сложность политической ситуации, наконец, могли обмануть кого угодно, кроме него, собаку съевшего на подобных отговорках. Безусловно, премьер — не юноша. Нет спора, ситуация достаточно сложна. Но ведь и пожизненный Президент Демократического Гедеона тоже не мальчик. И, черт побери, верх свинства забывать, что господин премьер немалым обязан лично ему, Мигелю Хуану Гарсия дель Сантакрус, и так далее, и так далее, и так далее!
На языке политики, хорошо знакомом высокому гостю Обновленной Империи, подобный прием означал щелчок по носу, впрочем, весьма пристойно оформленный. И поскольку старость имеет право на самолюбие, дон Мигель даже себе самому не признавался в понимании истинных причин проволочек с аудиенцией, предпочитая ворчливо бранить аппарат канцелярии премьера, погрязший в рутине и бюрократизме.
И все же нельзя было не признать: повод для снисходительного похлопывания по плечу у Дархая был. И не один. Прогулка по улицам столицы повергла пожизненного Президента в завистливый шок. Полыхающий неоновым заревом центр, усеянный уличными кафе и престижными магазинами, томная нега богемных кварталов, раскинувшихся на месте вырубленных два десятилетия назад, еще до Реставрации, Священных Садов, мещанское благополучие «спальных» новостроек, обитатели которых даром что поругивали правительство, а все-таки отдали свои голоса именно ему, — все это не могло не произвести впечатления…
Порой дону Мигелю казалось, что жизнь забросила его в исторический роман, на страницах которого оживает недавнее и, увы, невозвратимо далекое прошлое Галактики, старые добрые времена паритета, когда тон в большой политике задавали те, кому это и полагалось по чину, а нахальные выскочки вроде Дархая ограничивались подгавкиванием на ассамблеях и поставками всякой мелочи вроде плодов ла, которые, к слову сказать, еще в бытность свою дипломатом очень жаловал господин будущий пожизненный Президент.
Увы, литература, она и есть литература. Не больше того. Среди пакетов, свертков, упаковок, бонбоньерок и коробов, наполненных тем, что пожелал приобрести и с наилучшими пожеланиями получил в дар от правительства высокий гость, нет ни одной, где не красовалась бы яркая этикетка с птицей токон на оранжевом многоугольнике и угловатыми многохвостыми письменами: «Р’гья-н’г дьянт-га Дархай».
«Изготовлено на Дархае».
Дон Мигель сперва распорядился было удалить эту безвкусицу, а потом передумал: все равно бирки были впечатаны в каждое изделие, а рвать их с упаковок просто ради раздраженного стариковского каприза показалось ему недостойным…
Итак, дон Мигель тихо негодовал.
Единственное, что несколько примиряло его с хамством и наглостью объективной реальности, было восхитительное ощущение собственного тела, способного самостоятельно передвигаться и даже позволять себе некоторые излишества, не рекомендованные лечащими врачами, но вполне простительные человеку после восьми лет полной неподвижности.
За прошедшие месяцы острота впечатлений несколько пригасла, но всякий раз, парясь в раскаленной печи сауны или входя в тренажерный зал, дон Мигель с полупрезрительной жалостью вспоминал того расплывшегося, делавшего под себя борова, каким был он сам всего лишь полгода назад. Вспоминал как нечто существовавшее отдельно, нечто такое, что невозможно применить к себе самому. И запрещал себе вспоминать о сроке, названном коллегой Хаджибуллой в ходе той приснопамятной встречи. Полгода были на исходе…
— Господин Президент!
Дон Мигель, не вставая, развернулся. Из окошка третьего этажа резиденции, кажется, из бильярдной, высунувшись едва ли не по пояс и опасно перегнувшись через подоконник, размахивал руками личный адъютант. Впрочем, скорее адъютантишка. Пустой паренек, преданный, конечно, и старательный, но звезд с неба никак не хватающий, да и не стремящийся хватать. Зато великолепный игрок в пинг-понг, непревзойденный тренер по армрестлингу и, очень может быть, лучший на всем Гедеоне мастер-наладчик тренажеров. В последние месяца три, а пожалуй, что и четыре мальчуган превратился в тень пожизненного Президента, и даже многие министры роптали, что легче попасть в рай, чем на прием к боссу, если молодой да ранний, паче чаяния, вдруг невзлюбит.
Воркотню эту господин Президент принимал к сведению, но выводов не делал. Все так, но парнишка смотрит на него, как на Господа Бога, выбивается из сил, из кожи вон лезет, чтобы проигрывать, не поддаваясь, и если даже он пару раз и злоупотребил своим правом распоряжаться временем Президента, так это еще не повод, чтобы отправлять его в отставку. Армрестлинг, а тем более пинг-понг овладели душой дона Мигеля целиком и полностью. Наверное, больше даже, чем покер и спортивный бридж, великим докой в которых был постоянный партнер и секретарь Президента полковник Джанкарло эль-Шарафи.
— Господин Президент! Через пять минут!..
Дон Мигель благодушно кивнуло и адъютант унырнул обратно в оконце, словно кукушка в старинных часах.
Передача начнется через пять минут. Значит, есть еще целая минута, чтобы посидеть на гибко прогибающейся скамейке, любуясь уличной суетой и сверкающими коленками девушек, по самой последней моде Барал-Гура щеголяющих в юбчонках под многозначительным названием «намек» и эластичных колготах, которые способны превратить в стройные ножки даже бублик; интерес был в основном теоретический; месяцев пять назад, восстав из осточертевшего инвалидного кресла и несколько освоившись, дон Мигель, признаться, сделал попытку вернуться к практике. Увы! Хотя кое-что и получилось, но процесс был так краток, а удовольствие столь мимолетно, что в разряд хобби сие упражнение переводить явно не стоило. В отличие от пинг-понга…
Минута — это совсем немало, если есть на что посмотреть.
А потом не менее двух минут можно брести к высокому крыльцу, подниматься по скрипучей лакированной лесенке, наслаждаясь мучительной ватной усталостью в усталых ногах. И пртянг-ги, похожие на серых в яблоках белочек, поверещат вслед, прощаясь, когда за тобой закроется высокая, выложенная пластинами перламутра парадная дверь…
Подпирая себя тростью, дон Мигель двинулся по аллее к дому. На пухлых губах играла легкая, несколько саркастическая улыбка. Он все же сумел ответить на хамство, пусть и завуалированное, так, как должно. Простите, господа! Официальные церемонии — только в первые три дня. А потом уж не обессудьте… в конце концов, я — старик, я недомогаю, да и корреспонденция с Гедеона требует пристального изучения и длительного анализа. И они проглотили! Утерлись, хотя были явно недовольны. Престиж сверхдержавы, пусть и бывшей, даже и одного из осколков ее, был по привычке достаточно высок в глазах населения, и всесторонний показ визига явно не противоречил планам администрации.
Нет уж, господа хорошие, увольте!
Ни осмотра верфей в четвертый день визита, ни посещения комплекса точной электроники в пятый, ни присутствия на собрании творческой интеллигенции в шестой, ни, наконец, встречи с финансовыми воротилами не случилось. Дон Мигель не доставил хамам подобного удовольствия. Он, так вас растак и переэтак, не марионетка, в конце концов, и не экспонат из музея восковых фигур…
Накануне дня восьмого шустрые ребята из канцелярии премьера сообразили наконец что-то и не стали присылать программу завтрашних мероприятий. Умники тоже. До куньпингана дошло бы быстрее. Впрочем, куньпинган — животное умное и благородное, не в пример иным людям.
В глубине души Президент сожалел о том, что не забастовал с третьего дня. Не пришлось бы ездить по музеям…
Нет, в посещении Исторического раскаиваться не приходилось. Словно встретившись с молодостью, бродил дон Мигель по прохладным, специально в связи с визитом освобожденным от туристов залам. Он полюбовался фресками Грджйола, секреты кисти которого так и остались неразгаданными со времени смерти великого мастера; постоял у величественного саркофага Натадининграта Жестокого, властителя княжества Шкрганнигхьйе и первого объединителя Дархая и, как в первый раз, более тридцати лет назад, поразился: как же все-таки мал ростом и худ был этот давным-давно почивший ван-туан, сумевший по кровавым ступеням взойти на престол созданной им Империи; прищурившись, попытался разобрать полустертые, залитые в пластик строки эдиктов, подлинно подписанных рукой Гуппалавармана Мудрого, и, уяснив, что «…отныне да не приносят первородных сыновей в жертву, но заменяют их блеющими, лишенными внешних пороков…», подмигнул офицеру охраны, весьма довольный полнейшим отсутствием склероза. Тот, кто на десятом десятке не забыл изученный некогда къа-дархи, тот, можно сказать, еще далеко не потерян для общества!
Он любил этот музей еще тогда, когда он был закрыт для посторонних глаз Палатой Наследия, и, выходя, улыбался, словно вспоминая нечто очень и очень приятное.
Не разочаровала и краткая пробежка по модерновым — много зеркальных стекол и никельного блеска — анфиладам Галереи Современных Искусств. Не чуждый прекрасного, дон Мигель все же скверно разбирался в авангардизме, примитивизме и прочих выкрутасах, в глубине души полагая создателей сих шедевров жертвами сексуальных аномалий. Однако же он весьма и весьма склонен был прислушиваться к компетентному мнению своего личного секретаря, и когда господин эль-Шарафи после одного из несдержанных и, к сожалению, публичных высказываний босса в адрес новаторов позволил себе маленькую лекцию, Президент попритих и даже какое-то время увлекался коллекционированием аляповатых альбомов с никак не доступными его пониманию репродукциями…
— Что это? — спросил он, остановившись перед прелестно уродливым сплетением тел двух куньпинганов с рогами вместо копыт и загадочными выступами на крупах; выступы щетинились крошечными мотками колючей проволоки.
Выслушав длинный и подробный ответ экскурсовода («Композиция „Апофеоз Примирения“, символизирующая…»), почетный гость с понимающим видом покивал и, оставив сдержанно хвалебный отзыв («Особенно композиция „Апофеоз Примирения“…) в Книге Особых Посетителей, с некоторым облегчением покинул прибежище новаторских муз…
И когда уже на пути в резиденцию кавалькада длинных сияющих автомобилей как, черт возьми, приятно было вспомнить это ощущение после тряских упряжек Гедеона! — остановилась у ворот Музея Катастрофы и Примирения, дон Мигель, погруженный в сладкую полудрему, никак не предполагал, что спустя каких-нибудь десять минут отменное настроение будет испорчено бесповоротно и аж до завтрашнего утра.
Он, собственно, и не пошел дальше второго зала.
Первый же прошагал, почти не вслушиваясь в щебет молоденькой девочки-гида, жутко гордой оказанным доверием и потому старавшейся изо всех сил.
— …подлинные вещи, найденные на развалинах Восемьдесят Пятой Бессмертной заставы, в том числе и фуражка кайченга Ту Самая, — чирикала девчонка, а дон Мигель благодушно покачивал головой, ухитряясь придремывать на ходу. — Эпоха Примирения сделала возможным понимание нами, потомками, трагедии этих людей, искренне любивших Родину, но не сумевших отыскать верный путь к ее процветанию…
Фуражка была вполне как фуражка, разве что подозрительно новенькая.
— …узок был круг соратников принца Видрагьхьи, страшно далеки были они от народа, — соловьем заливалась пигалица, указывая на ряд гранитных бюстов, осененных причудливо раскрашенными флагами, бунчуками и штандартами. — Но дело их не пропало даром. Принц Видрагьхъя растревожил сон Нола Сарджо, Нол Сарджо бросил в массы клич о невозможности сохранения старого строя…
«Где же я это слышал? — краешком сознания подумал дон Мигель. — И при чем тут, собственно, Видратъхья?»
Огненный Принц был не просто известен Президенту; в бытность свою послом, скорее даже дебютантом-послишкой, он по долгу службы имел непосредственнейшее отношение к сложной цепи событий, вынудивших законного наследника бежать в горные джунгли. В оставленном на бюваре письме беглец, в частности, обещал сварить дона Мигеля в кипящем масле сразу же по захвату столицы и восхождении на престол предков. И дон Мигель, нисколько не сомневаясь в том, что этот сумасшедший способен и на такое, отправил долой с Дархая супругу, а сам почти два года держал личный космолет в состоянии полной готовности…
— …и нет оснований отрицать, что основные идеи Юх Джугая были по сути своей глубоко народны, — доносилось до слуха словно бы издалека. — Если бы не режим узурпатора А, организовавшего физическое устранение автора «Доктрины дестабилизации» и подменившего теорию юх так называемыми идеями квэхва, Юх Джугай в ходе своих исканий, несомненно, пришел бы к пониманию необходимости эволюции имперских структур в рамках конституционного процесса…
Почти не слушая младенческого лепета, дон Мигель шагнул через высокий порог второго зала.
И замер, потрясенный.
Посреди широкого металлического постамента в центре помещения высилось изваяние: птица токон, намеренно грубо вытесанная из сплошной глыбы густо-оранжевого камня.
За три дня пребывания на Дархае дону Мигелю не раз уже доводилось видеть символ Примирения, но официозно-сухие или аляповато-сувенирные статуэтки никак не затрагивали душу, разве что забавляли соединением несоединимого.
Здесь же, силою руки и воли неизвестного скульптора, непостижимой властью его таланта, посетителю открывалась подлинная суть всего, что увидел за эти дни Президент.
И когда он осознал и понял, сердце больно напомнило о себе.
Господи! Оранжевый токон!..
Сияющие огни реклам центра — это оранжевый токон.
Растущие словно на дрожжах кварталы новостроек — это оранжевый токон.
Растерянные, потерявшие цель борьбы и веру в победу кучки инсургентов, медленно вымирающие где-то далеко в ущельях Южного Йар нганг-га, — это тоже оранжевый токон.
Они сумели. Они поняли. Они достигли.
А мы?
Мы растеряли все, — не понял, нет, ощутил Президент.
Демократический Союз. Единая Конфедерация. Почему нет?
Потому что… Единственно возможный ответ. Для дураков.
И в памяти почему-то всплыло растерянное носатое лицо гениального балаболки Рубина, еще двадцать лет назад мечтавшего — да что там мечтавшего? во весь голос вопившего! — примерно о том же самом, о чем без всяких слов сумел сказать неизвестный ваятель…
Боже, неужели нужно было дожить до девяноста трех, чтобы понять?!
Припомнилось некстати: на паритетном документе, сломавшем судьбу злосчастного чудика, в числе иных подписей, разумеется, не в начале, но далеко и не в самом конце, красовалась и его, дона Мигеля, подпись.
Именно красовалась, будь все проклято! Он отчетливо увидел ее: меленько, каллиграфически выписанный рядок… «От Региональной Администрации Гедеона (ДКГ) — Мигель Хуан Гарсия дель Сантакрус де Гуэрро-и-Карвахаль Ривадавия Арросементе», с излюбленной им в те дни длиннейшей, затейливо изогнутой закорючкой; и тут же вспомнилось, как потеплела душа, заметив в параллельной колонке, не сверху, понятное дело, но и отнюдь не в самом низу, нечастое имя: «Хаджибулла Афанасьев»…
Да уж. Тот день был безнадежно испорчен.
… Адъютантишка торопливо подвинул кресло.
— Включай! — приказал дон Мигель, удобно располагаясь напротив стереовизора. И парнишка, великолепно изучивший привычки босса, на цыпочках покинул комнату отдыха, как только большой, в четверть стены, экран вспыхнул и загудел.
— …ачало первой сессии парламента Обновленной Империи третьего созыва! сообщил шелковый голос комментатора.
Досадно. Передача уже идет. Пожизненный Президент не любил опаздывать. Правда, пропущено немного, скорее всего только приветственная речь императора. Формальность, не больше. Судя по задрапированной статуе Величия, монарх, символ неугасимости нации, уже минут пять как покинул зал заседаний и сейчас возвращается в свою золотую, прямо скажем, крайне комфортабельную клетку.
— На трибуне — премьер-министр Правительства Его Величества, лидер Партии Всенародного Примирения Дархая, маршал Тан Татао, — торжественно проинформировал комментатор, и все четыреста восемьдесят семь вновь избранных депутатов, представляющих двести семнадцать миллионов совершеннолетних граждан Империи, в едином порыве поднялись с мест.
Амфитеатр зала взорвался рукоплесканиями; дон Мигель, морщась, покрутил на пульте верньер, уменьшающий звук, а сухонький, длиннобровый старичок, показанный невидимыми камерами крупным планом, послушав с минуту овации, слабо улыбнулся и кивнул.
Аплодисменты стихли.
— Высокочтимые народные представители!..
Премьер говорил не повышая голоса, не подсматривая в бумажку, и по глазам его, остро и цепко оглядывающим ряды парламентариев, ясно было, что и за бегущей строкой он не следит.
— Позвольте мне присоединить свои поздравления в связи с началом работы нашего парламента к милостивым словам обожаемого монарха, удостоившего своим присутствием церемонию открытия сессии!..
В зале вяло, в несколько десятков ладоней, похлопали.
— Для меня как лидера Партии Всенародного Примирения Дархая особо приятно отметить, что подавляющее большинство избирателей вновь выдали мандат доверия нашей партии и породненному с ней блоку общественных объединений…
На сей раз аплодисменты звучали внушительно, но как-то недружно.
Старичок недоуменно посмотрел в зал; вислые, почти закрывающие глаза брови шевельнулись.
Рукоплескания вновь начали перерастать в овацию, но оратор не позволил.
— В ходе выборов, — произнес он, и зал вновь замер, — иные из средств массовой информации и наиболее политически безответственные группы лиц неоднократно выражали сомнение в демократичности работы избиркомов. Оценивать ход кампании, разумеется, их неотъемлемое право. Мы, как указал в приветственном слове наш обожаемый монарх…
Премьер сделал паузу, позволяя слушателям порукоплескать.
— …живем в демократической стране и, исходя из элементарных принципов демократии, не имеем права посягать на свободу выражения мнений. Но позвольте заметить, что Партия Всенародного Примирения Дархая не может согласиться с подобными безответственными заявлениями.
В руках оратора наконец-то появился клочок бумаги; впрочем, заглядывать в шпаргалку он, похоже, не собирался.
— На этих выборах, третьих с момента начала конституционного процесса, ВПД получила около 63% голосов от числа явившихся на выборы, что составляет примерно 311 депутатских мандатов. Пять лет назад наша партия удостоилась доверия 87% избирателей и получила 475 мест в парламенте прошлого созыва. Напомню для справки: на первых выборах, проходивших десять лет назад, Партия Всенародного Примирения стала обладательницей 97, 315% голосов, что позволило ей иметь представительство в размере 483 мандатов, причем оставшиеся четыре места в течение срока оставались вакантными…
На скамьях, отведенных оппозиции, кто-то гулко хмыкнул, и старичок ответил оппоненту ласковой улыбкой.
— Понимаю и ценю сарказм высокочтимого коллеги, достойнейшего депутата от округа Туург-га…
(«Господи, — испугался дон Мигель, — он что же, их всех помнит в лицо?..»)
— …действительно, выборы десятилетней давности проходили в обстановке особого положения, ограничивавшего некоторые из гарантированных конституцией прав и свобод. Мы не имеем права отрицать и наличие известных нарушений прав личности, имевших место в те прискорбные дни…
Очень спокойная, плавно льющаяся речь. Тихий голос. Прекрасно сшитый, несколько старомодный сюртук. Мирное морщинистое лицо. Но что-то заставляло ожидать, что вот-вот голос старика на трибуне громыхнет танковыми гусеницами.
— Но нынешние выборы, как это признано даже оппозицией, были образцовыми с точки зрения буквы конституционного процесса. И мы горды тем, что наша партия, партия власти, фактически потерпела на данных выборах поражение, не собрав прогнозируемого количества голосов! Народ Дархая воспользовался правом доверять не только ВПД, и это, на наш взгляд, знаменует собой реальнейший результат развития конституционного процесса…
На трибуне возник и поклонился слушателям, почти на две головы возвышаясь над премьером, пухлощекий осанистый человек средних лет, по виду — лунг из предгорий, в ладно сидящем на мясистых плечах клетчатом пиджаке.
— В таких условиях, — слово за словом бросал оратор в загонявшую аудиторию тишину, — партия Прогресса и Примирения не видит альтернатив формированию правительства на коалиционной основе. Позвольте представить вам, досточтимые народные представители, уважаемого Тванг Мяуна, лидера Партии Экономического Прогресса, завоевавшей, как вам известно, почти 21% голосов явившихся избирателей, первого вице-премьера…
Старик рассчитанно, затянуто помолчал.
— …первого в истории Дархая коалиционного правительства! Прошу вас, коллега!
Рев парламентариев не смолкал долго. Почти пять минут, если не больше, и даже слабые жесты стоящего на трибуне не могли утихомирить безумие.
— …наша парт… твер… гаран… — с трудом прорывался сквозь какофонию хорошо поставленный голос пухлощекого. — …безусл… поддерж… реформаторск… правит… ства… лич… марш… ла… ан… атао!.
Вновь церемонно поклонившись, человек исчез.
Чтобы добиться тишины, премьеру пришлось позвонить символом своей власти священным бубенцом из горного хрусталя.
— И я, поверьте, уважаемые народные представители, надеюсь дожить еще до того дня, когда партия, к которой я имею честь принадлежать, демократическим путем уступит право формировать правительство другой партии, законным путем завоевавшей это право на очередных выборах. Не удивлюсь, если таковой окажется через пять лет Партия Экономического Прогресса!
Все-таки речь давалась оратору нелегко. Подчеркнуто небрежным движением он налил в бокал немного минеральной воды и пригубил.
— Вместе с тем… — еще тише, чем прежде, начал он, и долгожданные гусеницы все-таки лязгнули, — как вам известно, в ряде районов страны произошли массовые беспорядки, спровоцированные антиконституционными, находящимися вне закона организациями, исповедующими человеконенавистнические теории квэхва, а равно и стоящими на позициях оголтелого великолунгского национализма…
Старик распрямил плечи, и дону Мигелю показалось на миг, что премьер Татао вовсе не так уж стар.
— Как председатель-основатель Лиги Ветеранов Примирения, я хочу заверить вас, уважаемые народные представители, что Лига и на сей раз сумеет выступить гарантом развития демократического процесса. Проведенные аресты…
По амфитеатру прокатились напряженные перешептывания: любой дархаец, от президента корпорации до последнею фермера, вплоть до сохранившихся в горных районах общинников, достаточно хорошо знал, что Лига не шутит. Попросту не умеет шутить. Подчас она даже не предупреждает,
— Проведенные аресты позволяют утверждать, что опасность социальных потрясений снижена до предела. Исходя из элементарных принципов демократии, я как глава Лиги и премьер правительства Его Величества могу с высокой степенью достоверности предположить, что предстоящие процессы не закончатся вынесением смертных приговоров…
Аудитория потрясение ахнула. И не только скамьи, отведенные оппозиции.
— …за исключением отдельных, наиболее злостных преступников.
Старик несильно хлопнул ладонью по трибуне. И улыбнулся ясной, удивительно лукавой улыбкой.
— Вот, в общих чертах, основополагающие пункты концепции деятельности кабинета, который мне доверено сформировать Его Величеством, нашим обожаемым монархом. Хочу сообщить также, высокочтимые народные представители, несколько первоочередных новостей, требующих незамедлительного заслушивания и одобрения на пленарном заседании парламента…
Плечистый референт поднес к трибуне раскрытую папку.
— Прежде всего рад сообщить вам, что после известных вам действий, проведенных морскими силами Лиги Ветеранов Примирения в районе архипелагов, так называемое правительство Единого Дархая пришло к выводу о бессмысленности и бесперспективности дальнейшего продолжения братоубийственной войны. Экономический кризис и неизбежные военные неудачи вынудили сепаратистов согласиться на предложенные кабинетом Его Величества условия капитуляции. Сегодня, около восемнадцати часов по барал-гурскому времени, полномочная делегация сепаратистов прибывает в Барал-Гур для подписания соответствующих документов. Фронт имени Нола Сарджо заявляет о готовности прекратить военные действия и включиться в конституционный процесс при условии гарантий полной и абсолютной амнистии. От вашего имени, уважаемые народные представители, а также и от лица правления Лиги, я, с позволения Его Величества обожаемого монарха, счел возможным пойти на удовлетворение этого условия. Демократия может позволить себе быть гуманной. Итак, дорогие мои коллеги…
О чудо! Он, кажется, прослезился.
— …я счастлив сообщить вам, что война на Дархае, так долго терзавшая нашу прекрасную Отчизну, закончена!..
Камера заметалась, стараясь не упустить ничего из творящегося в зале. Чинные ряды амфитеатра смешались. Парламентарии, покинув свои места, толклись в проходах, обнимаясь, хлопая друг друга по плечам; депутаты от правящей партии смешались с депутатами от оппозиции; безумные лица, взъерошенные волосы, сбившиеся набок галстуки… вот у кого-то в руках мелькнула объемистая бутылка, и ее тотчас осушили, выхлебав без бокалов, из горла, вот кого-то качают, и он взлетает к потолку, вопя и забавно размахивая конечностями…
Суровые парламентские приставы тоже смешались с вопящей, прыгающей, ликующей толпой; они и не думают наводить порядок, они прыгают и хлопают по плечам лидеров влиятельных партий, и седовласых парламентских обозревателей, и молоденьких строгих девиц из секретариата…
Сейчас — можно.
Это Дархай, и нужно быть дархайцем, чтобы понять цену того, что прозвучало с трибуны.
А старый премьер стоит, опершись обеими руками о полированные обочья возвышения, и спокойное лицо его светится физически ощутимым, почти отеческим благодушием.
Потом оборачивается и устремляет мерцающий взгляд прямо в камеру.
— Что же касается вас, любезный гость, — говорит он, и дон Мигель, доселе с огромным интересом наблюдавший трансляцию, отшатывается, — то вот вам и случай поговорить наедине. Для нас обоих не так уж важно, что связь будет односторонней. Вам, в сущности, нечего сказать.
Он не ошибался никогда, и он не ошибается сейчас, маршал Тан Татао, премьер-министр кабинета Его Величества. Они сейчас и впрямь все равно что наедине. Некому их подслушивать. Весь Дархай высыпал сейчас на улицы, и никто не сидит у стереовизоров. Из проходных остановившихся заводов, не завершив смену, выбегают рабочие вперемешку с сотрудниками дирекции и вливаются в ликующие толпы; дети сигают в окошки классов, а преподаватели… да что там!.. некому их подслушивать…
— Я ознакомился с вашим меморандумом, Президент дель Сантакрус, совершенно правильно выбирает необходимую из многочисленных фамилий дона Мигеля маршал Тан. — И мне, к великому сожалению, нечем обнадежить вас. Дархай еще не стоит на ногах. Нам необходимы еще пятнадцать спокойных лет. Минимум десять. В крайнем случае пять. Но не меньше. Именно поэтому мы не собираемся в ближайшем будущем строить космолеты. Можем. Но не будем. Необходимо залечить раны…
Он хмурится, накручивая на палец пушистую бровь.
— Разумеется, мы готовы оказать вам гуманитарную помощь. Продовольствие. Техника. Медикаменты. Безвозмездно. При одном условии: доставка ваша.
Эго приговор. Окончательный и бесповоротный. И маршал Татао делает попытку подсластить пилюлю.
— Вам нужно продержаться, Президент дель Сантакрус. Мы, дархайцы, не забыли, чем обязаны лично вам. Продержитесь, прошу вас. Пятнадцать лет. Может быть, даже меньше. Наша программа космостроения уже разработана. Когда-нибудь, скоро, мы придем… и цивилизуем вас…
Жестоко сказано. Тан Татао слишком поздно осознает это и пытается исправить дело шуткой:
— Так сказать, исходя из элементарных принципов демократии. Что же касается конкретного пункта вашего обращения…
Дон Мигель замирает. Неужели? Если да, то это шанс. Реальный шанс. Хоть немного. Хоть самую малость. Стоит этому бесстрастному старику сказать «да», и цивилизация уцелеет без дархайской помощи. Ну же, ну! Скажи «да», старик! Кто посылал тебе караваны, когда тебя гоняли по джунглям? Кто вырастил твою армию?.. Я немногого прошу: хотя бы несколько граммов, чтобы не умерли двигатели последних космолетов…
— Как я и сказал, мы готовы оказать любую потребную помощь. Но…
Маршал Тан вскидывает брови, заправляя их за уши, и в глазах его появляется совершенно искреннее, абсолютно не ложное недоумение:
— …дело в том, что ни мне, ни моим специалистам, ни исследователям, в общем, никому на Дархае не известно, что такое боэций. Вы ничего не напутали, Президент дель Сантакрус?..
Кажется, премьер Его Величества продолжает еще что-то говорить. И напрасно. Губы его шевелятся, но дон Мигель ничего не слышит. Он обмякает в кресле, и адъютантик, шестым чувством заподозрив неладное, мечется по кабинету, не соображая — то ли звать врача, то ли искать аптечку. «Заботливый мальчик, успевает подумать дон Мигель, с ужасом ощущая, что тело становится чужим и непослушным. — Руки! Мои руки!.. О Господи, помилуй, только не это! Не хочу опять этого, Господи! Не хочу!.. Спаси, Боже великий, милостивый!..»
И Бог, который, наверное, все-таки есть, не может устоять перед исступленной искренностью человеческой мольбы. Господин пожизненный Президент Демократического Гедеона тихо закрывает глаза и медленно засыпает; ему уже не страшен паралич… ему хорошо… тихо… спокойно… и дон Мигель никогда уже не узнает — хотя, возможно, это и к лучшему — о том, что именно сейчас, именно в этот миг в своей спартански обставленной резиденции, в собственной постели, неизмеримо далеко отсюда, корчась в жестоком приступе астмы, пытаясь выдавить из посиневших губ хотя бы подобие крика, трудно, мучительно трудно, гораздо горше, чем Президент, умирает Председатель Совета Единого Ормузда, дорогой коллега Хаджибулла…
ГЛАВА 9. «И ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ?..»
Корабль. Орбита. Демоны
12 октября 2233 года по Галактическому исчислению
— Мне кажется, это все-таки было неправильно, господин полковник…
Оторвавшись от картотеки, Джанкарло эль-Шарафи поднял взгляд на второго помощника и с огромным интересом смотрел на него до тех пор, пока мальчишка не затоптался на месте, ища, куда бы деть ставшие внезапной обузой руки.
Уши его налились пунцовым огнем.
Боже, какой кретин! Собственно, все они теперь такие. Уроды. Этот еще из лучших. Умеет сколько-то соображать. Интересуется старой эстрадой, даже исполняет под банджо кое-что из репертуара незабвенной Ози. И все равно кретин. Да еще и позволяющий себе забывчивость насчет того, в каких случаях лейтенанты имеют право обращаться к полковникам. И как конкретно это следует делать.
Обычно господин эль-Шарафи редко вспоминал о своем звании, относясь к эполетам как к печальному капризу судьбы. С юности его увлекало прекрасное, и состояние семьи вполне позволяло удовлетворять эту страсть. Тем более что отцу, человеку хоть и современно мыслившему, а все-таки изрядному традиционалисту, представлялось престижным иметь сына-искусствоведа, коль скоро уж мальчик твердо решил идти против семейных канонов. Правда, отец показал характер: он изолировал Джанкарло от детей, заявив, что картинки картинками, а семейное дело нуждается в продолжателе. Мать, как всегда, поддержала отца, стерва жена купилась на отступное, а Джанкарло в те дни было, в сущности, все равно; значительно больше его интересовали вернисажи, где он порой и сам выставлялся, мечтая о карьере художника. И самое забавное, что у него, это признавали все, были неплохие задатки…
Что сказать? Жизнь распорядилась иначе. В одночасье, как раз накануне Катастрофы, скончался отец, и ни о каких похоронах, разумеется, не могло идти и речи. Никому, кроме Бога, неведомо, что творилось в те дни на Земле, да и пожелай он попасть туда, это все равно было бы неосуществимо. Семейное дело перестало существовать. Сбережения необъяснимым образом исчезли. Почти исчезли, скажем так. И в довершение всего без вести пропал космолет, увозивший с Земли (отец был дальновиден и прозорлив; у него, что называется, имелось чутье) мать и обоих детей.
Было нелегко. Но помогли старые связи. Не собственные, конечно, отцовские. А после все покатилось по накатанной колее, и однажды настал миг, когда едва оперившийся капитан политического надзора эль-Шарафи понял, что новая стезя ему даже по нраву. И все же вынужденная жизнь не могла стать смыслом бытия. Красивая мысль! Нельзя исключать, что именно образность мышления и помогла молодому интеллектуалу сделать карьеру в аппарате язвительного, порой старчески капризного, но тонко разбирающегося в кадровых вопросах господина пожизненного Президента Демократического Гедеона…
— Вы хотели о чем-то спросить, лейтенант?
— Никак нет, господин полковник. Разрешите идти, господин полковник?..
— Вольно. Идите.
Так-то лучше. Джанкарло эль-Шарафи хмыкает и вновь погружается в россыпь стандартных карточек. Он чувствует в себе трепет близкий к оргазму. Подумать только! Три четверти музейных фондов Земли вверены его попечению…
Венера с Милоса. Давид. Моисей. Дискобол. Минин и Пожарский… да что там — почти семьсот наименований только по разделу мраморной скульптуры. А ведь есть еще и терракота, и бронза, и стекло, и не следует забывать о майолике; есть живопись, и какая!..
Многое испорчено, кое-что безнадежно, но таких экспонатов, к счастью, относительно немного. Реставраторам придется потрудиться, и они потрудятся на совесть, в этом порукою слово полковника эль-Шарафи! «Джоконду» же он не отдаст никому; он сам возвратит ее к жизни, шов за швом, штришок за штришком…
Джанкарло вспоминает дикаря, обмотавшего голову творением великого Леонардо, и сердце его холодеет от ненависти. В тот момент он готов был убить, и он бы убил наверняка, но чудовищное усилие воли позволило сдержаться, и взбешенный полковник ограничился пощечиной. Впрочем, негодяй откинулся сам по себе — лег и сдох, как собака; и в этом была величайшая из возможных справедливостей.
Есть, к сожалению, и невозвратимые утраты…
На лице Джанкарло — непритворная боль.
Иконы. Отборнейшие образцы, двадцать семь экспонатов Киевского музея религий. И практически все исковерканы так, что о реставрации можно только мечтать…
Печально вздохнув, доктор искусствоведения эль-Шарафи откладывает в отдельную стопку десятка полтора карточек, заполненных бисерным почерком и густо перечеркнутых красным фломастером. Этих уже не спасти. Никак. Даже если лично заняться этим, вкладывая максимум тщания, умения и любви.
Прощай, маэстро Рублев! Твоя «Троица» пережила века и века, а теперь ее нет. Ее вывели в поле, под огонь тяжелых пулеметов, всю троицу в полном составе, и три ангела в одеяниях нежных приняли пули грудью, глядя навстречу огню недоуменно и горестно. К счастью, полковник эль-Шарафи не видел воочию, как это было: расстояние милосердно скрыло подробности, но сейчас он отчетливо представляет себе все.
И ему страшно.
Вот они стоят, рядком, словно дезертиры на плацу перед вскинувшим винтовки комендантским взводом: ангел Веры, и ангел Надежды, и ангел Любви, и Божья Матерь Казанская, и Божья Матерь Ченстоховская, и Божья Матерь дель Гуадалупе-Идальго, и еще многие-многие иные; в огромных очах нет страха, потому что нечего бояться погибающему безвинно, не ведая за собой никакого греха, и грех лежит на том, кто убивает. Очередь за очередью рвут звонкую древесину, раскалывают в щепу, и образа падают, падают в мокрую грязь, один за другим, и в очах медленно затихает все живое… и только горестный упрек долго-долго живет в отблесках молчаливого пламени души древних мастеров…
Прощай, Теофано Эль-Греко!
Прощай, маэстро Дионисио Негро! Феофан Грек, Дионисий Черный!
Джанкарло эль-Шарафи сглатывает застрявший в горле комок и утирает выступившие слезы. Он боится спросить себя: приказал бы он открыть огонь, зная, что там, на той стороне поля, пули встретятся с ликами?..
Сам бы он, конечно, не смог нажать на гашетку. Не смог бы!
Но отдать приказ подчиненным?..
Лучше не думать. Если думать, придется отвечать. Честно. Как на духу. И это будет скверный ответ. Без которого лучше обойтись.
И ненависть к дикарям, посмевшим прикрываться бесценными творениями, усиливается в сердце полковника и доктора искусствоведения многократно.
… Разогнув спину, Джанкарло эль-Шарафи снимает очки и укладывает их в видавший виды футляр.
Ну что ж. С предварительной работой покончено. Поступления зарегистрированы, рассортированы, и он с удовольствием, по долгу представителя властей на борту, скрепил подписью регистрационные листы.
Семнадцать отсеков скульптуры.
Одиннадцать отсеков живописи.
Восемь отсеков забиты разной мелочью, из того разряда, что нести трудно, а бросить жалко. Там не все еще и рассортировано как следует. Чепуха. Этим можно будет заняться во время полета. И вообще работы непочатый край. Составление подробной, обоснованной теоретически описи фондов — дело кропотливое, тонкое; заниматься им придется в одиночку, не подпуская ни пилота, ни штурмана, ни второго помощника. Усердия у них, конечно, хватает, но ведь ни опыта, ни главное — понимания…
Зато кое-кто из них позволяет себе сочувствовать дикарям!
На устах полковника эль-Шарафи появляется еле заметная ухмылка. Он еще не знает наверняка, станет ли добиваться исключения второго помощника из реестров личного состава Космофлота Демократического Гедеона, но то, что сосунка ждут неприятности, — это точно.
Лейтенант, препирающийся с полковником, да еще и выступающий в защиту дикарей, по милости которых погублено бесценнейшее достояние человечества, это, знаете ли, нонсенс. Так можно далеко зайти. Настолько далеко, что возвращаться будет попросту некуда. И нечего отделываться ссылками на объективное снижение интеллектуального уровня в молодежной среде! Если не хватает мозгов, следует восполнить их отсутствие установлением надлежащей дисциплины!
Необходимо ужесточение внутренней политической линии.
Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим.
К сожалению, дон Мигель, сеньор пожизненный Президент, не желает и слышать о давно уже разработанном его канцелярией плане введения на некоторый срок особого воспитательного режима. Он слишком стар. Он не понимает, что в создавшейся ситуации заставить человечество возродиться можно только из-под палки. А потом пусть история судит победителей!..
Не хочет. Не может. Слишком стар…
Джанкарло привычно покусывает нижнюю губу.
Вот именно — слишком. Так долго люди не живут.
И вздрагивает. О чем это я?! Об этом нельзя. Даже наедине с собою. Даже в мыслях. Пока что нельзя. Следует отложить размышления на эту тему до Гедеона. Следует обдумать. И лишь потом, после долгих консультаций, заручившись согласием и поддержкой, быть может…
Пол под ногами начинает подрагивать.
Сперва слегка, почти незаметно, бесшумно. Затем отчетливее. Вместе с подрагиванием зарождается мерный гул. Система двигателей приходит в состояние готовности к полету. На это требуется время. Не много. Но все же. Ведь «грузовик» чудовищно стар, все ресурсы выработаны, а многомесячный ремонт, говоря откровенно, был не более чем на совесть проделанным макияжем. Нет специалистов. Нет оборудования. Ничего нет.
Раздвинув жалюзи иллюминатора, Джанкарло эль-Шарафи какое-то время рассматривает пейзаж.
Невероятно!
За считанные часы с момента окончания погрузки все вокруг неузнаваемо изменилось. Земля утратила цвета, сделалась черно-белой, напрочь лишенной каких бы то ни было оттенков. На глаз специалиста это может показаться даже небезынтересным: абсолютный контраст, лишенный полутонов. Совершенный свет и совершенная тьма. Но простого человека такое может довести до шизофрении. Именно поэтому он, полковник эль-Шарафи, четыре часа тому приказал задраить иллюминаторы, и пилот в чине капитана, формально — первое лицо на борту, не споря ни секунды, согласился с данным распоряжением.
Черная земля. Белое небо. Черное небо. Белая земля. И ничего больше.
Интересно, эта ведьма все еще там?..
Невозможно разглядеть. И слава Богу.
«Неправильно», — сказал мальчишка. Сопляк! Можно подумать, он, Джанкарло, лишен сердца и ничего не способен понять. Но! Иного выхода просто не было. План вывоза фондов никак не предполагал эвакуацию двадцати сотен туземцев. Которые, кстати, не очень-то и стремились к эмиграции. Во всяком случае в последние дни погрузки.
Доктор искусствоведения плотно задвинул жалюзи, заложил руки за спину и, задумчиво насвистывая, прошелся взад-вперед по просторной каюте.
Последние дни…
Никак нельзя было предполагать, что они будут настолько выматывающими. Земля взбесилась; ветер хлестал нещадно, иссекая борта корабля водяными пулями вперемешку с ледяной крошкой; он рвал с травы палатки, и они, подхваченные шквалом, улетали в степь и долго кувыркались там, время от времени по-птичьи взмывая в воющее, искаженное мельканием туч небо…
Кони туземцев бесились. Они давно разбежались бы по степи, если бы не удивительная привязанность к хозяевам. Нестреноженные животные, дико ржа, убегали прочь, но потом возвращались, тревожно и напуганно зовя двуногих друзей.
Впрочем, испуганы были и туземцы. Радостно встретившие экипаж, охотно и споро помогавшие, с полунамека кидавшиеся выполнять любую просьбу, не говоря уж о приказе, они ни с того ни с сего стали инертны, притворялись то глухими, то недоумками, двигались, едва переставляя ноги и время от времени роняя тюки.
Это походило на саботаж. Но при всем этом туземцы, несомненно, боялись его, Джанкарло эль-Шарафи, и не смели не подчиняться. Ну что ж, отлично. Наверняка страх этот, ведущий к повиновению, есть побочное следствие применения пулеметов. Побочное, но весьма полезное.
И, разумеется, очень и очень помогла, спасибо ей, седая ведьма, претендующая на остатки былого лоска.
Джанкарло по сей миг так и не разобрался вполне: неужели эта одичавшая баба всерьез продолжает считать себя землянкой? Похоже, что да. Во всяком случае, попытки титуловать ее в соответствии со здешним этикетом были отвергнуты категорически и напрочь.
Вплоть до сегодняшнего утра Джанкарло эль-Шарафи не исключал возможности вывоза ее на Гедеон. В конце концов, технически это вполне реально; разумеется, свободных кают на корабле не имелось, зато двадцать девятый, последний по коридору грузовой отсек пустовал. Почти. Если не считать останков майора Нечитайло, должным образом подготовленных к транспортировке на родину.
Естественно, ни о каких удобствах говорить не приходилось, но бабенка привыкла и к худшему. Насчет питания проще; экипаж и он сам, полковник эль-Шарафи, безусловно, не отказались бы поделиться частью пайка с дамой, да еще и оказавшей Демократическому Гедеону столь ценные, да какое там! — попросту неоценимые услуги.
В компетенцию господина эль-Шарафи входило рассмотрение ходатайств об индивидуальной эмиграции; в крайнем случае Джанкарло мог бы позволить туземной королеве забрать с собою дочь. Дети — дело святое, а дикарки, в том числе и блондиночка Яана, чертовски раскованны, так что полет мог бы оказаться весьма и весьма интересным.
Если бы не случившееся на рассвете.
Никто из экипажа так и не успел понять, что же, в сущности, произошло?
Туземцы заканчивали погрузку. Они двигались вяло, неохотно, но тюков, еще не уложенных на место, оставалось не так много, и очевидная волынка уже ничему не могла помешать. Экипаж даже не покрикивал на прячущих глаза такелажников. Зачем? Было совершенно ясно, что даже с такими темпами еще до полудня отсеки заполнятся и станет возможным готовить «грузовик» к старту. Все было хорошо. По крайней мере предсказуемо. Но разве мог кто-нибудь предугадать, что в самый неожиданный миг, когда вдруг утих ветер и прекратился дождь, когда даже солнце ненадолго выглянуло из-за разорвавшихся туч, один из туземцев, тот самый парнишка, что все время крутился около блондинки, внезапно застынет на месте, словно услышав некий никому, кроме него, не ясный зов?..
Он замер, прислушиваясь. Потом медленно кивнул.
А спустя мгновение рука его резко взлетела в воздух, и горсточка молний, бледно сверкнув в скупом луче ленивого солнца, бесшумно прорезав расстояние, поразила стоящую в нескольких шагах туземную владычицу — точно в грудь, в живот, под сердце, в голову. Так! Так! Так! Так…
Нет, не совсем так. Единственный сюрикэн, полетевший неточно, прошел как раз мимо головы; он всего лишь чиркнул вдоль седого виска, вырвав клок кожи вместе с прядью волос, и улетел в степь. А остальные звезды-убийцы бессильно опали, глухо ударившись о невидимое под глухой накидкой железо.
Разве мог знать мальчишка, что со дня великой битвы Старшая Сестра не выходит к людям аршакуни, не надев под верхнюю одежду длинную кольчатую рубаху, давным-давно найденную в одной из руин и оставленную просто так, на всякий случай?..
На тот самый случай, который случился сегодня на рассвете.
Джанкарло поежился, пытаясь отогнать яркую, назойливо маячащую перед глазами картинку.
Парня убивали не долго, но страшно. Он успел только вскинуть руки и перепуганно, отчаянно, по-мальчишечьи заверещать; воздух прожужжал, рассеченный вдоль, — и обе руки, подпрыгнув, отскочили далеко в стороны, а из задранных к небу обрубков рванулись две алые, источающие пар струи.
— Андрэээээ! — Никто из экипажа не сумеет забыть этот крик.
Блондинка кинулась на старуху с места, как кошка, но та, даже не взглянув, сделала резкое движение, и девичье тело кулем рухнуло на траву. А сталь зашипела вновь; колени парнишки подломились, обезглавленное тело сделало несколько неуверенных шагов — и рухнуло, все еще непроизвольно содрогаясь.
А блондинка лежала лицом вверх, вполне целая, очень симпатичная и почти живая. Старуха скорее всего вовсе не собиралась ее убивать. Просто прыжок был чересчур стремителен, скоординировать отмашку нелегко было бы и молодому… и удар рукояти пришелся как раз в висок…
И тогда туземцы прекратили работу.
Не сговариваясь, один за другим они бросали наземь тюки и уходили в степь, не слушая окриков. Они уже не боялись Джанкарло. Они, похоже, уже ничего не боялись. А седую, безмолвно сидящую возле грузового трапа, они обходили молча, словно ее и не было здесь…
Именно в эту минуту полковник Джанкарло эль-Шарафи понял окончательно и бесповоротно, что туземку он с собой не возьмет. Ни за что. Ни при каком раскладе. Там, дома, слишком много тихих кретинов. К чему увеличивать их число, да еще за счет буйнопомешанных?..
Впрочем, туземная королева — бывшая королева? — ни о чем уже не просила. Даже не думала просить. Просто сидела на почерневшей траве, задрав голову, и тихо, без слов, на одной ноте выла, изредка сбиваясь на тоненький жалобный скулеж.
Возможно, она сидит так до сих пор. Если еще жива.
А потом налетели птицы.
Их было много, тысячи, возможно, сотни тысяч, и они, возникая невесть откуда, летели к кораблю. Лебеди, одни только лебеди, никого, кроме лебедей. Лебеди белые, как небо в жару, и лебеди черные, словно земля после дождя, лебеди длинношеие, широкоперые, лебеди, кричащие жалобно и рвано; они летели со всех сторон, ударяясь грудью о металл обшивки и опадая на землю, они взмывали ввысь и падали на корабль, сложив громадные крылья… они налетали волнами, строго чередуясь: белые, потом черные, потом снова белые, и опять черные… и в воздухе метался и никак не мог утихнуть ураган кружащихся перьев, а по обшивке, все более густея, стекала, окрашивая грузовой космолет в прогулочные тона, яркая птичья кровь…
Именно тогда Джанкарло и приказал задраить люки.
Он уже не думал о тех десятках тюков и мешков, что остались непогруженными. Ему более всего хотелось сейчас покинуть поскорее это сумасшедшее место, эту сошедшую с ума планету, некогда называвшуюся Землей.
Покосившись на политического руководителя, капитан, не задавая вопросов, распорядился готовиться к взлету.
И когда поток птиц иссяк, а земля, утратив цвета, стала тихой, спокойной и черно-белой, когда, разогревшись, заурчали двигатели и громадина грузового космолета содрогнулась, отрываясь от тверди, сквозь глухую немоту и безмятежье вневременья Лебедь услышал:
— Мы здесь… Отзовись… Нам плохо…
…и попытался открыть глаза.
Открылся только один. Всего лишь на миг. Неясное колебание было вокруг, густо-масляное, полупрозрачное, гасящее все цвета и звуки. Лишь отголоски слабых шорохов долетали до него, все истончаясь и истончаясь; лишь отсветы неразличимых теней и бликов смутно изгибались перед взором, все расплывчатое и расплывчатее.
— Мы здесь… мы с тобой… помоги нам…
Он попытался ответить — и не сумел, попытался стряхнуть оцепенение — и не смог…
Лебедь… Кто?!
Все было тускло. Потом стало темно.
Тепло и мягко.
Не было кому откликнуться на шуршащий зов…
Лишь на малое мгновение дух Лебедя сумел, прорвавшись сквозь извечное ничто, вернуть слабенькое подобие жизни майору Въяргдалу Нечитайло.
Мертвой, раскрошенной голове, плавающей в формалине.
… И рев двигателей погасил жалобный шепот.
Корабль шел к орбите. Ремонтники не подкачали.
Механизмы вели себя нормально, на автоматику тоже грех было жаловаться. Правда, системы автопилотажа смогут включиться лишь после выхода в открытое пространство, но это уже входило в сферу полномочий капитана и никак не затрагивало полковника и доктора искусствоведения Джанкарло эль-Шарафи.
В кают-компании было тепло и уютно. Настолько, насколько сие вообще возможно на дряхлом, практически вышедшем в тираж сухогрузе. Половина членов экипажа, свободная от стартово-орбитальных хлопот, сидела у иллюминатора, вытянув ноги к псевдоогню, рассыпавшему по мрачной пещерке камина пунцовые блестки. Все было как дома… или почти как дома; напряжение последних дней мало-помалу отступало не без помощи горячего грога, с толком и тщанием приготовленного роботобарменом. Хотелось дремать. Но еще больше хотелось глядеть в овальное стекло, где, медленно уменьшаясь, висела покинутая планета.
Золотистая дымка нежно опутывала сине-зеленый шар; он удалялся без спешки, неторопливо, и в теплых тонах его отблесков не было и намека на давешний черно-белый кошмар. Вполне можно было предположить, что все минувшее было не более чем кошмарным сном. Шар был уже далеко, но еще и близко, на него хотелось смотреть не отрываясь, и они смотрели…
Тот, который помоложе, еще не вполне отошел от давешней выволочки. Джанкарло знал за собой такой грешок: когда он того хотел, люди пугались. Откуда бы что? Все-таки две трети жизни он прожил вполне интеллигентно, можно даже сказать — богемно. С другой стороны, покойный падре обладал подобным даром в неизмеримо большей степени, а наследственность, что бы кто ни говорил, великая штука!
Но полковник эль-Шарафи уже не сердился на салажонка.
Рапорта, пожалуй, не будет. Парнишку можно понять, а значит, и простить. Тем паче элементарная порядочность не позволяла бывшему интеллигентному человеку с докторским дипломом ломать судьбу только-только начинающему жить пареньку. Сердце — не камень. Если уж останки дезертира летят в пустом отсеке для почетного погребения, то нет никакого резона отказать в снисхождении неопытному и туповатому мальчугану, все же старающемуся расти и развиваться…
— Прекрасный пунш! — Джанкарло отставил чашку и вкусно, с медленной грацией истого ценителя, облизал губы. — Вы не находите, лейтенант?..
Впервые после выволочки ко второму помощнику обратились вполне по-человечески, почти что дружески. И уж во всяком случае с намеком на возможное прощение.
Лейтенант несмело улыбнулся:
— Так точно, господин полковник! Пунш отменный!
Он трепетал и благоговел перед этим молчаливым человеком, являющимся не просто аж полковником, да еще и политического надзора, но и личным секретарем самого Его Превосходительства пожизненного Президента, почти равного, в его цыплячьем понимании, самому Господу Богу. В полное же оцепенение ввергал юнца титул доктора. В простоте душевной паренек полагал искусствоведение чем-нибудь еще более крутым, нежели грозный, вездесущий и не бросающийся в глаза политический надзор.
— Так-то, дружок, — счел возможным снизойти до отеческого тона эль-Шарафи. — А кстати, что это у вас там?
Поеживаясь в ожидании вполне возможных очередных осложнений, юноша поспешно передал начальству потрепанную разбухшую книжицу, которую только что безуспешно пытался листать.
Неужели не пронесет? Ведь это же просто сувенир на память о полете. Трофей с поля боя. Не может же суровый господин доктор подумать, что это было мародерством? Лейтенант ни у кого не отнял книжку. Он просто поднял ее с земли, вынул из холодеющей руки старика, впившегося в нее мертвой хваткой. Тогда еще подумалось: ни фига себе! Чего этот-то в бой полез?.. А потом — с еще большим изумлением: и на хрена ж ему вообще книжка?..
Старик был слеп.
— «Дхьотъхья об Огненном Принце», — с трудом разбирая буквы, почти исчезнувшие в бурых пятнах, прочитал вслух полковник. — Насколько я понимаю, трофей?
— Так точно.
— Ну что ж, хвалю! — снисходительно кивнул доктор искусствоведения.
Он был доволен. Не кинжал, не побрякушка, не диковинка какая-нибудь. Книга! Паренек не только меломан, но и потенциальный книголюб. Чем черт не шутит, может быть, из него и выйдет со временем толк.
— И кому же вы собирались это презентовать, а?
— Ляле… — мучительно краснея, выдавил летеха и тотчас испуганно поправил сам себя: — Виноват, маме, господин полковник!
Смущение лейтенантика было искренним и милым.
Но сам трофей выглядел жалковато. Его, собственно, нельзя было и назвать книгой. Так, скрепленный пучок расплывшихся едва ли не в кашу листков, старенький, почти антикварный (ого! еще девяносто восьмого года!), издание дархайское, с опечатками, бумага хуже некуда; да еще и побурел от крови и грязи…
Что и говорить, мечта библиофила…
— Знаете что, дружок? — совсем по-свойски вымолвил полковник. — А не купить ли вам маме просто-напросто букет цветов?
Заговорщицки подмигнул:
— И Ляле, разумеется, тоже.
— Так точно, господин полковник!
Лейтенанту было жалко трофея. Но разве кто-то спрашивал его лейтенантское мнение?
— Значит, пусть так и будет, дорогуша!
И прежде чем отшвырнуть книжицу в лапы подскочившего роботостюарда, Джанкарло эль-Шарафи, в последний раз осмотрев старье, успел удивиться, как все-таки похож в профиль изображенный на обложке полустершийся человек на покойного майора Въяргдала Нечитайло по прозвищу Ниндзя.
А потом поднес к губам недопитую чашу.
И выронил, заляпав горячим пуншем брюки.
Очень горячим пуншем очень тонкие брюки.
Но ожога не ощутил.
Потому что все чувства погасил крик.
Страшный, выматывающий, вытягивающий, назойливый, тоскливый, безумный, болезненный, истерический, нечеловеческий, жуткий, ввинчивающийся, въедающийся, исступленный, истошный, невозможный, безостановочный…
…вопль…
…пролетел по космолету.
Он был способен свести с ума любого, даже очень умного человека, каковым не без оснований считал себя полковник эль-Шарафи, или недоумка, каковым с полным правом полагал он второго помощника…
…но этого не произошло, потому что крик тут же оборвался…
…не прожив и доли секунды…
…но за эту кратчайшую долю смоль щегольски подбритых височков юного летехи навечно покрылась изморозью.
А крик, летящий со стороны коридора грузовых отсеков, истаял, истек и сгинул, и последние осколки его коснулись слуха полковника эль-Шарафи угасающим шепотом:
— Джанкарло, нам плохо… помоги нам, Джанкарло…
И оба, полковник и лейтенант, побежали туда, не успев и сообразить, зачем бегут, настолько страшна и подавляюща была зовущая сила крика и…
…непредставимая мощь шепота.
А когда железная дверь первого отсека, скрипнув, ушла вбок, вместо изваяний из мрамора и гранита, вместо терракоты и базальта глазам людей открылась пустота.
Не совсем пустота.
Пыль.
Груды, кучи, горы, навалы, сугробы, терриконы мельчайшей пыли. Просто пыли — ничего больше, обычнейшего праха земного, и в прахе этом даже наметанный глаз профессионального искусствоведа не сумел бы различить ни плавной нежности форм Венеры с Милоса, ни самоотреченной юности навеки застывшего с пращою в руках древнего пастушка-поэта, еще не знающего, что станет царем, ни летящей прелести профиля давно умершей египетской царицы, при жизни звавшейся «Нехерт-аТа-иТи» «Та, которая пришла»…
Разве камню бывает больно? Разве камень, рассыпаясь в пыль, может кричать?
Отсек за отсеком — одно и то же, Пыль.
Пыль. Пыль. Пыль. Пыль. Пыль.
И труха.
И редко-редко, осколками уходящей жизни, в пыли…
…лебединые перья.
Белые. Черные. Белые. Черные. Белые…
Тускнеющие… угасающие…
Пыльные.
Серые.
… Лишь последний отсек, тот, которому надлежало пустовать, не был пуст.
Черноволосый юноша лежал навзничь на металлическом полу, мучительно запрокинув смуглое, нечеловечески красивое лицо. Из краешков губ сочились тоненькие синие струйки… Два огромных перепончатых крыла распластались от переборки до переборки; одно из них было нелепо заломлено, а на другом, почти накрывая его, лежала, вытянувшись, старуха в небрежно повязанном платке… подбородок ее отвис, подчеркивая впалость желтоватых щек, единственный клычок жалко торчал из упавшей челюсти, и в отблесках света, струящегося из коридора, неестественно прямая нога, открытая бесстыдно задравшимся почти до бедра сарафаном, отливала твердой, с серовато-синими костяными размывами, белизной. А в самом углу, прижавшись к банке с ухмыляющимися останками дезертира, жалко скорчился пушистый комочек… гадкая, пахнущая дымом, мочой и серой лужица натекла под ним, и прямо в лужицу, не шевелясь, уткнулась остренькая рогатая мордочка с подернувшимися тусклой пленкой бусинами глаз и болезненно выброшенные ножки, заканчивающиеся раздвоенными копытцами…
…и чудилось отчего-то, что эти трое — не одиноки, что отсек забит до отказа, доверху, всплошняк, просто не под силу человеку увидеть все…
…но и увиденного хватало, чтобы понять, что…
— Они… мертвые, господин полковник? — надтреснутым стариковским голосом спросил седой как лунь лейтенант.
И не дождался ответа.
— Мертвые, — сообщил он сам себе. — И что же мы будем делать теперь?..
Ответа не было.
Полковник политического надзора, личный секретарь Его Превосходительства пожизненного Президента Демократического Гедеона господин Джанкарло эль-Шарафи смеялся.
Сперва просто хихикал, взвизгивая и подфыркивая, потом зашелся в лающих захлебах, прихлопывая себя по груди и коленкам, и наконец рухнул на пол, задрыгал ногами и покатился по коридору, привсхлипывая, и подвскрикивая, и взвывая, и вновь неудержимо хохоча, хохоча, хохоча…
Человеку было весело.
Весело, весело, весело… веселовеселовеселовеселове…
Вы понимаете?
Ве-се-ло!
А в иллюминаторе, куда уже никто не собирался смотреть, покачивался шар уходящей планеты. Но он уже не был теплым и сине-зеленым: золотистая дымка рассеялась, и из черни пространства вслед уплывающему кораблю пронзительно глядел безбровый иссиня-белый глаз мира, в который уже никто и никогда не вернется…
И ПОСЛЕДНИЙ, САМЫЙ-САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЛЕДНИЙ ОТРЫВОК ИЗ «ВСЕОБЩИХ РАССУЖДЕНИЙ)»
(Если угодно, эпилог)
… Вот так, дорогие мои. Именно гак. И никак иначе. И ничего тут уже не поделаешь.
Хоть на ушах стой, а — никак. Хотя и хотелось бы.
А все почему? Да потому, наверное, что так уж муторно устроен человек. Вроде бы вот всего достиг, все обрел, уже и в раю живет, так нет же: яблочко, скажем, вынь ему и положь. И пускай цена на яблочки сии по сезону для него, глупого, вовсе неподъемна, ан нет — желаю, понимаешь!.. да и все тут.
Бывали прецеденты…
И вот вам результат. И кажется мне подчас, что при создании сего двуногого, лишенного перьев чуда, человеком именуемого, то ли нечто не додумалось, то ли вообще под конец квартала в серию запустили. Потому как мало ему, что, едва родившись, уже первый шаг к могилке делает. Он же, кретинище, еще и ускоряет шажки. Бегом бежит. Галопом!..
Если же хоть что и остерегает его, так разве инстинкт самосохранения. Однако же плохо остерегает. Ведь как ни крути, а любое действие, дети мои, именно любое, ведет к разрушению; что-то, может, и спасешь, зато нечто иное, спасая, погубишь наверняка и, пытаясь помочь, все равно ничем никому не поможешь…
Мне бы, дурню-то старому, понять это с самого начала.
Глядишь, все бы и кончилось пораньше да небезболезненнее.
Так нет же! Жалко, видите ли. Надо так его и разэтак, шансик дать. И еще шансик. И еще один. А толку-то все поменее да поменее.
В этот раз я ведь, по правде говоря, сам себе зарок дал: оставаться в стороне, как бы ни оборачивалось.
И что же?
А ничего.
Сунулся-таки.
И что же в итоге?
А опять же — ничего. Ни-че-го-шень-ки.
Истратил кучу нервов, про время уж и не говорю.
В полное запустение привел Авиньон, любимую мою и дорогую игрушку.
Вконец измучил невесть сколько лучших сотрудников.
Вогнал в кому бедного мальчика.
А напоследок, чего никак не мог ожидать, и сам вписался в историю, примеров чему уж давненько не имелось.
Битому, выходит, неймется.
Что ж, в конце концов, негативный опыт тоже опыт. Никогда не поздно учиться; лишь бы выводы были правильны.
А мой вывод таков: каждому — свое. И человечество, отсюда исходя, получило ровно то, на что нарывалось с самого начала. Не больше того. Но и никак не меньше.
Такие вот дела.
А вы говорите: боэций, боэций, боэций…
Да кого он, пардон, интересует, тот боэций?
Есть он, нет его… какая разница?
Никакой. Понимаете? Ни-ка-кой!
Это я вам говорю не просто так. А с полной ответственностью.
Если угодно, по праву Великого Сатанга…