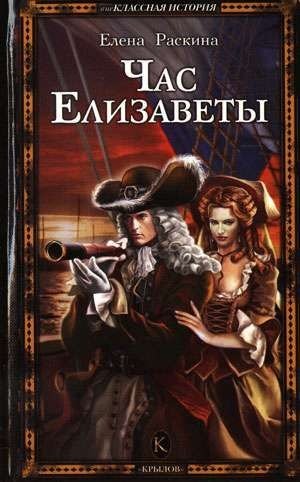
Часть I
Тайна цесаревны Елизаветы
Предыстория
– А это, Алешенька, государь наш Петр Алексеевич, – говорил десятилетнему сыну отставной капитан Яков Шубин, указывая на портрет императора Петра I, висевший в гостиной, напротив распахнутых окон, из которых струился весенний свет.
Но Алеша знал наверняка, что отец не прав. Солнечные лучи совершенно преобразили портрет и затеяли с ним собственную причудливую игру. Суровое, отталкивающее лицо императора превратилось в обворожительное женское личико – приветливо смотрели голубые, с поволокой, глаза, ласково улыбались пухлые розовые губки, отливали золотом пышные рыжие волосы…
И Алеше захотелось сказать изображенной на портрете красавице что-то важное и главное, из-за чего только и стоило жить на свете.
Но тут солнце скрылось за тучами, застучал за окнами робкий весенний дождик, лицо красавицы исказила нервная судорога, сурово глянули на Алешу налившиеся гневом глаза Петра – и мальчик понял, что перед ним оборотень, что государь Петр Алексеевич и рыжеволосая девица с нежными щечками в детских ямочках – одна и та же персона… А потом Алеша узнал, что рыжеволосая красавица, до боли и недоумения походившая на государя Петра Алексеевича, это младшая и любимая дочь императора – цесаревна Елизавета.
Глава первая
Встреча с царевной
В детстве Алеше Шубину казалось, что император Петр постоянно находится у него за спиной. Он никак не мог избавиться от вечного ощущения присутствия покойного государя. Отец то и дело рассказывал сыну о походах, о сражениях под Нарвой, Лесной и Полтавой.
Но как бы Яков Петрович Шубин ни восхвалял смелость и душевную прямоту Петра Алексеевича, мальчику было достаточно взглянуть на портрет, чтобы понять: лжет отец, утаивает правду, потому что до сих пор боится умершего царя.
Весь дом был пропитан этим страхом, смешанным с невероятной, собачьей преданностью, – для Якова Шубина император был исполином, полубогом, с которым никто из смертных не мог тягаться, потому и сына отставной капитан воспитал по-солдатски, в петровской манере. Подростки из соседних усадеб, как и полагалось малолетним дворянам, жили легко и свободно: спали до обеда, объедались до отвала и не утруждали себя немецкой и французской грамматикой, которую сын Якова Шубина твердил день и ночь. А еще была военная наука и бесконечные слащавые легенды о славных делах покойного Петра.
Сестре Алексея, девятилетней Насте, жилось значительно легче. Во-первых, не женское это дело – войны выигрывать да государство укреплять, а во-вторых – Яков Петрович не знал, кого из первых дам эпохи сделать для дочери образцом и идеалом. Ко второй жене императора, бывшей чухонской мещаночке, воспитаннице лютеранского пастора Глюка, он относился с опаской – Екатерина Алексеевна, слывшая в Петербурге дамой живой, горячей, но незлой и отходчивой, неожиданно жестоко проявила себя в деле несчастного царевича Алексея, и Яков Петрович разочаровался в ней. А первая жена императора – Евдокия Лопухина – доживала свой несчастный бабий век в заточении, так что ставить ее в пример дочери – значило гневить императорскую фамилию.
Настя считала брата фантазером и его рассказу о красавице, чье личико проглянуло сквозь черты покойного императора, не поверила ни на секунду. Зато мсье Дюваль – актер-француз, которого Яков Петрович сделал воспитателем своих детей, в Алешины рассказы верил охотно. Этот потрепанный жизнью сорокалетний господин отличался романтическим складом ума, прытким воображением и считал, что его воспитанник просто не может лгать.
Яков Шубин сражался под Нарвой, Лесной и Полтавой, в последнем сражении ему оторвало палец, и сам Петр хирургическими клещами отхватил Шубину-старшему висевший на тоненькой ниточке плоти уже бесполезный перст. Это ранение принесло Якову Петровичу отставку и капитанский чин – иначе пришлось бы тянуть армейскую лямку до старости. Перед тем как навсегда осесть в родном сельце, Яков Петрович заехал в Москву, к безмужней и бездетной сестре Ирине, и вывез из бывшей столицы актера-француза, некогда игравшего в домашнем театре царевны Софьи, а теперь вконец обнищавшего и потому весьма довольного таким поворотом событий.
На покое Яков Петрович женился на соседке-вдове, муж которой погиб в сражении под Лесной. Жена долго не прожила и оставила его с двумя детьми на руках, а спасенный от нищеты актер-француз пришелся кстати – Яков Петрович произвел его в учителя. Мсье Дюваль заучивал с детьми отрывки из «Тартюфа» и «Лекаря поневоле» и даже устроил домашний театр, в котором из всех актеров только и были что дети отставного капитана Шубина.
Алеша знал, что ему не избежать военной карьеры. Отец готовил сына в гвардию и приписал к Семеновскому полку сержантом. В семнадцать лет Алексея отправили в Петербург – в полк, стяжать военные лавры. Сестра Настенька, превратившаяся из тихой, не по годам рассудительной девочки в стройную кареглазую барышню, плакала, расставаясь с братом. Отец же был доволен и твердил, что Алексей засиделся в усадьбе и ему давно уже пора проявить себя в мужском деле. В прощальном слове Яков Шубин еще раз помянул императора, не забыл и князя Меншикова, незаслуженно лишенного чинов и сосланного в сибирский городишко Березов.
Алексей должен был честно служить Отечеству, не распускаться, сторониться распутных юнцов из богатых фамилий, а главное, хранить верность императорской семье.
Главным лицом в этой семье, по мнению Якова Петровича, был вовсе не юный император Петр II, сын казненного Петром I царевича Алексея, а цесаревна Елисавет Петровна.
Навсегда Алеша запомнил свой первый день в Петербурге. После привычных сельских пейзажей – линии леса на горизонте, полей, где небо казалось столь близким, что, казалось, до него можно дотянуться рукой, деревянных часовен и небольших, каких-то удивительно домашних церквей – на Алешу дохнуло холодом и высокомерием новоиспеченной столицы, как будто вечно подернутой серой пленкой тумана. Все здесь казалось блеклым и бесцветным, постоянно не хватало буйства и разнообразия красок, окружавшего его с детства.
В родовой вотчине Шубиных, расположенной в окрестностях Александровской слободы, было много света и воздуха, а здесь мучительно недоставало и того и другого. Лишь через несколько месяцев Шубин смог привыкнуть к Петербургу, к его тонувшим в туманной дымке дворцам, их строгим линиям, но тут юный император Петр II решил оставить постылую невскую столицу и переехал с двором в Москву. В Белокаменной Алеша и увидел впервые младшую дочь Петра I, цесаревну Елизавету…
В тот день он стоял на часах в Лефортовском дворце, маясь бездельем, а она проплывала мимо – белая лебедь, слегка полная, обворожительная в своей полноте красавица. Легкая, сладкая улыбка, плавные движения – никогда Алексей не встречал женщину, которая показалась бы ему совершенной, до такой степени уверенной в своей правоте и победе. Была ранняя осень, Москва тонула в рыжевато-золотистом сиянии, напоминавшем волосы цесаревны, и Алексей чувствовал, что сияние завладевает его душой и будет отныне определять все его слова и поступки.
– Что смотришь, солдатик? – спросила цесаревна, и Алексей смутился, будто и вправду мог ее оскорбить своим восхищенным взглядом.
Елизавета Петровна поплыла дальше – легкой, скользящей походкой, словно под ее ногами был лед, а не дворцовый паркет. Ответа она не дожидалась, да и что мог ответить на это простой сержант Семеновского полка?
Потом Шубин не видел цесаревну несколько месяцев, но многое слышал о ней. Рассказывали, будто младшая дочь Петра влюбчива и кокетлива, скользит от романа к роману, нигде, впрочем, надолго не задерживаясь. С каждым днем, проведенным вдали от цесаревны, Алеша все больше и больше влюблялся в нее – ту женщину, черты лица которой он разглядел на портрете еще в далеком детстве. Но даже находясь во власти крепнувшей любви, иногда он вздрагивал от ужаса – а вдруг, как тогда, на портрете, обольстительная, сладкая и доверчиво-юная улыбка на манящих устах Елизаветы обернется нервной гримасой покойного Петра?!
Впрочем, сходство Елизаветы с отцом замечал не один Шубин. Цесаревна до боли походила на молодого царя Петра Алексеевича в маскарадном женском костюме. Те же чувственные, лукавые губы, высокий рост, иногда – та же болезненная нервная судорога и беспричинный, безумный гнев. А когда на маскараде Елизавета надевала мужское платье, немногие оставшиеся в живых свидетели «начала дней петровых» вздрагивали от невольного страха – им казалось, что сам Петр Алексеевич явился осушить стопку на придворном празднике, а заодно – на скорую руку – покарать ленивых и нерадивых. Это он и при жизни умел делать быстро и весьма успешно.
Алеше же страсть казалась почти преступлением, как будто любил он не первую из российских красавиц, а призрак императора, принявший обольстительный женский облик.
И так же, как Шубин, обожала и втайне страшилась цесаревну вся гвардия…
Глава вторая
В Александровской слободе
Их следующая встреча состоялась в Рождественской церкви Александровской слободы. В то время Елизавета жила в бывшей резиденции царя Алексея Михайловича. В окрестностях церкви и располагалось имение отставного капитана Якова Шубина. Рождественскую церковь Елизавета отличала, как и старинный Успенский девичий монастырь, где частенько певала на клиросе и истово молилась. На холме, напротив церкви, стояли просторные деревянные палаты с каменным низом. Там и жила цесаревна. У подножия холма текла ленивая речка Серая, и все вокруг дышало покоем и тишиной.
Осенью 1729 года сержант Семеновского полка Алексей Шубин дал взятку полковому секретарю и, получив таким образом долгожданный отпуск, уехал в Александров вслед за цесаревной. В отцовское село заехал ненадолго, наскоро повидался с отцом и сестрой и стал ходить по пятам за Елизаветой. И к заутрене, и к вечерне приходил в Рождественскую церковь, смотрел, как Елизавета молится и низким грудным голосом подпевает певчим. Следил за ней, как шпион, но цесаревна, казалось, не замечала его присутствия. Отпуск подходил к концу, и в одно ленивое и сладкое, как улыбка цесаревны, октябрьское утро свершилось чудо.
Елизавета теплила свечу перед образом Николая Чудотворца, и Алеша навсегда запомнил набивной бабий платок на ее непудреных рыжих волосах, шуршащее темное платье и грудной жалобный шепот. Молилась она всегда жалобно, как будто хотела вымолить что-то недоступное и запретное, то, что пока не ей было отпущено и не ее ожидало.
Елизавета смерила красавца-сержанта кокетливо-оценивающим взглядом, потом улыбнулась и вышла из церкви, сделав Алеше знак следовать за ней. В это мгновение Шубину почудилось, что мягкая, обволакивающая красота царевны покрыла его, как Богородицыным покровом, и за невыразимо сладкое счастье минутной сопричастности придется платить долгим страданием.
– Что, приглянулась? – спросила у Алеши цесаревна, едва они вышли за церковную ограду. Шубин смешался и покраснел, что Елизавета оценила – немногие гвардейцы были способны краснеть, как дети.
– Вижу, который день за мной ходишь, – лукаво улыбаясь, продолжила она, ввергая Алексея в еще больший трепет. – Сначала думала – шпион, да не похож ты на шпиона. Глаза слишком ясные, взгляд влюбленный. Вскружила я тебе голову, солдатик? Как зовут тебя?
– Алексей Шубин, сержант Семеновского полка, ваше императорское высочество, – вздрогнув, отрекомендовался Алеша, которого наконец-то покинуло мгновенное счастливое оцепенение.
– Так ты знаешь, кто я такая? – спросила цесаревна, хотя в Александрове ее персона ни для кого не составляла тайны. – Может, потому в церкви глаза на меня пялил?
– Нет, не потому! – обиделся Шубин. – Видит Бог, не потому…
– Так почему? Хороша показалась? – в устах цесаревны этот вопрос прозвучал как утверждение. Она и не думала сомневаться в своей дарованной красотой власти.
– Как царевна Елисафия, которую Егорий Храбрый от змея спас, – спокойно и торжественно ответил Алеша и тут же испугался своей откровенности и прямоты.
– А ты что ж, Егорий? – рассмеялась цесаревна, и ее грудной, низкий смех показался Шубину таким же мягким и обволакивающим, как и ее красота.
– Нет, ваше императорское высочество, простой сержант, в баталиях не был, чинами и кавалериями не отмечен. – Алеша как будто хотел оправдаться перед царевной, и сам не знал в чем.
– Странный ты, сержант. Про Егория говоришь, как будто меня от змея спасать надобно. Живу я нынче вольготно, открытым домом, да и император наш Петр Алексеевич ко мне благоволит.
– Что же вы, ваше императорское высочество, так шпионов боитесь? – спросил Алеша, ощутивший в спокойных и уверенных словах цесаревны оттенок беспомощной лжи.
– Шпионов всем бояться надобно, – ответила Елизавета, сразу ставшая серьезной. – Они самое невинное слово так истолкуют, что потом не отмоешься. А недруги при дворе и у меня есть – чего доброго, перед императором оговорят. Только не тебе, сержант, о моей судьбе печалиться. Другие радетели найдутся.
Последние слова цесаревны прозвучали как отповедь, и Алеша хотел было попрощаться и уйти, но Елизавета остановила его. Кто знает, что решила она в этот момент. Может, и вправду глянулся ей искренний сержант-семеновец? А может, лишь захотелось развлечься в очередной раз с молоденьким мальчиком?
– Коли ты и вправду мне предан, я о том не забуду, – тихо, быстро сказала она и протянула Алексею пухленькую, унизанную перстнями ручку. Тот торопливо прижался к ней губами, но поцелуй получился недолгим. Елизавета резко выдернула руку и ушла, оставив Шубина в одиночестве и тоске. Теперь он мог надеяться лишь на то, что девичья память цесаревны не окажется слишком короткой…
Глава третья
Российская Венера
Случайная встреча в Рождественской церкви смутила цесаревну. Елизавета примирилась со своим переменчивым нравом и полнейшей неспособностью устремить на кого-то долгий и пристальный взгляд. Она влюблялась легко, словно играючи, а потом, отгорев и отпылав, обнаруживала, что от былых чувств осталась только зола. Так было со всеми ее прежними любовниками: Бутурлиным, Лялиным, Сиверсом – должно быть, потому, что они тоже не любили всерьез, а лишь отдавали должное российской Венере, которая так легко и азартно кружила им головы. Так отдают должное хорошему игроку его соседи за карточным столом, невзирая на собственный проигрыш или выигрыш. И Елизавета смирилась с тем, что в любви она лишь игрок – искусный, удачливый и невозмутимый. Так было всегда, но гвардейский сержант, встреченный в Рождественской церкви, не на шутку встревожил цесаревну.
Он был из другой породы, которую Елизавета тут же про себя назвала ангельской – краснеющий по пустякам благородный и восторженный мальчик, все воспринимавший слишком всерьез. Его любовь была несомненной, а преданность – безусловной. Цесаревна давно уже не встречала ни того, ни другого в обезумевшем холодном мире, где ей порой было зябко и страшно. Прижимаясь ночами к случайным любовникам, цесаревна искала тепла, способного отогреть ее с детства озябшую душу, но находила приправленное чувственностью безразличие. И она скользила – от романа к роману, от сердца к сердцу, словно атласными туфельками по натертому до блеска дворцовому паркету, искала искренности, а находила лишь страсть. И страсть эта мгновенно вспыхивала, а потом жалобно, беззвучно догорала.
Вернувшись к себе в Александровскую слободу, Елизавета не смогла забыть встреченного в церкви гвардейского сержанта. Продумав о нем весь вечер, она рассердилась на себя, позвала камер-фрау Мавру Шепелеву, некрасивую и сварливую девицу, умевшую развлекать цесаревну придворными сплетнями, и велела ей разложить карты.
– На кого гадать будем, матушка-цесаревна? – спросила Мавра, которая сразу поняла, что Елизавета в томлении и беспокойстве и, стало быть, нужно успокоить ее неуемное сердце разговорами о новом друге.
– Алешей его зовут, – тихо, нежно ответила Елизавета, и на лице ее появилась сладкая, победоносная улыбка. Так цесаревна улыбалась только тогда, когда новое чувство переполняло ее смутным ожиданием: неужели она дождется теплоты любви, а не обманчивого холода страсти? – Глаза у него серые-серые, как туман утренний, волосы русые, красивый, статный, высокий, но не такой он, как гвардейцы наши или шаркуны придворные. Порода другая – благородная, ангельская. Такой на смерть за тебя пойдет, не побоится. Для него за любовь пострадать – все равно что вина испить.
– Да откуда ж вы, Елисавет Петровна, это знаете? – недоверчиво переспросила Мавра. Ее развеселили похвалы в адрес неизвестного ей сержанта, с которым цесаревна говорила не больше получаса. Госпожа ее была непоправимой фантазеркой и ветреницей, и Мавра Егоровна безуспешно пыталась внушить ей хоть каплю благоразумия. – Нынче народ пошел больно хлипкий, петиметров придворных, вроде Монса покойного, развелось немерено. И стихи они дамам слагают, и в любви клянутся, а как сволокут такого на дыбу, так в один раз и любовь прошла. Повисит денек-другой, да и отречется сразу, и моргнуть не успеете. Поосторожней надо быть, матушка-цесаревна. Да и шпионов кругом хоть пруд пруди. Влюбчивы вы больно…
– Есть грех, – без тени смущения призналась Елизавета, – но про знакомца моего нового я всю правду говорю. Разгадывать его недолго, достаточно в глаза посмотреть. Не утаивает он ничего, весь передо мной раскрыт, как книга. Возьму да и пролистаю…
– А потом захлопнете да уберете с глаз долой? – договорила за цесаревну Мавра. – Уж на что Сашенька Бутурлин красавец, а вы ему отставку готовите… Не удержаться подле вас ангелу этому гвардейскому!
– Ты, Мавра, не мудри больно, – рассердилась цесаревна, – велела тебе карты раскладывать, ты и раскладывай… Не твое это дело – советы давать.
Но и с помощью карт нетерпеливая Елизавета так и не получила никаких рецептов относительно своего ближайшего будущего. Карты упорно твердили про дальнюю дорогу и перемену судьбы.
Цесаревна же ни о какой дороге не помышляла. Ехать ей сейчас было некуда, да и незачем, поэтому выставила она Шепелеву вон, отказавшись от гаданий. Весь вечер Елизавета не находила себе места, вполголоса беседовала с образом Богородицы и спрашивала, как ей быть. К ночи же, махнув рукой на все, вернула Мавру обратно и велела ей завтра же звать в гости гвардейского сержанта.
Шепелева мрачно пожала плечами, но перечить не стала. Подумаешь, еще один сержантик. Не он первый, не он последний. Елизавета бороться с собой не умела, а в амурных делах и тем паче.
Так Алеше Шубину выпала чаемая с детства встреча…
Глава четвертая
Нелицемерный друг
Чего только не передумал Алеша по дороге в Александровскую слободу! Удивлялся, как красавица, не испытывавшая недостатка в поклонниках, могла обратить внимание на простого сержанта, хоть и гвардейского. Изводил себя жестокими думами – будто заветное свидание обернется какой-нибудь оскорбительной каверзой, а цесаревна посмеется над его дерзостью, взяв для веселья в компанию кого-нибудь из друзей – того же Бутурлина, скажем. Набрасывал сцену их будущей встречи и каждый раз не находил нужных слов и жестов.
Долго он кружил возле дома цесаревны, не решаясь войти, да, наверное, так бы и не вошел, если бы не окликнула его хмурая и неприветливая девица, назвавшаяся фрейлиной и подругой царевны, и не пригласила войти. На пороге Мавра окинула Алексея оценивающим взглядом, как будто выбирала дорогой и необыкновенно важный для хозяйки товар и испытывала явные сомнения по поводу его качества. Качеств она не нашла, и смутившийся Алексей собрался уже повернуть обратно, но тут к нему вышла сама цесаревна и улыбнулась так нежно и сладко, что Шубин не смог отказаться от полных белых рук, которые незамедлительно легли ему на плечи.
Он вошел вслед за цесаревной в полутемную тесную комнату, где каждая вещь, казалось, источала томительно-сладкий аромат, и жадно приник к губам Елизаветы, как будто она была единственным источником, который мог утолить его жажду. Но полынная горечь съедала Шубина изнутри, и жажда не отступала.
Да и разве могла в одно мгновение растаять та неодолимая, странная тоска, которая мучила Алексея с детства, с той самой минуты, когда ему пригрезилась красавица, оказавшаяся младшей и любимой дочерью грозного императора? И разве могла утолить эту многолетнюю тоску одна проведенная с цесаревной ночь или другие ночи, как две капли воды похожие на первую, ее сладкое тело, ставшее томительно близким, или оставшаяся чужой душа?
В ту первую ночь Алеша чуть было не потерял сознание. Закружилась голова от летнего дурмана, который исходил от волос цесаревны, от ее белых полных рук и сладких розовых губ. Комната заплясала перед глазами, вещи потеряли четкость и строгость очертаний. Исполнялась давняя, смутная мечта, которая мучила Шубина годами. Красавица-цесаревна была рядом, и губы ее охотно утоляли терзавшую Алексея жажду, но этот миг наслаждения и победы оказался для него немыслимо тяжелым, а прошлое ожидание предстало легким и зыбким, как туман над петербургскими дворцами. Алексей на мгновение пошатнулся, и Елизавета еле удержала на ногах своего незадачливого любовника.
– Что с тобой, ангел мой? – спросила она заботливо и нежно, хотя Алексей ожидал, что цесаревна рассмеется ему в лицо. – Дурно тебе, милый? Или я одурманила?
– Все прошло, Лиза, – успокоил ее чудом удержавшийся на ногах Алексей. – Ждал я тебя долго, и от радости встречи нашей голова кругом пошла.
– Долго? – удивилась Елизавета. – Я в церкви тебя впервые увидала, и ты меня раньше видеть не мог.
– Вспомни, Лизанька, – полушепотом, как будто опасаясь, что его услышат, сказал Алеша, – я на часах стоял, ты мимо проходила, спросила еще: «Что смотришь, солдатик, или приглянулась?» По щеке потрепала и дальше пошла.
– А потом? – Цесаревна все еще поддерживала Шубина, хотя минута полуобморока прошла и он уже не нуждался в ее заботе. – Что потом было, ангел?
– Ничего не было, Лиза, – вздохнул Алексей, – прошла ты мимо и обо мне позабыла. Да только не в этом дело. С детства я тебя знаю. И много лет люблю.
– С детства? – недоверчиво рассмеялась Елизавета, которая подумала было, что мальчик мешается в уме. – Мы с сестрой в Коломенском выросли, и тебя я не помню.
– И не можешь помнить, – попытался объяснить Алексей, – не было меня там. В Шубине, сельце нашем, я вырос. А тебя на портрете видел.
– На каком еще портрете? – Этот затянувшийся разговор, неуместный на любовном свидании, да еще в столь решительную минуту, стал не на шутку раздражать цесаревну. Прежние ее любовники говорили не в пример меньше и действовали быстрее.
– Портрет у нас в гостиной висел, – продолжал говорить Алеша, будучи не в силах прервать свое неуместное признание. – Батюшки твоего, государя Петра Алексеевича, а ты на него так похожа… Как будто ты и отец – одно.
Елизавета охнула и отпрянула от Алексея, и он понял, что сказал недозволенное, заглянул в такие глубины, от одного только прикосновения к которым могло в минуту разрушиться его хрупкое и нечаянное счастье. О чем угодно он мог рассказать Елизавете, поведать любые тайны, распахнуть перед цесаревной собственную душу, чтобы она рассеянно пролистала ее на досуге, но только что сказанного никогда и ни при каких обстоятельствах не следовало говорить. В одно мгновение взгляд цесаревны потерял спасительную медовую сладость, стал жестким, как у отца, но с оттенком неведомой покойному императору горечи, а руки, только что лежавшие у него на плечах, стали бесконечно далекими, как и сама шагнувшая в сторону Елизавета.
– Догадался? – Елизавета присела на край постели и, не глядя на Шубина, куда-то в сторону, произнесла давно томившие ее слова. – Как ты мог догадаться? Никто ведь не смог из галантов моих прежних. Только сестра Аннушка всегда так говорила, и мать… Знаю – отец покойный мне свою волю диктует. Мне его трон наследовать и дело его продолжать. Нет у него иных наследников и не было. Государь наш, Петр Алексеевич, ребенок, и не ему дедов груз нести. Я одна для этой ноши на свете осталась.
– Да разве ты ее подымешь, Лиза? – Алексей присел рядом, как мог нежно провел кончиками пальцев по белым, полным плечам Елизаветы, не созданным для такого груза.
– Подыму, – с удивительной, не свойственной легкомысленной красавице твердостью ответила она, и Шубин представил, как цесаревна павой проплывает перед гвардейскими полками, спрашивая у пожилого солдата, ходившего в походы с ее отцом: «Помнишь, чья я дочь?!»
Когда лицо цесаревны исказит отцовская нервная судорога, а вместо флейт любви в медовом голосе Елизаветы загремят трубы власти, любой ответит «Помню» и поспешит подчиниться.
– Я с тобой всегда рядом буду, – голос Шубина зазвучал торжественно, как будто он приносил Елисавет Петровне присягу. – И ношу твою разделю, какой бы тяжелой ни оказалась. Душу мою в дар примешь?
– Ты, сержант, такими словами не шути… – Елизавета пристально взглянула в серые, спокойные и строгие, как воды подмосковных озер, глаза Алексея. – Душа не безделушка, не записка любовная, чтобы ее в дар предлагать. Хочешь целовать – целуй, а большего не проси. Незачем.
– Да почему же незачем? – Бесконечное удивление и сожаление, прозвучавшие в голосе Алексея, согрели душу Елизаветы теплом, которого она давно и напрасно желала. – Мне твоего тела мало, весь я твой, как на ладони, и ты моей должна быть… Чувствую, холодно тебе на свете было, но я обогреть сумею.
– Сумеешь? – переспросила Елизавета и подвинулась к Алексею, как будто хотела ощутить жар, исходивший не только от его тела, но и от распахнутой перед ней души. – Попробуй, ангел, а там видно будет… Если сможешь отогреть, так и быть, дарами обменяемся.
И она резко, стремительно прижалась к груди Алексея, словно боялась потерять даже малую часть отпущенного ей тепла. А он крепко обнял оробевшую вдруг красавицу и на мгновение почувствовал себя не случайным любовником и даже не уверенным в своих правах фаворитом, а другом нелицемерным, который один только и сможет пройти вместе с цесаревной по скользким земным дорогам. С той ночи они почти не расставались…
Цесаревна выхлопотала Шубину бессрочный отпуск, и он стал ее ординарцем. И вот наступило лето, а легкомысленная, переменчивая цесаревна по-прежнему души не чаяла в своем друге. Так, для баловства дразнила красной девицей, но ценила и уважала больше всех.
Но и после нескольких проведенных бок о бок месяцев Шубину по-прежнему казалось, что Елизавета бесконечно далека от него.
Виды Елизаветы на престол Алешу интересовали мало – он готов был ради нее умереть, но не с ней царствовать. Когда Лиза рассказывала ему о красавце Вилиме Ивановиче Монсе, казненном Петром, или о мучениях и смерти несчастного царевича Алексея, Шубина, слыхавшего и не такое, пробирала дрожь. И не потому, что мрачные подробности петровских злодейств были ему неведомы, а потому, что Лиза рассказывала о них просто и безыскусно, иногда с детской наивностью, иногда с державным равнодушием, но всегда – без трепета или негодования, лишь с невольным отвращением женщины мягкой и сентиментальной. Однако труднее всего было слушать ее признания в собственном распутстве.
– Я ведь, Алеша, в делах любовных меры не знаю… – сказала цесаревна томительным летним вечером, поправляя перед зеркалом замысловатую прическу. – С детства видала такое, что меру и стыд потеряла. Краснеть вот не умею, как ты. Грех не пускает. До тебя многих любила и после буду. Изменю я тебе. А ты простишь?
– Прощу, – ответил Алеша, который знал наверняка, что на этот вечер в Александровскую слободу приглашены гости и среди них Александр Бутурлин. – Когда любишь, судить не смеешь. Да и чем я тебя лучше?
– Ты? – захохотала Елизавета, выронив коробку с мушками и так и не украсив пухлую щечку игривым черным пятнышком. – Ты – красная девица? Ты-то чем грешен? Тем, что около греха ходишь? Или на фрейлин моих заглядываешься? А может, и не только заглядываешься? Признайся, Алеша, не стыдись. То-то Настенька Нарышкина тебя нахваливает… Уж не знаю, чем ей угодил. – Смех Елизаветы ударил в грудь Алексея, как в колокол, и отзвук получился тяжелый, скорбный.
– Я с госпожой Нарышкиной и двух слов не сказал. А грешен я, как и каждый человек, по природе своей…
– Нет, Алеша, – не согласилась цесаревна и запустила пухлый пальчик в румяна. – Ты у меня другим не чета. И не перечь мне, когда дело говорю. К гостям моим выйдешь, ангел?
– Не выйду, Лиза, незачем, – тихо, но твердо ответил Алеша. – Ты уж их сама принимай, если жить без гостей не можешь. А я в своем селе переночую.
– От гостей схорониться хочешь? – догадалась Елизавета. – Твоя воля. Только вернись, когда я одна останусь. Я тоску свою больше ни с кем делить не хочу.
– А веселье? – словно испытывая Елизавету, Алеша протянул ей закатившуюся в угол коробочку с мушками.
Та мгновение помедлила, а потом все-таки приклеила в уголок рта кокетливое пятнышко.
– А на веселье охотники найдутся… – рассмеялась цесаревна. И добавила задумчиво: – Много званых, да мало избранных. Один ты и есть.
Она, как к иконе, приложилась к губам Алеши и вышла в парадную залу, где к ее руке склонился только что приехавший расфранченный красавец – Александр Бутурлин. А к Шубину подошла было призывно улыбающаяся Настенька Нарышкина, но тот, не боясь показаться невежей и грубияном, отстранил хорошенькую кокетку и пешком ушел в отцовское село.
И долго еще растерявшаяся красавица-фрейлина стояла на крыльце и смотрела ему вслед, пока Елизавета танцевала с Бутурлиным менуэт. Из зала доносились сладкие, медовые, манящие звуки новомодного версальского танца, шуршали дамские платья, звенели бокалы – гости мешали водку с венгерским, потом пели малороссийские певчие из придворной капеллы Елизаветы, а цесаревна, осушив стопочку-другую, не в такт подпевала им…
Лето прошло, как и следовало ожидать. Цесаревна принимала гостей, потом каялась Алеше в грехах, выставляла вон шумную и пьяную компанию и проводила ночи с «ангелом» – ординарцем. В одну из таких душных летних ночей Шубин проснулся от собственного крика – мучительно, изматывающе, приторно ныло сердце. Ему снова приснился тот давний сон, от которого вот уже много лет Алексей вскакивал, как по тревоге, и торопливо крестился. Он видел себя десятилетним, в отцовском поместье, перед портретом покойного императора, и на его глазах жестокое лицо государя превращалось в очаровательное, пухленькое личико лежавшей рядом женщины…
– Алешенька, что с тобой, милый? – прошептала проснувшаяся Елизавета. Цесаревна приподнялась на постели, обняла Алешу за плечи, прижалась к шее возлюбленного горячей, пухлой, как у ребенка, щекой, но Шубину показалось, что сейчас она быстрым и ловким движением пригнет его голову к плахе.
– Ничего, Лиза, – ответил Шубин, – спи, родная, привиделось что-то… – Алеша снова лег рядом с Елизаветой, и цесаревна жадно, настойчиво прильнула к любимому, как будто пыталась перелить в себя сладкое, спасительное тепло его тела.
Она больше ни о чем не расспрашивала. Да и как Алеша мог рассказать о своем сне той, которую только что видел в чуждом и страшном облике?! Мог он лишь таить этот сон в себе, как прячут постыдную тайну, но чувствовал, что тайна, подобно яду, разъедает его душу. С каждым днем ему было все труднее нести добровольно принятую ношу.
Алексей тихо отстранил спящую Елизавету и подошел к окну. Осторожно отодвинул тяжелую, алого бархата, портьеру, глянул на двор.
На дворе светало, но вместо солнца было одно серое, туманное, дождливое марево, и в этом мареве извечный ночной кошмар казался Алексею реальностью. Шубин знал, что днем ядовитое марево отступит от одной только улыбки Елизаветы, от ее полноводного, как река, голоса и грудного, счастливого смеха. Но пока не пришло блаженное дневное забытье, нужно было успеть сделать главное.
Он вышел в соседнюю комнату, где Елизавета частенько вполголоса разговаривала со своими любимыми иконами, и где тихим, ровным малиновым огоньком теплилась лампадка перед образом Богородицы Семистрельной, и стал молиться – не о своем спасении от страдания, а о счастье возлюбленной. «Пресвятая Владычица Богородица, все, что у меня есть, забери… – шептал Алеша. – Немного имею, но все отдам. Силы, молодость, жизнь… Только ее спаси, не казни за грехи отцовы. Не на ней ведь грех, на нем. Мне страдание дай, приму, не испугаюсь. Для того, видно, мы и встретились, чтобы я за нее муки принял».
И когда Богородица ласково, по-матерински, улыбнулась ему с иконы, Алеша понял, что все сбудется по молитве его.
Он всегда знал, что пострадает за Елизавету, и оттого сильнее и отчаяннее любил, готов был принять страдание как должное завершение страсти, как то, без чего эта страсть не могла бы состояться. Но порой, когда Елизавета жадно и быстро прижималась губами к его шее, Алексею казалось, что он – стрелец времен бунта царевны Софьи. И вот кладет он голову на плаху, но с топором к нему подходит не царь Петр Алексеевич и не князь Меншиков, а Елисавет Петровна, и перед тем, как одним ударом мастерски снести голову, ласково гладит по волосам…
Глава пятая
Тайна портрета
Через несколько дней Алеша заехал в Шубино – повидать сестру и отца. В гостиной задержался – долго, молча стоял перед портретом. Жаркий летний вечер вплывал в комнату, дыша травами и сумраком леса, подступавшего к усадьбе вплотную, и лишь изображенный на портрете грозный император недовольно хмурился. Видно, летние запахи и звуки тревожили его покой. Сколько раз Настя просила отца убрать портрет из гостиной, вынести его вон из дома, но Яков Петрович был тверд – это казалось ему изменой покойному императору.
– Словно приворожил тебя этот портрет, Алеша… Как приехал домой – все сидишь, смотришь. Свеча, вон, догорела почти… – сказала Настя и присела рядом с братом на узкий, жесткий диванчик, обняла его за плечи – как в детстве провела ладонью над свечой, стоявшей рядом, на конторке, и, по-девчоночьи испуганно ойкнула, когда еле теплившийся огонек задел ее пальцы.
Этот трогательный девичий жест вывел Алешу из оцепенения, он рассмеялся, а Настенька облегченно вздохнула. Сероглазая, темноволосая Настя цесаревну Елизавету держала в кумирах и частенько подражала ее манерам и походке. Это невинное занятие смешило и раздражало Алексея, ему казалось, что так вода пытается подражать огню, тщетно пытаясь сменить свое неторопливое, блаженное течение на его страстный, горячий порыв. Но напрасно он одергивал сестру – она лишь просилась к цесаревне во фрейлины и сердилась, что брат отказывается замолвить за нее словечко.
И вот теперь Настенька трогательно и неловко подносила ладонь к огню свечи и испуганно отдергивала руку от крошечного пламени.
«Что же ты Лизу-то не боишься, Настенька, милая? – думал Алеша. – Она ведь не свеча, а костер – в ней сгореть можно…»
Но сестра решительно отказывалась его понимать.
– Неужели не видишь? – спросил Алеша, указывая на портрет. – Как император покойный на Лизу похож…
– Известно, похож, – рассмеялась Настя. – Отец он ей…
– Нет, он не так похож, – не унимался Шубин. – Не как отец на дочь, а как один человек в двух ликах. Одно слово – оборотень. Как грех, как туча, висит над ней, бедной. А она живет и не знает, под какой грозой ходит. А, может, и знает, но замечать не хочет. Плачет иногда, говорит: «В Успенский монастырь уйду, где инокиня Маргарита Богу душу отдала…»
– Инокиня Маргарита? – переспросила Настенька. – Марфа Алексеевна, сестра правительницы Софьи?
– Она самая, – подтвердил Алексей. – Император покойный ее собственноручно допрашивал. А потом постриг в монахини.
– Не уйдет она в монастырь, твоя Лиза, – чуткая, деликатная Настя попыталась закончить этот разговор и успокоить брата. – На престол взойдет, а ты с ней рядом будешь. Не на ней грех, на Петре Алексеевиче. За чужую вину Бог не взыщет.
Алеша отошел к окну и оттуда бросил в темное пространство комнаты давно выстраданные слова:
– А если вина не чужая? Если душа у Лизы – наполовину отцовская? Если его слова – на ее устах, его воля – в ее сердце, если спасения нет?
– Бог с тобой, Алеша. Любую вину отмолить можно. И эту тоже.
Шубин быстро, порывисто обнял сестру и не приказал – попросил:
– Не просись ты к ней во фрейлины, Настя. Сгоришь и не заметишь…
И услыхал в ответ уверенные, чуть насмешливые слова:
– А я – вода, братик. И любое пламя погасить сумею…
Настя Шубина добилась своего: брат отвез ее в Александров и представил цесаревне. Перед встречей с Елизаветой Настя волновалась, как ребенок, то и дело поправляла складки пышного, недавно сшитого платья, одергивала рукава, а потом, уже в покоях цесаревны, как к спасительному источнику, бросилась к зеркалу, словно хотела еще раз убедиться в том, что может показаться на глаза первой из российских красавиц.
– Настя, прекрати, слышишь! – раздраженно бросил Алеша.
Он оттащил Настеньку от зеркала, и тут в гостиную влетела хохочущая Елизавета. За цесаревной шел Бутурлин, утиравший платком испачканную румянами щеку. Шубин шагнул было к Бутурлину, чтобы выставить наглеца вон, но цесаревна стерла с губ улыбку и резко, холодно приказала:
– Поди вон, Александр Борисыч. Нагостился, хватит.
Бутурлин вышел безропотно, а цесаревна, в одно мгновение ставшая серьезной, ласково взглянула на Настю, как ни в чем не бывало обняла Алешу и сказала нежно:
– Сестру привел, ангел?
Настенька хотела склониться перед цесаревной в поклоне, но Елизавета звонко расцеловала ее в обе щеки, хлопнула в ладоши и приказала принести венгерского. А потом с улыбкой наблюдала, как Алеша отнимает у сестры наполненный до краев бокал…
Сначала все шло как по нотам – Настя каталась с Алешей и цесаревной на лодке, носилась верхом по окрестностям Александрова, а вечерами Елизавета учила свою любимую фрейлину танцевать менуэт. Но уже через месяц после появления Насти в Александрове цесаревна не выдержала ее молчаливого надзора и взгляда серых, как у брата, глаз.
– Что мне с вами делать? – сказала Елизавета в сердцах, когда жарким августовским днем они с Алешей бродили вдоль берега Серы. – Вы ведь с Настей точно две лилии. И ко мне, греховоднице, в сети попали. Увез бы ты сестру от греха… – Елизавета подобрала подол платья, сбросила с ног атласные туфельки и вбежала в прозрачную, теплую воду.
– Говорил я ей, Лиза. Не хочет.
Солнце палило немилосердно, и Шубину показалось, что он стоит возле костра, но костром была эта женщина, наклонившаяся к воде, чтобы зачерпнуть свое отражение. Алексей задержал взгляд на водной глади и отпрянул в ужасе – из своевольного зеркала реки на него смотрела не красавица Елизавета, а юный император Петр Алексеевич, для забавы приклеивший мушку в уголок рта.
– Ну, все одно, мне скоро в Москву собираться, – погруженная в свои мысли Елизавета не заметила Алешиного замешательства. – Женится наш Петруша-император. На Катьке Долгорукой. А меня на свадьбу зовет.
Шубин знал, что Елизавета имела особые виды на подростка-императора Петра II, сына замученного покойным императором царевича Алексея. Пылкий мальчик влюбился было в свою обворожительную тетушку, но цесаревна держала мальчишку на расстоянии – то отдаляла, то приближала. Замуж она не собиралась, но и отдавать Петрушу княжне Долгорукой была не намерена. Впрочем, свадьбу сладили без нее, и теперь Елизавете оставалось только вздыхать.
– Хочешь, Настю твою замуж выдам? Жениха найду. Хоть Бутурлина Сашеньку…
Шубин не поверил своим ушам – такого цинизма он не ожидал даже от Елизаветы. Она с полнейшим спокойствием предлагала в мужья его сестре надоевшего фаворита.
– Побойся Бога, Лиза! – возмутился Алеша. – Чай, жених не платье с царского плеча! И ты своим платьем Настю не жалуй. Обойдемся.
– Это ты про Сашеньку так? – рассмеялась цесаревна, пытаясь влезть в дожидавшиеся ее на берегу туфельки. – Мои с ним амуры – дело прошлое. И Насти твоей не касаются. А не хочешь его в зятья, найдем другого. – Она наконец-то сумела обуться и теперь шла чуть впереди Алексея – так ее отец всегда опережал на прогулке своих медлительных приближенных.
– Никого не надо, Лиза, – отрезал Шубин, догоняя Елизавету. – Ты только Настю с собой в Москву не зови.
– И не подумаю… – успокоила его цесаревна. – Ты сам посуди, зачем мне в Москве два ангела? И тебя одного довольно будет. И так ни ступить, ни молвить. Ты все морщишься да сердишься, а Настя твоя глаза опускает. Устала я, Алеша. Не гляди на меня, дай хоть в Москве волю. Я не ангел, как ты. Ну, не судьба.
Алеша тяжело вздохнул – он хотел быть ангелом-хранителем цесаревны, а не камнем на ее шее. Притянув к себе бесконечно любимое пухленькое личико, запустил ладони в рыжие непудреные волосы – резко, решительно прижал Елизавету к себе. Ее кожа была удивительно белой, как только что выпавший снег, глаза смотрели лукаво и невинно, и это сочетание греха и пронзительной детской нежности сводило с ума.
– Делай что хочешь, Лиза. Только я с тобой в Москву поеду. Нельзя тебе одной. Таким, как ты, ангел-хранитель в человеческом облике положен. Друг нелицемерный. Я тебе таким другом и буду.
– Друг мой нелицемерный… – охнула Елизавета, и лицо ее исказилось от боли и восторга. – Неужели так бывает, Алешенька, милый? С детства знала – одна я в этом мире. Ни отец, ни мать, ни сестра Аннушка – никто не спасет. Только греха прибавит – тяжкого, родового. Отец умер, мать умерла, Аннушка совсем юной скончалась. А я вот все забыться пытаюсь, блудом страх заглушить хочу.
– Какой страх, Лиза? – переспросил Алексей, хотя прекрасно знал, о каком страхе говорит его любимая.
– Какой страх, говоришь? – Елизавета устремила на него тяжелый, пристальный, как у отца, взгляд. – Разве сам не знаешь? Знаешь, знаешь, но печалить меня не хочешь. Да только моей боли ни прибавить ни убавить нельзя. Иногда такое находит, что себя боюсь. Давеча в Успенском монастыре молилась, отцовские грехи замаливала. Ведь в Успенском царевна Марфа умерла. Инокиня Маргарита. Батюшка ее и правительницу Софью собственноручно пытал.
– Ничего, Лиза, – прошептал Алексей, стирая поцелуями ее слезы. – Для того я к тебе и приставлен, чтобы от беды спасти. Ты только счастлива будь, родная. А я счастье к тебе приведу. Как ребенка – за ручку. Нежную ручку, мягкую, как у тебя. – Шубин припал губами к ее мягкой, как у ребенка, ладони.
– А я клятву дала, Алеша, – продолжила цесаревна, и голос ее зазвучал спокойно и торжественно. – Если взойду на престол, то смертную казнь отменю. Верь мне, ангел, так и будет.
– Я верю, Лиза, – ответил Алексей. Он знал наверняка, что, когда цесаревна выплачется, все будет по-прежнему – александровские ассамблеи в духе Петра I – с ушатами водки и пьяными бесчинствами гостей (сама Елизавета допивалась разве что до рыданий), разговоры о попранных правах цесаревны, попытки составить заговор, и вся эта грязная, неряшливая, безудержная жизнь, к которой так привыкла Елизавета.
Вот и сейчас он слушал ее с улыбкой, думая, что когда закончатся признания и слезы, Лиза уедет в Москву на свадьбу императора и надолго забудет свое нынешнее раскаяние.
Глава шестая
Придворный лекарь
– Это ты Елисавет Петровне запретил меня в Москву брать? – не на шутку рассерженная Настя Шубина целый день донимала брата этим вопросом. Тот сначала отмалчивался, а потом не выдержал:
– Я, Настя, и хватит тебе судьбу испытывать…
– Судьбу? – Любимая фрейлина Елизаветы резко пробежала пальцами по клавикордам, сбросила на пол забытые цесаревной ноты. – Я судьбу не испытываю, я тебе помочь хочу.
И добавила с невольной тоской:
– Душно-то как, Господи… Словно кто-то за горло держит.
День и в самом деле выдался тяжелый, душный. Елизавета с утра затворилась у себя, сидела одна в темной, тесной спальне – непричесанная, неодетая, унылая. Шепотом разговаривала с образом Богородицы, плакала и молилась. Да и Алеше с Настенькой стало невмоготу – накануне отъезда в Москву цесаревна была мрачнее тучи.
Развеселые гости цесаревны разъехались кто куда, дольше других в Александрове задержался Бутурлин. Ему было скучно, и от нечего делать он затеял роман с фрейлиной Нарышкиной.
Ее тезка – Настя Шубина спокойно и, казалось, равнодушно наблюдала за этим бедламом, но Алеша знал, что сестра давно мысленно вынесла приговор Елизавете, ее безудержной, неряшливой жизни и развеселым друзьям. Однако уезжать домой от двора будущей императрицы Настя не желала и простить не могла брату, что он запретил цесаревне брать ее в Москву, на свадьбу юного императора Петра II.
– Не огорчайтесь, мадемуазель, – заметил врач Елизаветы, Иоганн-Герман Лесток, с утра возившийся с истерикой цесаревны. Он только что вышел из покоев пребывавшей в меланхолии красавицы и на правах светила медицины завладел лучшим в гостиной креслом.
– Принцессе Елизавете будет в Москве невесело. И вам ни к чему делить ее печали. Достаточно того, что их разделит ваш брат.
– Правда, Настя, незачем тебе в Москву ехать, – подхватил Алеша, которого, впрочем, удивило неожиданное вмешательство Лестока. Он взял сестру за руку, но та резко, по-детски, выдернула ладонь и выбежала из комнаты.
– Капризничает девица, – философски заметил Лесток. – Идите, Алексей Яковлевич, принцесса вас зовет. Потом с сестрой объяснитесь. Недосуг сейчас – там с утра слезы и уныние, – заключил он, указав на дверь, ведущую в покои Елизаветы.
– Как это вы у нее успели побывать? – удивился Алеша. – Никого ведь с утра не хотела видеть.
Лекарь рассмеялся, его полный, плотный подбородок затрясся от хохота, парик съехал на ухо.
– Я к ней вхожу без предупреждения, – сказал он, отсмеявшись вволю. – На правах врача.
«И заговорщика», – подумал Алеша, но вслух ничего не сказал. То, что Лесток пытается возвести цесаревну на отцовский престол, не составляло тайны для ее приближенных.
Хирург Иоганн-Герман Лесток действительно врывался в покои цесаревны Елизаветы Петровны без стука и предупреждения. Как лекарь, он знал, что сильные мира сего или претенденты на власть по большей части малодушны, и добиться от них чего-то можно, только обезоружив внезапностью посещения, когда они слабы и бессильны. А как авантюрист, всем нутром чуял, что Фортуна любит положения скользкие и двусмысленные и разыгрывает свои партии не в парадных апартаментах, в часы, отведенные для приемов и ассамблей, а где-нибудь на задворках и во время, самое для этого неподходящее.
К Елизавете Лесток был приставлен заботливой матерью-императрицей, когда дочери Петра едва исполнилось 16 лет. Тогда Екатерина I вернула хирурга из Казани, где остроумец-француз томился по личному распоряжению Петра Великого. Во времена Петровы болтал лекарь слишком много, острил без меры и как-то на свою беду сболтнул при свидетелях, что император завел роман с собственным денщиком. Неудачная шутка, не более. И почему это русский варвар возмутился – непонятно! Очевидно, Петр Алексеевич шуток не понимал, и хорошо еще, что спровадил лекаря в Казань, а не в Сибирь или вовсе на тот свет, как делал с другими шутниками.
Вернувшись из Казани, Лесток шутить перестал и занялся политикой. Императрица Екатерина сделала его лейб-медиком и приставила к своей младшей дочери, через которую мечтала породниться с французским королевским родом, коль скоро русская знать ее презирала. Втайне Лесток посмеивался над этим проектом императрицы, но вслух острить не решался.
И вот теперь Лесток стремился подобрать для цесаревны сторонников повлиятельнее и, главное, воодушевить тех простых гвардейских солдат и офицеров, которые не прочь были сложить за красавицу свои головы или стать надежной и падкой на деньги, почести и бунты опорой ее трона.
Алеша открыл дверь в Елизаветины покои и замер в оцепенении – мимо него к выходу шагнула серая, тяжелая тень.
– Петр Алексеевич дочку навещал, – с недоброй усмешкой сказал Лесток и вошел в комнату вслед за Алешей.
Пока парочка приводила Елизавету в чувство, тень растаяла в воздухе, словно ее и не было. А вошедшая в покои цесаревны Настя Шубина беззвучно заплакала, прижавшись горячей щекой к дверному косяку. Теперь она решила во всем слушаться брата, понимая его правоту и правду.
И только перед самым отъездом в Москву, когда Алеша усадил цесаревну в поданную к крыльцу карету и подошел к сестре попрощаться, Настя, перекрестив его на прощание, тихо спросила:
– Ну почему ты? Мало у нее фаворитов было? Бутурлин, Лялин… Пусть они на себя ее крест берут. Она ведь неверна тебе, Алеша…
– Пусть неверна, Настя. Разве в этом дело? – ответил Алеша, обнимая сестру. – Я ведь люблю ее и, значит, должен за нее пострадать. Ты только напомни ей обо мне, когда срок придет. Если в ссылке или в застенке буду, а она воцарится, пусть мне поможет. А если умру, все равно напомни – пусть в молитвах своих меня помянет. Я ведь знаю – она забудет, если тебя рядом не окажется.
И Настенька обещала стать совестью цесаревны и, когда придет срок, напомнить ей об Алеше.
Часть II
Тень за троном
Глава первая
Обручение Петруши
Ехали на свадьбу, а приехали на похороны.
Шумно и пышно отпраздновали обручение пятнадцатилетнего мальчика, императора Петра II, с надменной княжной Долгорукой, которую Елизавета по простоте душевной называла Катькой.
Рядом с женихом сияла вновь обретенным счастьем былая царица, Евдокия Лопухина. При покойном Петре I царица, ставшая инокиней Еленой, не покидала Ладожского монастыря – так царю было удобно надзирать за нею из Петербурга. С воцарением же Екатерины I монастырь сменился на Шлиссельбургскую крепость, и только внук – император Петр II освободил Лопухину окончательно.
И цесаревна, вплывшая в зал на обручение этакой богиней, с бриллиантами в высокой прическе, вдруг оробела и не смогла взглянуть Евдокии Федоровне в глаза. Зато былая узница вздрогнула, как под кнутом, увидев, как до мучительной, судорогой сводящей сердце боли похожа эта вошедшая в зал красавица на ее немилосердного супруга.
– Кто это? – спросила Евдокия Федоровна у брата невесты, князя Ивана Долгорукого, закадычного друга юного государя, учившего мальчика волочиться за фрейлинами и шляться по кабакам.
Царица, монахиня, узница, нечаянная гостья на обручении внука, она в первый раз увидела младшую дочь Петра и Екатерины.
– Лизаветка, – небрежно ответил князь. – Все государя нашего с пути истинного совращала. Соблазнить хотела, на себе женить. Шутка ли, под венец с собственным племянником!
– Племянником? – охнула Евдокия. – Стало быть, это и есть царевна Елисавета? Господь милосердный, как на отца похожа! Как будто сам он сюда вошел…
Евдокия Федоровна тяжело опустилась в приготовленное для нее кресло, а рядом как ни в чем не бывало села цесаревна. За спиной Елисавет Петровны стоял ее ординарец Алеша Шубин. Сначала Евдокия сидела неподвижно, не решаясь отвести от лица внезапно налившиеся тяжестью ладони. Потом решилась, взглянула. Елизавета обворожительно, светски улыбалась.
– Тяжело тебе? – тихо, полушепотом спросила былая узница, и этот вопрос заставил Елизавету стереть с губ приторную улыбку. Цесаревна растерянно обернулась к Алеше, как будто он мог ответить за нее.
– За отца ведь живешь… – спокойно, повелительно продолжила Евдокия, не дождавшись ответа от цесаревны. – Тень его с тобой рядом ходит.
– Тяжело, – призналась цесаревна, и лицо ее стало скорбным и строгим. – Да, видно, такой у меня путь.
– Есть и другие пути, – сурово возразила Евдокия. – В монастырь иди, в Ладожский, на мое место. Отцовские грехи замаливать.
– Не место мне в монастыре. – Ласковый, сладкий взгляд Елизаветы налился отцовской свинцовой тяжестью. – В миру мое место.
– В миру? – голос Евдокии набух гневом, как небо – грозой. – В грехе и блуде?
– А хоть бы и в грехе… – притворно беззаботно рассмеялась цесаревна. – Верно, Алеша?
Шубин молчал, и, уязвленная его молчанием, Елизавета продолжила:
– Не тебе меня судить, царица…
– Верно, не мне, – охотно согласилась Евдокия. – Каждому из нас свой приговор вынесен. И твой приговор никто не отменит. Ежели сама не отмолишь.
– Что ж ты себя не отмолила? – спросила Елизавета с оскорбительной для Евдокии циничной улыбкой. – Под кнутом была, любовника твоего на кол посадили, сына убили, брата не уберегла. Свой приговор не изменила, а меня поучаешь, в монастырь идти велишь? Хороша советчица!
– Не тебе о моем пути судить! – Спокойствие изменило Евдокии, и ее невозмутимый, ровный голос сорвался на крик.
Князь Иван Долгорукий подошел было к Евдокии Федоровне, чтобы избавить бабушку правящего императора от оскорблений сидевшей рядом с ней легкомысленной девицы, но инокиня Елена остановила его.
– Ты, Елисавета, не шуми, ты меня послушай. Не обрела душа отца твоего покоя. До сих пор тень его по земле ходит, и сейчас он рядом где-то – за державой своей присматривает.
– Присматривает? – усмехнулась Елизавета. – Что же внук твой столицу в Москву перенес, а Петербург оставил? Отец мой совсем другого хотел!
– Петербургу пустым быть! – повторила Евдокия давно выстраданное пророчество. – И Петруша мой верно сделал, что этот город оставил. А над тобой, Лиза, больше других отцовский грех тяготеет – не зря люди говорят, что ты на него, как отражение в зеркале, похожа.
– Знаю я, но изменить ничего не могу. Не я свой путь выбирала – отец мне его предложил. Не из чего выбирать было.
– Это ты себя так утешаешь, царевна. Что ж, от утешений дышится легче. Но я тебе лгать не стану – другие для лжи найдутся. От кого ты еще правду о себе и об отце услышишь, как не от меня, отцом твоим всего лишенной? Берегись, Елизавета Петровна, страшный у тебя путь и славный. Одна по нему пойдешь – или ангел-хранитель тебя оберегать станет, это мне неизвестно. Только отец всегда с тобой рядом будет. Иди, если силы есть…
– Нет у меня сил, Евдокия Федоровна. И мужества нет – только слабость одна осталась. Слабость и отчаяние. Суди меня – твоя воля, но лучше пожалей. Одна я на этом свете – сирота.
– Ты? Одна? – удивилась Лопухина. – С отцом ты, Лиза. Нынче и навсегда.
– Страшно мне, – призналась Елизавета, – и от советов его, и от присутствия ежечасного. Свободы хочу и счастья.
– Свободу, царевна, отмолить надо, – сказала Евдокия. – Она просто так никому не дается. А ты в миру жить хочешь… Стало быть, путем власти пойдешь?
– Пойду, – подтвердила цесаревна и стала в эту минуту так похожа на молодого Петра Алексеевича, что Евдокия не смогла сказать ни слова. Она лишь медленно поднялась и вышла из зала, оставив Елизавету в растерянности и тоске.
Цесаревне не нужны были судьи – только советчики. Она не хотела слышать голос совести – рядом соблазнительно гремели медные трубы власти, и только эти звуки были понятны и необходимы ее душе. В это мгновение она не нуждалась ни в чем другом…
Глава вторая
Болезнь Петруши
Вскоре после своего обручения пятнадцатилетний император заболел оспой и слег. Сначала цесаревна не особенно встревожилась.
– Ничего, милый, и я оспой в детстве мучилась. Жива осталась и даже не подурнела, – сказала она Шубину, нежно проводя пухленькими пальчиками по щеке, как будто хотела еще раз убедиться в том, что на ее обворожительном личике не осталось безобразных оспенных отметин. – А вокруг Петруши лекарей вон сколько. Поживет еще мальчик…
Но жить Петру оставалось совсем недолго.
Конец января оказался особенно тяжелым: мальчик метался в лихорадке, а за дверью его спальни суетились князья Долгорукие, невеста, так и не ставшая женой, да канцлер барон Остерман. Они составляли проекты завещаний на подпись Петруше, до хрипоты спорили о правах невесты на престол умирающего жениха, а Петруша звал Лизу – цесаревну Елисавет Петровну, которая в заслонившем реальность бредовом мареве казалась ему то матерью, то сестрой.
– Лиза, где же Лиза? – неустанно спрашивал Петруша, и камергер Лопухин уверял его, что Елисавет Петровна непременно придет, что за ней уже послали и скоро, совсем скоро она будет здесь.
Она и в самом деле пришла, тихо, робко прошмыгнула в покои умирающего, молча отстранила Остермана и присела у постели Петруши, нежно, по-матерински, коснулась его пылавшей смертным жаром щеки прохладной, благоуханной ладонью.
– Лизанька, – прошептал мальчик. – Пришла, значит…
– У императора оспа, – предостерег ее барон. – Вы можете заразиться, принцесса.
– А я оспой уже болела, – рассмеялась Елизавета. В трагические минуты ее розовые губки сводила судорога смеха, пугавшая самые неробкие души. – И, видишь, выздоровела. Не подурнела даже. И Петруша наш выздоровеет. Непременно.
– Нет, Лиза, я умру… – император произнес эти слова без тени сожаления или испуга – спокойно, буднично, просто. – Видение мне было, я тебе рассказать хочу.
– Какое видение, милый?
– Будто стоит у моей постели император покойный, дед мой, и говорит: «Уступи престол, Петруша. Не твой он. Уступи сам». И грозно так хмурится, страшно. «Уступи, говорит, престол дочери моей Елисавете. Ты волю свою перед смертью объявить должен. Там, в раю, тебя отец с матерью заждались, и сестра Наташа ждет не дождется. Тебе с ними быть, а мне с Лизой». Вот я и позвал тебя, Лиза, волю свою объявить хочу.
Петруша рассказывал медленно, протяжно, казалось, что вслед за каждым произнесенным словом из него капля за каплей вытекают жизненные силы.
И тут случилось небывалое: цесаревна упала на колени перед постелью, обняла мальчика и громко, отчаянно зарыдала.
– Не хочу я престола, Петруша, – горько, настойчиво повторяла она. – Видит Бог, не хочу. Не составляй завещания, погубишь меня совсем. Душу мою соблазном не испытывай – слаба я сейчас. В Александров уеду, затворюсь ото всех – мне, кроме покоя и воли, ничего не нужно. А престол кому хочешь передай. Я стерплю. Вон хоть Катьке твоей.
– Император без сознания, принцесса, и волю свою объявить не успеет, – вмешался Остерман, давно заметивший, что Елизавета рыдает впустую и государь не слышит ее слез и слов. – А кому править, решит Верховный совет.
Цесаревна рывком поднялась с колен, поцеловала Петрушу в лоб и медленно перекрестила. Потом вышла – так же тихо и незаметно, как появилась, и Остерману показалось, что никакой Елизаветы здесь никогда и не было.
Евдокии Федоровне не спалось. Рядом умирал внук, а ей не позволяли переступить порог его спальни. Вот так, без нее, ушли в последний путь все те, кого она любила и ненавидела. На колу, в страшных мучениях, скончался ее возлюбленный Степан Глебов – последняя радость, отпущенная былой царице перед долгим, неслыханным страданием. Потом ушел сын, царевич Алексей, до смерти замученный отцом, и Евдокия, заключенная в Ладожском монастыре, смогла лишь мысленно с ним попрощаться. Вместе со смертью Петра I Евдокия лишилась ненависти к лютому и страшному врагу, который насильно постриг ее, постылую жену, в монахини, разлучил с сыном, казнил брата, Авраама Лопухина, и посадил на кол возлюбленного, но душа ее опустела, как дом, оставшийся без хозяина. Некого было ненавидеть, и незачем стало жить. На свете оставались лишь внуки, Петруша и Наташа, но о них инокиня Елена почти ничего не знала. Лишь иногда, страшась собственной смелости, она представляла, как обнимет Петрушу, и заплачет, и расскажет о том, как долгие годы он был ее единственной надеждой, и она держала эту надежду в руках, как церковную свечу…
И вот теперь внук оставлял Евдокию одну на свете, где все казалось туманным и зыбким, как серое марево Ладоги, много лет стеной обступавшее монахиню. Робко, тихо подошла она к заветным дверям Петрушиной спальни и столкнулась с выходившей от мальчика цесаревной.
– Как он? – только и спросила Евдокия.
– Отходит, – прошептала Елизавета, как будто боялась, что ее услышат. – Без памяти он. Стонет. Мучается, видно.
– Тебя зачем звал? Говори как есть. – Евдокия сурово, пытливо вгляделась в лицо цесаревны.
Сейчас Елизавета не казалась ей ожившим Петром, для забавы надевшим женское платье. В голубых – прежде лукавых и властных – глазах цесаревны застыла такая мука, такой страх перед будущим, такое нежелание нести свой крест, что сердце Евдокии, окаменевшее от ненависти, захлестнула материнская жалость. Эта жалость, как волна, сбила царицу с ног, обрушилась на нее соленым водопадом, и Евдокии на мгновение показалось, что нет в мире правых и виноватых, а есть лишь мера страдания, отпущенная каждому. И, почувствовав исходящее от царицы сочувствие, Елизавета не посмела врать и запираться.
– Видение ему было, – призналась она, – дед к Петруше приходил. Потому, видно, и мучается мальчик. Не по силам ему такой гость.
Несколько минут они молча смотрели друг на друга, а потом на глаза цесаревны навернулись слезы – и она по-бабьи закрылась от Евдокии рукавом.
– Ты прости меня, – сказала Елизавета сквозь слезы. – За отца прости, за мать. Может статься, и я, как отец, править буду, если приведет Господь. Но я твоего прощения никогда не забуду и, Бог свидетель, отблагодарю.
– Разучилась я прощать. Но сейчас вспомнить нужно, иначе не уйдет Петруша легко, без мучений. Не отпустит его царь покойный. Что ж, Петр Алексеевич, царь Ирод, прощаю я тебя – и за себя, и за сына нашего Алешеньку, и за брата Авраама, и за Степана Глебова, и за всех, кого ты вместе со мной к мукам приговорил. И жену твою и пособницу, солдатку Катерину прощаю. А дочери твоей в том клянусь.
Елизавета сняла с шеи крестильный крестик, и Евдокия, скрепляя клятву, прикоснулась к нему губами. Цесаревна отодвинулась от Петрушиной двери, дала Евдокии пройти, но на пороге царицу перехватил Остерман:
– К нему нельзя. Император без памяти.
– Отойди, Андрей Иванович. Мой час пришел, – она сказала это так торжественно и решительно, с такой правотой и силой, что Остерман не посмел перечить. – Уйдите все, я сама с Петрушей останусь.
Присев у постели мальчика, она долго еще что-то шептала, и от каждого звука, слетавшего с бабушкиных уст, мальчику, казалось, становилось легче дышать, и теплел, наполнялся негой и лаской воздух. И лишь когда гримаса страдания, как маска приросшая к лицу Петруши, сменилась радостной, освобожденной улыбкой, Евдокия Федоровна позволила изнывавшему в ожидании Остерману под руки вывести себя из покоев внука. Она сделала главное и теперь могла скорбеть в одиночестве.
Глава третья
Смерть юного императора
Смерть юного императора Петра II стала для Елизаветы катастрофой. Раньше она, как могла, использовала страстную привязанность Петруши – его желание всегда быть рядом с ней, идти рука об руку по скользким дорогам жизни – будь-то дворцовый паркет или осенние поля, по которым они носились верхом, пьянея от свободы и молодости. Елизавета держала Петрушу на расстоянии: он был для нее мальчиком, подростком, пусть – бесконечно влюбленным в свою красавицу-тетушку, но все-таки ребенком. Цесаревна могла прикоснуться легким, сестринско-материнским поцелуем к его щеке, но никогда бы не коснулась губ обожавшего ее мальчика. А он ждал и таял от восхищения.
После смерти Петруши Елизавета скрылась в Александрове, и там, во время долгих бесцельных прогулок по заснеженным полям в компании Алеши Шубина, вспоминала, как, бывало, смотрел на нее император, как в его улыбке соединялась детская восторженность и юношеская страстность, и как она отвечала на эту улыбку двусмысленными, лукавыми фразами.
– Ты, Лиза, мне как сестра, – любил говорить Петруша, – а может, и больше. Чего хочешь проси – все для тебя сделаю.
И она просила – денег, чтобы возвращать свои бесконечные долги, оплачивать услуги портных и ювелиров и по-прежнему оставаться богиней придворных праздников и приемов. Петруша хотел было поделиться с цесаревной властью, намеревался жениться на своей очаровательной тетушке, но цесаревна отклонила это его предложение, она хотела не власти и высокого положения супруги императора, а лишь свободы и праздничного блеска. И все это влюбленный мальчик охотно предоставлял ей.
Иногда он нарушал их с Елизаветой молчаливое соглашение – деньги и придворный блеск в обмен на возможность хоть иногда побыть с цесаревной, скакать с ней бок о бок по холодным осенним полям, подержать в ладонях ее пухленькую, унизанную перстнями ручку или получить сестринский поцелуй в щеку вместо тех поцелуев и объятий, которые она охотно расточала другим. Как-то, незадолго до обручения юного императора с Екатериной Долгорукой, Петруша заглянул в Александров в компании князя Ивана Долгорукого. Хотел повидаться с цесаревной, которая давно не показывалась в Москве, и, как поговаривали знающие люди, позабыла все на свете в приятной компании ординарца.
Император отчаянно ревновал Елизавету к Шубину, понимая, впрочем, что цесаревна никогда ему ничего не обещала. Но от того ревность не становилась меньше.
Однажды в дождливый осенний день Елизавета сидела дома, прислонившись к плечу Алеши Шубина, и рассеянно слушала слезливый французский роман, к чтению которых с недавних пор испытывала странное пристрастие, как вдруг на пороге появилась Мавра.
– Ваше императорское высочество, – зачастила девица, всегда раздражавшая Шубина, – к вам государь император с князем Долгоруким.
– Чего же ты ждешь, Мавра? Проси немедленно!
Шубин недовольно вздохнул: ему гораздо больше нравилось читать цесаревне французский роман, чем принимать вместе с ней внезапно нагрянувших гостей. Петрушу Алексей всерьез не опасался – он знал, что цесаревна видит в пятнадцатилетнем императоре только ребенка, но развязный красавец Иван Долгорукий давно беспокоил Шубина. Слишком уж недвусмысленные улыбки бросал на Елизавету этот князек! Поэтому Алексей решил присутствовать при разговоре – стал рассеянно перелистывать книгу, дожидаясь незваных гостей.
– Что же ты, Лизанька, совсем нас забыла? – спросил вошедший император. Петруша собирался было броситься навстречу к Лизе, чтобы получить таким образом причитающиеся ему радости – дежурный поцелуй в щеку и радостную улыбку, но, заметив Шубина, который и не думал покидать «поле боя», ограничился этим дежурным вопросом.
Иван Долгорукий, напротив, фамильярно поцеловал ручку цесаревне и заявил, нимало не церемонясь:
– Вам, Елисавет Петровна, в Москву пора…
– Да зачем мне в Москву? – спросила Елизавета, забыв усадить гостей. – Спокойно здесь, и у меня на душе тихо.
– С каких это пор ты, Лиза, покой любить стала? – удивился Петруша. – Раньше, бывало, тебя не унять – все по полям носилась со мной вместе, праздники просила устраивать, фейерверки, а теперь что? Не нужно тебе все это? Нужно ведь – я тебя, сестрица, знаю. Собирайся, душа моя, я за тобой приехал.
– Не поеду я, государь, – твердо ответила цесаревна и ласково, ободряюще улыбнулась Шубину. – Долги мои заплатишь – спасибо, а большего не проси… Нездорова я нынче.
– Откуда ж взяться здоровью, если в сельской глуши себя хоронить? – со смехом спросил Иван Долгорукий. Князь развалился на кушетке, быстро перелистал книгу, которую только что читал Шубин, потом с треском ее захлопнул, раздавив забытый в романе кленовый листок.
– Поедем, Лиза, прошу тебя, – император уже не требовал, а всего лишь просил, но Елизавета и не подумала прислушаться к просьбам влюбленного мальчика.
– Не поеду, государь, – сказала она. – Насовсем не поеду, а в гости загляну. Долги мои заплатишь, Петруша?
– Заплачу, если в гости приедешь, – ответил император, и в голосе его прозвучала такая досада и боль, что Шубину стало невольно жаль мальчика.
– Стало быть, и загляну на пару дней… – ответила цесаревна.
Петруша подошел к ней, растерянно заглянул в глаза, потом робко, нежно прикоснулся к белому, округлому плечу Елисавет Петровны.
– Не обманешь, Лиза? – переспросил он. – Поклянись, что не обманешь!
– Не обману, – ответила цесаревна и скрепила свои слова поцелуем.
От этого быстрого, рассеянного прикосновения к его губам у Петруши чуть было не закружилась голова, а Шубин хотел вмешаться, но Елизавета бросила на своего друга такой недовольный взгляд, что он сдержался, смолчал. Потом император вышел, а князь Долгорукий на минуту задержался, чтобы еще раз поцеловать ручку цесаревны.
– Ты на меня с укором не смотри, ангел, – сказала Елизавета. – Мне деньги нужны, опять всем задолжала, а Петруша долги заплатит и еще денег даст. Придется мне к нему опять в Москву ехать…
Но Елизавете не пришлось ехать в Москву, к Петруше, и долги ее остались неоплаченными. Между цесаревной и влюбленным в нее племянником встала княжна Екатерина Долгорукая, холодная, честолюбивая особа, которая, не колеблясь ни минуты, делала ставку за ставкой в азартной русской игре. Княжна метила в императрицы, но внезапная смерть императора помешала ее честолюбивым планам.
Петрушу хоронили в такой холодный январский день, что москвичи предпочитали сидеть по домам, а не сопровождать гроб юного императора. Немногие проводили мальчика в последний путь – за гробом шел князь Иван Долгорукий, который еще недавно водил мальчика по кабакам и учил его менять любовниц, Евдокия Лопухина, канцлер барон Остерман, невеста – княжна Екатерина и все семейство Долгоруких.
Елизавета на похороны не пришла. Накануне она уехала в Александровскую слободу, чтобы не омрачать свое чувствительное сердце.
Иван Долгорукий не скрывал слез. Гуляка и дебошир, чьи похождения ни для кого не составляли тайны, отчетливо понимал, что удача отвернулась от него.
Когда похоронная процессия проходила мимо дома графов Шереметевых, Иван поднял глаза вверх, к одному из окон – оттуда выглянуло хорошенькое девическое личико, а потом показавшаяся в окне барышня помахала князю рукой. «Наташа! – хотел было крикнуть он. – Наташа!» – но только печально улыбнулся выглянувшей девушке. Это была невеста князя, самая богатая наследница в Российской империи, графиня Наталья Шереметева. Пятнадцатилетняя Наташа без памяти влюбилась в красавца-князя, и родители охотно согласились на ее обручение с другом юного императора.
Обручение Наташа вспоминала, как золотой сон, который развеялся, едва начавшись. На церемонии присутствовала вся императорская фамилия, молодым подарили шесть пудов серебра, не считая золота и бриллиантов. Обручальное кольцо жениха стоило 12 тысяч рублей, кольцо невесты – всего 6 тысяч. Когда красавец-князь надел кольцо на руку Наташе, она зажмурилась от счастья.
– Хороша девочка! – сказала цесаревна Елизавета, редко хвалившая чью-либо красоту. Потом Наташа целовала руки членам императорской фамилии, а заодно и цесаревне.
– Ну, будет, будет, – рассмеялась Елизавета, – нечего мне руки целовать… Жениха, вон, лучше целуй, да покрепче, чтобы он чужих жен не отбивал… – И добавила шепотом: – И за мной чтобы не волочился!
Наташа вздрогнула от удивления: она в первый раз столкнулась с бесцеремонностью цесаревны и не знала, как ответить этой легкомысленной красавице, так беззаботно рассказывающей о прошлых похождениях князя Ивана. Пятнадцатилетняя невеста смешалась, покраснела и с горечью заметила, что ее красавец-жених бросил на цесаревну Елизавету отнюдь не безразличный взгляд. А рыжеволосая соблазнительница беззаботно рассмеялась и павой выплыла из зала Лефортовского дворца, где проходило обручение.
И вот теперь жених Наташи, в недавнем прошлом – лучший друг императора, мог оказаться никем. Смерть Петруши лишила его могущества, и Наташа чувствовала, как больно и тяжело сейчас Ивану. Траурная процессия скрылась из глаз, Наташа отошла от окна, долго и бесцельно бродила по комнате. «Чем мне помочь Иванушке? – думала она. – Тяжко нам всем будет…» Наташа снова вспомнила церемонию обручения и фривольные, легкомысленные слова цесаревны Елизаветы.
«Если бы цесаревну в императрицы! – вздохнула девушка. – Тогда бы и Иванушке послабление вышло. Не сживет его цесаревна со свету, пощадит – ведь, говорят, неравнодушна к нему была». Цесаревна, благоволящая к Ивану, устраивала Наташу больше, чем другие претенденты на русский престол. В последнем князь Иван был согласен со своей невестой. Вскоре после погребения Петра II он тайно выехал в Александров.
Глава четвертая
Семейство Долгоруких
– Что же ты, князь Иван, предложить мне хочешь? – спрашивала Елизавета у Долгорукого, который без предупреждения явился к ней.
Был обычный январский день, тусклый и зябкий. Елизавета почти не выходила из своих покоев, где пыталась гадать на картах, вопрошая судьбу, быть ли ей императрицей. К цесаревне и ее другу несколько раз заезжала Настя, но Елизавета пребывала в меланхолии и не хотела никого видеть. И вот, к безмерному удивлению Алексея, она не отказала в приеме князю Долгорукому. «Видно, и в самом деле неравнодушна к князю», – подумал Шубин, и ему отчаянно захотелось выставить Ивана вон.
– Зачем тебе, Лиза, красавчик этот? – спросил он у цесаревны. – Дай-ка я ему порог укажу! Невеста, верно, заждалась…
– Не трогай Ивана, ангел, – ответила Елизавета, – он мне важные вести привез…
Новости, привезенные князем Иваном, и в самом деле оказались необыкновенно важными. Князь предложил цесаревне занять русский престол и заявил, что Долгорукие окажут ей всяческую поддержку в обмен на сохранение их богатства и привилегий.
– Сладко поешь, князь Иван, – ответила Елизавета, и на лице ее появилась обворожительная улыбка, – да только я пению твоему ни на грош не верю. Престол российский занять – не шутка. Тут военная сила нужна. А ты, князь, полки за меня не подымешь.
– А ежели подыму, Лиза? – ответил князь и подошел к цесаревне вплотную, потом, недолго думая, обнял ее за плечи и резко, решительно прижал к себе.
– Уйди, князь, не про тебя печь топится… – рассмеялась Елизавета, отстранившись. – Ты лучше о деле говори.
– О деле? – переспросил князь. – О деле я уже все сказал. Взойди на престол, а мы, Долгорукие, твоими рабами верными будем.
– Рабами? – захохотала Елизавета, а потом, отсмеявшись, добавила с обескураживающей прямотой: – Батюшка таких рабов в Сибирь ссылал…
«Вся в отца, – подумал князь Иван, наблюдая за тем, как изменилось при этих словах личико цесаревны, – такая и вправду в Сибирь сошлет, не помилует. Сестру нужно на трон сажать. Катька хоть и дура, но семью не предаст…»
– Подумай над моими словами, царевна, – продолжил Иван после минутного замешательства, – никто тебя, кроме нас, Долгоруких, не поддержит.
– А сестру свою Екатерину не хочешь на русский престол посадить? – спросила цесаревна, словно прочитала тайные мысли князя.
– Не по ней престол российский, – отрезал тот, – сестра моя не того нрава, чтобы всем в одночасье рискнуть. А ты, Лиза, рисковать сможешь – нрав у тебя отчаянный.
– Комплименты мне говорить решил? – Елизавета положила белые полные руки на плечи Ивана. – Не стоит, князь, для комплиментов у меня другие есть. А у тебя невеста пятнадцатилетняя. Ей и говори.
– А если я и ей, и тебе слова нежные шептать буду? – Князь снова привлек Елизавету к себе, но та резко вырвалась, отошла в сторону, рванула на себя створки окна. В комнату ворвался ледяной январский воздух, стало пронзительно холодно.
– Уходи, князь, – сказала цесаревна, – не подошло еще мое время. Я своего часа ждать буду.
– Да когда же он наступит, твой час? – иронично переспросил Долгорукий.
– То батюшка мне подскажет, а других советчиков я слушать не стану. Наведывался он тут ко мне давеча, сказал, что рано мне пока на престол российский. А ты к невесте иди, князь… Ждет ведь не дождется…
– Прощай, царевна, – вздохнул князь, – когда тебя государыня новая в монастырь дальний сошлет, меня вспомнишь – да поздно будет.
Он бы много еще сказал, но Елизавета указала на дверь, и князь не посмел задерживаться.
– Алеша! – крикнула Елизавета. – Алеша, милый! Поди сюда, не могу больше…
Потом она плакала на груди Алексея и шептала о том, что обязательно дождется обещанного отцом часа славы и власти. Шубин знал, что этот час рано или поздно наступит – мертвые не навещают живых просто так, и душа Петра I, задержавшаяся в этом мире, не стала бы давать Елизавете напрасных обещаний…
– Что ж ты, Иванушка, не уговорил ее? – спрашивала Наташа Шереметева жениха, который за несколько дней, прошедших после похорон императора, помрачнел, похудел и поблек. Сейчас она не узнавала в этом мрачном, потерявшем былой лоск человеке красавца и умницу, который еще недавно заставлял пятнадцатилетнюю графиню Шереметеву краснеть и трепетать от восторга.
Однако Иван вернулся из Александрова в совершенной растерянности, долго отмалчивался и не хотел рассказывать, как прошла беседа с цесаревной. Новые родственники князя – Шереметевы – пока не докучали жениху и невесте, но в случае опалы князя собирались помешать этому браку. Иван чувствовал это, и тучи, собравшиеся на горизонте его доныне безмятежной жизни, мешали князю быть откровенным с Наташей, как прежде.
– Не уговорил, – ответил князь, решив посвятить Наташу в свои заботы, – глупа она и ленива, все часа ждет. А того не понимает, что так всю жизнь прождать можно. Говорит: «Мне батюшка нужное время подскажет…»
– Да как подскажет? – ахнула Наташа. – Кто же с мертвыми советуется?
– А она советуется. Отец покойный ей свою волю диктует. Сестру Екатерину нужно на трон сажать. И я на Верховном совете об этом говорить буду. Была Екатерина Первая, будет – Екатерина Вторая.
Наташа не могла поверить, что княжна Екатерина, которую не успел соединить с Петром II священный обряд венчания, может претендовать на российский трон. Все, что говорил Иван, казалось ей странным и невозможным, бесконечно далеким от того мира, в котором до обручения жила юная графиня Шереметева. В мире, к которому привыкла юная невеста, не было ни мертвых, вмешивающихся в дела живых, ни всех этих закулисных тайн, о которых так буднично рассказывал ее жених. И все же она попыталась отговорить Ивана.
– Да ведь княжна Екатерина императору покойному невестой была, не женой. Обручение – не венчание.
– А разве ты не жена мне? – спросил князь, обнимая Наташу за плечи. – Разве наше обручение венчания не стоит?
– Стоит, Иванушка, стоит. – Наташа прильнула к Ивану, зажмурилась, и ей представилась картина из недавнего золотого сна: жених надевает ей на палец золотое кольцо ценой в шесть тысяч рублей, все вокруг завистливо перешептываются, а цесаревна Елизавета бросает на трепещущую от счастья невесту снисходительно-небрежный взгляд.
– Только умер государь наш, не успел на твоей сестре жениться, – добавила она. – А мы обвенчаться успеем.
– Если я в опале буду, – с не свойственной ему проникновенностью и серьезностью спросил Иван, – ты за меня замуж выйдешь? Не побоишься?
– Не побоюсь, – так же серьезно ответила Наташа. – Я такой привычки не имею, чтобы сегодня одного, а завтра другого любить.
В эту минуту князь Долгорукий, чьи любовные похождения ни для кого не составляли тайны, счастливый обладатель двусмысленной репутации, поневоле залюбовался своей трогательной и по-детски доверчивой невестой. Он знал, что эта девочка всюду пойдет за ним, замирая от счастья, простит измену и предательство и всю жизнь будет благословлять того, кто сделает ее несчастной.
«Не люби меня так, Наташа, – захотелось сказать Ивану, – я твоей любви не стою. И судьбу мою разделить не пытайся – горькая у меня судьба будет».
Но вслух этих слов князь так и не произнес.
Глава пятая
Смиренная Наташа
Наташа Долгорукая собиралась в дорогу. Новая императрица, еще совсем недавно – курляндская герцогиня Анна Иоанновна не пощадила семью Долгоруких. Согласно именному указу Анны Иоанновны, Долгорукие ссылались в дальние пензенские деревни. И пока свекровь и золовки Наташи прятали по карманам золото и драгоценности, юная княгиня Долгорукая – в недавнем прошлом самая богатая невеста империи – бережно заворачивала в кусок грубого холста родовое Евангелие Шереметевых.
Иван в день сборов отсутствовал. Князь, не привыкший к таким ударам судьбы, еще с прошлого вечера пытался залить тоску в пьяной компании недавних друзей. Наташе предстояло самой собираться в дальнюю дорогу, слышать причитания свекрови, ссоры сестер Ивана и ужасаться молчанию и отрешенности княжны Екатерины. Несостоявшаяся императрица, казалось, не замечала страданий близких – ей было достаточно собственных.
Наташе хотелось заплакать. Все, что у нее оставалось, это воспоминания о недавнем золотом сне. Ивана не было рядом, свекровь с золовками не жаловали юную княгиню, а за порогом ожидала ссылка в Пензу, разлука с родными, бедность и затворничество.
– Где же Иванушка? – спросила она у свекрови.
– Это тебе, Наталья, лучше знать, – ответила княгиня Долгорукая. – Он твой муж, а не мой.
– Да не мучьте вы девочку, – вмешалась молчавшая до сих пор княжна Екатерина. – Иван в кабаке, как обычно. Горе свое заливает. А до нашего ему дела нет, как, впрочем, и мне.
– Я пойду к нему, – сказала Наташа, – домой его приведу.
– Приведешь? – расхохоталась княжна Екатерина. – Ну попробуй… Только он за тобой не пойдет. Сам придет – когда проспится.
От этих слов хотелось убежать на край света. С каждым днем счастья становилось меньше – оно таяло и рассыпалось на глазах, а оставалась лишь серая безысходность. И Наташа отчаянно пыталась сохранить для себя хотя бы частицу того золотого сна, который еще недавно был ее прошлым…
Князь Иван вернулся под утро: прошлым вечером и ночью он выпил так много, что не смог «переварить» эту дозу даже при своей обычной выносливости к спиртному. Всю ночь Иван жаловался на превратности судьбы и жестокость императрицы Анны Иоанновны случайным собутыльникам, а теперь пришел изливать свое горе жене. Наташа с удивлением и недоумением смотрела на него: от прежнего блестящего красавца в князе осталось немного.
– Нужно собираться в дорогу, Иванушка, – тихо, нежно сказала Наташа, коснувшись плеча мужа.
В эту минуту они были одни. Остальные члены опальной семьи давно спали, и только Наташа терпеливо дожидалась мужа, пока не забрезжил рассвет и едва успевший опохмелиться князь не появился на пороге.
Иван, как был – в шубе и шапке, рухнул на колени перед женой, а она гладила его по голове, как ребенка, утешая и успокаивая.
А Иван, вглядываясь в ее лицо, вдруг понял, что пятнадцатилетняя девочка, которую он намеревался поучать и воспитывать, смелее и мудрее его.
– Хорошая ты, Наташа, – сказал князь, – сильная, а я слабый человек, тебе и в подметки не гожусь. Другого мужа тебе искать надо было. Зачем ты со мной свою судьбу связала? Сопьюсь я с горя или повешусь – тебе жизнь сломаю.
– Ты этих слов мне не говори! – не на шутку рассердившись, закричала Наталья. – Жить ты будешь, и нам всем помогать. Сестре Екатерине, которая, вон, ни жива ни мертва ходит. Вы ее царицей сделать хотели, да только счастья лишили. Теперь тебе ее от беды оберегать. И сестер – Елену с Анной – тоже. Встань, Иван, нечего у меня в ногах валяться. Ты в семье глава, и спрос с тебя великий.
Иван поднялся с колен, Наташа сняла с него шубу и шапку, отерла лицо платком. Князь поднес к губам маленькую ручку жены.
– Спасибо тебе, родная, – сказал он. – Я твоих слов ввек не забуду. Ты не тело, ты душу мою спасла. Ты мне друг на этом свете единственный.
И еще долго они стояли, обнявшись, отчаянно припав друг к другу, понимая, что за порогом ожидают страдания, в которых не останется места любви.
Перед самым отъездом в московский дом Долгоруких заглянул прапорщик Преображенского полка князь Барятинский. Барятинский был закадычным другом Алеши Шубина, и цесаревна с ординарцем воспользовались его помощью, чтобы передать Ивану и его близким напутственные слова. Новая императрица цесаревну не жаловала, и предсказание князя Ивана о ссылке в монастырь и вправду могло сбыться. Узнав о судьбе Долгоруких, цесаревна поддалась порыву милосердия и отправила к ссыльным Барятинского.
Прапорщик явился к Долгоруким под вечер. После обычной полковой маеты он заглянул в кабак, осушил стопочку, да не одну, и только потом решил выполнить просьбу цесаревны и закадычного друга Алешки Шубина. Ему было неловко идти к этим обреченным на страдание людям. Барятинский знал, что князь Иван уже которую ночь заливает горе водкой, а его мать, жена и сестры пытаются спасти хоть малую толику семейных богатств. Прапорщик долго кружил по Москве, бродил вокруг дома Долгоруких, не решаясь войти, прорывался сквозь тусклое снежное марево. И, наконец, вошел – когда не смог больше медлить.
К Барятинскому вышла молодая княгиня. Прапорщик сказал, что пришел от цесаревны Елизаветы – с напутственными словами и прощальным поклоном.
– Нет ли письма от цесаревны? – спросила Наташа.
– Боится она писать, – ответил прапорщик. – Опасно это нынче.
Наташа вздохнула и нахмурилась: нерешительность Елизаветы тяготила ее не меньше, чем мужа. «Схорониться хочет, – подумала княгиня, – своего часа ждет. Да ведь всю жизнь прятаться не станешь».
– Позволите пройти к князю Ивану? – спросил посланец Елизаветы Петровны, и Наташа поневоле вспомнила те, отнюдь не безразличные, взгляды, которыми обменялись цесаревна с Иваном на ее венчании.
– Нет Ивана, – ответила княгиня и, покраснев, добавила: – Сама его жду.
«Ясно, в кабаке князь, – подумал Барятинский. – Знать бы в каком, зашел бы проведать».
– Передайте князю, Наталья Борисовна, – сказал прапорщик после недолгого раздумья, – что цесаревна Елизавета его и вас не оставит. Ежели императрицей станет – из ссылки вернет. А пока в дальнюю дорогу благословить велела. Вон, крест просила вам передать. Крестной сестрой вы ей теперь будете.
Барятинский протянул Наталье нательный крестик, она несколько минут подержала его на ладони, как будто хотела взвесить, а потом надела на шею.
– Кланяйтесь матушке-цесаревне, – ответила она, – и за честь великую ей спасибо. Только пусть помнит Елисавет Петровна: крестных сестер в беде не забывают. А мы от нее помощи ждать будем – хоть в Пензе, хоть в Сибири. Одна она у нас нынче заступница.
Прапорщик смотрел на пятнадцатилетнюю княгиню и не мог отвести взгляд от ее строгого, спокойного лица – ласковых серых глаз, пепельных волос, тихой улыбки. «Хорошая жена Ивану досталась, – подумал он, – мне бы такую. В Сибирь бы за нее пошел».
Прапорщик молча поклонился и вышел. А потом всю обратную дорогу до казарм Преображенского полка думал о мужественной девочке, которой предстояло разделить с князем Иваном его страшную участь.
В дальних пензенских деревнях Долгорукие прожили недолго. Пришел новый указ императрицы Анны, согласно которому княжеская семья ссылалась в то самое глухое сибирское местечко Березов, куда они некогда упрятали некоронованного императора России князя Меншикова. Увы – Иван Долгорукий вредил сам себе. Красавец-князь никогда не умел сдерживаться и, не таясь от охраны, клял своих мучителей – императрицу Анну Иоанновну и герцога Бирона. Охрана, естественно, доносила о крамольных разговорах сосланного семейства в Петербург, и вскоре в Березов, для негласного наблюдения за Долгорукими, прислали фискала.
Еще через некоторое время князя разлучили с женой и бросили в земляную тюрьму. Оттуда Иван Долгорукий исчез.
Почти целый год Наталья ничего не знала о судьбе любимого мужа. А Ивана вместе с братьями Николаем и Александром вывезли под караулом в Тобольск. Там его ждала дыба и жесточайшие допросы. Пытки вынудили Ивана признаться во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Рассказывали, что, не выдержав мучений, он оговорил родных. Однако показания Ивана ничего не изменили. Долгорукие были осуждены заранее.
Иванушку приговорили к четвертованию, его младших братьев – Николая и Александра – наказали кнутом, предварительно отрезав языки. Во время казни Иван до самой последней минуты читал молитвы, не прерывая их даже тогда, когда ему ломали руки и ноги. Наташа при казни не присутствовала, ей не разрешили выезжать из Березова.
Самого младшего из Долгоруких – Алексея – императрица Анна пощадила – отправила простым матросом в экспедицию Беринга. Старшим Долгоруким отрубили головы, а сестер – Екатерину, Елену и Анну – насильно постригли в монахини. Опальная цесаревна Елизавета ничем не могла помочь несчастной семье, которой обещала свое заступничество и помощь. И крестной сестре цесаревны, Наталье Долгорукой, оставалось надеяться лишь на ее скорое воцарение.
Часть III
Месть императрицы Анны
Глава первая
Рыжеволосая Венера
Новая российская государыня, императрица Анна Иоанновна, терпеть не могла цесаревну Елисавет Петровну. Для Анны цесаревна была препятствием, навязчивой и неуместной соперницей, наваждением, тенью. С тех самых пор, когда три царевны – две Анны и Елисавета – ходили танцевать к немцу, державшему кабачок, и делили на троих интрижки и страсти, Анна возненавидела красавицу Лизу. Возненавидела тупо и обреченно, потому что ненависть свою утолить не могла. Да и что она могла сделать с этой полной, обворожительной в своей полноте красавицей, с этой рыжеволосой Венерой, она, «толстая Нан», невзначай ставшая императрицей? Разве в ее силах было отомстить за собственную некрасивость и Елисаветину красоту, за ежедневные унижения прошлого?
Племянницу Анну Петр I выдал замуж за курляндского герцога, которого чуть ли не до смерти опоили на свадебном пиру. На обратном пути в Курляндию несчастный молодой герцог умер, а его молодая вдова продолжила свой путь, дабы править герцогством по указке советников Петра. Дочь Лизу император прочил за французского короля, любил и баловал без меры. А она, Анна, поднадзорная герцогиня, нищенствовала в Курляндии, дрожала за каждую копейку и спала с приставленным дядюшкой соглядатаем, чтобы тратить больше дозволенного.
Рыжеволосой Венере доставалось все, Анне – только объедки. Анна выпрашивала, Елизавета брала, не считая. И если бы цесаревна сама не упустила батюшкин трон, никогда бы не достался он нищей курляндской герцогине, постоянно клянчившей деньги – сначала у Меншикова с Екатериной, а потом у барона Остермана.
Да и теперь, когда они поменялись ролями, ничтожная цесаревна мешала всевластной императрице. Гвардейцы называли Елисавету «матушкой» и готовы были взбунтоваться, и, главное, все осталось по-прежнему. Императрица Анна была все той же «толстой Нан», презираемой и ненавидимой, а цесаревна Елизавета – российской Венерой, обольстительной и любимой. И императорский трон не мог изменить этого соотношения сил.
«Сослать бы тебя, да подале. Или в монастырь заточить. А может, и убить вовсе», – думала Анна, разглядывая стоявшую перед ней Елизавету. Цесаревна долго не показывалась на глаза новой императрице, скрывалась у себя в Александровской слободе в обществе красавца-ординарца, о котором государыне уже успели нашептать кумушки-фрейлины. И вот теперь явилась во Всесвятское, где Анна принимала подношения и поздравления, награждала за верность преображенцев и кавалергардов и пыталась перехитрить членов Верховного тайного совета и Сената, после смерти юного императора Петра II призвавших ее на царство.
Верховники – Голицыны с Долгорукими, равно как и господа сенаторы, намеревались ограничить самодержавную власть новой императрицы и думали, что нищая курляндская герцогиня, невзначай ставшая государыней, не посмеет противиться их воле. Но Анна знала, что победит, обведет вокруг пальца всех этих хитрых господ, вообразивших себя хозяевами положения, и станет самовластной монархиней. Всерьез беспокоила Анну лишь красавица-цесаревна, склонившаяся перед императрицей в смиренном поклоне.
Лицо Елизаветы смирения не выражало – глаза смотрели лукаво и дерзко, в них было капризное, переменчивое сияние слабого зимнего солнца, блеск хрупкого невского льда, недоступная Анне магия новой северной столицы, которую императрица тайно и глубоко ненавидела. Пухленькая, нежная ручка Елизаветы теребила воротник собольей шубки, а на губах играла легкая, сладкая улыбка. И, слушая фальшивые уверения в преданности, которые слетали с розовых губок цесаревны, Анна думала, как наказать ее, да побольнее.
– Говорят, мотаешь ты больно. Денег тратишь не в меру. И долги уже завелись, – сказала наконец императрица, выслушав длинную и льстивую речь цесаревны и ответив на нее пустыми уверениями в монаршей милости. – А у державы Российской и своих долгов хватает.
Елизавета смутилась, улыбка в одно мгновение слетела с ее губ.
– Мои долги ничтожны, ваше императорское величество, – поспешила оправдаться цесаревна. – И, право же, не стоят ваших забот. А трачу я ровно столько, сколько мне отпускает казна.
– А мне говорили – поболе, – сурово заметила императрица. – И решила я твое содержание ограничить. Получать будешь от казны 30 тысяч рублей в год, жить от дворца подале. Дабы в заговоры, как при императоре малолетнем, не вступала и на власть верховную не посягала. Иди. Да руку целуй за милость.
Она ткнула под нос Елизавете широкую, грубую ладонь и вопросительно взглянула на соперницу. Но та уже овладела собой и просить о снисхождении, видимо, не собиралась. Быстро, небрежно, как будто ставила подпись на случайном документе, коснулась она руки императрицы и отошла в сторону. Не прошло и минуты, как к цесаревне подошел юный красавец в мундире сержанта Семеновского полка, и Елизавета незаметно страстно сжала его ладонь. Ответом на это рукопожатие была ободряющая, нежнейшая улыбка, и сердце Анны зашлось от ревнивой зависти.
Никто никогда не смотрел на императрицу так, и даже в лице своего давнего фаворита Эрнста-Иоганна Бирона ни разу не прочитала она такой готовности за нее пострадать. И, почувствовав тяжелый, ревнивый взгляд государыни, Елизавета окончательно приободрилась и белой лебедью поплыла вдоль рядов солдат-преображенцев, а те восхищенно смотрели ей вслед, как никогда не смотрели вслед императрице.
«Не поквитались, значит…» – думала Анна, наблюдая за этой сценой. И добавила, мысленно обращаясь к спутнику цесаревны: «Уж не взыщи, сержант, а висеть тебе на дыбе… А потом, ежели уцелеешь, быть от царевны далече. Не с тебя взыскать хочу, с нее. Чтоб знала, на ней твой крестный час, и всю жизнь терзалась и каялась. Это пострашнее ссылки будет».
И, довольная созревшим наконец планом мести, Анна для начала приставила к Алеше шпиона.
Глава вторая
Арест Алеши Шубина
– Корона Его императорского величества цесаревне Елисавете по праву принадлежит! – Эти слова сорвались с губ Алеши Шубина после памятного февральского дня во Всесвятском. Ординарец цесаревны знал, что Елисавет Петровну обошли, и после смерти юного императора корона должна была достаться ей, а не Анне Иоанновне, но только после встречи во Всесвятском понял, какой тяжелой и убогой станет жизнь его красавицы при новой государыне.
Елизавета вынуждена была покинуть свою любимую Александровскую слободу и переехать на окраину Петербурга, в Смольный дом, где жила в такой нищете и убогости, что на кухнях ее не хватало даже соли. Положенное от казны содержание приходило с неслыханными задержками, и не привыкшая к скудости мотовка-цесаревна все чаще впадала в меланхолию и сидела в одиночестве в своих покоях – непричесанная, унылая, в мятом шлафроке. Тщетно пытался Алеша утешить любимую, в ответ на его увещевания она лишь заливалась слезами и твердила, что новая государыня хочет ее извести. Одно утешало цесаревну – она была уверена, что покойный батюшка не допустит ее бесславной гибели. И Алеша с ужасом видел, как за спиной обожаемой им женщины встает тяжелая серая тень не покинувшего этот мир Петра.
Тогда Алеша понял, что час его настал. Он стал захаживать в казарму родного Семеновского полка, где раньше не бывал месяцами, заходил и к измайловцам, и к преображенцам. Пил водку по кабакам с друзьями-гвардейцами и везде говорил о попранных правах Елизаветы. И даже не подозревал, что императрице Анне доносят о каждом его шаге.
Через несколько недель после встречи во Всесвятском Шубин сидел в трактире неподалеку от казарм Преображенского полка с другом своим Александром Барятинским. На улице был лютый холод, и прапорщик с сержантом отогревались водочкой, вполголоса обсуждая виды Елизаветы на престол.
– А я говорю, что корона Его императорского величества цесаревне Елисавете по праву принадлежит! И сие преображенцам внушить должно, дабы они права Елисавет Петровны с оружием отстояли, – шептал Алеша на ухо князю Барятинскому, не замечая, что сидящий за соседним столом пьяненький немчик слишком уж внимательно для пьяного следит за ними взглядом.
– Цесаревна должна на бунт решиться, – шепотом ответил Барятинский, – в казармы прийти и сказать: «Ребята! Помните, чья я дочь?!» А мы уж за нею пойти готовы. И пойдем, коли прикажет.
– Робеет она, – вздохнул Алеша, – решиться не может. Говорит: «Час еще мой не пришел…» А ежели без нее? Самим за ее права постоять?
– Гвардия хочет матушку-цесаревну командиром видеть. И без нее на государыню не пойдет. – Барятинский опрокинул еще стопочку, сочно хрустнул огурцом и только потом осмелился по-свойски покритиковать царевну: – Что ж она детей у солдат крестит, с офицерами на Пасху христосуется, а мундир надеть не хочет да к делу нас призвать? Больно труслива твоя красавица…
Алеша, недолго думая, вскочил с места, схватил Барятинского за воротник мундира и приподнял его над столом.
– Ты, Александр, про нее так не смей! – осадил он друга. – Не тебе Ее императорское высочество судить. На то она и женщина, чтобы бояться. А ты на то прапорщик преображенский, чтоб за нее постоять!
– Больно ретив ты, Шубин. – Барятинский высвободился из цепких рук Алексея и огляделся по сторонам. – Вот смотри, немчура сидит и все на нас пялится, – добавил он, но подозрительный сосед как раз в этот момент рухнул лицом в стол, и Алеша отмахнулся от предупреждения, как от ветки, случайно хлестнувшей его по лицу.
– Ты, Александр, о деле думай, – заключил он. – А я Елисавет Петровну уговорить попытаюсь – чтоб кирасу кавалерийскую надела, села в сани, да к вам казармы, а я с нею – слугой верным, а потом и на дворец пойти скопом.
Шубин направился к выходу, но далеко уйти не успел. За дверью его уже ждали. Алешу втолкнули в карету и повезли по улицам Петербурга, одевшимся в надежную, надежнее кавалерийской, кирасу снега и льда. А в Смольном доме его дожидалась ни о чем не подозревающая красавица-цесаревна – и прихорашивалась на ночь, и медленно расчесывала перед зеркалом рыжие волосы, отливавшие сердечным пожаром и любовным беспамятством.
Об аресте Шубина Елизавете сообщил Лесток. Иван Иванович давно уже взял на себя роль вестника несчастий. Он знал наверняка, что только несчастья могут заставить русских действовать. Дурные вести Лесток излагал развязно и фамильярно, как будто говорил про себя: «Ну что, русский медведь, неужто и это тебя не встряхнет?» И иногда встряхивало.
С Елизаветой Лесток обращался грубо, без всяких французских тонкостей и экивоков, а когда ему пеняли на это, отвечал: «Помилуйте, с ней иначе нельзя – она глупа и ленива». Цесаревну, конечно, коробила развязность лекаря, но она терпела – как советчик Иван Иванович был незаменим. Но когда по утрам хирург являлся к ней с докладом, Елизавета поеживалась, словно от сквозняка, – дурные вести, казалось, были написаны на обширном лбу Лестока.
Правда, на этот раз Иван Иванович был несколько смущен – цесаревна не на шутку увлеклась смазливым гвардейским сержантом, и сообщить ей о том, что друг сердца в это самое мгновение, возможно, висит на дыбе, следовало поделикатней. Тем не менее арест Шубина показался хирургу превосходным способом подтолкнуть Елизавету на дворцовый переворот. «Мальчишку арестовали как нельзя вовремя… – решил лекарь. – Нынешняя императрица еще некрепко сидит на троне. Стало быть, нужно внушить принцессе, что освободить друга сердца она сможет, только воцарившись».
Ночной визит Лестока удивил Елизавету – обычно лекарь надоедал ей по утрам. При виде его кислой физиономии цесаревну, как обычно, пробрало холодом.
– Ваш друг оказался слишком болтлив, принцесса, – начал Иван Иванович, приложившись к пухлой ручке. – Как это похоже на русских – говорить о политике в кабаке!
– А где еще говорить прикажешь? – отрезала цесаревна, зевая. Она ждала Алешу и хотела отложить дурные вести на завтра. – Трактиры да ассамблеи самое подходящее для этого место. А коли случилось что, утром расскажешь. Не время сейчас, – и добавила с кокетливым простодушием: – Нешто не понимаешь? Друга жду.
– Знаю, принцесса, но он не придет, – произнес Лесток с тайной и жестокой радостью. – Не сможет… Арестован.
– Алеша?! – охнула цесаревна, и лицо ее исказила нервная батюшкина гримаса. – Когда?
– Несколько часов тому назад, принцесса. Ваш драгоценный Шубин болтал в кабаке невесть что, а за соседним столом сидел шпион из Тайной канцелярии. Так что теперь его наверняка допрашивают. Как бы мальчишка не наговорил лишнего! А то ведь вам, принцесса, недалеко до монастыря, а мне – до Сибири, или того хуже – до плахи.
– Будь покоен, – усмехнулась Елизавета, только усмешка получилась кривая, жалкая. – Алеша ничего не скажет. Даже на дыбе.
И тут же запричитала по-бабьи:
– Я к государыне в ноги брошусь, скажу – уйду в монастырь, скажу…
Лесток брезгливо поморщился при виде женской глупой слабости и прервал Елизаветины вопли грубым замечанием:
– В монастырь вас и так упрячут, принцесса, особливо если сами попросите. Только Шубина с дыбы не снимут и в полк не вернут. Императрица Анна не прощает заговорщиков.
– Но ведь Алеша не заговорщик! – возмутилась цесаревна.
– Конечно, не заговорщик, – охотно согласился Лесток. – Он болтун. А болтунов царствующая императрица сажает в крепость – чтобы разговаривали со стенами.
Хирург был доволен своим остроумием, но Елизавета от его шутки вздрогнула, как под кнутом.
– Как быть, Иван Иванович? Как помочь ему? – робко и жалко спросила она у Лестока. – Научи…
– Как быть, принцесса? – холодно переспросил Лесток, которому неожиданная безгневность цесаревны спутала карты. – Надобно подымать гвардию! Сами на троне будете и друга вашего спасете.
– Гвардию? – отшатнулась Елизавета – Нет! Не время еще, али сам не видишь…
– Время, принцесса, самое время, – заверил Лесток. – Императрица Анна еще не укрепилась на престоле вашего отца.
– Нет! – по-бабьи завыла цесаревна, вцепившись в руку Лестока. – Нет…
Лесток не стал слушать воплей и, вырвав свое рыхлое белое запястье из ее онемевших пальцев, позвал Мавру Шепелеву, утешать Елизавету. Та немедля явилась и завыла в такт, так же пронзительно и надрывно. Иван Ивановичу захотелось заткнуть уши – так раздражал его этот несносный бабий дуэт. Но пришлось постоять пару минут для приличия и даже проронить слезу. Исполнив неприятный долг сочувствия горю Елизаветы, Лесток покинул ее покои.
«Принцесса слаба, но я знаю, как придать ей сил, – подумал хирург, затыкая уши, чтобы не слышать несшихся за ним вдогонку воплей. – Русские проявляют чудеса храбрости лишь тогда, когда им больше нечего терять. Мужество отчаяния – вот что необходимо для революции. У принцессы его будет вдоволь».
Но вышло совсем не так, как рассчитывал Лесток. С той памятной ночи Алешиного ареста, которую Елизавета провела без сна, в слезах и причитаниях, на цесаревну нашло оцепенение, тупой и отчаянный страх. Она сжалась, поникла, к государыне на поклон не ездила и просьбами ее не изводила, затаилась, ждала. А когда узнала, что Шубина бросили в каменный мешок, где нельзя было ни встать, ни лечь, а приходилось, присев на корточки, сморщившись и съежившись, ждать приговора, то исходила ночными кошмарами, как рыданиями.
Елизавете снилось, что и она оказалась в такой же узкой и тесной, как могила, тюрьме, где ей при немалом, в батюшку, росте и статной фигуре пришлось поникнуть не только телом, но и душою и замереть в неподвижности, которая была цесаревне страшнее смерти. Она просыпалась от собственного крика, шепотом кляла императрицу Анну и ждала опалы и заточения. О возлюбленном своем вспоминала часто, но боялась даже спрашивать о нем, а не то что просить милости у новой государыни, только сочиняла жалобные стихи да плакала. Плакала часто – слезы давались ей легко. Так коротала красавица-цесаревна первые дни анниного царствования. Иногда, таясь, всхлипывала не то по-детски, не то по-бабьи и звала Алешеньку, как будто Шубин и вправду мог явиться на ее причитающий зов. Но он не только не являлся, а даже не снился цесаревне.
Последнее казалось Елизавете особенно несправедливым и непонятным, и иногда в душу закрадывалось сомнение – неужели и над снами ее властна новая государыня, неужели может она вот так, по одной своей воле, удалить Алешу и из жизни цесаревны, и из ее снов? И лишь тогда поняла, что не может, когда Елизавете наконец-то приснилось, что Шубин с ротой солдат морозной ночью ведет ее к дворцу – свергать новую императрицу.
Утешилась Елизавета, ожила, распрямилась телом и духом. Анна, не властная над ее снами, уже не так страшила цесаревну…
Елизавета с детства боялась сонной малодушной одури, находившей на нее, как припадки неизвестной и прилипчивой болезни, – она знала, что и у батюшки бывали приступы страха и бездействия, которых он всю жизнь стыдился, тогда как в бешенство впадал легко и с охотой.
«Где же ты, Алешенька, друг мой милый?» – шептала она по ночам, хотя прекрасно знала, что сейчас Шубин в каменном мешке или, того хуже, – висит на дыбе, и не сегодня завтра сошлют его в Сибирь или на Камчатку, и только захватив трон, сможет она изменить его и собственную участь. Но действий решительных и жестоких, как требовал от нее Лесток, цесаревна страшилась больше, чем разлуки с возлюбленным. Оправдывала себя тем, что не пришло еще ее время, что любой заговор сейчас будет обречен на неудачу, что недостаточно любит ее гвардия и мало страшится Анна, а без крепкой, такой, чтоб душу переворачивало, смеси любви и страха дворцовый переворот будет подобен несмазанной телеге, на которой впору только на лобное место ехать.
Втайне Елизавета надеялась, что Анна не выстоит и загрызет ее шумная придворная свора, но толстая и рябая девка, которой, как казалось Елизавете, было самое место в ее нищем курляндском герцогстве, на ногах стояла крепко, опираясь на немца Бирона. А ей, Елизавете, не на кого было опереться, кроме развязного лекаря-француза, который обращался с ней как с пугливой деревенской бабой.
Пока шло следствие над Шубиным, Елизавета истово молилась и без меры плакала. Сначала цесаревна изливала тоску в стихах, а потом стала подумывать о постриге. И пока Анна Иоанновна готовилась вытрясти из своих обидчиков душу, единственная ее соперница собиралась в монастырь, предпочитая свою печаль славе царствования.
Глава третья
Визит Барятинского
Александр Барятинский стоял на коленях перед цесаревной Елисаветой Петровной. В комнате было темно, холодно, горела одна-единственная свеча, то и дело потрескивая от усталости – так ей не хотелось освещать эту тягостную сцену. Свечи, дрова и соль Елизавета вынуждена была экономить, столь скудным оказалось отпущенное ей содержание.
Цесаревна сидела в кресле, ее неподвижный, рассеянный взгляд был устремлен куда-то в сторону и никак не мог встретиться с отчаянными, вопрошающими глазами Барятинского. Пухленькое личико цесаревны покраснело от слез, руки были бессильно скрещены на коленях, и Барятинский не узнавал в сидящей перед ним до смерти испуганной женщине ту восхитительную, победоносную красавицу, которая еще недавно, во Всесвятском, белой лебедью проплывала перед их полком.
– Ваше императорское высочество, – снова и снова твердил князь, – надобно Шубина из крепости спасать. А уж мы за вами идти готовы. Скажете – государыню с трона скинем. Вас на престол возведем. Допрашивают его сейчас, на дыбе висит. А потом, если жив останется, сгниет в Сибири. После заплечных дел мастеров никто не жилец. И ему не выжить.
– Знаю… – тихо, бессильно прошептала Елизавета. – Муки его во сне вижу. Но сделать ничего не могу.
– Да почему же, матушка? – в отчаянии закричал Барятинский.
Сейчас ему хотелось не валяться у цесаревны в ногах, а взять ее за плечи да встряхнуть хорошенько, чтобы реветь перестала и взялась за ум.
– Битый час перед вами на коленях стою. Пол вон весь в ваших покоях вытер. Товарищи меня в казарме дожидаются. Алешка на дыбе висит. А вы…
– А я, Александр Иванович, сделать ничего не могу. – Елизавета поднялась, подошла к Барятинскому и опустила на его дрожащие от волнения богатырские плечи свои слабые руки. – Знаю наверняка, ежели сейчас выступим, удачи нам не будет. И Алешу не спасем. Подождать надобно.
– Да откуда вы это знать можете? – изумился прапорщик.
– Батюшка ко мне приходил, – тихо, буднично сказала Елизавета. – Пришел и сказал: «Не время, Лиза. Поберечься надо».
Барятинский испуганно перекрестился. «Правы старики, – подумал прапорщик, вспомнив недавний, случайно услышанный им разговор солдат, ходивших в петровские походы. – Не ушел Петр Алексеевич из этого мира. Тень его за дочкой следом ходит. Да предостерегает, видно».
И, словно в ответ на его слова, лицо Елизаветы исказилось, а голубые глаза наполнились угрожающей чернотой.
– Рано еще выступать, – закричала она, быстро, нервно расхаживая по комнате широкими отцовскими шагами. – Меня в монастырь дальний сошлют, Алешу казнят, а тебя, дурака, с товарищами твоими – в Сибирь, да подале. От цинги гнить да лес валить. Сидите себе по казармам тихо да меня не тревожьте.
Елизавета снова села в кресло и добавила тихим, нежным, дрожащим голосом:
– А я за Алешеньку молиться буду. Даст Бог, отмолю его у государыни нашей.
– Благослови меня, матушка, – сказал Барятинский, поднимаясь с колен. – На страдание благослови. Потому как молчать я не буду и вслед за Алешкой на каторгу пойду.
Елизавета подняла было руку, но потом резко, решительно опустила ее.
– Не будет тебе моего благословения, Александр Иванович, – тихо, но твердо сказала она. – Не тебе эту чашу испить. Алешина она и моя. Иди себе с Богом да часа жди. Когда пора наступит, я сама вас на дело позову. Или ждать не умеешь?
– Умею, ваше императорское высочество, – вздохнул Барятинский и направился к дверям. Потом пулей вылетел в ночную темень и холод, а вслед ему понесся отчаянный елизаветин вой: «Где же ты, Але-е-шенька ми-и-лый?»
И долго еще прапорщику казалось, что плач этот летит вслед за ним, кружит над замерзшим городом и заставляет редких прохожих плотнее кутаться в свою жалкую одежонку… Так и дошел до казарм вместе с летевшим за ним воплем, а потом все не мог опомниться и ставил свечи в церквях за здравие рабов Божиих Елизаветы и Алексея и упокой души раба Божьего Петра…
Глава четвертая
Приезд Настеньки
«Ангел мой Настенька! Жизнь наша течет по-прежнему – легко и неспешно. Фрейлина моя Мавра Шепелева написала пьесу из древних времен – о прекрасной палестинской царице Диане, жене царя Географа, и ее жестокой свекрови. Свекровь эта Диану в пустыню изгнала, перед мужем оклеветала и погибели ее ищет. Хотели мы поставить пьесу сию на домашней сцене, в Смольном доме, где государыня велела мне поселиться. Да только вот не нашли никого на роль царя Географа, в коем царица Диана души не чает. Прежде заглавные мужские роли в театре нашем твой брат исполнял, да, видно, придется другого актера найти. Может, посоветуешь кого, Настенька, или сама к нам приедешь? Приезжай, душа моя, в Петербург, ждем тебя не дождемся.
Друг твой Елисавета».
Настя Шубина несколько раз прочитала это невразумительное письмо, потом поднесла его к глазам, как будто хотела прочесть между строк, но от этого оно не стало ни на йоту понятнее. К чему этот бессвязный рассказ о пьесе, сочиненной Маврой Шепелевой, история несчастной красавицы Дианы, над которой издевается безобразная свекровь? Но потом Настя вспомнила, что новая императрица Анна Иоанновна, как поговаривали видевшие ее люди, собой некрасива и цесаревну не жалует. Стало быть, рассказывая о страданиях прекрасной царицы Дианы, Елизавета имеет в виду себя и свою нынешнюю опалу. А если никого не нашлось на роль царя Географа, значит, с Алешей – первым актером домашнего театра Елизаветы – стряслась беда, и нужно немедля ехать в Петербург.
Объяснять отцу Настя ничего не стала и спешно покинула Шубино.
Настя вспоминала, как Алеша впервые привел ее к Елизавете, как она с восхищением вглядывалась в пухленькое, обольстительное личико цесаревны, без тени огорчения или зависти любовалась пленительным изгибом ее губ, чувственной и царственной улыбкой, манерой говорить, слегка растягивая гласные, и легко, еле заметно, словно играючи, касаться ладонью щеки брата. Боже мой, как она ловила каждое слово этой красавицы, как мечтала быть такой же беззаботной и страстной, уверенной в своем нерушимом праве на чужие судьбы и сердца! Как потом, вернувшись домой, с тенью недоумения и неудовольствия разглядывала себя в зеркале и видела серые, грустные глаза и усталую тихую улыбку, которой никогда не было на лице Елизаветы. И как мечтала быть хоть сколько-нибудь похожей на цесаревну, и однажды, словно травинку, мять в руках чье-то страстно бьющееся сердце. Но этого Настеньке было не дано – она лишь пыталась погасить зажженный Елизаветой огонь.
– Приехала, приехала! Велик Господь! Только брата твоего нет с нами… – горячо, быстро шептала Елизавета, обнимая едва ступившую на порог Смольного дома Настеньку. А та с удивлением смотрела на скромное тафтяное платьице цесаревны, на стянутые в узел волосы, которые раньше были уложены в замысловатую высокую прическу, на заплаканное, померкшее лицо и бессильно опущенные руки. Настя не узнавала стоявшую перед ней женщину, отчаянно, в голос рыдавшую.
– Что с Алешей? – спросила она.
– Арестовали его, Настенька, – прошептала Елизавета, – на дыбе висел…
Цесаревна прижала к глазам горячие ладони, как будто хотела отогнать страшное воспоминание. А потом договорила сквозь слезы:
– На Камчатку его сослали. От меня и от тебя подале. Я к государыне новой в ноги кинуться хотела, да поняла – она не в Алешу, она в меня метит. Меня уязвить хочет. И не спасти его никак.
– Как не спасти? – возмутилась Настя. – Гвардию подымать надо. Полк, где Алеша служил. Отцовский трон отвоюете и брата моего спасете.
– Не время еще, Настенька, видит Бог – не время! – оправдывалась Елизавета, рыдая на плече у любимой фрейлины. – В монастырь меня дальний сошлют или в Сибирь, а там и умереть недолго. Затаиться пока надо, терпеть. А потом я у власти буду и Алешеньку нашего освобожу. Ты только не покидай меня, Настенька милая. Не смогу я одна, никак не смогу.
Настенька глубоко вздохнула, обняла Елизавету и нежно, медленно провела рукой по ее спутанным волосам. В это мгновение сестре сосланного на Камчатку ординарца цесаревны показалось, что утешает она не любимую дочь грозного императора, а испуганную девчушку, которой приснился кошмарный сон. Настя терпеливо, по-матерински, шептала Елизавете слова утешения, и постепенно отчаянные рыдания стихали, и в глазах российской Венеры появлялся прежний, капризный, как петербургское солнце, блеск…
Настенька увела Елизавету в ее покои, а потом долго еще сидела одна в отведенной ей комнате, медленно раскачиваясь на постели и повторяя вслух: «Алеша жив, он вернется…»
Так она просидела всю ночь, а наутро сон накрыл ее с головой, как волны никогда не виденного моря. Во сне Настя увидела, как Алеша, словно ребенка, нежно и бережно ведет Елизавету за руку, но глаза у цесаревны почему-то закрыты, а на лице порхает легкая, победоносная улыбка. «Ей ангел-хранитель в человеческом облике положен», – подумала Настенька и поняла, что в отсутствие брата ей самой придется вести Елизавету за руку. А потом, когда придет срок, напомнить цесаревне о страшной Алешиной участи.
Часть IV
Певчий из Лемешей
Глава первая
Юность Олексы
Олексу Розума Бог одарил необыкновенным голосом. Громоподобный бас Олексы трубой звучал в деревянной церкви украинского села Чемеры, где красавец Розум числился в певчих. Но чемерский дьячок, слыхавший знаменитых на всю Украину певчих из Киева и Глухова, морщился, как от кислого яблока или зубной боли, когда Олекса доходил до совсем уж непомерного рева. В простоте сердечной Розум не отличал форте от пиано и валил таким грохочущим звуком, что дьяк приберегал его для тех мест литургии, в которых нужно было возопить или воззвать.
– В Киев тебе надо, Алешка! – говорил дьяк, учивший Олексу грамоте. – Голос тебе дан силы и красоты великой, а пользоваться им не умеешь. Не всегда ведь, чадо, грохотать надобно. Ангелы на небесах поют тихо и сладко, а ты только глотку рвешь…
Отец Розума, реестровый казак и горький пьяница, с завидным упорством пропивал все, что было в доме, а когда Олекса, не стерпев семейного разорения, выволок его из шинка, чуть было не разнес сыну топором голову.
Пасти лемешевское стадо Розуму было скучно, еще скучнее по вечерам унимать пьяного отца, поэтому всерьез Олекса привязался только к чемерской церкви да к дьячку, с которым беседовал о глуховских певчих и ветхозаветном пастухе Давиде.
Бог одарил Олексу не только голосом, но и красотой. Красив Розум был необыкновенно, с правильными, хотя и несколько крупными, чертами лица, карими очами, дугообразными и изящными, как у женщины, ниточками бровей, красиво очерченными губами, но при этом широкоплеч и силен, без тени женственности и хрупкости, обычно присущей подобной красоте.
Для тех, кто мог слышать Олексу в чемерской церкви, красота Розума ничего не добавляла к его голосу. Будь он хоть вдвое красивей, это не заставило бы прихожан растрогаться больше, когда Олекса выводил «Покаяния отверзи ми двери» и глухим рокотом вторил ему хор. Красота Розума принадлежала миру, а голос – храму, и даже дьяк, ругавший Олексу за ор и рев, иногда, в особенно волнующих местах «Верую» или «Ныне отпущаеши», закрывал глаза и протяжно вздыхал.
Дорога от родных Лемешей до соседних Чемер поначалу казалась Олексе легкой и сладкой. Розум ежедневно покидал тяжелый лемешевский быт, семейные дрязги, отцовское неуемное буйство ради Чемерской церкви, где голос его был скромным подношением храму, и бесед со словоохотливым дьяком.
Глубоко в душу Олексе запала история о царе Сауле и пастухе Давиде, излечившем его. Лемешевский пастух искренне верил, что и ему достанется какой-нибудь больной духом царь, которого он излечит своим пением. Был Олекса в своих желаниях искренним и почестей не ждал, а хотел лишь излечить больную и грешную душу и сделать это посредством своего голоса. Чудесная власть пения – вот что томило и волновало Олексу!
Иногда по ночам приходило к Олексе видение – рыжеволосая красавица со щеками в ямочках, с грустным, заплаканным лицом, и думал тогда Розум, что вот он – этот самый больной духом. Но кто она и какое отношение имеет к его мечтам – Розум не знал.
Когда Олекса рассказал о своих фантазиях дьяку, тот сначала перекрестился, а потом выругал Розума на чем свет стоит.
– Давид был посланник Божий! – орал дьяк, и даже брови на его полном, благообразном лице тряслись от негодования. – Ты что, Алешка, в посланники Божьи себя рядишь?! Не рано ли? Лучше петь научись, честной отрок!
– А я научусь, видит Бог, научусь! – оправдывался Олекса и клял себя за непомерную гордыню. – Вот в Глухов поеду и научусь… А то еще в Киев можно, в хор митрополичий…
– Можно и в Киев, – соглашался дьяк. – А мысли эти брось, слышишь… Ишь ты, в Давиды лезет!
Глава вторая
Полковник Вишневский
Зима 1730 года выдалась дождливая и рыхлая, окрестные села тонули в грязно-белой хляби, и приевшаяся дорога от Лемешей до Чемер уже не казалась Розуму легкой и сладкой. Он увязал в снеговой каше, мок под дождем и что было сил прислушивался к странному ожиданию природы.
Природа, как и Олекса, ждала изменения своей участи, скорого и близкого, и так же жадно прислушивалась и приглядывалась. Розуму чудилось, что небо набухло Господней волей, что скоро, очень скоро, его судьба, как корабль, застоявшийся на мели, сдвинется с насиженного места и уплывет неизвестно куда.
Меж тем все было по-прежнему – отец пил, бросался с топором на мать и братьев, а в церкви Олекса смущал односельчан своим разросшимся громовым пением.
В ту зиму у России, а, значит, и у Украины, появилась новая государыня. Розум почти ничего не знал о новой императрице, но, как и многие его соотечественники, жалел, что ее место не заняла цесаревна Елисавет Петровна. Не в пример батюшке, Елизавета почитала малороссов – благо в духовниках у нее был малоросс Дубянский. Однако Елизавета, упустившая отцовский трон, была не в чести у новой государыни – а вместе с ней и отец Федор. Опальная цесаревна окружала себя малороссийскими певцами и бандуристами, и многие олексины соотечественники мечтали попасть в узкий круг ее приближенных. Чемерский дьяк уже подумывал о том, как бы пристроить Олексу к отцу Федору Дубянскому, но провидение предупредило его намерения. Летом 1730 года в Чемерах оказался придворный императрицы Анны полковник Вишневский.
Как только Федор Степанович Вишневский выбрался из-под колпака великого петербургского страха, его перестали терзать болезни и подозрения. Федор Степанович – в недавнем прошлом бравый полковник – стал ныне робким поставщиком императорских удовольствий. Он ездил в Венгрию за винами и в Малороссию за певчими. Вишневский слыл при дворе ценителем прекрасного, тонким знатоком вин и музыки, благо он воротил нос от голландской водки и в церкви ретиво подпевал хору.
Новая императрица терпеть не могла «шкиперского пойла», должно быть, в пику дядюшке Петру, и предпочитала вина – французские и венгерские. К церковному пению она была неравнодушна, но певчих подбирала высоких и статных, как солдат. При дворе Анна живо устроила солдатчину – поминутно палила в цель, муштровала шутов и женила придворных. Великий страх по пятам преследовал ее приближенных, и даже король петербургских щеголей гофмаршал Рейнгольд Левенвольде сгибался перед матушкой-государыней в три погибели, подметая пол брюссельскими кружевами.
Страх крепко держал полковника Вишневского за горло, но в Венгрии, слава Богу, полегчало. Эта милая страна располагала к бесстрашию, и Вишневский дышал легко, как юноша, и спал сладко, как младенец. В первые дни путешествия Федор Степанович, правда, еще пребывал во власти императрицы Анны, и воспоминания о придворной муштре омрачали радость недолгой свободы. Но потом страна маленьких, словно игрушечных, замков на дунайских кручах, токайского и марципанов настроила полковника на безмятежный лад. Он распустил живот и мысли и поминутно тянул – напополам с токайским – фривольные амурные куплетцы.
В Венгрии Федор Степанович так разошелся, что в Малороссию въехал этаким краснорожим Бахусом.
Новая государыня успела внушить украинцам отвращение – говорили, что она дожидается только смерти гетмана, Данилы Апостола, чтобы положить конец гетманскому правлению. Апостола и без того держали за горло воспоминания о Петропавловской крепости, из которой он, к счастью, вышел живым – предыдущий гетман, Павло Полуботок, скончался в крепости во время следствия.
Больше всего полковника Вишневского растрогала уверенность украинцев в том, что цесаревна Елисавет Петровна непременно исправит отцовскую жестокость по отношению к Малороссии.
Цесаревна действительно, не в пример батюшке, почитала украинцев, благо на Украине у нее были поместья. Но Елисавет Петровна выпустила власть из своих рук и ныне жила тихо и убого, в Смольном доме, на окраине Петербурга.
«Хороша заступница… – думал Вишневский. – Сама не сегодня-завтра в монастыре или того хуже – в Сибири окажется, а они от нее помощи ждут. Знала бы об этом государыня – быстро бы на Елисавету клобук надела… А ежели донесли уже? Доносы в пути не мешкают, не то что добрые вести…»
Певчих Федор Степанович набрал немало – статных и кареглазых, как велели, и к концу своего путешествия оказался в селе Чемеры. Малороссийские пейзажи всегда располагали Вишневского к сентиментальности, и порой ему казалось, что в этом жасминно-облепиховом раю расчувствовалась бы и сама императрица. Проезжая вечером обычной сельской дорогой, мимо лугов с благоуханными травами и деревянной с зелеными куполами церкви, он как будто понимал, почему невзлюбил этот край покойный Петр I.
Здесь было слишком покойно, слишком медленным казалось течение времени, а Петр говорил и действовал на диво быстро, ходил семимильными шагами, как ветряная мельница размахивая руками-лопастями. Покойный император не мог ужиться с обычным течением отпущенного человеку бытия, его раздражал черепаший ход событий, слишком длинные промежутки между желанием и свершением и жалкие, словно из милости отпущенные сроки.
В Малороссии жили, не торопясь, истово и по старинке, как староверы в поморских лесах. И Вишневскому захотелось остановиться, оттянуть возвращение в Петербург, забыться сладким сном в лоне новообретенной смелости. Там, на Севере, за эту смелость нужно было платить, а здесь она давалась даром, вдыхалась вместе с дурманящим ароматом лугов. Но Вишневский знал, что даровая смелость может быть сметена первым враждебным вихрем, тогда как выстраданное бесстрашие намертво прирастает к коже. «Труслив я, – с безмерной жалостью к самому себе подумал Федор Степанович. – Есть грех…»
Зазвонили к вечерне, и Вишневский, оставив своих людей и груз на попечение еврея-шинкаря, решил подняться к стоявшей на холме зеленокупольной церкви Архангела Михаила. Шел он медленно, быстро не позволял изрядный вес, и потому опоздал к началу службы. В дверях побагровевшего, задыхающегося Федора Степановича настиг трубный глас, обернувшийся низким, громоподобным басом певчего. Чудесный голос увлекал за собой хор, и прослезившийся Вишневский чувствовал, как его попранная великим страхом душа устремляется к высотам незнакомой доселе смелости.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения мои, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и неведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец», – шептал Вишневский, слегка изменив молитву. «Трусость мою прости и бесстыдство», – добавил Федор Степанович и с мучительной судорогой душевного отвращения вспомнил, как перед отъездом в Венгрию угодливо смеялся площадным шуткам Анны.
Пока на клиросе рокотал хор, полковник не решался взглянуть на диковинного певчего. Федор Степанович не хотел знать, красив или уродлив, молод или стар тот, кто так смутил его душу. Но когда хор смолк, Вишневский нагляделся на певчего всласть, и красота юноши смутила его не меньше, чем голос.
«В Петербург бы сего певчего, на государынины очи…» – решил Вишневский, и незнакомый красавец показался ему спасительной нитью, нечаянным источником царского милосердия. «С таким голосом и не умилостивить государыню! Быть того не может…» – Расчувствовавшийся Вишневский уже мечтал о смягчении нравов и прекращении казней, но оборвал свои мечты на самой высокой ноте.
Малороссийский певчий был не во вкусе государыни, предпочитавшей топорность и силу изяществу и красоте. Впрочем, с таким голосом можно было рассчитывать на чудеса, и Вишневский решил уговорить юношу ехать с ним в Петербург.
Уговаривать Олексу не пришлось. Розум как заранее знал все, что собирался ему посулить этот невесть откуда взявшийся вестник. С письмом чемерского батюшки к отцу Федору Дубянскому и материнским благословением Олекса покинул Лемеши.
Глава третья
Женщина из снов
Розум оказался в Петербурге поздней осенью. То и дело шел скучный, противный дождь, от реки тянуло болезненной сыростью, и, главное, тяжело спалось.
Добрейший Федор Степанович Вишневский, развеселый попутчик Олексы, в Петербурге как-то померк, похудел и сник. Он успел, правда, представить Розума гофмаршалу Рейнгольду Левенвольде и определить красавца в придворную певческую капеллу. В капелле малороссов было много, и Олекса оказался в приятном окружении соотечественников. Но пели они куда лучше, чем он, и вскоре Розум стал стыдиться своего рева.
Певческое искусство Розум постигал истово и усердно, а когда выдавалась свободная минута, бродил по Петербургу и сам не понимал, любит он или ненавидит этот странный город, так не похожий на те города и веси, через которые они проезжали с полковником Вишневским по дороге сюда.
И как-то вечером он увидел ее. Сани вихрем пронеслись мимо Олексы, но певчему достаточно было мгновения, чтобы узнать пухлые щечки в детских ямочках, рыжие волосы и голубые глаза. Это была она, женщина из его снов, что приходили к Розуму в родных Лемешах. Взгляд ее был таким же тихим и жалобным, и Олекса знал, что никто, кроме него, не сможет рассеять эту мертвую тоску.
Потом Розум еще раз увидел ее на пустынной площади перед капеллой.
– Хто це? – спросил он у певчего-малоросса, бывшего киевского семинариста.
– А хіба ти не знаєш? – удивился тот. – Цесарівна Лизавета. Дочка Першого Петра.
Все сошлось в одно мгновение.
Стало быть, именно Елизавета тот больной царь, которого должен Олекса исцелить своим голосом! «Что ж ты, Алешка, в Давиды себя рядишь?!» – вспомнил Розум гневный окрик дьяка. Но разве было кощунством желание помочь и ощущение благой силы, к которой он теперь становился причастен?! Оставалось только избавиться от ора и рева, усвоить хоть часть ангельского сладкозвучия, чтобы голосом своим помочь несчастной царевне. И Олекса старался так, что даже сам капельмейстер-итальянец решил, что пора уже выпустить голосистого красавца на государынины очи и разрешить ему спеть вместе с другими, лучшими певцами в придворной церкви Анны Иоанновны.
Олекса заметил царевну сразу, хотя ее пухленькое личико еле выглядывало из-за массивных плеч новой императрицы. Елизавета была грустна, бледна, в своем обычном теперь полумонашеском тафтяном платье – и не выпускала руки Насти Шубиной, с которой показывалась всюду, не боясь гнева государыни. Взгляд у цесаревны был тяжелый, неподвижный, отстраненный, и лишь иногда загорался теплой, робкой улыбкой, как будто через головы окружающих она переглядывалась с какой-то невидимой остальным, но необычайно важной для нее персоной.
Когда Олекса увидел Елизавету, исчезло все вокруг. Олекса пел так, как никогда еще ему не удавалось – ни в чемерской церкви, ни здесь, в Петербурге. Но голос его был подобен не грозному раскату иерихонской трубы, а ангельскому сладкозвучию, и слушателям хотелось не устремиться за ним к высотам мужества, а упокоиться в лоне благодати.
Розум забыл о себе, забыл обо всем на свете – он видел лишь купол церкви и пухленькое личико царевны. И с каждой удачно взятой нотой это лицо все больше и больше приоткрывалось для него – как тайна, с которой срывалась одна печать за другой. Он давно уже оставил позади себя хор, и капельмейстер-итальянец беспомощно застыл за изящной спиной распорядителя придворных увеселений Рейнгольда Левенвольде. Но свершилось главное – Елизавета как будто очнулась от сна, лицо ее потеплело и обмякло, а стоявшая рядом с ней сероглазая барышня бросила на Олексу растерянный взгляд отпущенной на свободу рабыни.
Когда все закончилось, цесаревна подошла к певчему и робко, словно на ощупь, коснулась его щеки мягкой, как у ребенка, ладонью. Она как будто искала в нем черты кого-то другого, но, даже не найдя их, улыбалась все так же умиротворенно и ласково.
– Как зовут тебя? – спросила она наконец, и низкая, грудная волна цесаревниного голоса обдала Олексу сокровенной сладостью.
– Олекса Розум, – ответил он. – По-вашему – Алексей, Алеша…
– Алеша? – ахнула цесаревна, и лицо ее исказилось. А потом спросила, справившись с навернувшимися на глаза слезами: – Будешь петь для меня, Алеша?
Этот вопрос и решил его участь.
Глава четвертая
Новый ангел
– Как ты, Алексей Григорьевич, на брата моего похож, – говорила Настенька Шубина, задумчиво наблюдая за Розумом, который, дожидаясь Елизавету, распевался в примыкавшей к Лизанькиным покоям гостиной.
Розуму давно уже не давали покоя взгляды Елизаветиной подруги. Сам он считал себя счастливцем и тешился счастьем, как ребенок – редкой и драгоценной игрушкой, но эта милая сероглазая барышня почему-то видела в нем осужденного на казнь. И каждый раз, встречая ее сочувствующий взгляд, Олекса искал в себе страдание, но не находил его. Теперь же эта не в меру чувствительная особа утверждала, что он похож на ее несчастного брата.
– Чем же это я на Алексея Яковлевича похож? – спросил Олекса, прервав свои вокальные упражнения.
Настенька несколько минут раздумывала.
– А тем, что помочь Елисавет Петровне хочешь, – ответила она наконец, бросив начатое вышивание на приютившийся рядом колченогий столик. – Вот и брат мой того же хотел, а теперь на Камчатке мучится. Бежал бы ты от царевны нашей подале.
«О брате старается… – подумал Олекса, – хочет, чтобы Лизанька его дожидалась», – но Настя, словно прочитав его мысли, задумчиво продолжила:
– Не о том пекусь, чтобы Елисавет Петровна брата дождалась, а о том, чтобы горя вокруг себя не множила…
– Да почему же горя? – с самым искренним недоумением спросил Олекса. – Счастлив я подле нее.
Олекса и действительно был счастлив. Цесаревна приблизила его к себе, и вскоре Розум стал вхож не только в покои, но и в сердце Елизаветы. По вечерам он пел Елизавете и Насте, и обе девицы его заслушивались: цесаревна – до слез, Настя – до тихой задумчивости.
– Тихий ангел пролетел! – говорила тогда Елизавета и, отерев слезы, уводила Олексу в свои покои.
Цесаревна называла его на русский лад – Алешей Разумовским, малороссийское «Олекса» казалось ей странным и неблагозвучным, но Розум вскоре заметил, что каждый раз, произнося его имя, Елизавета вспоминает сосланного на Камчатку возлюбленного. Это и томило, и радовало Олексу – ему не хотелось считать себя вором, завладевшим в отсутствие Шубина сердцем и памятью его непостоянной подруги, но в то же время было почти нестерпимо видеть, как цесаревна ищет в его чертах другие черты.
Настенька вздохнула и вернулась к начатому вышиванию. Олекса пристально взглянул на нее, а потом затянул протяжную малороссийскую песню, до слез умилявшую обеих девиц.
«Цвіте терен, терен цвіте, цвіте – опадає, хто з любов’ю не знається, той горя не знає…» – пел он, надеясь, что Елизавета, с утра запершаяся в спальне и пребывавшая в меланхолии, выйдет и подпоет ему. Обычно так и случалось: какая бы тоска ни томила цесаревну с утра, голос Розума придавал ей силы.
«Сладко поет, – подумала Настенька, – но жалко его, бедного. В ангелы-хранители к Елисавет Петровне набивается. А того не знает, что тяжело ангелам на этом свете живется. Когда кого-то за руку ведешь, пальцы немеют…» Она до крови уколола палец и машинально отбросила натянутую на обруч ткань – в комнату вошла Елизавета и полной грудью, всласть, коверкая украинские слова, подпела Розуму.
– Ну и голосистый же ты, Алеша, – сказала цесаревна, обнимая певца за плечи, и Настя невольно вздрогнула. Она так часто слышала из Елизаветиных уст имя брата, что, обращенное к Разумовскому, оно казалось вещью, не нашедшей хозяина. – Как голос твой услышу, так печаль словно рукой снимает. А ты, Настя, что грустишь?
– Домой мне пора, Елисавет Петровна, – ответила Настенька и почувствовала, что сбросила с плеч неслыханный груз.
Насте и в самом деле нечего было делать рядом с повеселевшей цесаревной, которая уже не видела в своей подруге спасительницу.
– Зачем же домой? – растерянно спросила Елизавета, хотя давно ждала этого решения. – Разве плохо тебе здесь?
– Письмо я получила, – вздохнула Настенька. – Батюшка болен.
– Ну, ежели так… – Елизавета звонко расцеловала Настю в щеки, и та не почувствовала в голосе цесаревны горечи расставания. – Отца на ноги подымай и к нам возвращайся.
– Вернусь, когда ты, Лиза, в силе будешь и Алеше помочь сможешь, – ответила Настенька, с тайным удовлетворением наблюдая, как при имени брата на лицо Елизаветы ложится скорбная тень.
Глава пятая
Смерть капитана Шубина
В Шубино Настю ожидали нерадостные вести. Узнав о сыне, Яков Петрович сначала впал в буйство и попытался изрезать ножом портрет любимого императора, а потом слег, истощив жизненные силы в этом порыве отчаяния. Послали за лекарем, но и после спешных врачебных мер Шубину-старшему не полегчало.
– Ты скажи мне, Настя, зачем все это? – спрашивал Яков Петрович у дочери. – Столько лет тянул лямку – под Нарвой отступал, под Лесной и Полтавой викторию одерживал, пальца лишился, хотел пожить на покое, но и тут он ко мне подобрался…
– Кто он, батюшка?
– Как кто? Государь Петр Алексеевич. Я ведь сразу заметил, как царевна к нам в дом пожаловала – он это, государь покойный. Вишь, женский лик принял, чтобы и дальше мучить нас, грешных. Вон ведь, Алеша на Камчатке, а теперь мой черед пришел. Нигде от него не скрыться. Помру я, Настя, а ты поезжай к тетке Ирине, схоронись. Может, он тебя и не найдет. Ирина ведь свое отмучилась, и он ее боле не тронет. А тебя погубить может.
Настенька редко виделась с теткой – та давно уже не приезжала в Шубино, жила одна в своем московском доме. Ирину Яковлевну раздражало то, что брат до сих пор по-собачьи предан покойному императору, который словно играючи разрушил ее судьбу. Покойный жених Ирины, Дмитрий Градницкий, некогда принял сторону царевны Софьи, и, как догадывалась Настя, только потому, что его невеста была одной из ближайших подруг правительницы. Петр подавил бунт, а Дмитрию, как и многим другим стрельцам, собственноручно отсек голову.
Рассказ о страшной смерти жениха Ирины Яковлевны Настя услыхала в детстве и с тех самых пор ей то и дело представлялась одна и та же сцена – изображенный на портрете грозный царь заносит топор над покорно склоненной головой Дмитрия, который почему-то странно похож на Алешу…
– Да примет ли меня Ирина Яковлевна? – спросила Настя. – Давно она к нам не приезжала, и знать нас, видно, не хочет.
– Письмо я от Ирины получил, – ответил Яков Петрович, – еще до Алешиного ареста. В гости она меня звала – столько лет не видались. Простила, верно, за то, что я Петру Алексеевичу верно служил. Да теперь уж и не свидимся. Пора мне на покой.
Яков Петрович отошел легко, без мучений, а перед смертью попросил дочь вернуть портрет на место, в гостиную. Она не смогла ослушаться, и грозный император по-прежнему следил за Шубиными недобрым, тяжелым взглядом. Только хорошенькое личико рыжеволосой красавицы уже не проступало сквозь его суровые черты…
На похороны Якова Петровича приехала только тетка Ирина – прочие родственники и свойственники, узнав о наказании, постигшем Алексея, обходили Шубино стороной. На отпевании Ирина не проронила ни слезинки и лишь, грозно сдвинув брови, смотрела куда-то поверх гроба и свеч.
Настя еще на отпевании поняла, что отец прав и ей теперь самое место в доме тетки Ирины. Дом сей был явлением необычайным. После казни своего жениха Ирина Петровна словно в отместку государю-императору стала принимать у себя всех хоть сколько-нибудь обиженных властью. Калеки, сирые, убогие наводнили ее дом. Даже сам Петр, когда ему донесли о подобном безобразии, лишь махнул рукой, подивившись храбрости Шубиной, да оставил «сумасшедшую бабу» в покое.
Мсье Дюваль склонял Настю к Франции, поговаривал, что там у него остался друг, но Настенька знала, что belle douce France сейчас не для нее.
Сразу после похорон она уехала в Москву, прихватив с собой Дюваля.
Глава шестая
Французский дипломат
Двадцатипятилетний Андре д’Акевиль приехал в Россию так, как другие садятся за игорный стол. Во всей Европе играли по маленькой, и только в России делали крупные ставки. Дипломат д’Акевиль не хотел мелочиться и поэтому присоединился к русской игре. В краткий период междуцарствия, последовавший за смертью юного государя Петра II, д’Акевиль поставил на цесаревну Елизавету и проигрался в пух и прах. Поэтому после воцарения Анны Иоанновны ему было предписано в недельный срок покинуть Российскую империю.
Накануне отъезда из России д’Акевиль явился с прощальным визитом к Елизавете. Смольный дом, где обитала цесаревна, находился на окраине Петербурга, и карета дипломата долго петляла по темным, заснеженным улицам, в то время как сам Андре проклинал все на свете, а больше всего – необходимость засвидетельствовать свое почтение забравшейся в такую даль красавице. Когда же Андре наконец-то добрался до малопрезентабельного жилища, именуемого Смольным домом, то сначала ему долго не открывали, а потом на пороге появился неряшливо одетый француз с огарком свечи в незатейливом медном подсвечнике. При виде соотечественника француз оживился и, приторно улыбаясь, поведал, что принцесса Елизавета пребывает нынче в меланхолии и слезах, но гостя из belle douce France примет охотно. Затем новый знакомый д’Акевиля, назвавшийся лейб-медиком принцессы Жаном-Рене Лестоком, провел дипломата через несколько полутемных, тесных комнат, в последней из которых полная рыжеволосая женщина рыдала на широкой груди статного красавца. Тот ласково гладил ее по волосам и шептал что-то утешительное на непонятном д’Акевилю языке, отдаленно напоминавшем русский.
Андре деликатно кашлянул – и рыжеволосая дама отпрянула от своего утешителя. Она вопросительно посмотрела на д’Акевиля, не выпуская руки «друга сердца», и разговор пришлось продолжать вчетвером – на пороге застыл француз-лекарь.
Андре заверил цесаревну в своей преданности, сказал, что получил предписание покинуть Российскую империю и причиной такой немилости государыни является его незыблемая верность Елизавете, а напоследок спросил, не будет ли поручений. Собственно, никаких поручений он выполнять и не собирался, фраза была дежурной, но заплаканное личико Елизаветы вдруг осветилось такой надеждой, что Андре смутился и замолчал.
– Есть поручение, есть! – заторопилась она. – Подругу мою и фрейлину от Сибири спасти надобно. Во Францию увезти – от государыни подале.
– Какую подругу? – опешил д’Акевиль, от удивления ставший невежливым.
– Настеньку Шубину, – так же торопливо продолжила Елизавета, как будто д’Акевиль не мог не знать, кто такая эта Настенька. Впрочем, от женщины, только что отчаянно рыдавшей на груди у своего любовника, трудно было требовать логики.
– Ее высочество имеет в виду Анастасию Яковлевну Шубину, сестру своего бывшего ординарца, – вмешался в разговор встретивший д’Акевиля француз. Он, единственный в этом царстве эмоций, говорил бесстрастно и рассудительно, и Андре облегченно вздохнул – что ни говори, приятно встретить разумного человека в таком бедламе. – Сержант Семеновского полка Алексей Шубин был обвинен в государственной измене и сослан на Камчатку. Сегодня императрица Анна Иоанновна вызывала ее высочество к себе и сказала, что недовольна поведением друзей принцессы.
– Государыня сказала, что Настенька мутит Москву и бунтовщица похуже брата, – всхлипывая, продолжила Елизавета. – И что ежели Настя из Москвы по доброй воле не уедет, то проследует в Сибирь под конвоем… Спасти ее надобно, от гнева государыни укрыть! Во Францию увезти, как невесту вашу. А там, может, и под венец пойдете. Красавица она и умница, каких мало… – неожиданно добавила Елизавета, выбив из-под ног д’Акевиля и без того скользкую почву. Женитьба, да еще на русской опальной девице, никак не входила в его планы.
– Гарна дивчина! – поддержал свою возлюбленную статный красавец, и его карие глаза засветились добродушной усмешкой. – А уж Елисавет Петровна вас отблагодарит.
– В долгу не останусь! – Елизавета умоляюще взглянула на Андре. – Взойду на престол – червонцами долг отсыплю. А то и землицей в России: деревнями, крестьянами.
Слова про деньги и особенно про землю д’Акевилю понравились. Даже очень, почему бы и нет, в самом-то деле?
– Возьмите Настеньку с собой, сударь, – твердила Елизавета. – Должницей вашей вечной буду. Крест на том целую.
Она быстро прижала к губам висевший на шее крохотный крестик, и д’Акевиль задумался.
«А если это Фортуна? – промелькнуло у него в голове. – Если я схватил богиню удачи за край плаща? Принцесса Елизавета взойдет на престол, а я стану посланником Французского королевства при русском дворе. А если девица, за которую просит принцесса, окажется приятной особой, сдобной и сладкой, как все русские красавицы, то меня ожидает приятная дорога на родину. Жениться на ней я, конечно, не стану, но под свою опеку возьму. А может, и женюсь, если сладко в дороге будет…»
– Я согласен, ваше высочество, – ответил Андре после недолгих раздумий. – Где же ваша протеже? – Он заинтересованно оглянулся по сторонам, как будто пресловутую Настеньку прятали в соседней комнате.
– В Москве она, – улыбаясь, зачастила Елизавета, – а я вам к ней письмо напишу. Из Москвы и увезете невесту вашу. Алешенька, перо да бумагу принеси мне, ангел… – добавила она, обращаясь к любовнику, и тот сию минуту бросился исполнять ее просьбу.
Дальнейшее произошло так стремительно, что дипломат опомнился только за порогом Смольного дома. Ему всучили записку в мятом, надушенном конверте, затем Елизавета бросилась ему на шею и расцеловала в обе щеки, ее любовник крепко пожал руку, а лекарь-француз развязно потрепал по плечу.
Последняя ставка, сделанная д’Акевилем в русской игре, превратила его из прожигающего жизнь холостяка и ветреника в добродетельного жениха неизвестной русской девицы. Он отправился в Москву за невестой.
В Москве д’Акевиля охватили сомнения. Конечно, ставка была сделана, и еще в Петербурге удалось выправить выездной паспорт для будущей мадам д’Акевиль, но теперь дипломату представлялось совершенно невозможным тащить через границу в качестве багажа незнакомую и, возможно, некрасивую девицу. И даже если бы эта Настенька оказалась charmante и скучную дорогу удалось бы скрасить приятным флиртом, то д’Акевилю вовсе не улыбалось опекать мнимую невесту и в belle douce France.
Однако если бросить на произвол судьбы любимую подругу цесаревны, то последняя сделанная в России ставка сведется на нет.
Стало быть, багаж превратится в камень на шее и придется и в самом деле жениться. А женитьба казалась дипломату самым прискорбным проигрышем…
Часть V
Бегство Настеньки
Глава первая
Жертвы времен Петровых
Дом Ирины Яковлевны Шубиной произвел на д’Акевиля впечатление то ли лазарета, то ли монастыря. Дом был переполнен жертвами прошлых и нынешних времен, а сама хозяйка – статная женщина в черном, узнав, что француз привез Настеньке письмо от цесаревны, чуть было не выставила его за дверь, но сдержалась и позвала племянницу. Через несколько минут томительного ожидания вместо хорошенькой барышни, которую рассчитывал увидеть дипломат, в гостиной появилось еще одно черное изваяние – только помоложе и поменьше ростом. При мысли, что придется ехать на родину с такой вот постной монахиней, д’Акевиль содрогнулся, но все же отпустил несколько галантных комплиментов по адресу мадемуазель Анастази и протянул письмо цесаревны.
И тут произошла приятная для дипломата метаморфоза – прочитав письмо, Настенька изменилась в лице, рассеялась серая и скорбная дымка, окутавшая ее лик. Изваяние ожило и превратилось в прекрасное существо незнакомой д’Акевилю породы. И при виде этой неведомой доселе красоты что-то дрогнуло в душе Андре: он забыл о проигранной русской игре, о сделанной напоследок ставке, он видел лишь Настеньку и ее внезапно открывшуюся ангельскую ипостась. Теперь ему представлялось невозможным уехать из России без этого превратившегося в нечаянное счастье груза. Д’Акевиль знал, что если Настенька не захочет уехать, то и сам он останется в России и наверняка сгниет где-нибудь в Сибири. Но для д’Акевиля не было больше ни неприятного, ни невозможного.
Дипломат не слышал, что именно гневно и обиженно выговаривала ему Настенька: у него не осталось ни слов, ни оправданий – и опомнился лишь тогда, когда в комнату вкатился какой-то кругленький потрепанный господин, оказавшийся соотечественником и другом его отца. И лишь бессвязные вопли этого господина, назвавшегося Пьером Дювалем, вернули д’Акевилю дар речи.
Из записок Пьера Дюваля:
«То, что произошло с семьей Шубиных за столь короткий срок, не поддается описанию, да я и не берусь описывать. Шубин-старший в могиле, Алеша – на Камчатке, а Настенька поселилась у Ирен и словно постриглась в монахини. Эта мадемуазель, любимица всей семьи, ходит мрачнее тучи и почти не разжимает губ. Теперь они с Ирен так походят друг на друга, что я живу словно в окружении теней: шум жизни замирает за порогом московского дома, где я поселился.
Что и говорить, новая государыня продолжила начатое Петром дело и сокрушила семью Шубиных. Ирен, правда, винит во всем принцессу Елизавету – отнюдь не палача, а всего лишь сестру по несчастью. Но русские находят мистические причины для самых обыкновенных событий. В этой стране суеверия предпочитают философии. Яков Петрович перед смертью чуть было не уничтожил портрет покойного императора – прекрасное произведение искусства, как варвар, набросился на него с ножом. А Ирен думает, что своими поступками ей удастся помешать державной воле, и добивается лишь опалы.
Но я прожил в этой стране столько лет, что и сам поневоле взираю на мир глазами русских. С тех самых пор, как я впервые увидел Ирен в тесном кругу приближенных покойной принцессы Софии, ценности, которыми я жил, были вынесены со сцены, как старые декорации, и заменены другими, более отвечавшими стране, в которой я оказался. Я перестал сопротивляться России и лишь иногда ворчу на нее, как старая служанка на господина, в доме которого она прижилась…
…На днях к нам явился с визитом молодой дипломат Андре д’Акевиль, сын моего былого друга и покровителя. Этот молодой человек приехал в Россию, дабы сделать блистательную дипломатическую карьеру, но карьера его оборвалась, едва начавшись. При вступлении на престол государыни Анны Иоанновны д’Акевиль неосторожно выказал приверженность правам принцессы Елизаветы, после чего получил предписание в недельный срок покинуть страну. К нам он принес горестную весть – оказывается, государыня разгневана на Настеньку и удовлетворится только ее отъездом из России. В противном случае бедную девушку ожидает Сибирь. Д’Акевиль, великодушный молодой человек, предложил вывезти Настеньку во Францию в качестве своей невесты. Мера эта не связывает мадемуазель и ее спасителя никакими обязательствами в отношении друг друга, но позволит Анастасии Яковлевне избежать Сибири.
Однако Настенька ехать отказывается, объясняя это самоубийственное упрямство тем, что ей надобно, когда придет срок, напомнить принцессе Елизавете об участи Алеши. Тщетно я объяснял мадемуазель, что напомнить о брате ей будет легче из Франции, нежели из Сибири. Ангелы упрямы и руководствуются только чувствами… А чувства велят Настеньке остаться.
Д’Акевиль тоже не трогается с места. Этот безрассудный молодой человек дожидается конвоя из Тайной канцелярии, который препроводит его до границы или, того хуже, – до Сибири. Воздух дома Шубиных так легко кружит головы, и я далеко не первая его жертва! Когда-то я пренебрег belle douce France ради Ирен – теперь д’Акевиль делает то же ради Настеньки. Однако в их случае отъезд – единственное спасение…
Вчера я стал невольным свидетелем одного разговора. «Отчего вы не едете? – говорила Настенька д’Акевилю. – Ждете конвоя?» – «Так же, как и вы, мадемуазель, – отвечал тот. – Надеюсь, впрочем, что за мной придут в первую очередь». – «Так зачем же ждать?» – «У меня есть одно преимущество – я жду вместе с вами…» – «Это признание?» – «Конечно…»
И дневника Ирины:
«С тех пор как казнили Митеньку, я не живу, а приглядываюсь. И то, что я вижу, лишь отягчает мою ношу. Тяжко ее нести одной, но поделиться ни с кем не смею. Видно, нести мне ее до смерти. После казни Митеньки я не знала, как жить дальше, но Пьер Дюваль, сам того не ведая, подсказал мне мой путь. Я поняла, что не утех жизненных и радостей следует искать, что путь мой в заботе о таких вот несчастных, гонимых царевой волей, и нет мне боле иных надежд и забот. Жизнь мою государь Петр Алексеевич погубил, но других, им погубленных, я смогу утешить. Безмужней и бездетной останусь, но против воли царевой пойду. Плетью обуха не перешибешь, но удар отвести можно. Так и прожила жизнь – обуху цареву противясь, только вот родных своих не уберегла.
Яков умер, Алеша на Камчатке, да и над Настенькой царицын гнев тяготеет – а все она, Елисавета. Видно, ей суждено и после смерти Петровой волю его творить и род наш искоренять. Вот теперь она перед Настей грех замаливает, спасти ее хочет, француза своего к нам прислала и понимает, видно, что все беды через нее к нам пришли, да только беды эти множит. Дюваль мне говорит, что цесаревна тут ни при чем, что, дескать, во всем государыня виновата, но откуда ему знать про палачей тайных и явных и про то, как от людей смерть исходит.
Есть такие люди – кто подле них жить будет, их грех на себя примет. Вот Алеша и принял, а теперь, видно, Настин черед пришел. Пусть уж лучше она с французом уезжает, коли иного спасения нет. Я противиться не буду. Будем с Дювалем век доживать, пока смерть нас не разлучит. А на том свете я с Митенькой свижусь. Заждался он меня, верно…»
«Ангел мой, Настя!
Дошло до меня, что ты уже во Франции и собираешься замуж за д’Акевиля. Если б ты знала, Настенька, как мы с Алешей Разумовским радуемся твоему счастью. Думаю, что и брат твой, коего я ни на мгновение не забываю, был бы счастлив сим известием. Ныне я у государыни в немилости, живу бедно, ежечасно нуждаюсь в деньгах. Надеюсь все же на лучшие времена, до коих мы, если позволит Господь, доживем. Друг мой нелицемерный, Алеша Разумовский, тебе кланяется.
С сим и остаюсь.
Любящая тебя Елисавета».
Глава вторая
Спасение Елизаветы
Олекса Розум и в самом деле стал нелицемерным другом цесаревны. Елизавета жила теперь тихо и уединенно. К ней никто не ездил, а сама она появлялась при дворе только по особому приглашению государыни – когда Анна хотела уколоть Елисавет Петровну побольнее и нуждалась для этого в личном свидании. Вокруг цесаревны медленно и неотвратимо сжималось кольцо царского гнева, и размыкали его лишь немногие оставшиеся у Елизаветы друзья – Олекса да Марфа Сурмина, купеческая дочка, ссужавшая царевну деньгами.
Елисавет Петровна снова была грустна и бледна, днями не покидала своих покоев, сидела одна в темных, душных комнатах, плакала или молилась. И Розум чувствовал, что голос его, вернувший некогда цесаревне счастье, не может заставить сдаться крепость ее отчаяния. Он по-прежнему пел Елизавете по вечерам, но тихий ангел и не думал пролетать над этими концертами. И Розум понимал, что победа была мгновенной, и за исцеление души любимой придется платить невозможной и неизбежной ценой.
Последней мажорной нотой, вкравшейся в струившуюся вокруг цесаревны минорную мелодию, стал отъезд Настеньки и ее свадьба с д’Акевилем. Через несколько месяцев после этого радостного события арестовали горничную Елизаветы – якобы за непочтительные высказывания о Бироне. Удар императрицы, хоть и запоздалый, попал в цель. Елисавет Петровна испугалась смертельно, то и дело твердила Олексе, что скоро придут и за ней, по ночам прислушивалась к каждому шороху – ждала «иродов» из Тайной канцелярии – и засыпала только под утро, растеряв отпущенный ей запас страха в бесплодном и бесцельном ожидании.
Тщетно Розум пытался утешить цесаревну – с вечера она начинала с ним прощаться, а утром, вдоволь набоявшись и наплакавшись, обессилев, засыпала подле своего друга.
Когда тихие слезы переходили в истерику, с другой половины Смольного дома приходил Лесток и, бранясь, приводил в чувства свою раскисшую пациентку.
– Все бабьи страхи… – презрительно ронял немилосердный лекарь. – Слушалась бы меня, давно была бы на троне. Вы бы, Алексей Григорьевич, внушили принцессе хоть немного смелости. А то так и помешаться недолго…
Елизавета действительно была на грани безумия. Ночные бдения расшатали ее здоровье и разум. И поэтому когда однажды за цесаревной пришли ночью, чтобы отвезти во дворец для тайной беседы с императрицей, обессилевшая жертва почувствовала только облегчение. С Олексой она попрощалась почти весело, перекрестила его и расцеловала, Лестоку сказала:
– De rien, Иван Иванович, de rien…[1] – и уехала, оставив страх и отчаяние в наследство своим приближенным.
Тогда Олекса понял, что время его жертвы настало. Он вспомнил рассказанную ему Елизаветой историю – о том, как в смертный час юного императора Петра II его бабка, Евдокия Лопухина, вымолила внуку легкий уход.
Розум решил стать на молитву – но не для легкой смерти Елизаветы, а для ее спасения. И отмолить жизнь и свободу Елизаветы он собирался единственным своим достоянием – голосом.
В ту ночь Розуму казалось, что его голос – стрела, на мгновение застывшая на выбранном ею пути. Миссия Олексы близилась к концу, а вместе с ней – и голос. Розум видел перед собой императрицу, ее оплывшее нарумяненное лицо с насурьмленными бровями, Лизаньку – в ногах у государыни, и картина эта представлялась Олексе полем битвы, ожидающим его прихода. Ни страха, ни сожаления не было в его душе, Розум лишь пытался вкатить на гору огромный, обжигающий ладони шар, и после каждого сделанного шага безмерная усталость наполняла все его существо.
В покоях у Елизаветы, перед иконой Богородицы Семистрельной, Олекса пел знакомую с детства хвалу Богородице:
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род: освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Нея же Бог воплотися и младенец бысть, прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори, и чрево Твое пространнее небес содела…»
Олекса знал лишь одну цель – наполнить жалостью немилосердное сердце Анны Иоанновны, смирить ее гнев и гордыню, и прямо в жестокую, греховную душу императрицы метил он своим пением.
Он пел, и с каждым мгновением все меньше воздуха оставалось у него в груди и света перед глазами. Таял и отдалялся мир, за туманной пеленой мертвой, нечеловеческой усталости исчезало лицо Анны Иоанновны, меркла и проваливалась в черную дыру привидевшаяся Олексе картина Лизанькиного допроса и унижения. Петь становилось все тяжелее, и сердце отчаянно замирало в груди, устав отсчитывать звуки и мгновения. Колени подгибались, ныли кисти рук, как будто уставшие держать невидимый груз, и на заключительном «О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе» Олекса потерял сознание.
А в это время во дворце Анна схватилась за сердце, словно пробудившееся от сна и занывшее мучительно и сладко, и, взглянув в заплаканное лицо цесаревны, впервые не смогла увидеть в ней надоевшего и неотвязного врага. Не тень за троном, не опасная соперница валялась у нее в ногах, а лишь насмерть испуганная, притихшая девчонка, жалкая, слабая, подурневшая до безобразия, не российская Венера, кумир гвардии, а бесчувственная кукла, уставшая бояться и плакать.
И эта кукла нисколько не страшила и не тяготила Анну. Оставалось только отпустить ее с миром.
Когда Олекса очнулся, ангельским пением лился над ним умиленный шепот Лизаньки, и говорила цесаревна так по-матерински нежно, с такой не свойственной ей бесстрастной и безмерной добротой, без тени кокетства, что слова ее показались Розуму сном. Никогда еще эта пылкая, чувственная особа не была так добра и мила, никогда еще не лучилась таким безмерным светом.
– Слава Богу, открыл глазки, – шептала Елизавета. – Мы уж тут с Иваном Ивановичем что только ни делали, а ты ровно спишь. Ты ведь молился за меня, ангел?! А потом силы в молитве истратил и упал в бесчувствии… А меня государыня отпустила. Видно, твою молитву услыхала. Ответь мне, душа моя, не молчи…
Олекса попытался ответить цесаревне, но не смог вымолвить ни слова. Голос впервые не слушался Розума, ломался и крошился, как мел, бессильный начертать что-либо на грифельной доске отчаяния.
Но Елизавете уже не нужны были слова. Молчание Розума сказало ей больше. И цесаревна продолжила все с той же обескураживающей материнской добротой:
– Хочешь я, Алеша, женой твоей стану? У меня ведь, кроме имени, ничего нет. Ты мне голос отдал, а я тебе – имя. Так и обменяемся дарами. А обвенчаемся тайно. Марфу Сурмину с Лестоком в свидетели позовем. И никого боле. Коли прознает государыня, быть мне в монастыре, да и тебе головы не сносить.
И, не дождавшись ответа, Елизавета скрепила свои слова поцелуем.
Часть VI
Переворот
Глава первая
Робкая племянница грозной императрицы
Племянница императрицы Анны, великая княжна Анна Леопольдовна, была особой робкой и болезненно несчастной. С самой ранней юности ее окружал ореол страдания, хотя подлинных несчастий Анна еще не испытывала.
В семнадцать лет она влюбилась в саксонского посланника Линара, влюбилась легко, по-девически, словно играючи, но когда грозная тетка, императрица Анна, заставила зарвавшегося поклонника племянницы уехать, княжна уверила себя, что жить не может без галантного кавалера, передававшего ей слащавые любовные записки, и укрылась в этом вымышленном чувстве, как в крепости. Ей нравилось лить слезы, чувствовать себя покинутой и досадовать на тетку.
Потом Анну выдали замуж за брауншвейгского принца Антона-Ульриха, и хотя принц был неглуп, любезен и намеревался носить юную жену на руках, сердце великой княгини, привыкшее к минору, так и не смогло настроиться на мажорную волну. Аннушка по-прежнему лила слезы и с тайной завистью и явным восхищением наблюдала за развеселой цесаревной Елизаветой, которая, как и государыня, приходилась ей теткой.
Елизавета была старше, опытнее, бесстрашнее, о ее любовных похождениях судачил весь Петербург, а она, казалось, не испытывала ни тени смущения. Все так же шутила, обольстительно и лукаво улыбалась, волосы отливали огнем, а в глазах светилось безрассудство. Аннушка растроганно наблюдала за Елисавет Петровной из-за широкой спины тетушки-государыни и ловила каждое слово, каждую улыбку цесаревны.
А Елизавета скользила по ней равнодушно-рассеянным взглядом. Зачем ей было замечать эту робкую, вечно несчастную девочку, привыкшую к роли жертвы и забывшую разучить другие? Она могла лишь пожалеть Аннушку и пожелать ей поменьше плакать да побольше жить.
– Что это у нашей великой княжны глаза все время на мокром месте? Слезы льет, как небо – дождь, – спрашивала цесаревна у Алеши Разумовского, возвратившись с пышного императорского праздника и недовольно рассматривая в зеркале скромное платье, в котором по причине бедности вынуждена была туда явиться. – Как сейчас помню, стоит она под венцом и плачет. Жених изнервничался весь, государыня в гневе, гости в недоумении, а она – точно жертва на заклание. Словно боль свою будущую предчувствует. А ведь счастливица она, посуди сам, Алеша. Государыня ее наследницей объявит. Ее, а не меня.
– Сирота она, – ответил Разумовский после минутного замешательства. – Ни отца, ни матери. Оттого и печалится.
Олекса ловко, как камеристка, вынимал шпильки из Лизанькиных волос и целовал капризные рыжие пряди. Ее волосы пахли августом, самым жарким и страстным летним месяцем, и этот аромат сводил Олексу с ума. Он никак не мог к нему привыкнуть, но каждый раз полной грудью вдыхал сладкий, блаженный запах.
– Так ведь и я сирота, – резонно заметила цесаревна, – а слез не лью понапрасну.
– Тебя отец навещает, – возразил Олекса, и на мгновение ему стало зябко от сказанного, – а подле нее – никого.
– Подле нее государыня-тетка, муж да придворные. Свеч и соли она не жалеет, в платьях новых ходит и на ночные допросы не ездит. И в монастырь дальний ее сослать не грозятся, – гневно выговаривала Елизавета, хотя на этот раз Олекса и не думал ей возражать. – Нашел страдалицу… Меня лучше пожалей.
– Я тебя, душа моя, не жалеть, а утешать буду. Жалость моя тебе ни к чему, а утешение в самый раз придется. – Разумовский оттащил Елизавету от зеркала и подхватил на руки. – Налюбовалась, Лизанька, и хватит.
– Princesse, voila la lettre…[2] – В комнате бесшумно, как привидение, появился Лесток с конвертом в руках. – Из Франции, от Анастасии Яковлевны. Ваш неутешный поклонник, маркиз де Шетарди, просил передать.
– От Настеньки! – воскликнула Елизавета, и Разумовскому, поморщившемуся при словах «неутешный поклонник», пришлось опустить свою сладкую ношу на землю. Он понял, что письмо разлучит их на несколько часов. Елизавета будет читать и перечитывать послание подруги, по-детски всхлипывать, а потом расскажет ему, что Настенька с мужем замыслили заговор, который обязательно приведет ее к власти…
Глава вторая
Интриги господина Шетарди
Годы счастья не состарили Настеньку и не притупили ее память. Один лишь шаг сделала она навстречу беспамятству и покою – когда уехала из России в беззаботную, счастливую, отчаянно легкую жизнь, которую предложил ей д’Акевиль. Но вскоре покинутый Настенькой темный, тесный и трагический мир стал тревожить ее пропитанное медом существование. Настенька часто видела Алешу во сне, и каждый раз, просыпаясь от собственного крика, с удивлением и недоумением возвращалась в потревоженное сном счастье.
Андре уверял ее, что Елизавета непременно – при поддержке гвардии и belle douce France[3] – взойдет на отцовский престол и освободит Алешу, но прошло десять лет, а его предсказания и не думали сбываться. Государыня, правда, стала плоха здоровьем, а ее фаворит герцог Бирон будто бы благоволил к цесаревне, но все это ни на йоту не приближало Алешиного освобождения.
Да и престол государыня назначила вовсе не Елизавете, а будущему сыну своей племянницы Анны Леопольдовны – конечно, под надежным присмотром Бирона. Это странное завещание, согласно которому престол российский должен был перейти к еще не родившемуся младенцу, взбудоражило придворных, но тут Анна Леопольдовна, эта вечно печальная девица, днями не выходившая из своих комнат, как по заказу государыни, родила мальчика, названного Иваном. Так что шансы Елизаветы на отцовский трон таяли быстрее, чем снег, растопленный капризным петербургским солнцем.
Между тем у Настеньки родился сын, названный в честь покойного батюшки Яковом или, как говорил д’Акевиль – Жаком. По дипломатическим каналам приходили шифрованные депеши от французского дипломата маркиза де Шетарди, вдохновлявшего Елизавету на заговор. Из них Настенька узнала о том, что красавец-певчий, так напоминавший ей брата, лишился голоса, но стал супругом цесаревны, и, стало быть, Алеша, если он еще жив, вернувшись, обретет лишь руины былого счастья. Порой Елизавета, через того же Шетарди, передавала ей поклоны и поцелуи, сетовала на бедность и перечисляла свои бесчисленные долги. Словом, почти ничего не менялось. Только бесконечные нужды цесаревны порой опустошали отнюдь не бездонный кошелек д’Акевиля.
В октябре 1740 года умерла Анна Иоанновна, и депеши Шетарди стали с удивительным проворством пересекать русскую границу. Д’Акевиль знал все подробности смерти государыни и всю подноготную новоиспеченного регентства Бирона, который сумел задвинуть в угол нерешительную, вечно печальную Анну Леопольдовну с ее брауншвейгским мужем и сыном-императором в колыбели, и Настенька, слушая его пылкие, сбивчивые речи, с нескрываемым трепетом следила за тем, как разворачивается «русская игра».
Андре, игрок тайный, стоял за спиной явного игрока – Шетарди, и оба они играли в пользу Елизаветы. После падения Бирона и торжества великой княгини Анны Леопольдовны, ставшей правительницей Российской империи, на Елизавету, казалось, могли ставить только безумцы. Но по азартному блеску в глазах Андре Настенька поняла, что игра опять идет по-крупному. Правда, Шетарди считал партию Елизаветы порождением фантазии, но, видя, как Лесток создает эту партию из небытия, невольно проникался верой в успех цесаревны.
«Ей нужны деньги, и еще раз деньги, – писал Шетарди д’Акевилю. – При прошлом нашем свидании принцесса Елизавета умоляла меня о ссуде. Швеция обещает принцессе свою помощь на слишком дорогих условиях – отказе от всех завоеванных ее отцом балтийских провинций. Щедрость Французского королевства кажется ей не столь обременительной. Но король скуп и не спешит наполнять золотом дырявые русские карманы. Стало быть, придется платить нам с тобой. Но я, друг мой, недавно в пух и прах проигрался, и, зная, что у тебя и у твоей супруги есть особые причины желать воцарения цесаревны, уповаю на вашу помощь…»
На это пространное письмо Андре ответил лишь одним словом. «Сколько?!» – спросил он у маркиза. «Сущая безделица – две тысячи рублей», – уточнил Шетарди. «Пустяки…» – скрепя сердце ответил д’Акевиль.
Елизавета не замедлила растрогаться: через Шетарди она передала поклоны Андрюше и Настеньке, в то время как благодетель д’Акевиль пустил с молотка свое прованское поместье. Впрочем, он надеялся на недвижимость в России.
Шел ноябрь 1741 года, заговор в пользу Елизаветы медленно созревал под дождливым петербургским небом, и тут правительнице Анне Леопольдовне донесли об опасных затеях цесаревны. Анна, недолго думая, вызвала Елизавету во дворец для объяснений.
На сей раз Елизавета не лила слезы, так как буквально накануне к ней опять являлся папа, все никак не могущий успокоиться в загробном мире.
– Гвардию в штыки, меня – на престол, тебя, Алеша, – в графы, а Анну с сыном – в крепость, – сообщила она Разумовскому. – Только бы еще день-другой продержаться, пока заговор созреет. Во дворец поеду, правительнице зубы заговаривать.
– Зачем же в крепость? – ужаснулся Разумовский. – За границу выслать, и довольно будет.
– Больно мягок ты у меня, Алеша, – вздохнула Елизавета и нежно провела ладонью по щеке Олексы. – Одно слово – ангел. А я – грешница, и мне перед Богом ответ держать за волю отцовскую, которой противиться не смею. Одно, Алеша, тебе обещаю и в том присягнуть могу – ежели на престол российский взойду, то смертную казнь отменю. Веришь мне?
– Верю, Лиза, верю, – ответил Разумовский и тут же не удержался, переспросил: – А как же правительница с семейством? Младенец там, нельзя его в крепость… Страшный грех на себя возьмешь, Лиза, несмываемый, за душу невинную перед Богом ответишь…
– Ладно, не о чем пока говорить. На престол взойду, а там решу, как быть. А пока во дворец к Аннушке нашей, к овечке невинной. Жаль ее, глупую, а нечего делать – батюшка велит его трон занять.
Разумовский обнял Елизавету и перекрестил.
– Иди, Лиза, – сказал он, – иди и не бойся. Бог тебе судья.
А она обернулась на пороге и сказала, легко, беззаботно, по-прежнему:
– Бог – судья, а ангел – в помощь… Верно, Алеша?
И уехала – вихрем, совсем как отец.
– Мсье Разумовский, принцессе пора действовать. Путь к престолу открыт, – философски заметил Лесток, уверенный в том, что именно ему удалось вдохновить Елизавету на заговор.
Глава третья
Карточная игра
Анна Леопольдовна ожидала Елизавету за карточным столом. Пышных придворных увеселений правительница не любила и по вечерам позволяла себе лишь перекинуться в картишки с немногими близкими людьми. Сими людьми являлись: муж, которого Анна едва терпела, но родила от него двоих детей, красавец граф Линар, который ринулся в Россию, узнав, что предмет его мимолетного флирта стал правительницей империи, верная подруга и фрейлина Юлия Менгден да канцлер барон Остерман.
В эту-то мирную компанию и ворвалась цесаревна Елизавета.
Анна подняла глаза на возмутительницу спокойствия, застывшую в дверях, и невольная, по-девически восторженная улыбка озарила ее вечно печальное лицо. Елизавета и в самом деле была сейчас необыкновенно хороша: волосы отливали пожаром, глаза лучились, как лед под солнцем, пышная грудь рвалась на волю из платья, щеки порозовели от возбуждения.
– Вы звали меня, ваше императорское высочество, госпожа регентша? – спросила Елизавета, и Анна поднялась из-за карточного стола.
Правительница сделала несколько шагов навстречу Елизавете и вдруг поскользнулась, упала. Натертый до блеска паркет на мгновение показался ей зыбким невским льдом. Принц Антон-Ульрих бросился на помощь жене, но та отстранила его заботливо протянутую руку, поднялась сама. Потом, после минутного замешательства, сказала:
– Оставьте нас, господа. Я хочу поговорить с Елисавет Петровной наедине…
– Но ваше высочество… – заикнулся было Остерман.
– Наедине… – повторила Анна с не свойственной ей решительностью, и карточный стол опустел. Правительница вернулась на свое место и указала Елизавете на стул Юлии Менгден. Елизавета покорно села. Началась большая игра.
– Доносят мне верные люди, что ты, Елисавет Петровна, заговоры составлять вздумала, – сказала Аннушка, нарочито медленно тасуя колоду.
– Бог с вами, государыня-матушка, – торопливо проговорила Елизавета, и слезы уже готовы были политься из ее глаз. – Мне ли заговорщицей быть? В мире хочу жить, на покое, среди друзей своих верных. Хоть в Доме Смольном, хоть в Александрове, – голос цесаревны звучал так убаюкивающе-сладко, что Аннушка невольно заслушалась.
Она не могла победить в себе невольное восхищение цесаревной, каждым ее словом и жестом – так девочки-дурнушки смотрят на старших красавиц-подруг. Вот и сейчас правительница видела в сидящей перед ней рыжеволосой обольстительнице не опасную заговорщицу, а предмет робкой, восторженной зависти. Анна, как бабочка, летела на огонь обаяния Елизаветы и готова была сгореть нем безвозвратно. «Видно, судьба моя перед ней унизиться, – подумала всесильная регентша о своей опальной гостье. – Давеча я на ковре у ее ног растянулась. Вот так и упаду – в пропасть», – подумала она и испугалась до сердечного холода и дрожи в руках.
– Доносят мне, что лейб-медик твой, Лесток, – продолжила Анна, краснея, – с французским посланником маркизом де Шетарди тайные переговоры ведет, радеет, видно, о твоем благе. Радеет о благе, а доведет до опалы. Или до монастыря.
В устах правительницы эти жестокие, стальные слова казались хрупкими, как стекло, и Елизавета испугалась не за себя, за Лестока.
«Лесток – не Алеша Шубин, – подумала цесаревна, – ежели его на дыбу вздернут, он все расскажет: и про Шетарди, и про д’Акевиля с Настенькой, и про наши с Алешей Разумовским прожекты. Быть беде… Но защищать лекаря нельзя, еще хуже будет».
– Я, государыня-матушка, про Шетарди с Лестоком знать ничего не знаю, – зачастила она, – а ежели лекарь мой в чем виноват перед вами, так я его защищать не стану. Но не заговорщик он – так, болтает много. Иван Иванович и при батюшке болтал, до ссылки доболтался. Француз, словоохотлив больно. Что с него возьмешь?
– Болтун или заговорщик, это мы проверим. – Анна продолжала тасовать колоду, и цесаревна заметила, что руки у правительницы дрожат. – Про тебя, Лиза, знать хочу. Ты сыну моему и мне крест целовала, в верности присягала, а теперь клятвопреступницей стать хочешь, на государыню свою преображенцев поднять? Больно часто ты к ним в казармы захаживаешь…
Лицо Елизаветы на мгновение исказилось, но тут же она овладела собой. «Клятвопреступница, и правда – клятвопреступница, – сказала себе цесаревна. – И крест целовала, и в верности клялась. Жаль ее, бедную, и младенца ее жаль. Но что мне делать, коли батюшка велит на его трон взойти?»
– Государыня-матушка Анна Леопольдовна, – медленно, плавно, завораживающе заговорила цесаревна. – Я вам и сыну вашему – верная раба. Буду жить, как жила, тихо да мирно. Не по мне корона, жить хочу, а не царствовать. И любить вволю, – Елизавета сладко, бесшабашно рассмеялась. – Певчих слушать, танцевать да веселиться.
«И верно – куда такой красавице корона? – позволила убедить себя Аннушка, но тайное, жестокое подозрение шевелилось в ее душе, как змея. – Венера она российская, а не заговорщица. Танцы любит, песенки да мальчиков хорошеньких».
– Так ты мне верна будешь? – этот вопрос правительницы прозвучал как мольба, и сердце Елизаветы дрогнуло. В глазах Анны светилось такое обожание, такой робкий восторг, что цесаревна ничего не ответила и только припала губами к маленькой ручке регентши, тасовавшей колоду. Правительница отдернула руку, как от огня, и тогда Елизавета упала перед ней на колени и приложилась горячей щекой к Аннушкиному платью.
– Верна буду, верна, – прошептала Елизавета, проклиная свою подлость и слабость, и залилась слезами. Рыданий у нее всегда было в избытке.
– Ну что ты, Лизанька, не плачь, – утешала жертва своего будущего палача. – Верю я тебе, верю. Иди себе с Богом. – Аннушка подняла Елизавету с колен, отряхнула ее платье, расцеловала в обе щеки – и отпустила. Теперь цесаревна знала наверняка – правительница не посмеет ее тронуть, и можно будет довести заговор до конца.
«Прав Алеша, сиротка она бедная, краснеет да робеет, руки вон от робости дрожат. Тетка ее покойная Анна Иоанновна меня бы враз в монастырь упекла, а она слово сказать боится», – подумала цесаревна, выходя.
Игра была сделана – оставался сущий пустяк: зайти в казармы к преображенцам и воскликнуть: «Ребята, помните, чья я дочь?!»
Глава четвертая
Воцарение Елизаветы
Андре д’Акевиль первым во Франции узнал о воцарении цесаревны Елизаветы. Его друг, маркиз де Шетарди, разразился неслыханно длинной депешей, полной прочувствованных подробностей. В ней сообщалось о том, как Лесток вдохновлял на переворот оробевшую было красавицу, пугая ее монастырской кельей, и даже на клочке бумаги изобразил это несладкое будущее, о том, что в ночь своего воцарения Елизавета поклялась, что ежели взойдет на престол, то никого не казнит смертью, и о том, что гренадеры на руках донесли до дворца не поспевавшую за ними царевну…
Словом, Шетарди был на редкость многословен, и письмо его по пышности и возвышенности слога напоминало оду на воцарение новой государыни, за неимением таланта у автора изложенную прозой. Андре узнал и о том, что в ночь переворота гренадеры разбудили и арестовали правительницу Анну, а младенца-императора Елизавета увезла в своих санях и тешилась им, как игрушкой.
В числе ближайших сподвижников Елисавет Петровны Шетарди называл Шуваловых, Воронцовых и «друга нелицемерного» Алексея Разумовского, которого сразу же после воцарения Елизавета возвела в графы. Вскоре новая государыня должна была короноваться в Москве, а пока расплачивалась со всеми, кто помог ее воцарению. Словом, д’Акевилю надо было поспешить предстать перед Елизаветой, пока она не забыла о том, что взошла на российский престол, разорив одного из французских подданных.
Настенька оказалась счастливее д’Акевиля – она получила записку от самой государыни.
«Ангел мой, Настя, – писала Елисавет Петровна, – с Божьей помощью взошла я на российский престол, и брата твоего освободить не замедлю. Одно меня тяготит – имя ему в Сибири переменили, и сыскать Алешеньку нелегко будет. Особливо ежели он подурнел в заточении…»
Последняя фраза из Елизаветиного письма обрушилась на Настеньку, как ливень. Все эти годы сестра ссыльного Шубина даже и не помышляла о том, что годы заточения могли изменить внешность и душу брата. Впервые подумала она о том, что из ссылки вернется не прежний Алеша, а изуродованный, обессилевший, потерявший все узник. И о чем она будет говорить с этим незнакомцем, наверняка бесконечно чуждым своему прошлому, а, стало быть, и сестре?!
«Он ведь и с Лизанькой, может статься, говорить не захочет, куда уж со мной…» – думала Настя, собираясь в дорогу. Но все эти опасения и страхи не помешали чете д’Акевилей выехать в Россию немедля. Ехал с ними и восьмилетний сын. Все эти десять лет Россия терпеливо ждала за дверью, пока Настенька натешится своим хрупким счастьем и вернется к былым печалям и тяготам, прочнее которых, казалось, не было ничего на свете.
Глава пятая
Возвращение Шубина
Алешу искали почти год, и все это время Настя переходила от надежды к отчаянию, а Елизавета – от ожидания к облегчению. В глубине души Елизавета боялась возвращения Шубина. Даже ее любвеобильное сердце не могло вместить двух ангелов сразу. С тех самых пор, как цесаревна впервые услыхала в церкви малороссийского певчего, место подле нее было бесповоротно занято, и теперь она не могла предложить Шубину ничего, кроме сочувствия.
И все же она ждала – располневшая тридцатилетняя красавица, ноябрьской ночью 1741 года ставшая императрицей, непрестанно проигрывала, представляла, набрасывала сцену их будущей встречи. И каждый раз Елисавет Петровна не находила нужных слов – придуманная и обращенная к Алеше речь звучала то слишком жалостливо, то слишком обнадеживающе. А ведь она не хотела ни оскорблять своего былого друга напрасными сожалениями, ни внушать ему тщетные надежды. Елизавете хотелось лишь поставить точку в растянувшейся на десять лет драме – щедро осыпать Шубина чинами и милостями, попрощаться и отпустить с миром. Но слова прощания не шли ей на ум…
Настеньку томили совсем иные страхи – она боялась, что спасение брата куплено слишком дорогой ценой. С тех самых пор, когда по дороге в Россию, в Риге, д’Акевили встретили отправлявшуюся в сибирскую ссылку брауншвейгскую фамилию – правительницу Анну с мужем, детьми и фрейлиной Менгден, – Настю не покидало чувство, близкое к раскаянию. Сначала императрица Елизавета хотела отпустить сверженное императорское семейство в Германию, как советовал ей Алеша Разумовский, но затем сменила великодушный порыв на расчетливую жестокость.
Правительницу Анну разлучили с младенцем-сыном, имевшим несчастье родиться императором, а потом, в Риге, путников, уже дышавших свободой и Европой, повернули в Сибирь. И надо было случиться так, что д’Акевили столкнулись с каретой правительницы Анны в то самое мгновение, когда ее нагнал Елизаветин курьер. Сопровождавший брауншвейгскую фамилию конвой велел кучеру поворачивать, и Настенька навсегда запомнила бледное, страдальческое лицо Анны Леопольдовны, вжавшееся в каретное оконце. Теперь это лицо, вместо Алешиного, тревожило ее сны.
Д’Акевилю тоже было не по себе. Все эти годы они с Шетарди занимались политикой с такой легкостью и азартом, как будто сидели за игорным столом, но и думать не хотели о том, что из-под карт рано или поздно начнет сочиться кровь. Елизавета, правда, была верна данному в ночь переворота слову и не стала лишать поверженных врагов жизни. Но она позволила им медленно умирать в ссылке.
«Право, я начинаю охладевать к дипломатической карьере… – думал д’Акевиль. – Но ведь я нищий, а Елизавета баснословно богата. Императрице пора отдавать долги».
Елизавета не замедлила расплатиться с д’Акевилем. Он не только поправил свои дела, но и разбогател. Однако от дел отошел окончательно, бросил дипломатическую службу и навсегда потерял к ней вкус. Лишь одно удерживало д’Акевиля и Настеньку подле новой императрицы – они дожидались Алешиного возвращения.
К располневшей тридцатилетней государыне шел бывший узник в генеральском мундире. Он потерял молодость и красоту, но приобрел свободу и состояние. Все эти годы он тратил душевные силы лишь на то, чтобы переносить физические страдания. Он смирился с отчаянием, но не мог вынести надежды.
Настенька стояла подле императрицы, а та держала ее за руку, как в прежние, несчастные времена. Обе женщины молчали. Всего несколько шагов разделяло Алешу и Елизавету, но преодолеть это пустяковое расстояние было труднее, чем десятилетнюю разлуку. И только когда Шубин вдруг замер посреди залы, Елизавета выпустила руку Настеньки и решилась подойти к своему былому другу. Слезы с удивительной легкостью заструились из глаз императрицы – они всегда давались ей легче, чем слова, а теперь были как раз кстати. Она с трудом узнавала Алешу, как слепая, ощупывала его лицо и мучительно искала прежние, любимые черты. Шубин прервал ее поиски.
– Я изменился, Лиза, – безучастно сказал он. – Я не мог остаться прежним. Вот, ты меня узнать боишься… Красоту мою былую ищешь. А ведь нет ее боле. И меня, прежнего, нет.
– Кто же есть, Алешенька?
– Гвардии генерал Алексей Шубин, – отрапортовал Алеша. – Ты сама меня пожаловала. Только я в отставку выйду. Пора на покой. Домой, в сельцо свое, уеду.
– На покой… – задумчиво повторила Елизавета. – Речка Сера течет тихо-тихо, дом на холме стоит каменный. И в доме том цесаревна молодого сержанта принимает. Помнишь, как было, ангел мой?
– Помню, – ответил Шубин, и сердце его, разбуженное сладким, грудным голосом Елизаветы, болезненно заныло. – Только не вернется это.
– Не вернется… – повторила Елизавета. – Я другого люблю. Алешей его зовут, как тебя.
– Знаю, Лиза, – вздохнул Шубин.
– А коли знаешь, – с тайной надеждой прошептала Елизавета, – скажи, как мне быть.
– С ним оставаться.
– С ним? – робко переспросила Елизавета. – А как же ты, Алешенька?
– Попрощайся со мной и отпусти, – решил за государыню Шубин. – Что не забыла, спасибо. А боле мне ничего не надо. Вспоминай иногда. Память, она любви дороже. Живет дольше.
Елисавет Петровна помолчала, принимая решение.
– Ничего тебе сейчас не скажу, Алешенька, – сказала она наконец. – Завтра ко мне приходи. А пока ступай. Сестру вон обними. Десять лет она тебя дожидалась.
Последняя реплика Елизаветы подействовала на Алешу и Настеньку, как опустившийся занавес. Теперь они могли подойти друг к другу.
Глава шестая
Сватовство Барятинского
Прапорщику Александру Барятинскому повезло: после воцарения цесаревны Елизаветы Петровны он был произведен в майоры. Не потому, что отличился в ноябрьском перевороте, сделавшем цесаревну императрицей, – в перевороте Барятинский участие принимал, но прыткости особой не проявил, разве что самолично подхватил на руки не поспевавшую за гвардейцами Елисавет Петровну и донес свой драгоценный и поминутно вздыхавший груз до караулов императорского дворца…
В майоры Барятинский был произведен за то, что ему посчастливилось быть другом Алексея Шубина и посыльным цесаревны, которая опасалась писать своим тайным друзьям письма и потому отправляла Барятинского передать что-нибудь на словах.
После десятка подобных поручений память Барятинского наполнилась таким количеством тайн, что прапорщик предпочел бы ничего не помнить и больше никогда не нашептывать на ухо тайным и явным друзьям Елизаветы ее обещания и просьбы. Лишь одно поручение Елисавет Петровны принесло прапорщику неслыханную радость, которую он и поныне нес в своем сердце, как драгоценную влагу в глиняном сосуде, и боялся нечаянно расплескать. Это была встреча с Наташей Долгорукой, ее маленькая, теплая ручка, к которой прапорщик приложился, словно к иконе, серые глаза, напоминавшие о тихих, бездонных водах сказочного озера Светлояр, и отчаянный взгляд обреченной на муку жертвы… Сколько раз после этой недолгой встречи вспоминал он о сосланной в Сибирь девочке-княгине, а однажды, в печальное царствование Анны Иоанновны, даже написал полковому начальству прошение, в котором умолял о переводе из столичного полка в гарнизон захолустного сибирского местечка, ставшего тюрьмой для семейства Долгоруких! Полковой командир передал прошение в Тайную канцелярию, где Барятинским заинтересовались и захотели было и в самом деле отправить в Сибирь, но отнюдь не в качестве гарнизонного офицера, как вдруг цесаревна Елизавета, пребывавшая в это время в редком для нее состоянии отчаянной смелости, бросилась в ноги к государыне Анне Иоанновне и вымолила прощение для князя. Так Александр Барятинский остался на свободе, но вдали от предмета своего восхищения и тоски.
– Зачем тебе, Александр Иванович, княгиня эта? – спрашивала у Барятинского цесаревна, ожидавшая от спасенного офицера глубочайшей признательности за свой неожиданно смелый поступок. Некогда она побоялась вступиться за Алешу Шубина и потому, словно наперекор себе, с отчаянной решимостью ринулась защищать его друга-преображенца. Но оправдаться перед собственной совестью цесаревне не удалось: Барятинского ее внезапное заступничество лишило возможности отправиться в Сибирь вслед за Наташей Долгорукой, и поэтому вместо благодарности и восхищения Елизавета прочла в глазах бравого прапорщика растерянность и тоску.
– Наталья Долгорукая мужа любит, – увещевала Барятинского цесаревна, когда спасенный от Сибири прапорщик явился к ней в Смольный дом, – и не тебе, Александр Иванович, о ней грустить. А тем паче в Сибирь за княгиней идти. Один князь Иван у Наташи на уме, хоть он того и не стоит. Пустой человек, гуляка да пьяница, а как девочку одурманил!
– Мне, матушка-цесаревна, ничего от княгини не надобно, – ответил Барятинский, который и не помышлял, что его скромная персона сможет вытеснить из сердца Натальи Борисовны блистательного князя Ивана, – мне бы только подле нее побыть! Да не придется, видно… Спасла ты меня, Елисавет Петровна, от любви да от Сибири…
Барятинский уже не стоял на коленях перед Елизаветой, как совсем недавно, когда умолял ее решиться на государственный переворот. Он мерил шагами крохотную гостиную Смольного дома, как будто не мог остановиться и прервать свое бессмысленное движение. А цесаревна сочувственно наблюдала за его метаниями, не решаясь подняться с убогого диванчика или указать князю на место подле себя. Наконец она поднялась, подошла к Барятинскому и положила спокойные, властные руки на его внезапно ссутулившиеся плечи.
– Не гневи Бога, князь, – сказала она, – и страдания от него не требуй. За свободу и жизнь благодари. Нельзя чужой крест против Божьей воли нести. Не тебе Наташину судьбу делить, есть у нее попутчик – князь Иван беспутный, и иных попутчиков ей не надобно. Ты, Александр Иванович, своим путем иди, а не на чужой сбивайся.
– Да где же он, путь мой, Елисавет Петровна? – в отчаянии воскликнул Барятинский, и этот вопрос показался Елизавете мольбой. – Никогда я таких, как княгиня Наталья Борисовна, не встречал! Подле нее побыть захотелось. Светом ее спастись.
– Своим светом спасайся, князь. Я вон подле Алешеньки отсидеться хотела, а нынче что? Сам знаешь… Стало быть, такая мне от Господа наука – спасения в самой себе искать. И ты, Александр Иванович, так же поступай, легче жить на этом свете будет…
Барятинский горько покачал головой, и цесаревна прочла в его взгляде отчаянную, злую решимость.
– В Сибирь за княгиней поехать хочешь? – спросила Елизавета и сама же ответила: – Не дадут тебе этого, князь. Ссыльная она, а ты – поднадзорный. Не выпустят тебя из Петербурга.
– Знаю, ваше императорское высочество, – безучастно согласился Барятинский, – и за свободу мою вас благодарю. Вы как лучше хотели. Только какая же это свобода? Одно мне осталось – ждать, пока вы воцаритесь и княгиню из Сибири вернете. Одного боюсь – долго ждать придется…
– А ты меня не торопи! – рассердилась Елизавета. – Когда мой час придет – сердцем почувствую. Ступай, Александр Иванович, и не взыщи – будет и на нашей улице праздник…
В ноябре 1741 года, в правление робкой племянницы грозной императрицы Анны, долгожданный праздник наступил: цесаревна стала государыней, а прапорщик Барятинский – майором. Вместе с чином ему было пожаловано небольшое именьице под Ярославлем и разрешение самолично привезти в Москву, на коронацию императрицы Елизаветы, княгиню Наталью Долгорукую. Наталью после страшной смерти князя Ивана содержали под караулом в Березове, а потом, в правление Анны Леопольдовны, освободили от ежедневного, унизительного надзора гарнизонных солдат, но из Сибири не вернули.
Когда Барятинский отправлялся в Березов за княгиней, Елизавета расцеловала его в обе щеки и велела возвращаться женихом. Она и не сомневалась в том, что несчастная овдовевшая женщина обратит внимание на блестящего кавалера, гвардии майора и ярославского помещика, которым теперь стал Барятинский. Да и свое собственное, а не жалованное имение было у князя в полном порядке. Елизавета приготовилась выступить в приятной роли свахи, но вышло все совершенно не так, как ожидала государыня…
Когда в Березове к Барятинскому вышла измученная, поблекшая женщина, лишь отдаленно напоминавшая хорошенькую Наташу Долгорукую, Александр Иванович сразу забыл трогательные и нежные слова, которыми собирался утешить княгиню. Наташа изменилась почти до неузнаваемости: она потеряла свою былую красоту, износила ее, как платье. Теперь у княгини Долгорукой было лицо узницы – бледное, измученное, строгое, навсегда лишенное прежнего беззаботного сияния. Она исхудала, под глазами появились морщины, на обветренных губах застыла скорбная улыбка.
Барятинский вконец растерялся и так бы и стоял в молчании и растерянности, если бы княгиня сама не предложила ему говорить.
– Я свободу тебе привез, княгиня, – сказал новоиспеченный майор и хотел показать Наталье Борисовне именной указ императрицы, но Долгорукая лишь безучастно махнула рукой.
– Свободу, – медленно, равнодушно повторила она, – свободу… Опоздал ты, князь. Мне свобода не нужна – умер Иванушка, казнила его императрица Анна. А он бы свободе порадовался…
– А ты разве не порадуешься? – удивился Барятинский.
– Сказала же я тебе, князь, – так же равнодушно, без тени радости или печали, повторила княгиня, – мне свобода не нужна.
– А детям твоим? – Барятинский тщетно пытался высечь из сердца княгини хоть искру оживления, но ничего не получалось. Да и день был серый, снежный, холодно-безучастный, как голос Натальи Борисовны.
Впрочем, при упоминании о детях щеки княгини слегка порозовели.
– Детям… – задумчиво протянула она. – Детям, может статься, и нужна. Двое у меня сыновей – Михаил и Дмитрий. Дмитрий болен – с детства в уме мешается, такое видеть довелось, что детскому сердцу не под силу. Сыновей моих в Москву увези, к брату – Петру Борисовичу Шереметеву, а меня здесь оставь…
– Не поеду я без тебя, – твердо, решительно заявил Барятинский, – видит Бог, не поеду. Велела императрица Елизавета Петровна тебя в Москву везти, долгожданной гостьей на ее коронации будешь. Государыня наша – тебе крестная сестра и былых услуг не забывает.
– А тебе, Александр Иванович, какой резон обо мне печалиться? – удивилась Наташа. – Отвыкла я от людской доброты… Давно отвыкла…
И тут Барятинский не выдержал. Десять лет он ждал этой встречи и теперь не мог променять ее на пустые, холодные слова. Двухметровый богатырь как подкошенный рухнул к ногам маленькой княгини, поцеловал подол ее изношенного платья, а потом стал говорить – быстро, решительно, сбиваясь и начиная снова.
– Так ведь я, Наталья Борисовна, тебя десять лет люблю. С той самой нашей встречи, когда руку твою поцеловал. В Сибирь за тобой хотел ехать – да не выпустила меня из Питербурха императрица Анна. Поднадзорным был. Не мне с покойным князем Иваном равняться – кто я перед ним? Только ты теперь одна осталась, и заступник тебе нужен. Руки твоей прошу, княгиня, сама государыня Елисавет Петровна тебя за меня сватать будет…
– Да как же ты можешь меня любить? – изумилась Наталья Борисовна. – Ты, Александр Иванович, меня не знаешь вовсе. Один раз видел, когда с поручением от цесаревны Елизаветы приходил…
– Так я встречу эту на всю жизнь запомнил! – Барятинский обнял колени княгини, и от такого напора она едва устояла на ногах. – Ждал, верил, весточки тебе в Березов передавал. Или не получала?
– Получала, – кивнула головой Наталья Борисовна. – Раз или два. Помню, плакала над ними. Радовалась, что на Руси еще добрые люди остались.
– Весь я твой, княгиня, – продолжал Барятинский, еще отчаяннее сжимая ее колени. – В мире этом холодном светом твоим спастись хочу.
– Нет у меня больше света, – ровно, безучастно сказала княгиня, – и красоты нет. Поиздержала я свою душу. В монастырь хочу уйти. Одно мне осталось – за упокой души мужа покойного молиться.
– Да не может того быть! – закричал Барятинский. – Молодая ты еще, и душа у тебя горячая. 25 лет всего!
– В Сибири, князь, быстро стареют – и душой, и телом, – ответила Наталья Борисовна. – Двадцать пять мне, говоришь? По земному счету, может быть, и так. Да только душой я – старуха. Пока в пензенских деревнях ссыльными жили – еще молодой была. Когда в Березов приехали – из последних сил держалась. Когда Иванушку арестовали да под караулом в Тобольск увезли – ждала, верила, что вернется. Детей растила. И еще долго, пока не знала, что Иванушку четвертовали, молодой была, а когда узнала – враз постарела.
Барятинский разжал руки, обнимавшие колени княгини, поднялся, с не свойственной ему робостью спросил:
– Стало быть, в Москву не поедешь? Даже ради детей?
– Поеду, – безучастно согласилась княгиня, и от каменного спокойствия ее слов Барятинский сам, казалось, постарел лет на десять. – Надо мне сыновей к брату Петру Борисовичу устроить. Совсем ведь мы обнищали…
Так и договорились. В феврале 1742 года Наталья Борисовна Долгорукая с сыновьями Михаилом и Дмитрием оказалась в Москве, на коронации императрицы Елизаветы. В Москве сопровождавший княгиню майор Барятинский отчаянно запил и на церемонию не явился. Бравый преображенец не вынес крушения своей многолетней мечты – попросил у императрицы отставку и уехал в ярославское имение. Княгиня Долгорукая лишилась отпущенного ей судьбой друга, а Барятинский света, которым хотел спастись. Так мы отворачиваемся от счастья, которое отчаянно стучится в закрытые наглухо двери нашей души и требует хотя бы минутного свидания…
Глава седьмая
Коронация Елизаветы
Елизавету короновали в Успенском соборе Кремля, и Наталья Борисовна, затаив дыхание, наблюдала, как красавица-императрица сама возложила корону себе на голову, вырвав ее из рук главы Священного Синода, новгородского архиепископа Амвросия. Этот кощунственный жест заставил Наталью Борисовну помрачнеть. С удивлением и ужасом наблюдала она за тем, как новая государыня попирает священные права церкви и венчает на царство саму себя. «Вся в батюшку, – подумала Наталья, – тот тоже церковь не жаловал».
В это время Елизавета радостно, торжествующе оглянулась вокруг, небрежно поправила корону – будто это всего лишь дорогое украшение, а не символ верховной власти, и Наталья сказала самой себе, что цесаревна почти не изменилась. Она стала императрицей и слегка располнела – вот и все перемены, которые заметила княгиня Долгорукая. Перед ней была все та же мотовка и ветреница, некогда бросавшая кокетливые взгляды на князя Ивана.
Наталья Борисовна с трудом узнавала Москву. Она помнила, как замер, сжался и съежился этот город при грозной Анне Иоанновне и как, еще раньше, он воспрял духом при Петре II, когда в Белокаменную чуть было не вернули столицу Российской империи. Теперь же город был праздничным, женственным, легкомысленно-кокетливым, как императрица Елизавета Петровна. На площадях установили триумфальные арки в честь коронации новой государыни, а лучшие дома заняла приехавшая из Петербурга знать.
Наталья Борисовна оставила детей у своего богача-брата – Петра Борисовича Шереметева. Младший брат Натальи славился необыкновенной скупостью и, посчитав, что сестра и так напрасно извела свое богатое приданое, решил выдавать ей копеечное содержание. Чтобы не голодали дети, Наталья отдавала им последнее, а сама исхудала, побледнела и поблекла.
Впору было пожалеть о той безучастности, с которой княгиня Долгорукая встретила своего единственного друга майора Барятинского! В Москве Барятинский оставил Наташу – не смог больше выносить ее равнодушно-рассеянного взгляда, как будто испепеленного былыми страстями и страданиями. Так что Наталье Борисовне пришлось самолично добиваться аудиенции у новой императрицы.
Впрочем, ждать княгине Долгорукой пришлось недолго. Когда Елизавета вышла из собора, Наташа вырвалась из толпы и сделала шаг навстречу государыне, сжимая в руках подаренный цесаревной крестильный крестик.
Елизавета удивленно взглянула на измученную, поблекшую женщину, которая пробилась к ней сквозь толпу, и с ужасом узнала в этой страдалице хорошенькую и молоденькую княгиню Долгорукую.
– Ты что ли, княгиня? – изумилась она. – А где же майор Барятинский? К тебе же его отправляла…
– Александр Иванович до Москвы меня довез, а затем удалился, – ответила княгиня и с удивлением почувствовала, что краснеет. А ведь, казалось, она давно отвыкла от этой роскоши и безучастно встречала любые, даже самые страшные, вести.
– Куда же это он удалился? – расхохоталась Елизавета. – Хорош жених! Или посвататься не решился?
– Решился, государыня-матушка, – призналась Наталья Борисовна, – да только отказала я.
– Это ты зря, Наталья, – отрезала Елизавета. – Жених он видный. В майоры Преображенского полка недавно пожалован. И любит он тебя давно. В Сибирь, вон, за тобой собирался. А от любви такой отказываться грешно.
– Не пойду я замуж, матушка-государыня, – ответила Наталья, скорбно покачав головой, но в душе, как змея, зашевелилось невольное и тайное сожаление. – За Иванушку моего всю жизнь буду молиться.
– О чем же ты просить меня хочешь, коли замуж идти отказываешься? – недовольно спросила императрица, вглядываясь в похудевшее, бесстрастное лицо Долгорукой.
– Совсем мы с детьми обнищали, государыня-матушка, – сказала Наталья Борисовна. – Состояние у нас в прошлое царствование отняли, а брат мой, Петр Борисович, племянников своих не жалует.
– Вдовий пенсион могу тебе назначить, Наталья, – сказала Елизавета Петровна, – детей твоих учиться определить. Согласна?
– Мой младший сын Дмитрий болен, – после тяжелого вздоха призналась Наталья Борисовна, – в уме мешается. Тяжело ему в Березове было – не выдержал, бедный. Михаил здоровым вырос, а Митенька…
– Как же ты сама все это выдержала? – прервала княгиню Елизавета. – Тяжело было в пятнадцать лет этакую чашу испить? Помню я тебя – дурочку наивную, как ты на обручении на Ивана своего смотрела, глаз с него не сводила, словно в ноги ему сейчас упадешь от восхищения.
– Пока Иван рядом был, я не жаловалась, – ответила Наталья Борисовна, – все терпела: голод, холод, безденежье, надзор постоянный, ссоры семейные. Свекровь моя дочерей своих допекала, Иванушка с братьями ссорился. А я все сносила. Улыбнется он – и я рада. Чего еще желать? Потом за ним пришли, и вовсе исчез Иванушка. Казнить его государыня покойная приказала.
– Знаю, Наталья, все знаю, – вздохнула императрица, – и мне в те времена тяжко было. Ординарца моего Алешу Шубина Анна Иоанновна на Камчатку сослала. И в память о тех временах несчастных я тебе помогу – пенсион назначу. А брату своему скупому скажи – государыня Елизавета Петровна тебя под свою опеку берет. За детей не волнуйся – я о них позабочусь. Ты-то как дальше жить будешь? Шла бы ты, Наталья, замуж. Не хочешь за Барятинского – другие женихи найдутся…
– Я замуж больше не выйду, – твердо ответила Наталья Борисовна. – Не с кем мне в этом мире, кроме Иванушки, жизнь делить.
– Что же ты, княгиня, делать будешь? – вздохнув, спросила императрица.
– Старшего сына Михаила на ноги поставлю и в Киев на богомолье уйду. А потом – и в монастырь Флоровский. Кольцо, которое мне Иванушка на палец надел, в Днепр брошу. С рекой обручусь навечно.
– Да зачем в монастырь? – удивилась Елизавета. – При дворе можешь остаться. Статс-дамой тебя сделаю.
– Нет, государыня-матушка, – решительно сказала Наталья Борисовна. – В монахини я постригусь. А младшего сына Дмитрия с собой возьму. Бывало такое, что детей увечных инокиням разрешали с собой брать. А я с Митенькой не расстанусь.
– Ну, Бог с тобой, – согласилась императрица, – поступай как знаешь. Детям твоим и тебе помогу – в деньгах нуждаться не будете. А там – как хочешь.
Императрица пожала плечами, потом обняла и перекрестила княгиню.
– Ступай, Наталья, – сказала она. – От нищеты я тебя избавлю. А больше ничем помочь не могу – уж не обессудь. У Бога проси того, что я дать не в силах…
Граф Разумовский подвел императрицу в карете, и та бросила последний, прощальный взгляд на измученную, исхудавшую женщину в черном платье, в глазах которой светилась подлинная, не побежденная временем и страданием любовь. «Она ведь своего Иванушку и поныне ждет, – подумала Елизавета. – А я Алешу Шубина не дождалась… Как же у нее сил душевных хватило?! Девчонкой была, по всем статьям в героини не годилась, а стала… Из какой же глины таких, как она, лепят?»
– Хороша княгиня, – сказал Разумовский, давно уже читавший в душе Елизаветы, как в раскрытой перед ним книге, – но ты, Лизанька, ее не стыдись. У всякого свой путь. Тебе иного пути не дано было. Ты ведь страдать не умеешь. А княгиня страданием спаслась.
– От чего спаслась, ангел? – Елизавета бросила на своего друга изумленный взгляд.
– От праздности и от блуда, – ответил Разумовский. – Но не тебе, Лиза, ее пути желать. По своему иди, да не оступись. Корона не чепец, ее с головки не сбросишь.
– Я трубы власти решила слушать, – вздохнула Елизавета, кокетливо поправляя корону, как драгоценное украшение на высокой бальной прическе, – но и от флейт любви не откажусь. Сыграешь, ангел? – И, не дождавшись ответа, прижалась к губам Разумовского…
Елизавета Петровна выполнила свое обещание – назначила Наталье Борисовне и ее детям пенсион. Когда старший сын Долгорукой, Михаил, достиг совершеннолетия, его мать вместе с младшим – психически больным Дмитрием отправилась в Киев на богомолье. В святом городе Наталья постриглась в монахини под именем Нектарии. С князем Барятинским она больше не встречалась.
Говорили, что княгиня бросила в Днепр то самое обручальное кольцо, которое некогда надел на палец трепещущей от счастья Наташе блистательный Иван Долгорукий. Но прошлое не утонуло вместе с кольцом. До последнего мгновения старица Нектария вспоминала своего Иванушку, милостивого мужа, отца и учителя. Вспоминала и мечтала только об одном – увидеть в свой смертный час одну лишь картину из далекого прошлого: пятнадцатилетняя Наташа Шереметева стоит под венцом с красавцем князем Долгоруким, и священник говорит, что они будут вместе, пока не разлучит смерть…
Часть VII
Гетманская булава
Глава первая
Путешествие в Киев
Церковь возвели на холме.
– Вот тебе мой подарок, Алешенька, – сказала государыня Разумовскому. – Храм будет такой, какого и в Петербурге не найдешь. Ни золота, ни мрамора для церкви сей не пожалею. Мрамор из Италии выпишу. А назову ее Андреевской. Рассказывали мне в киевской академии, что с холма сего Андрей Первозванный Русь крестил. Стало быть, нужно храм поставить. Господу и тебе, ангел, дар от грешницы Елисаветы.
Елисавет Петровна прибыла в Киев в августе 1744 года. За ней ехал весь двор – не забыли и наследника Петра Федоровича с невестой Екатериной Алексеевной, принцессой Ангальт-Цербстской. Наследник в дороге скучал и томился, его невеста – вздыхала и хмурилась, красавицы-фрейлины дулись, вдыхая дорожную пыль. Решительно никто не понимал, зачем нужно было тащиться в такую даль, а по дороге заезжать в Глухов и Чемеры с Лемешами.
– Государыня на смотрины едет, – острил Лесток. – Должен же Алексей Григорьевич показать «жинку» родне! Какова пара – бывший пастух и императрица! Говорят, Елисавет Петровна побаивается, что матушка ее супруга, к слову сказать, – простая крестьянка, не благословит их союз. Вот будет несчастье!
Вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев, человек мрачный и желчный, охотно прислушивался к шуткам Лестока, а потом записывал их в крохотную тетрадочку. «Ишь, расшутился шельма, – думал он, – а я возьму да и перескажу государыне сии остроты. У нее кровь горячая, враз осерчает. Висеть французу на дыбе!»
Лекарь явно играл с огнем. Безнаказанно посмеиваться над Разумовским при дворе Елизаветы мог только сам Разумовский. Остальным была предписана на сей счет благоговейная серьезность.
С самого воцарения Елисавет Петровны к Розуму зачастили земляки – сын последнего гетмана, лубенский полковник Петр Апостол, верхушка казацкой старшины – Григорий Лизогуб, Яков Маркович и Андрей Горленко. Гости охотно мешали горилку с венгерским и прикладывались к ручке красавицы-государыни, которая никогда не отказывалась пропустить рюмочку с друзьями Алеши. Потом все как один просили у императрицы гетманскую булаву, а Разумовский утихомиривал земляков.
– Тебе булаву отдам, а им – ни-ни! – говаривала потом Елисавет Петровна. – Ты, ангел мой, гетманства достоин, а они спесивы больно. Предадут они меня, грешницу.
Разумовский от булавы отказался, но и гостей своих в гетманы не прочил. Зато уговорил Елизавету съездить на Украину – в Киев и Глухов, а по пути завернуть в Чемеры с Лемешами. Духовник императрицы, отец Федор Дубянский, тоже настаивал на поездке, а иных Елизавета и не спрашивала.
Казачка Розумиха всегда была уверена в том, что ее сына Олексу ждет необыкновенное, сказочное будущее. Но случившееся превзошло даже ее ожидания. Когда у хаты Розумихи остановился царский поезд и из огромного, роскошного возка вышел важный пан под руку с полной рыжеволосой красавицей, словоохотливая Наталья Демьяновна обомлела и вместо радушного приветствия пробормотала что-то невнятное. Важный пан обнял ее, назвался Олексой, а пышнотелая красавица, стоявшая с ним рядом, заговорила о том, что давно хотела видеть матушку своего нелицемерного друга Алеши и попросить ее благословения. Рыжеволосая пани говорила что-то еще, и на голос ее, грудной и сладкий, как на вечевой колокол, сбежались дети Натальи Демьяновны: двадцатилетний Кирилл, да младшие – Авдотья и Прасковья.
Конечно, Розумиха не раз получала весточки от уехавшего с полковником Вишневским сына, а вместе с ними – и деньги, на которые открыла в Лемешах шинок. Она знала даже, что Олекса стал большим человеком при дворе цесаревны Елизаветы и теперь его на московский лад величают Алексеем Григорьевичем Разумовским, но никак не могла узнать в этом статном, важном господине своего прежнего мальчика.
– А ти заспівай, пане, – решилась она наконец. – Олекса мій гарно співав.
– Я вже не можу, мамо, – ответил тот. – Я голос втратив.
– Як втратив? – охнула Розумиха и тут только заметила, что рыжеволосая пани плачет.
Эти слезы сблизили собеседников, размыли разделявшую их границу, а когда плач Елизаветы перешел в судорожные бабьи всхлипывания, Розумиха завыла в такт и бросилась обнимать нежданных гостей. И тут только трое счастливцев заметили, что на них, как на актеров, которым удалась небывалая по сложности сцена, во все глаза смотрят многочисленные зрители – Лесток, Бестужев, хмурый наследник со своей неулыбчивой невестой, многочисленная дворцовая челядь, сопровождавшая императрицу в путешествии, и до смерти удивленные соседи Розумов.
Напротив, брат Алексея Кирилл на происходящее не смотрел. Совсем не это сейчас занимало его. Не отводя взгляда, глядел он на невесту наследника престола, так что она вскоре почувствовала его интерес и повернулась в ответ. А когда увидела, что Кирилл Разумовский улыбается ей, тоже улыбнулась – робко и неумело, как будто делала это впервые.
Елисавет Петровне понравилось в Малороссии все. Пухлые, сдобные облака, катившиеся по неправдоподобно яркому небу, реестровые казаки в синих черкесках и шароварах, встретившие ее в Глухове, старец Кий с плохо приклеенной седой бородой и лукавыми молодыми глазами, приветствовавший государыню на днепровском мосту, академисты – все как на подбор статные красавцы (некрасивых Елизавете не показывали), и киевские церкви, и длиннейшее оперное представление, устроенное в честь российской императрицы…
Не понравилось только одно – бесконечные закулисные разговоры о гетманстве и необходимость отдать кому-то гетманскую булаву, со времен Данилы Апостола словно зависшую в воздухе.
– Взял бы ты булаву, Алешенька, – говорила государыня своему другу, – был бы гетманом малороссийским. А то ведь все мне прошения подают… Решить надобно это дело, да человека надежного не вижу. Ты один и есть.
– Я, Лизанька, к государственным делам непригоден, – отговорился было Разумовский, но тут его осенило: – Кирилл! Кирилл, брат мой младший! Вот кто гетманом будет!
– Кирилл? – разочарованно переспросила Елизавета, вспомнив робкого мальчика. – Молод он, да и неучен, в свете не бывал, мира не знает…
– А ты его к немцам и французам отправь, Лиза, – посоветовал Разумовский, – воспитателя приставь, он и выучится. А потом отдай ему булаву. Он не предаст. Видит Бог, не предаст.
Елизавета задумалась. Вряд ли малороссы захотят ждать, пока Кирилл Разумовский выучится и пообтешется в Европе. «Ничего, подождут!» – решила наконец государыня, не любившая скоропалительных политических решений. Судьба Кирилла была определена.
Глава вторая
Младший брат фаворита
Кирилл Разумовский часто бродил по аллеям Люксембургского сада и любовался серым, легким, парящим, как из облаков изваянным дворцом Марии Медичи. Он жил в Париже уже год, и все это время ему казалось, что столица Французского королевства легче облака и невесомее сна. Город как будто кружился в танце, Кирилл кружился вместе с ним и постигал законы этого танца усерднее, чем университетскую мудрость и политические хитросплетения, ради которых приехал сюда. Сельский мальчик превратился в изящного кавалера, скроенного на парижский манер, но каждый шаг, каждая затверженная французская фраза или латинская сентенция лишь приближали его к главной, неведомой императрице Елизавете цели.
Кирилл мечтал о принцессе Фике, о той не по-девически серьезной невесте наследника, которая так старательно улыбалась ему в Лемешах. Кирилл знал, что всегда и во всем будет далек от нее – жены наследника российского престола. Он лишь постоянно вспоминал о ней – бесцельно, страстно, растирая в кровь душу и срывая с ран спасительную пленку времени. И хотя Кирилл знал, что Фике холодна, честолюбива и думает о власти, а не о любви, ему хотелось лишь одного – стать достойным Фике, предстать перед ней во всеоружии новообретенного светского лоска.
Младший брат всесильного графа Разумовского считал, что Елизавете недостает возвышенной холодности Екатерины. Елизавета была слишком простой и земной, со всеми своими страстями и пороками, ни для кого не составлявшими тайны. Бывшему лемешевскому пастуху, отшлифованному в Париже, казалось, что императрица слегка вульгарна. А вот Екатерина (он даже и в мыслях не смог бы назвать ее Катенькой) была розой, которая прижилась бы и в садах Версаля. Кирилл полагал, что Париж никогда бы не отвернулся от великой княгини, как порой отворачивался от Елизаветы. И будущий гетман готовился бросить к ногам Екатерины свою ненужную ей душу…
Как-то во время своей обычной вечерней прогулки в Люксембургском саду Кирилл Разумовский заметил русскую даму, темноволосую, сероглазую, с удивительно приятной улыбкой, которая бродила по аллеям под руку с мужем. Дама говорила по-русски, ее муж мешал французские и русские слова, но по всему было видно, что он – француз, которому довелось пожить в России. Кирилл невольно прислушивался к их разговору, а потом не удержался, представился. Дама изумленно охнула, с русской непосредственностью бросилась Кириллу на шею, а потом сказала, обращаясь к мужу:
– André, это же брат Алексея Григорьевича! Боже, какая встреча!
– Вы должны были слыхать о нас от вашего брата, – вмешался француз, – моя жена была ближайшей подругой государыни, тогда – цесаревны Елисаветы. Она знала графа Разумовского.
– Анастасия Яковлевна Шубина, – представилась сероглазая дама. – Нынче – мадам д’Акевиль. Вы могли слыхать о моем брате Алексее…
Кирилл признался, что ничего не слыхал о ее брате, генерале в отставке Алексее Шубине, и дама разочарованно вздохнула. Зато о дипломате Андре д’Акевиле, который вместе со своим другом маркизом де Шетарди возвел Елизавету на российский престол, Кирилл слыхал немало, о чем тут же и сообщил. Француз был польщен и незамедлительно пригласил брата «notre cher Алексея Григорьевича» на ужин.
– Скоро ли в Петербург? – спросила сероглазая дама и, получив утвердительный ответ, попросила Разумовского-младшего передать письмо ее брату Алеше.
– Вы непременно будете проезжать через Александров, – уговаривала она, – а Шубино наше близ Александрова. Алеша вас и накормит, и напоит, и, чем может, отблагодарит. Возьмете письмо, сударь?
Отказать Кирилл не посмел. Конечно, лишние дни пути отдаляли его от Екатерины, но Кирилл предпочитал не торопить встречу, а оттягивать ее. Каждый день промедления лишь добавлял сладости неизбежному свиданию, и Разумовский, как мог, длил проволочку.
Глава третья
Отставной генерал Алексей Шубин
Осенью 1746 года Кирилл Разумовский возвращался в Петербург. По пути он, выполняя поручение Анастасии Яковлевны, заехал в сельцо Шубино, принадлежавшее ее старшему брату. Алексей Шубин оказался немногословным, сдержанным человеком, и, вглядываясь в жесткие, огрубевшие черты генерала, Кирилл подумал, что в молодости тот, вероятно, был необыкновенно красив. При имени Анастасии Яковлевны бесстрастное лицо Шубина на мгновение озарила растроганная улыбка, но это длилось недолго. Генерал быстро овладел собой, пробежал глазами письмо, любезно предложил дорогому гостю заночевать в усадьбе и собирался было пригласить Кирилла к столу, как вдруг в гостиную вихрем влетела рыжеволосая, голубоглазая девочка лет семи-восьми, которая показалась Кириллу до странности похожей на императрицу Елизавету Петровну.
– Поди к себе, Лизанька, – сказал явно смутившийся Шубин, но он напрасно полагал, что эта беспокойная юная особа последует его просьбе. Она с любопытством взглянула на гостя, а потом радостно сообщила ему и Шубину, что устала твердить французскую грамматику, уже позабыла все, что выучила вчера, и хочет кататься на лодке по Сере.
И тут Разумовский-младший с удивлением заметил, как изменился при появлении девочки его суховатый собеседник. Генерал, казалось, помолодел лет на десять и сказал Лизаньке, пытавшейся оборвать пуговицы с его мундира, что французскую грамматику она, так и быть, может отложить до завтра, а после обеда он сам покатает ее на лодке. Девочка, казалось, знала заранее, что ей ни в чем не будет отказа, и, кокетливо улыбаясь, протянула Кириллу Григорьевичу испачканную румянами ручку. Тот с улыбкой поцеловал руку генеральской дочки и заметил, что на пухленькие щечки девочки неловко наложен целый слой румян, а над верхней губой приклеена мушка.
Перехватив его взгляд, генерал страдальчески пожал плечами, словно хотел сказать: «Кокетка, вся в матушку…», и Кирилл оглянулся по сторонам, ожидая появления в гостиной госпожи генеральши. Но вместо генеральши в залу вошла сухопарая гувернантка, которая и увела Елизавету Алексеевну к себе.
– Моя дочь – Лиза, – сказал тогда генерал и пригласил Кирилла к столу. Генеральша в тот день так и не появилась, и Разумовский понял, что никакой генеральши в усадьбе нет и в помине…
Ночью, в своей тесноватой спальне, он никак не мог уснуть и думал о странно похожей на Елизавету дочери генерала. Ночь была сырая, холодная, уныло постукивал за окнами дождь, и после года, проведенного в сотканной из облаков столице Франции, Кириллу казалось, что время сменило свою легкую танцующую походку на шаркающую стариковскую поступь. «Да ведь это дочь государыни! – догадался, наконец, Кирилл, вспомнив все, что Анастасия Яковлевна рассказывала о своем брате, бывшем ординарце цесаревны Елизаветы. – Дочь ее и Шубина. Но знает ли Алексей об этой тайне Елисавет Петровны? Нет, не может знать».
Такое объяснение напрашивалось само собой, но девочка совсем не походила на Шубина – она была вылитая Елисавет Петровна, и Кирилл не мог найти в ее пухленьком, оживленном личике ни малейшей черты генерала. Напротив, что-то малороссийское читалось в красиво очерченных бровях Лизаньки и ее сочных, как вишни у Кирилла на родине, губках.
До утра Кирилла мучила бессонница, он проспал до обеда и проснулся только от нетерпеливого стука в дверь. За дверью стояла Лиза.
– Мсье Разумовский, – сказала она церемонно и одернула складки пышного атласного платьица, – батюшка просит вас отобедать. Извольте поторопиться.
– Непременно, мадемуазель, – согласился Кирилл, изо всех сил стараясь не рассмеяться.
Девочка изо всех сил подражала придворным манерам, но это выходило у нее неловко, как у сельской барышни, мечтающей попасть во фрейлины. Впрочем, и государыня Елизавета Петровна была несколько вульгарна. То ли дело Фике! Каждое утро Кирилл вспоминал о великой княгине, как будто не мог начать без этого день, и невольная боль, вызванная именем Екатерины, вызывала к жизни старые раны.
Девочка хотела было степенно выйти, но вылетела вихрем, и потом Кирилл услышал, как в коридоре что-то сердито выговаривает ей гувернантка, а Лизанька тихонько хихикает. «Вот непоседа! – подумал он. – Генералу, видно, приходится с ней несладко. Да и отец ли он ей? Здесь, право, какая-то тайна…»
За обедом генерал удивил его еще больше – любезно осведомился о здоровье Разумовского-старшего и попросил передать Алексею Григорьевичу письмо.
«Он же любил Елизавету! На дыбе за нее висел, на Камчатке томился! – подумал Кирилл, вглядываясь в невозмутимое лицо генерала. – О чем он может писать ее нынешнему другу, тайному мужу?! И почему его сестра попросила заехать в Шубино именно меня?!»
– Воля ваша, Алексей Яковлевич, – сказал Кирилл после минутного замешательства. – Я передам письмо брату.
Генерал поблагодарил его сухим кивком и вскоре вернулся с письмом.
– Куда едет мсье Разумовский? – спросила появившаяся на пороге Лизанька.
– В Петербург, мадемуазель, – ответил Кирилл.
– А мы с батюшкой недавно были в Петербурге у государыни, – зачастила юная ветреница. – Она подарила мне много платьев…
– Фрау Иоганна, заберите Лизу! – крикнул генерал, и Кирилл понял, что девочка может сболтнуть лишнее.
Впрочем, он устал от чужих тайн. Будущего гетмана Украины терзали совсем другие страсти.
«Ваше сиятельство, Алексей Григорьевич! – писал генерал Шубин Алексею Разумовскому. – Дочь ваша в добром здравии и сейчас уже – вылитая государыня Елизавета. Живем мы тихо, никого не принимаем, вот только брат ваш младший Кирилл Григорьевич заезжал на днях, привез письмо от сестры моей Насти. Надоумили бы вы государыню дочь свою наследницей назвать, а не племянника Петра Федоровича! Племянник ее, говорят, пьет не в меру и солдат муштрует, а Лизанька – вся в мать, и душой, и телом. А я, когда время придет, служить буду Елисавете Второй, как служил – Первой, сил не жалея и души не щадя.
Гвардии генерал, Алексей Шубин».
Часть VIII
Елизавета Вторая
Глава первая
Бедная Аннушка
Ранней весной 1746 года в Холмогорской крепости умерла бывшая правительница России Анна Леопольдовна, с ранней юности предчувствовавшая свое будущее страдание и полной мерой испытавшая его. Анна, казалось, обрела свое истинное предназначение – за все пять лет заточения, последовавшие за ноябрьской ночью 1741 года, лишившей ее власти, а младенца-сына – короны, великая княгиня ни разу не пожаловалась на свою жестокую участь и не написала ни одного умоляющего письма Елизавете. Аннушка смиренно принимала все, что приносил новый день, и была тиха и спокойна.
Ее разлучили с сыном и любимой подругой Юлией Менгден – она молилась, ей приказали отдать дорогие вещи и драгоценности – она без тени сожаления отдала их приставленным Елизаветой тюремщикам, ей сказали, что она останется в Холмогорах навсегда, – Анна ответила, что на все воля Божья. Ее муж, принц Антон-Ульрих, роптал и вздыхал, дочь Екатерина на всю жизнь осталась глухой (в ночь воцарения Елизаветы гвардейский солдат неловко вынул малышку из колыбели и уронил на пол), Анна переносила испытания с неслыханным мужеством. Казалось, она готовилась к ним всю жизнь.
В Холмогорах Аннушка родила еще двоих детей – Елизавету и Петра. Наконец силы Анны иссякли. Она выносила последнего сына Алексея и умерла от послеродовой горячки. В марте 1746 года тело великой княгини привезли в Петербург. Императрица велела похоронить ее в усыпальнице Александро-Невского монастыря.
На отпевание Аннушки съехалась петербургская знать – все знали наверняка, что скоро приедет императрица. Елизавета приехала под конец – под руку с другом нелицемерным графом Разумовским. Императрица плакала. Она подошла к гробу, вгляделась в тихое, просветленное лицо Анны, на котором, казалось, застыла радость освобождения и прошептала на ухо Разумовскому: «Хорошо ей сейчас, Алеша… Скоро будет среди ангелов Божьих. А я, грешница, за муку ее отвечу. За сына ее несчастного, которого в крепости гною. За все ответ держать буду».
Императрица наклонилась над гробом, приложилась губами к ледяному лбу соперницы и вспомнила, как пять лет тому назад, накануне дворцового переворота, лила перед Анной слезы, уверяла в своей преданности, а правительница смотрела на нее восхищенным, обожающим взглядом. От этого воспоминания Елизавета пошатнулась и чуть было не упала, как некогда – Анна у ее ног, на дворцовом паркете, но Разумовский успел поддержать императрицу и отвести в сторону.
Кирилл Разумовский искал глазами Екатерину. Наконец он увидел ее – со свечой в руках, шепчущую вслед за священником слова молитвы. Лицо великой княгини было, как всегда, холодновато-отчужденным, как будто она присутствовала на скучноватом спектакле, который, к сожалению, придется досмотреть до конца. Наследник Петр Федорович, стоявший рядом с женой, слал нежные улыбки то одной, то другой фрейлине, присутствующие устало переглядывались (служба явно затянулась), и, казалось, никому не было дела до несчастной молодой женщины, названной на панихиде принцессой Брауншвейг-Люнебургской Анной. Когда же императрица с Разумовским вышли из церкви, придворные облегченно вздохнули – трагическая судьба Анны не вызывала у них даже любопытства.
– Я ведь перед Аннушкиным гробом чуть не упала, – говорила Елизавета Разумовскому на обратном пути, в карете, уронив голову на плечо своего нелицемерного друга, – недобрый это знак.
– Но не упала же, – напомнил Разумовский. – Письмо я от Шубина получил намедни. Кирилл привез. Просит Алексей Яковлевич, чтобы ты дочь нашу наследницей назвала. И я тебе давно то же говорил – права Лизы защитить надобно. Престол российский ей, а не племяннику твоему завещать.
– Не нужен ей престол, Алеша! Мука от него и грех несмываемый. Пусть живет тихо да мирно, а мы с тобой за нее радоваться будем. Ты поверь, ангел, у Алеши Шубина она, как у Христа за пазухой. А здесь нам с тобой ее не защитить. Катька вон – хищница, как я умру, Лизаньку со свету сживет. А Петрушка, племянник мой, глуп да слабоволен – жена им верховодить станет… Боюсь я, Алеша, – тяжело вздохнула императрица, – говорил мне Лесток…
– Ты лекаря своего поменьше слушай, – прервал ее Разумовский, – он совсем помешался. Всех врагами считает. Страх, Лиза, в пропасть тянет. Ты не бойся ничего, о дочери нашей подумай.
Императрица закрыла лицо руками, затряслась в беззвучных рыданиях. Но Разумовский не поддержал ее. В ту же ночь он тайно выехал в Шубино…
Глава вторая
Ангелы-хранители
Два ангела-хранителя Елизаветы Петровны – прошлый и нынешний – беседовали о будущем семилетней непоседы. Алексей Яковлевич Шубин принимал графа в гостиной, где по-прежнему висел портрет государя Петра Алексеевича, некогда перевернувший Алешину жизнь. Генерал так и не решился снять портрет со стены. Каждый день подходил он к изображению покойного императора и пытался прочесть в безжалостно-отчужденных глазах Петра собственную участь. Но портрет больше не раскрывал своих тайн, и генерал, вздыхая, уходил к Лизаньке, бродил с ней по саду, катал на лодке, учил кататься верхом.
Так проходили годы, и былые несчастья Алексея затягивались спасительной пленкой времени. Он, казалось, уже не помнил следствие, каменный мешок, дыбу, камчатскую ссылку.
В камчатском остроге Шубину сказали, что, согласно особому распоряжению государыни, у него теперь не будет имени. Древнее и славное имя, которое Алексей носил с рождения, порой не замечая его славы и ценности, сменилось безликим номером, но и этого Анне в ее лютой ненависти к Елизавете оказалось мало. Она велела женить арестанта на девке-камчадалке, но перед венчанием Шубин попытался вскрыть себе вены осколком глиняной миски, которую разбил о голову охранявшего его солдата. Шубина посадили в карцер. К каменным мешкам ему было не привыкать, и тюремные чины оставили буйного арестанта в покое. Ему позволили избежать женитьбы, а государыне отписали, что безымянный ссыльный сочетался законным браком с камчатской красавицей. Анна Иоанновна поверила и долго изводила Елизавету длиннейшими рассказами о счастье ее бывшего ординарца с камчатской девкой.
Через несколько лет ссыльный Шубин вышел на поселение и нанялся в подручные к местным купцам – промышлял пушниной, собольим и куньим мехом. Иногда ему представлялось, что одна из собольих накидок, которые купцы-камчадалы возили в Москву и Петербург, достанется Елизавете, и цесаревна, кутаясь в нежнейший мех, поглаживая его пухленькой ладонью, почувствует тепло рук снаряжавшего пушные подводы арестанта. Иногда ночью Алексей просыпался от того, что чувствовал где-то рядом летний запах ее рыжих волос, жар полного тела, слышал сладкий, грудной голос, шептавший: «Где же ты, Алешенька, друг милый?»
Но все это было сном, туманом, мороком, и Шубин, приговоренный к бессрочной ссылке, знал наверняка, что не видать ему цесаревны до тех пор, пока она не станет императрицей.
Известие о смерти Анны Иоанновны добиралось до их глухого камчатского поселка ползком, с редкой, небывалой медлительностью.
– Умерла царица-то наша, – сказал Шубину через год после смерти государыни острожный офицер. И добавил с обнадеживающей улыбкой: – Может, теперь царевна твоя на трон взойдет?
Он был поразительно близок к истине – никто в остроге еще не знал о череде дворцовых переворотов, последовавших за смертью Анны Иоанновны, о недолгом регентстве Бирона и правлении робкой, вечно печальной Анны Леопольдовны. Здесь только поминали императрицу Анну, а Елизавета уже шла отвоевывать батюшкин трон в компании гренадеров.
А потом, еще через год, зимой, тот же офицер ни свет ни заря примчался к деревянному дому, в котором жил разбогатевший на камчатских мехах Шубин – и, вышибая дверь, высоким, юношеским голосом завопил:
– Именной указ пришел! От государыни Елизаветы! Свобода тебе и генеральский чин!
– С ума ты сошел, что ли? – спросил у него хмурый, сонный Шубин, деливший постель с рыжеволосой и голубоглазой вдовой богатого купца из бывших ссыльных.
Когда Алексей понял, в чем дело, то как был, в рубахе и портках, сел на обледеневший порог и вырвал из рук у прапорщика распечатанное письмо.
По пути в Петербург Шубина настигло известие, к которому он был готов заранее. Уже через год после его ареста и ссылки у цесаревны появился новый ангел-хранитель, еще один Алексей – малороссийский певчий. Да, все эти годы сумасбродная рыжеволосая красавица помнила своего былого друга, но памяти этой мучительно недоставало любви.
После недолгой встречи с императрицей Шубин снова обрел свое древнее имя, сестру, усадьбу, стал генералом, но Елизавету потерял навсегда. И тут, словно в награду за принятое некогда страдание, в жизни отставного генерала появилась Лизанька, которую поручила его заботам мать-императрица.
– Нам с Алешей Лизаньку не сберечь, – говорила императрица во время второй, тайной, встречи с Шубиным, на которой уже не присутствовала Настя. – Ты не сердись на меня, ангел, за то, что я дочь свою и Алеши Разумовского тебе поручаю. Ты увидишь, она на меня похожа. Я тебе, Алеша, вторую Елизавету возвращаю – себя вернуть не могу, уж ты прости. Не дождалась я тебя, милый…
– А он, Разумовский, – после минутного молчания переспросил Алексей, – на это согласен? Дочь свою готов мне отдать?
– Алеша хотел Лизаньку к родственникам своим, Дараганам, в Малороссию отвезти, – вздохнула Елисавет Петровна, – да нельзя ее туда, вмиг узнают, что за княжна у Дараганов живет. И здесь, в Петербурге, оставлять нельзя. Опасно это стало. Раньше Лизанька у Яганны Шмидт жила. Фрау Яганна еще матушке моей служила, а теперь на покое живет, в доме собственном.
– Зачем же тебе, Лиза, свою дочь прятать? Права ее признать надобно, наследницей твоей сделать. Говорят, ты с Разумовским венчалась…
– Брак, Алеша, тайный был, – объяснила Елизавета, – никто о нем не знал, только Лесток с Марфой Сурминой – в свидетелях. Не могла царская дочь с певчим прилюдно венчаться. И потому права дочери нашей я признать не могу.
– Да почему не можешь, Лиза? Ты все можешь, ты – самодержица Всероссийская. И все перед твоей волей склониться должны.
– Раба я, Алешенька, – самодержица Всероссийская, казалось, готова была зарыдать, – больше, чем раньше. Раньше я от императрицы покойной зависела, гроши считала, в платьях старых ходила, на свечах и соли экономила, но свободной была. А теперь – каждый день балы да фейерверки, придворные ювелиры вовсю стараются, тебя вон из ссылки вернула, чином генеральским наградила, Алешу Разумовского графом сделала, а с дочерью своей единственной вижусь тайно и права ее признать не могу. Престолу российскому законный наследник нужен, чтобы кровь в нем текла царей русских, а не казаков малороссийских. Потому племянник мой Петр Федорович наследником будет, а Катька его – императрицей. Править за мужа-императора станет? Что ж, умная государыня России не помешает… А дочь моя у тебя вырастет – в добре да в покое. Я тебя имениями пожалую, ты потом ей передашь, да замуж, за кого скажу, выдашь. Лучше ей графиней Шубиной быть, чем, как покойная Анна Леопольдовна, в Холмогорской крепости томиться.
Шубин вернулся в свое имение с трехлетней девочкой и ее няней – Иоганной Шмидт. Маленькая Лиза сразу же покорила его огромными, в пол-лица, голубыми глазами и рыжими кудряшками. Алексей не мог насмотреться на ее пухленькое личико и целыми днями бестолково суетился в отведенных Лизаньке комнатах, вызывая раздражение и недовольство сухопарой фрау Иоганны. Шубин не отходил от девочки, и фрау Шмидт вскоре смирилась с его молчаливым присутствием. Так Алексей стал отцом…
И вот теперь перед Шубиным сидел настоящий отец Лизаньки, который рассказывал Алексею об охвативших императрицу опасениях и страхах. Боялась Елизавета, что жена наследника престола сживет со свету ее дочь, но право на трон все равно отдавать ей не спешила.
– Я увезу Лизу в Париж, к Насте, – Шубин разрубил гордиев узел опасности одним решительным ударом. – Во Франции, у д’Акевиля, нам спокойнее будет. Попрощайтесь с дочерью, Алексей Григорьевич.
– Вот ведь как Елисавет Петровна решила… – объяснял Разумовский, пытаясь оправдаться. – Я хотел Лизу к своим увезти, к родне нашей – Дараганам, не позволила, сказала: «Опасно это». Отца с родной дочерью разлучила, тебе, генерал, отдала.
– Государыня о дочери заботилась, и не нам, Алексей Григорьевич, ее судить. Право матери наших прав выше, – отпарировал Шубин.
– Наших? – ошеломленно повторил Разумовский. – Моих прав, генерал.
– Я Лизу растил, и отцом ее приемным себя считаю, – устало ответил Шубин. – В Париж ее отвезу, как решил. У зятя моего д’Акевиля в поместье и ей, и мне спокойно будет. Да и вам с государыней за дочь тревожиться незачем. Спасу я ее, сохраню. Крест тебе, Алексей Григорьевич, в том целую. Лизу увидеть хочешь? В саду она. Тебя помнит, графом Алексеем Григорьевичем называет.
– А тебя, генерал? – глухо, хрипло спросил Разумовский.
– А меня отцом. Растил я ее вместе с фрау Иоганной.
– Ты думаешь, генерал, я ее растить не хотел? – Глаза Разумовского полыхнули гневом. – Или тебе по доброй воле это право отдал? Не мог я иначе – за дочь боялся.
– Нечего нам с тобой делить, граф, – еле сдерживаясь, ответил Шубин. – Ты меня предупредить приехал – я решил, как быть. Поди лучше к Лизе, она рада будет. Вон как брату твоему намедни обрадовалась! А мне ты не завидуй – у тебя Елисавет Петровна есть, а у меня, кроме Лизаньки, никого. Я государыне все, что мог, отдал.
Дверь резко распахнулась – и в комнату вихрем влетела Елизавета Вторая. Она подбежала к Разумовскому, граф подхватил ее, обнял и, еле сдерживаясь, прошептал:
– Дiтонька моя рiдна, серденько мое, лялечка…
Алексей Григорьевич ласково гладил девочку по спутанным рыжим волосам, нежно целовал в веки, а она щебетала про подаренные, «красоты необыкновенной», платья и спрашивала, что велела передать ей крестная мать – императрица. Тогда Разумовский бережно опустил девочку на землю и снял с шеи медальон.
– Это тебе, серденько, от нас с государыней… – тихо, торжественно произнес он, раскрывая створки медальона. – Тут портрет Елисавет Петровны и мой…
Лиза поднесла медальон к губам, как подносят крест во время присяги, и надела на шею. Потом вопросительно обернулась к Шубину, и тот одобрительно кивнул. Разумовский вышел, утирая внезапно навернувшиеся на глаза слезы, а Шубин сказал своей приемной дочери:
– В гости поедем, родная. К тете Насте. Помнишь, как Настя сюда приезжала?
– Еще веер мне подарила, перламутровый, – подхватила девочка, и Шубин не смог сдержать улыбки, так растрогало его это беспечное кокетство.
– Еще один подарит. Собирайся в дорогу, Лиза. А ко мне фрау Иоганну позови….
– Фрау Иоганна, батюшка зовет! – закричала Елизавета, выбегая. Она никогда не выходила из комнаты тихо и степенно, как подобает барышне из хорошей семьи, а вылетала вихрем. И Шубин не мог и не хотел погасить беспечный огонь ее голубых, как у матери, глаз. Он привык жить возле пламени.
Глава третья
Падение Лестока
Ивана Ивановича Лестока погубила любовь к belle douce France[4]. Как лейб-медик ни пытался офранцузить Елизавету, эта неудавшаяся французская королева, ставшая русской императрицей, постоянно обнаруживала раздражавшие Лестока упрямство и леность. Эти два пренеприятнейших качества Иван Иванович считал исконно русскими, безраздельно связанными с варварской страной, в которой ему пришлось жить и властвовать. Лейб-медик десять лет вдохновлял Елизавету на заговор, и только на одиннадцатый год ему удалось добиться своей цели – сдвинуть с насиженного места эту пикантную русскую медведицу, которая каждый вечер шепотом спрашивала у образа Богородицы, как ей прожить следующий день. В 1741-м Лесток стал графом и действительным тайным советником, но уже к 1744-му Ивану Ивановичу пришлось пожертвовать судьбоносной ролью придворного лекаря, позволявшей ему в любое время дня и ночи входить к императрице.
Фортуна отвернулась от Лестока после досадной ошибки: он собирался вытеснить из широкого сердца Елизаветы неотесанного малоросса Разумовского. Не сам, Боже упаси, а с помощью изящнейшего маркиза де Шетарди, французского посланника при русском дворе, которому удалось на деньги Андре д’Акевиля устроить в России маленькую дворцовую революцию. Сперва Елизавета заинтересовалась и даже пригласила красавца-француза на богомолье, где подарила галантному кавалеру себя и украшенную алмазами табакерку, но тут вмешался Разумовский, прощавший Елизавете только короткие, ни к чему не обязывающие романы. Неудачливый дипломат был выслан за пределы империи.
– И зачем тебе, Лизанька, француз этот? – нежно попенял императрице Алексей Григорьевич. – Пустой малый, сразу видно. Да и разве тебе, матушка, меня мало? Ты ведь в меня, как в зеркало, глядишься! А в него поглядеться не сможешь – кавалеру этому, кроме себя самого, никто не нужен.
– Да я ведь так, Алеша, от скуки, – оправдывалась Елизавета, – сам знаешь – один ты у меня. Даже Алешу Шубина в имение отослала, а ты говоришь – француз! Помог он мне на престол взойти, это верно. За прошлое я его и отблагодарила.
Был редкой теплоты весенний день, солнце врывалось в просторные комнаты Гостилиц – имения Разумовского, подаренного Алексею Григорьевичу Елизаветой. Императрица стояла перед огромным зеркалом и любовалась недавно сшитым платьем и собственной красотой, которую раньше считала будничной и привычной. Теперь, когда эта красота таяла и меркла, императрице хотелось сохранить в памяти каждое мгновение ее присутствия. Цесаревной она об этом не думала и была не в пример счастливее. Вот и теперь – оправдывалась перед Разумовским, а сама не сводила глаз со своих отраженных в зеркале плеч.
– Хороша благодарность – на богомолье с собой взяла! – все так же благодушно, без тени раздражения, но с подспудным укором, заметил Разумовский. – Денег довольно бы было.
– А ты думаешь, Алеша, он меня захотел? – не стесняясь, спросила Елизавета. – Нет, милый, Россию-матушку наш француз возжелал! Чтоб она французской провинцией сделалась. Меня, грешницу, с пути сбить дело нехитрое, а Россию с пути не собьешь! Не бывать ей французской провинцией, как того Лесток с Шетарди желают…
– Вот и верно, Лизанька. Не слушай Лестока. Вон Алексей Петрович Бестужев, вице-канцлер – и денег иностранных не берет, и дело батюшки твоего продолжает. Говорит: Россия – морская держава, и должна Англии держаться.
Последнюю фразу Разумовский произнес, как затверженный урок. Во всем, что не касалось Малороссии, Алексей Григорьевич разбирался плохо, и порой это несказанно смущало Елизавету. Зато он свято верил в политический гений вице-канцлера Бестужева и не уставал напоминать об этом Лизаньке.
– Английская спесь или французский лоск – все едино! – отрезала императрица, и в ее лазоревых глазах появилась угрожающая чернота. Она отошла от зеркала и заговорила быстро, нервно, с характерными отцовскими интонациями, меряя шагами комнату. – У Российской империи – свой путь, а Бестужев твой Лестока не лучше. Один у англичан да австрийцев пенсионы берет, а второй – французским золотом не брезгует. Я, грешница, когда на русский престол всходила, тоже французские деньги взяла, а Шетарди с Лестоком возомнили, что всегда так будет. Точно императрица российская – попрошайка и волю иностранных держав блюдет!
– Про Бестужева ты зря, Лизанька, – мягко заметил Разумовский, – Алексей Петрович иностранных пенсионов не берет. Он – человек честный…
– Честный – как же! – добродушно рассмеялась Елизавета, не считавшая взяточничество смертным грехом, и ее глаза снова стали ласковыми, лазоревыми. – Ты, Алеша, потому за Бестужева заступаешься, что сын его на твоей сестре Авдотье женат… Но ты, ангел, меня слушай, а не Лестока с Бестужевым. Перегрызутся они между собой, а Россия стояла и стоять будет. Да и мы с тобой выстоим…
– С престола тебе, Лиза, только в Сибирь или в монастырь падать, – резонно заметил Разумовский, – а мне вслед за тобой лететь. Ты Малороссии держись, Лиза. Мы уж тебя не выдадим. Помнишь, как земляки мои в Питербурхе гостили? Венгерское пили да ручки у тебя целовали. – Алексей Григорьевич прижал к губам пухленькую ручку государыни, которая по-прежнему была мягкой и нежной, как у ребенка, и тихо, речитативом, забормотал: «Цвiте терен, терен цвiте, цвiте – опадаэ… Хто з любов’ю не знаэться, той горя не знаэ…».
– Ты скажи мне лучше, Алеша, как Лестока урезонить? – Елизавета вернулась к французской теме и к зеркалу. – Расшутился он не в меру – шельма французская! Тебя вон ночным императором называет…
– А что? Прав он, – добродушно согласился не отличавшийся чванливостью Разумовский. – Сама знаешь, рядом с тобой на российский престол не сяду. В тени останусь, а ты солнцем сияй. Только к Малороссии будь милостива, не обижай земляков моих, они – твои слуги верные.
– Когда мы в Чемеры ехали, к матушке твоей в гости, лекарь пошутил, что ты меня на смотрины везешь! – вспомнила императрица, которую эта шутка давно ранила – словно шпилька, неудачно вколотая в волосы. – При батюшке он острил не в меру, за что налегке в Казань отправился, а теперь вон – снова за свое! Пока я цесаревной была, шутки эти терпела, а теперь, на престоле российском, мне их терпеть невмоготу.
– Так и сошли его, Лиза, от двора подале, – посоветовал Разумовский, предпочитавший Бестужева Лестоку, – хоть в Казань, хоть в Сибирь. Пусть там шутит…
Елизавета внимательно взглянула в зеркало на свои уложенные французским куафером волосы и резко выдернула неудачно вколотую шпильку. Подержала шпильку на ладони, словно проверяя ее тяжесть, а потом сказала – как отрезала:
– От двора я Лестока отошлю, другого лейб-медика назначу. После решим, как с ним быть. Жалко его все же, шельму французскую. С детства он матушкой ко мне приставлен…
Уронила шпильку на пол – и вышла из комнаты, оставив Разумовского в совершенной растерянности. «А если Лизанька и меня, как шпильку, из волос выдернет? – подумал Алексей Григорьевич. – Весь мой путь жизненный – другом ей быть да про Украину не забывать. А другого пути я не знаю…»
На следующий день Елизавета отдала приказ о назначении нового лейб-медика – Бургава. Над остроумцем Лестоком сгущались тучи царственного гнева. Елизавета, как и все отходчивые люди, умела гневаться всерьез.
Бывший лейб-медик Лесток гордился своим умением отворять кровь. Он считал кровопускание лучшим лекарством от всех недугов, применял его при оспе и подагре, при любой пустячной болезни, и даже называл себя «рудометом ее Величества», хотя само слово «рудомет» казалось ему варварским и неблагозвучным. Теперь же рудометом ее Величества стал его соперник Бургав, а Лестока отослали к молодому двору – под мысленные аплодисменты Бестужева, во всеуслышанье заявившего, что «нет теперь достойных лекарей, все – неучи и плуты…». Последним достойным лекарем вице-канцлер считал Блюментроста, личного врача Петра I.
Злость на Елизавету привела Лестока на неверный путь – он зачастил к великой княгине Екатерине, которой теперь делал кровопускания. Прогуливаясь по аллеям Сарского села, они охотно обсуждали пороки Елизаветы, ее вульгарность и раздражительность, леность и упрямство, отчаянное мотовство и полное отсутствие государственного мышления.
– Знаете, Иван Иванович, каков последний каприз тетушки? – начинала Екатерина, и Лесток сочувственно кивал и презрительно пожимал плечами. Иногда, впрочем, он думал о Елизавете, как вспоминают о собственной молодости – со снисходительной тоской.
Граф корил себя за то, что потратил на Елизавету почти пятнадцать лет жизни, спал с ней под одной крышей, лечил ее любовников и воодушевлял друзей, побуждал занять трон и жестоко расправиться с врагами. И вот теперь императрица, которую он создал из глины, словно мастер – дивной красоты сосуд, заменила его каким-то Бестужевым вкупе с неотесанным мужланом Разумовским. А когда он предложил ей в друзья сердца элегантного французского кавалера, законодателя нравов при варварском русском дворе, выслала красавца Шетарди вон из России! Стоило ли устраивать государственной переворот ради такой сомнительной особы?!
Вскоре после возвращения из Малороссии Лесток понял, что Бестужев не только записывает в особую тетрадочку его остроты, но и перлюстрирует переписку. Вице-канцлеру было известно каждое слово из писем Лестока к Шетарди, и бывший лейб-медик, переставший шутить вслух, запретил себе делать это даже в письмах. Но, годами подтрунивая над Елизаветой, называя ее медведицей и упрямицей, трудно было в один день отказаться от своих прежних привычек. Иван Иванович то и дело забывал о благом намерении перестать шутить и поверял свои новые остроты тем, кого считал друзьями. Каждое его слово тут же становилось известно Бестужеву, потом – Разумовскому, а вслед затем и императрице.
В 1748-м Лесток дошутился. Императрица вызвала лекаря к себе.
– Надоел ты мне, Иван Иванович, с шутками своими, – устало сказала Елизавета, которая в этот сумрачный зимний день решила не подниматься с постели. Сидела неодетая, едва прикрыв платком по-прежнему восхитительные плечи, и Лестоку отчаянно захотелось до боли сжать ее белое, сдобное плечо, швырнуть на кровать и, как в былые, счастливые времена, назвать дурой.
– Письма твои к Шетарди снова читала, – продолжила Елизавета, – показали добрые люди. Пишешь, что я – глупа и ленива. Может, так оно и есть, не спорю. Пока я царевной была, мог ты мне такие комплименты говорить, я бы не обиделась, а нынче ты не меня оскорбляешь – Россию.
– У вас, государыня, слабая память, – надменно заметил Лесток, все еще веривший в свою власть над Елизаветой. – Не я ли вас на трон российский возвел? Не я ли первым вашим другом и советчиком был? А теперь меня – в отставку, и Бестужева, который ни ступить, ни молвить не может, на мое место?! С Французским королевством рассориться хотите – и из-за кого? Из-за лавочников-англичан?
– Ты мне, лекарь, не дерзи! – Елизавета вскочила с постели, платок упал с ее сдобных плеч, обнажилась прелестная родинка у левой груди, и Лесток восхищенно подумал: «А ведь хороша, чертовка! И всегда будет хороша!»
Лекарь шагнул к государыне и решился на то, чего не делал никогда, хотя злые языки и называли его тайным любовником Елизаветы: покрыл быстрыми поцелуями-укусами ее холеные плечи, потом впился в губы.
– Да ты, лекарь, с ума сошел! – закричала Елизавета, отталкивая Лестока. – Под арест пойдешь! На дыбу!
– За что же, государыня? За то, что перед вашей красотой не смог устоять? Иным вы этот грех прощали…
– А тебе не прощу! – Лицо Елизаветы исказила хорошо знакомая Лестоку нервная гримаса, и он отпрянул от государыни. Спокойно и, казалось, равнодушно сказал:
– Что ж, арестовывайте меня, ваше величество. За преданность мою, за верность. Хотите в крепость – извольте. Только не на кого опираться больше будет. Одна останетесь…
– А ты меня не пугай! – отрезала Елизавета. – Не из пугливых! Вон поди! Когда судьбу твою решу, узнаешь. И помни – не за шутки пустые тебя кара постигнет, а за то, что Францию больше меня и России любишь. А для русского сановника это постыдно.
– Прощайте, принцесса, – Лесток обратился к Елизавете как в памятные им обоим, далекие времена. Поцеловал ее в губы и вышел. Императрица несколько минут посидела в растерянности и тоске, а потом скрепя сердце позвала Бестужева. Ей было несказанно грустно – вместе с Лестоком от Елизаветы уходила молодость – молодость, которую она должна была принести в жертву престижу Российской империи.
Иоганн-Герман Лесток, граф и действительный статский советник, был арестован по обвинению в государственной измене, пытан в застенках Тайной канцелярии и заключен в крепость. Потом, правда, государыня смягчилась и сослала Лестока в Великий Устюг. Из ссылки Ивана Ивановича возвратили только в недолгое царствование Петра III.
До самых последних дней лекарь не мог простить Елизавете своего заточения и позора. А перед смертью сказал, словно обращаясь к императрице, пришедшей проститься с ним:
– Поздно сводить счеты, принцесса. Я был прав – вы глупы и ленивы, но разве дело в этом? Я выбрал вас. Я служил вам. Нужны ли иные оправдания?
Ответа Лесток не услышал и закрыл глаза…
Глава четвертая
Принцесса Фике
Когда на придворном рауте к великой княгине Екатерине Алексеевне подошел роскошно одетый красавец-вельможа с агатовой тростью в руках, она не смогла узнать в нем забавного лемешевского пастуха, которому когда-то улыбалась. Путешествие в Малороссию успело стереться из памяти принцессы Фике. Слишком много прошло с тех пор дней и событий. Фике и думать не могла, что восторженный мальчик, брат всесильного графа Разумовского, все это время мечтал о ней, каждый день, словно четки, перебирал в памяти мгновения их недолгой встречи.
И вот теперь пастух, ставший скроенным на парижский манер изящным кавалером, снова стоял перед ней.
– Как вы изменились, граф Кирилл Григорьевич… – холодные, тонкие пальцы Екатерины на мгновение коснулись ладони Кирилла, и это прикосновение показалось ему огненным. – Впрочем, и я изменилась. Вы уже видели дворец, который ее императорское величество приказала построить в Царском селе, на месте некогда принадлежавшей ее матушке мызы? Там разбит чудесный французский парк.
– Я еще не успел побывать в Царском селе, – со вздохом ответил Кирилл, которому совершенно не хотелось говорить на затронутую Екатериной тему. Он так долго и мучительно ждал этой встречи, а она обернулась пустыми приветствиями и банальными фразами. Боль разочарования оказалась такой сильной, что у Кирилла сдавило виски.
«Этот мальчишка ценный союзник, – думала Фике. – Императрица Елизавета недолюбливает меня. Хорошо бы заручиться поддержкой брата графа Алексея Григорьевича».
Екатерина еще раз, как бы невзначай, задела руку Кирилла и попыталась ласково, нежно улыбнуться, но ее улыбка напоминала слегка подтаявший лед.
– Дорогой граф, – продолжила Екатерина, – ее императорское величество вместе со всем двором уезжает в Царское. Нынче весна, в парке уже пробивается трава, и можно дотемна бродить по аллеям. Составьте мне компанию. Его высочество Петр Федорович не терпит бесцельных прогулок, и мне приходится в одиночестве сидеть на скамейке с книгой. Если бы вы знали, граф, как я одинока! Ее императорское величество то и дело осыпает меня упреками, обвиняет в мотовстве, но, видит Бог, я экономна. Отец, герцог Ангальт-Цербстский, научил меня бережливости.
Сердце Кирилла гулко застучало в груди. Быть рядом с ней, под руку бродить по аллеям, он и мечтать об этом не мог! Но бывший лемешевский пастух не мог не заметить, что от предложения Екатерины веяло холодом, как будто она предлагала не рандеву, а сделку.
«Ей нет дела до меня, – догадался Кирилл. – Фике нужен мой брат. Она в немилости у государыни и надеется, что мы с братом ей поможем. Что ж, пусть так. Любезность за любезность. Лишь бы оказаться подле нее. Пусть ненадолго. Пусть на миг. Я приму это как счастье».
– Я поеду в Царское, ваше императорское высочество, – ответил Кирилл, пьянея от своей иллюзорной удачи.
– Фике, – как могла нежно улыбнулась Екатерина, – друзья зовут меня Фике…
– Фике, – повторил Кирилл, целуя тонкие, холодные пальцы Екатерины. Этот поцелуй, подобно печати, скрепил его рабство. Разумовский-младший вслед за двором отправился в Царское село.
Чудесным майским вечером 1746 года Кирилл Разумовский бродил под руку с великой княгиней Екатериной Алексеевной по аллеям Царского села. Разбитый по приказанию императрицы французский парк пока лишь отдаленно напоминал сады Версаля. Но императрица относилась к своему дворцу и парку с болезненной гордостью – ей казалось, что лучше, чем в Царском, быть не может, и эта неуместная гордыня заставляла Екатерину пожимать плечами и хмуриться. Она считала свою августейшую тетушку капризной и вульгарной особой, по непонятному капризу судьбы добившейся власти. Права правами и кровь кровью, но в императрицы взбалмошная Елизавета Петровна решительно не годилась. Таков был приговор Екатерины.
Разумовский-младший был согласен с Екатериной в том, что императрица несколько вульгарна. Но осуждать свою благодетельницу не смел и лишь молча выслушивал бесконечные жалобы Фике на капризы тетушки-государыни. «Позолоченная нищета» – так охарактеризовала Фике жизнь российской императрицы и свою собственную.
– Вы, Кирилл Григорьевич, с братом одна моя защита, – говорила Екатерина. – Попросите графа убедить государыню, что я ее раба покорная и денег даром не трачу. Заговоров против нее не замышляю и Петру Федоровичу – верная жена. А то ведь ее величество грозилась намедни меня в Германию отправить.
– Я непременно расскажу брату о ваших нуждах, – уверял ее Кирилл, который не мог не поддержать свою красавицу. – Императрица будет к вам милостива.
Он еле заметно сжал руку Фике, и ее пальцы ответили – горячо, страстно, настойчиво. По холодновато-отчужденному лицу Екатерины пробежала легкая улыбка, и по этой улыбке Кирилл понял, что она готова на все – лишь бы приобрести в нем союзника. Великая княгиня предлагала ему сделку. На мгновение Разумовского покоробил ее холодный расчет, но он не смог отказаться от тонких пальцев, сжимающих его ладонь. Кирилл впился губами в ее губы – как будто бросался в омут, и вдруг перед его глазами возникло очаровательное, пухленькое личико дочери генерала Шубина. Разумовский-младший не мог понять, почему именно это лицо привиделось ему в тот момент, когда многолетняя жажда была наконец утолена и в его руке лежала покорная рука Екатерины. Только сердце вдруг заныло в груди, и на губах появился горький привкус несчастья.
– Так вы мой друг? – прошептала Екатерина, отстранившись от Кирилла.
– Друг, и нелицемерный, – ответил Кирилл, чувствуя, что совершает страшную, непоправимую ошибку и не может поступить иначе.
Екатерина улыбнулась и сказала ровно, как будто вела деловую беседу:
– Завтра. Ночью. В моих покоях. Муж будет у фрейлины. Прехорошенькой, как говорят. А я останусь с вами.
Кирилл попытался ее обнять, но великая княгиня змеей выскользнула из его рук и быстро зашагала по направлению к дворцу.
«Она меня не любит, – подумал Кирилл. – Она никого не любит, только власть да свои книжки. Но я люблю ее, и какое мне до этого дело! Лишь бы не повредить брату… И этой девочке, дочери императрицы. Лишь бы не предать…»
Он сел, вернее, упал на скамейку и, вдыхая сладкий, как губы Фике, майский воздух, понял, что заключил самую важную сделку в своей жизни и обратного пути нет. Есть только май, обещанное ночное свидание с Екатериной и ее холодновато-отчужденный взгляд – без тени и любви и нежности. И он сам – еще одна страница в прочитанной великой княгиней книге. Не первая и не последняя страница – так, одна из многих. Но даже за эту возможность он готов был платить. И заплатил – сердцем.
Глава пятая
Фавор Ивана Шувалова
Двадцатидвухлетнему Ивану Шувалову прочили блестящую придворную карьеру – он был красив, изящен, умен, не заносчив, к государыне Елизавете относился почтительно, хотя, будь у него такая возможность, охотно променял бы общение с императрицей на чтение любимых книг. Великая княгиня Екатерина то и дело заставала Ванечку с книгой в руках: ожидая выхода государыни, он влюбленно скользил взглядом по печатным строкам, и все вокруг понимали, что книги интересуют фаворита больше, чем красота стареющей кокетки. Екатерина Алексеевна пошутила однажды, что новый любимец Елизаветы, верно, не расстается с книгой и в будуаре государыни, эту остроту тотчас донесли императрице, и Фике с неделю пребывала в немилости и под замком. Печальная участь Лестока заставила шутников замолчать, и двор Елизаветы стал непоправимо скучным.
Елизавета познакомилась с Ванечкой в 1749-м – удружила графиня Мавра Шувалова, в девичестве Шепелева. Бывшая камер-фрау цесаревны вышла замуж за графа Петра Ивановича Шувалова, активнейшего участника ноябрьской революции 1741 года.
Алексей Разумовский к государственным деньгам относился щепетильно – и, должно быть, поэтому в сановники не вышел, оставался лишь обер-егермейстером двора, а Петр Иванович Шувалов с легкостью необыкновенной выхлопотал себе портфель министра финансов. Его брат Александр Иванович управлял застенками Тайной канцелярии, а родственника Петра Ивановича, Ванечку, ловкая Мавра Егоровна решила пристроить в фавориты к Елизавете. Она без особого труда приставила к стареющей красавице-государыне очаровательного мальчика, рядом с которым Елизавета могла чувствовать себя беззаботной и молодой. Разумовский старел и, замечая каждую новую морщинку на лице своего друга, государыня постоянно думала о собственной старости и смерти.
Как часто она вспоминала теперь о болезни и смерти Анны Иоанновны! О том, как внезапно подурнела и без того некрасивая женщина, бросавшая гневные взгляды на флиртовавшего с цесаревной Бирона, о том, как накануне смерти императрицы стонал за окнами осенний ветер, и Анна, присев на постели и испуганно озираясь кругом, спрашивала: «Кто это стонет? Неужто Ванька Долгорукий, которого я четвертовать велела?»
Анна умирала, а цесаревна Елизавета напропалую кокетничала с Бироном, понимая, что в этом курляндском авантюристе – ее единственное спасение. И наблюдая, как Бирон нашептывает комплименты в изящное, покрасневшее от приятного волнения ушко цесаревны, Анна отчаянно ревновала, понимая, что ее время уходит, и сделать с этим решительно ничего нельзя.
Теперь уходило, песком текло между пальцами время самой Елизаветы. Чувствуя свою вину перед Разумовским, императрица осыпала друга нелицемерного неслыханными дарами. Откупалась, как могла. Подарила дворец на Невском прошпекте, озолотила Разумовского-младшего. От щедрот государыни перепало и украинцам: Киев, в котором Елизавета с такой приятностью провела время, был освобожден от непомерных налогов, с родины нелицемерного друга Алеши вывели войска, стоявшие там с петровских времен, а Кирилл Разумовский готовился принять из холеных ручек государыни гетманскую булаву.
– Откупаешься, Лиза? – мрачно спросил Разумовский, когда государыня приехала к нему в Аничков дворец. – Не старайся – зря это. Нищим я приехал, нищим и уеду. В Чемеры вернусь.
– Ты теперь, Алеша, русский сановник и граф, и дарами моими не разбрасывайся! – отрезала императрица и наставительно добавила: – Не твой престиж чту, а престиж империи Российской. Ни с чем от меня не уходят.
Она уютно расположилась в кресле под собственным портретом работы Токе, подперла ладонью пухленькую щечку, но Разумовский предпочел бы, чтобы Лизанька, как прежде, уселась к нему на колени.
– Вишь, как метет сегодня, на улицу не выйдешь. Сани мои чуть в снегу не увязли, – вздохнула Елизавета и без всякого перехода продолжила: – Старею я, Алеша, страшно стареть. Каждое утро на одну морщинку больше становится. Ночью проснусь и думаю, а вдруг сейчас умру – и зябну от страха… Мальчика этого, Ивана Шувалова, к себе прижимаю, как раньше тебя прижимала, и думаю, а вдруг его молодость моей станет? Знаешь, как сладко это – молоденьких любить?!
– Для меня слаще тебя, Лиза, никого не было и не будет, – отрезал Разумовский.
– Прошли времена прежние, беззаботные, мне теперь об империи Российской думать надобно и о том, кому престол передать, – продолжила императрица. – Племянник Петрушка хоть и глуп, но последний государя Петра Алексеевича по мужеской линии потомок. Вот ведь, Алеша, Россия-матушка не стареет, куда ей стареть? И по ночам не бодрствует, гостей незваных дожидаясь. А я, ты знаешь, дворцового переворота до смерти боюсь. Боюсь, что придут за мной однажды, как я за правительницей Анной пришла.
– Да неужто, Лиза, мальчик, который тебе в сыновья годится, от страха смертного защитить может?
– Снег идет тихо-тихо, как ребенок во сне дышит, – нежно, напевно протянула Елизавета и резко, решительно добавила: – Выгнала я сегодня Ванечку, у тебя останусь, ангел. Пусть тает моя красота, прахом рассыпается, пусть никто уже меня Венус Российской не назовет, для тебя, чай, всегда молодой останусь! А Ванька, когда я задремлю, книжку читает. Тихо так с постели встанет, свечку зажжет, думает – я ничего не слышу. Отодвинет меня тихонько да страницами зашуршит. Мочи нет это шуршание слушать!
– А ты не слушай, Лизанька, – рассмеялся Разумовский, – зачем себя мучить?! Выгони красавчика этого, меня верни!
Елизавета поднялась, отбросила с плеч подернутые инеем пудры рыжие пряди, с надеждой спросила:
– Взгляни, Алеша, разве я не хороша? Или старухой стала и того не заметила?
– Еще не одну голову вскружишь, Лиза! – заверил Разумовский. – Прусского короля на колени поставишь, над французами посмеешься! Глядишь, и ключи от Берлина тебе молодцы наши принесут. А про Шувалова я тебе и раньше говорил – книги он больше людей любит. Пусть наукам да искусствам покровительствует.
– Привыкла я к нему, – призналась Елизавета в своем тайном, запретном грехе. – И честен он – из казны не ворует, империю Российскую блюдет.
– Эх, Лиза, Лиза, – вздохнул Разумовский. – Во всем трубы власти виноваты. Не была бы ты императрицей, жили бы мы на покое в Александрове или в Доме Смольном, дочку растили да флейты любви слушали. А теперь ты по ночам мальчиков молоденьких к себе прижимаешь, от старости укрыться хочешь… Да только ты не от старости, ты от меня бежишь!
Он подвел Елизавету к зеркалу, ловко вытащил шпильки из ее по-прежнему пышных рыжих волос, безжалостно разрушил виртуозное сооружение французского куафера, откинул с плеч и груди императрицы капризные пряди, сам стал за спиной государыни, крепко обнял.
– Смотри на себя, Лиза, смотри! – торжественно, как никогда раньше, произнес он. – Ты по-прежнему Венус Российская, не властно над тобой время. Из морской пены каждый день выходишь. Чего бояться тебе? Что Ванька Шувалов в сторону взглянет, книжку тебе предпочтет? Значит, слеп он и живую красоту видеть не может. Только отражение ее в книжках ищет. А хочешь: не в зеркало, в глаза мои загляни, всю себя увидишь – в красоте и славе.
И, невесть откуда взявшись, нежно зашелестели над ними флейты любви, заструились лунным серебром, победив на время всеведущие трубы власти. Наутро Елизавета вернулась в Зимний дворец, и Иван Шувалов, пораженный воскресшей красотой императрицы, впервые отбросил в сторону книгу и жадно, словно хотел напиться, приник к ее губам.
Глава шестая
Присяга гетмана Разумовского
13 марта 1751 года граф Кирилл Григорьевич Разумовский, которому Елизавета наконец-то решилась отдать гетманскую булаву, присягал на верность государыне в Петропавловском соборе. На церемонии присяги присутствовал весь двор: великая княгиня под руку с наследником Петром Федоровичем, министры, генералы, хорошенькие фрейлины императрицы и родственница государыни, Екатерина Ивановна Нарышкина, которую Елизавета вместе с Разумовским-старшим прочили в жены Кириллу. Новоиспеченный гетман Украины и не думал любоваться своей невестой – время от времени он бросал настойчивые вопросительные взгляды на великую княгиню, и та отвечала ему легкой улыбкой.
Ради церемонии присяги Кирилл Григорьевич сменил свой обычный наряд парижского франта и агатовую трость, украшенную рубинами и алмазами, на гетманское облачение. Впрочем, сам себе Кирилл казался ряженым, его земляк Петр Апостол гораздо больше годился в гетманы. Но делать нечего – так велела государыня, да и старший брат Алексей просил постоять за Украину, а он уж выпросит у государыни привилегии для Киева, отмену введенных Петром I непосильных налогов и таможенных пошлин.
Так и договорились – стоять за Украину вместе. Разумовский-старший не ведал, что Кирилл вот уже несколько лет пребывает в сладком плену Екатерины и позволит ее холеным ручкам прикоснуться к гетманской булаве. Сейчас великая княгиня торжествующе улыбалась – она знала, что сделала верную ставку, и украинский гетман обязательно поможет ей в затеянной большой игре. «Буду царствовать или погибну!» – эту фразу Екатерина не уставала повторять самой себе. Впрочем, от гибели она была дальше, чем от власти.
Канцлер Алексей Петрович Бестужев поднес Елизавете гетманскую булаву, а та вручила ее Кириллу.
– Буду верным, добрым и послушным подданным ее императорского величества, самодержицы Всероссийской Елисавет Петровны, и в том крест целую, – повторил Кирилл Григорьевич слова присяги и приложился к протянутому духовником государыни, отцом Федором Дубянским, кресту.
– На пять лет тебе булаву вручаю, – сказала Елизавета, а Кирилл Григорьевич еще раз повторил, что будет ее верным и покорным подданным. Свершилось – он стал гетманом Украины. Он еще не знал, что станет последним обладателем золотой булавы, попавшей под сень московского скипетра…
Столицей нового гетмана стал Батурин, некогда сожженный войсками Меншикова. Для Разумовского возвели в Батурине роскошный раззолоченный дворец, куда он должен был въехать с молодой женой – Екатериной Нарышкиной. Женитьба на родственнице государыни была неразрывно связана с гетманством. Однако Кирилл считал, что его судьба – великая княгиня Екатерина. А от судьбы не скроешься, как ни старайся.
Часть IX
Княжна Тараканова и арестант Григорий
Глава первая
Дочь генерала Шубина
Она появилась ниоткуда – красивая рыжеволосая женщина, называвшая себя великой княжной Елизаветой, принцессой Азовской и Владимирской. Говорили, что она долго жила во Франции, потом в Польше, в раннем детстве – в России и в Персии. Сама великая княжна Елизавета рассказывала о себе мало, охотно говорила лишь о своих правах на российский престол да о завещании матери – покойной императрицы Елизаветы Петровны, которое хранила у доверенного лица, а любопытным показывала лишь французский перевод этого документа. На этом откровенность княжны заканчивалась, и начинались загадки.
У нее было много поклонников, мало друзей и сотни завистников. А сама она страстно желала встречи с одним лишь человеком, бывшим гетманом Украины, графом Кириллом Григорьевичем Разумовским, который жил на покое в своем дворце в Батурине. Знающие люди говорили, что эта авантюрная особа преспокойно могла бы жить во Франции, в поместье некого д’Акевиля, бывшего дипломата. Но Елизавета сбежала из-под опеки гостеприимного семейства д’Акевилей и устремилась навстречу своей бурной судьбе. В Польше она смущала умы и томила сердца необыкновенной красотой и сходством с покойной императрицей Елизаветой, пыталась заявить о правах на русский престол, а потом оказалась в Ливорно – без денег и без поклонников, в сопровождении одного лишь секретаря, красивого молодого француза, ни на день не оставлявшего ее в одиночестве. Княжна жила в третьеразрядной гостинице, где ее осаждали кредиторы и страдавшие любопытством русские путешественники и где, наглухо закрывшись от посторонних, можно было предаваться воспоминаниям о собственном прошлом, которое было для Елизаветы не менее загадочным, чем для ее друзей и врагов.
С раннего детства она привыкла считать себя дочерью генерала Шубина – сдержанного, замкнутого человека, который смягчался и веселел лишь в ее присутствии. Она помнила усадьбу неподалеку от Александрова – двухэтажный деревянный дом с выходившими в сад окнами, белыми резными наличниками и крохотным балконом. В этой усадьбе у нее была собственная комната – тихая, светлая, уютная, обитая нежно-голубой тканью, расшитой райскими цветами. Потом она оказалась во Франции, в поместье, принадлежавшем сестре генерала и ее мужу Андре д’Акевилю – легкому, веселому человеку, прекрасному собеседнику. Они сказочно жили в этом поместье – каменном доме в манере барокко, напоминавшем не то парижский дворец Марии Медичи, не то замок Во-ле-Виконт, некогда принадлежавший несчастному министру финансов Людовика XIV, приговоренному к пожизненному заключению за то, что оказался богаче короля.
В те легкие чудесные времена ее называли Лизанькой, любили, баловали, задаривали цветами и дорогими безделушками. С нее не сводил глаз сын гостеприимных хозяев замка Жак д’Акевиль, и генерал Шубин сказал как-то, что Лизе лучше бы навсегда остаться во Франции. Но потом все изменилось, и счастье стало исчезать, таять, рассыпаться на глазах, а скоро от него не осталось ни гроша. Сначала тяжело заболел генерал Шубин, отчаянно, непоправимо скучавший по России, а потом все пошло прахом. А началось все с одного известия, которое Шубин получил в канун православного Рождества…
Глава вторая
Смерть генерала
Царствование Елизаветы Петровны клонилось к закату, шла война с Пруссией. Когда российская армия, одерживая победу за победой, стала приближаться к Берлину, отставной генерал воспрял было духом и то и дело пил с д’Акевилем за успех русского оружия, так что Анастасия Яковлевна, вздыхая, отбирала у мужа и брата очередную бутылку. И вот в один из длинных зимних вечеров 1761 года, когда Шубин обсуждал с зятем очередной этап русско-прусской кампании, в усадьбу приехал друг д’Акевиля, маркиз де Шетарди. Лизе не разрешили присутствовать при разговоре, но она все равно подслушала его, хотя не сразу поняла, что речь идет о ее судьбе.
Блестящий маркиз был явно расстроен, небрежно одет и рассеян. Вздыхая, он сообщил о смертельной болезни императрицы Елизаветы Петровны. Шетарди давно уже не был французским посланником при русском дворе, но о русских делах Шетарди все равно был прекрасно осведомлен.
– Что с ней? – спросил Шубин и схватился за сердце – оно у генерала давно пошаливало.
– Беспорядочный образ жизни… – объяснил маркиз, с удовольствием рассказывавший о русских делах столь внимательным собеседникам. Бывшему дипломату отчаянно не хватало слушателей. – Ее, видите ли, мучит страх дворцового переворота. Боится, что ночью придут за ней самой, как пришли по ее приказу за правительницей Анной. Поэтому вот уже много лет Елизавета превращает день в ночь, а ночь – в день. Ни на одну ночь не сомкнула глаз! Такая жизнь расшатает какое угодно здоровье…
– Государыне часто снится Анна Леопольдовна… – вмешалась мадам д’Акевиль, – она мне писала об этом.
– Совсем недавно в церкви императрицу хватил удар, – продолжал рассказывать Шетарди, не обратив внимания на реплику хозяйки дома. Словоохотливый маркиз не позволял никому говорить за него. – Она долго не приходила в сознание. Думали – умрет, как вдруг, стараниями нового фаворита – Ивана Шувалова, императрица очнулась. Сказала, что хочет переписать завещание. В чью пользу – я так и не узнал…
Шубин и д’Акевиль переглянулись. Для д’Акевиля происхождение Лизаньки не составляло тайны, и ему не нужно было ломать голову, в чью пользу императрица решила переписать завещание. Да и Анастасия Яковлевна, посвященная в тайну воспитанницы брата, сразу поняла, о чем идет речь.
– Что же было дальше? – спросил Шубин.
– Говорят, она переписала завещание, но оно не пошло дальше Ивана Шувалова, не отходившего от постели государыни. А Шуваловы держат сторону наследника Петра Федоровича и великой княгини Екатерины.
– А как же граф Разумовский? – вмешался д’Акевиль. – Неужели он так и не видел завещания?
– Он-то и настоял на том, чтобы императрица выбрала другого наследника, – объяснил Шетарди. – Д’Аллион, французский посланник в России, написал мне, что в последние месяцы Разумовский, удалившийся было в подаренный императрицей Аничков дворец, стал опять появляться при дворе, отодвигая в сторону нового любимца – Ивана Шувалова. Он часто беседовал с государыней наедине, просил ее о чем-то… И вот она решила переписать завещание, но в церкви императрицу хватил удар, а рядом оказался не Разумовский, а Шувалов. Досадная случайность… Но из-за нее мы так и не узнаем, в чью пользу императрица переписала завещание. Говорят, Шувалов уничтожил документ.
– А Разумовский-младший? – переспросил Шубин. – Говорят, он в чести у великой княгини Екатерины. Неужели и он не знает правды?
– Великая княгиня не видела завещания… – объяснил Шетарди. – По крайней мере, так утверждает д’Аллион… Только Шуваловы и наследник Петр Федорович. Да и граф Кирилл Разумовский не стал бы предавать Екатерину, чье будущее зависит от воцарения мужа. Интересы великой княгини ему дороже, чем желания старшего брата и императрицы Елизаветы.
– Что же делать? – ахнула Анастасия Яковлевна, невольно намекнув этим восклицанием на тайны семьи Шубиных.
– Императрица еще в сознании, – заключил маркиз. – И скоро мы узнаем имя наследника. Старого или нового – неизвестно. Остается только ждать.
– Ждать… – повторил Шубин. – Если бы я только мог увидеться с государыней!
– Отправляйтесь в Петербург, – пожал плечами маркиз, – но вы не успеете. Елизавета слишком плоха. Ее смерти ожидают со дня на день.
Больше в тот вечер Лиза ничего не узнала, а через несколько дней тот же маркиз де Шетарди сообщил о смерти императрицы Елизаветы. Вся семья надела траур, а генерал Шубин слег. Лизу не пускали к отцу, у постели генерала дежурила Анастасия Яковлевна, д’Акевиль пытался помочь ей, но только бестолково суетился и мешал жене. Маркиз де Шетарди прислал из Парижа врача, но тот не в силах был справиться с болезнью генерала: казалось, что жизнь Шубина была незримой нитью связана с судьбой Елизаветы Петровны, и смерть императрицы перерезала эту нить невидимыми ножницами. Конечно, у генерала было слабое сердце, его здоровье подорвали дыба, каменный мешок и камчатская ссылка, но все это казалось сущими пустяками по сравнению с тем, что в Петербурге в рождественские праздники перестала дышать неуемная рыжеволосая женщина, с которой он был когда-то близок.
К середине января генералу стало совсем худо. Последним, непоправимым ударом оказалось известие о восшествии на российский престол наследника Петра Федоровича.
Лизаньку все эти династические хитросплетения интересовали мало, она всплакнула по государыне Елизавете, которая когда-то в Петербурге, в их единственное свидание, подарила ей много красивых платьев и украшений, но и только. Зато болезнь отца заставляла Лизу бестолково метаться по дому и изводить просьбами и капризами кузена Жака, который, как всегда, готов был выполнить любое ее желание.
В 1761-м, в год смерти императрицы Елизаветы и тяжелой болезни генерала Шубина, Лизе исполнилось семнадцать, Жаку – девятнадцать. Они выросли вместе и, казалось, знали друг о друге все – от первой ссадины до первого поцелуя. Лиза охотно подшучивала над постоянными влюбленностями кузена, легко переходившими в романы, а он уверял, что кузина без ума от красавца маркиза де Шетарди. Конечно, за эти годы блестящий маркиз успел постареть и потерять ощутимую часть своего великосветского лоска, но д’Акевиль-младший утверждал, что юные барышни, подобные Лизе, без ума от потрепанных жизнью петиметров. Сам он волочился за хорошенькими дочерьми зажиточных арендаторов отца и девицами из окрестных поместий. Но однажды все изменилось – эти молодые люди, не составлявшие друг для друга тайны, вдруг обнаружили, что тайна всегда была рядом, но лишь намекала на свое существование.
В тот январский вечер болезнь генерала Шубина дошла до критической точки – он не приходил в сознание и звал цесаревну Елизавету, а потом, в редкие минуты просветления, уверял сестру, что слышит ее причитающий зов: «Где же ты, Алешенька, друг мой милый?!» Лиза сидела с Жаком в библиотеке, опустошенно, потерянно наблюдая, как догорает единственная свеча, позволявшая им видеть друг друга. Что-то таяло, исчезало, рушилось, и Лиза поняла, что двоюродный брат, раздражавший ее своими постоянными романами и не стоившими выеденного яйца страстями, смазливый и наглый мальчишка, вдруг превратился в единственную опору и защиту, рыцаря Ланселота, о котором она читала в этой самой библиотеке, забравшись с ногами в кресло.
– Лиза, иди, отец зовет, – сказала появившаяся на пороге мадам д’Акевиль, и Лизанька беспомощно взглянула на Жака, как будто в его силах было заставить старуху с косой отойти от изголовья генерала Шубина. Жак собирался выйти вслед за кузиной, но мать остановила его одним движением руки.
– J’irais, ma tante, – прошептала Лизанька и пошла вслед за теткой. Ей предстояла самая тяжелая в жизни задача – попрощаться с человеком, олицетворявшим собой былое счастье и благополучие. Прощание не удалось – Шубин стоял уже на зыбкой грани небытия, и рыжеволосая женщина, совсем недавно отошедшая в мир иной, манила его рукой. Он ушел за ней, едва успев попрощаться с приемной дочерью.
Через несколько месяцев после смерти брата Анастасия Яковлевна получила письмо из России, от графа Алексея Григорьевича Разумовского. Письмо, адресованное покойному Шубину, было странным и путаным, но предполагалось, что генерал сможет читать между строк. С горем пополам мадам д’Акевиль поняла, что Елизавета Великая хотела оставить престол Елизавете Малой, на чем настаивал граф, но завещание было уничтожено Иваном Шуваловым. Поэтому права Лизаньки так и не будут узаконены, и, за неимением лучшей судьбы, ей придется остаться графиней Шубиной. «И слава Богу…» – подумала Анастасия Яковлевна, искренне желавшая Лизе счастья.
Мадам д’Акевиль уже собиралась было поженить сына и воспитанницу, обнаруживших явное пристрастие друг к другу, но невеста нарушила ее матримониальные планы. То ли эта рыжая непоседа слишком долго и не без пользы рылась в старых письмах, которые Анастасия Яковлевна не удосужилась спрятать и хранила в семейной библиотеке, то ли опять, по своему обыкновению, подслушала один из разговоров тетки с мужем, то ли маркиз де Шетарди, догадывавшийся о многих тайнах Шубиных, слишком уж разоткровенничался с беспокойной юной особой, не сводившей с него внимательных, восхищенных глаз. Так или иначе, но в один прекрасный день Лиза сбежала из дома, прихватив с собой жениха.
Д’Акевили обнаружили беглецов в Париже, в плохонькой гостинице, где графиня Шубина заявила тетке, что знает о своем происхождении и намерена отстаивать права на русский престол. Настя от изумления лишилась дара речи, но потом пришла в себя и сказала беглянке, что силой увезет ее домой и заставит повиноваться старшим. Планы мадам д’Акевиль разрушил собственный сын, заявивший, что дочь покойной русской императрицы вправе требовать к себе должного уважения.
– Уважения! – закричала Анастасия Яковлевна, вне себя от страха и гнева. – Признания прав! В Сибирь сошлют твою Лизу или в монастырь упрячут. Мало государыня покойная ее от людей прятала! А ты, мальчишка, что затеял! Домой немедля, и из дома ни ногой. Оба!
На этот раз Анастасии Яковлевны удалось сломить упорство сына и воспитанницы и увезти детей домой. Но потом Лиза снова сбежала, а вслед за ней исчез и Жак. Через несколько лет след беглецов обнаружился в Польше…
Глава третья
Предупреждение
– Долгое и славное царствование… Двадцать лет на отцовском троне… Успехи русского оружия, расцвет искусств и наук, первый в империи театр, Сумароков и Ломоносов… Восстановление древних прав и вольностей Украйны! Гетманство моего брата Кирилы. Все это – ее правление. Но был и страх, неизбывный, не стихавший ни на минуту. Страх и раскаяние. Она считала себя клятвопреступницей, нарушившей присягу. Ведь Елизавета Петровна присягала правительнице Анне, клялась бедняжке в верности, целовала крест! А потом гноила в крепостях ее сына Ивана. Мальчик не видел никого, кроме тюремщиков, и ничего, кроме тюремных стен. Просил о прогулке и о солнечном свете, как о небывалой милости! У него отобрали все: власть, семью, свободу, имя!
Сын правительницы Анны, свергнутый император Иоанн Антонович, стал безымянным заключенным, которого, словно вещь, забывали то в одной, то в другой крепости! Потом государыня велела называть его Григорием. Как самозванца Гришку Отрепьева, про которого, впрочем, многие сказывают, что он был подлинным русским царевичем… Сколько раз я просил государыню отправить ребенка со всем семейством в Германию! Лиза упорствовала, она смертельно боялась Иванушку. Полагала, что у него много сторонников, и если отпустить мальчика с семьей в Германию, то в Петербурге, на немецкие деньги, вспыхнет бунт. Но даже забытый в Шлиссельбургской крепости Иванушка внушал ей страх. Поэтому она и не спала ночами. Отчаянно прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала от каждого случайного стука. Боялась дворцового переворота, подобного тому, который возвел ее на престол. Право же, цесаревной Елизавета была счастливее… А потом ей стала сниться несчастная Анна Леопольдовна, скончавшаяся в Холмогорах…
– Я знаю эту историю, граф Алексей Григорьевич. Я слыхала, что покойной государыне во сне явилась правительница Анна и напророчила ее дочери участь несчастного Иванушки. Пожизненное заточение. Одиночество… Отнятое имя… Но, слава Богу, Лиза на свободе.
– Лизоньке угрожает опасность, Анастасия Яковлевна! Пусть перестанет смущать умы и рассуждать о своих правах… Завещание Елизаветы Петровны уничтожено – никто не может засвидетельствовать права Лизы. Ее участь – быть графиней Шубиной, а не великой княжной Елизаветой. Новая императрица крепко сидит на троне, и поддерживает ее мой наивный брат. Кирилл Григорьевич знает об уничтоженном завещании покойной государыни, но поддерживает Екатерину, а не собственную племянницу.
– Но ведь Екатерина грозится уничтожить гетманство! Разрушить дело всей его и вашей жизни!
– Пусть так. Но перед страстью голос крови бессилен.
– А голос истины?
– Увы…
Этот разговор происходил в Петербурге, в Аничковом дворце, где жил удалившийся от двора граф Алексей Разумовский. О графе говорили, что он живет среди теней, так много было в его доме реликвий прошлого царствования. В Аничковом дворце по-прежнему царила Елизавета: гостей Алексея Григорьевича окружали ее портреты и принадлежавшие ей вещи. Нынешняя государыня Екатерина казалась графу менее живой и реальной, чем покойная Елизавета. Алексей Григорьевич не принял нового царствования и редко виделся даже с собственным братом, которому не мог простить предательства интересов семьи и восшествия на престол Екатерины. Все знали, что Кирилл Разумовский помог Екатерине свергнуть с престола собственного мужа, привел на ее сторону собственный полк и отдал распоряжение печатать в подвластной ему типографии Российской академии наук манифест о восшествии на престол новой государыни.
– Россией должна была править наша с Елизаветой дочь! – кричал Олекса брату. – Моя дочь и твоя племянница! А не этот глупец Петр Федорович или его ловкая жена! Ты помнишь, как она называла Елизавету «колодой» и ждала ее скорой кончины! Если бы ты не поддержал Екатерину, на престол, с Божьей помощью, взошла бы наша Лизанька!
Эти споры привели к охлаждению братской любви. Кирилл Григорьевич во время своих визитов в Петербург старался обходить Аничков дворец стороной. Гетман сидел в своем дворце в Батурине, но уже понимал, нюхом испытанного царедворца чуял, что над ним и Украиной собираются тучи. Что, если Екатерина и вправду отменит гетманщину? Тогда выходит, что прав Алексей и нужно было поддержать племянницу Лизу? Но какая императрица вышла бы из взбалмошной девчонки, ничего не знавшей о своих подлинных родителях?! Или чего стоит эта новая причуда Алексея?! Говорят, что в своей нелюбви к Екатерине он дошел до того, что тайно сносится со Шлиссельбургским узником, несчастным императором Иваном Антоновичем…
Летним вечером 1763 года граф Алексей Разумовский, этот удалившийся от людей вельможа, чья напускная неприветливость последних лет стала входить в поговорку, принимал у себя приехавшую инкогнито французскую даму. Алексей Григорьевич принимал мадам д’Акевиль в кабинете, и государыня Елизавета, в расцвете красоты и славы, благосклонно улыбалась им с портрета Токе.
– Я не могу сломить упрямства вашей дочери, граф. – Мадам д’Акевиль никак не могла унять предательскую дрожь в руках. – Сколько раз я просила, умоляла, требовала! Одно твердит наша Лиза: «Я – российская великая княжна, дочь покойной императрицы!» И мой сын с ней заодно! Что мне делать с этими детьми? Ах, Алексей Григорьевич, вам непременно нужно увидеться с дочерью и образумить ее!
– Я слыхал, она в Польше… – Граф бросил вопросительный взгляд на портрет Елизаветы, как будто бы государыня могла дать ему оттуда, с небес, хороший совет.
– В Польше… – Анастасия Яковлевна умоляюще взглянула на Разумовского. Ах, он все знает, стало быть, следит за метаниями дочери, помогает ей, а может быть, и нарочно окружил Лизу поляками и малороссами. Чего только он добивается?! Неужели хочет составить Лизе партию и вправду помочь ей воцариться? – Сидит с моим сыном в дешевой гостинице и принимает католических священников. Думает, что папа поможет ей взойти на русский престол. И это православная царевна! Наше счастье, что Екатерине недосуг заняться этой упрямой девчонкой!
– Власть Екатерины не так сильна, как вам кажется, Анастасия Яковлевна… – задумчиво сказал Разумовский. – Трон принцессы Фике еще можно раскачать. Но вы правы, мы не будем пока рисковать безопасностью Лизы. Я напишу нашей лялечке письмо, попрошу ее вернуться к вам, скажу, что еще не пришел ее час заявить о своих правах… Если бы только Кирилл Григорьевич был на нашей стороне! Но он до сих пор околдован Екатериной! Пусть Лиза пока затаится. Мы должны выиграть время…
– Напишите, Алексей Григорьевич! Непременно! – Французская гостья вскочила и стала нервно расхаживать по комнате. – Вас она должна послушаться! И мой сын тоже…
– Молитесь, Анастасия Яковлевна, чтобы Пресвятая Дева отвела от Лизы беду, – с тяжелым вздохом сказал граф. – И закажите молебен за упокой много страдавшей души правительницы Анны… А потом и во здравие ее сына Ивана… Этот юноша еще пригодится – нам всем…
– Он все еще в крепости? – Анастасия Яковлевна взглянула на портрет Елизаветы, и на мгновение ей показалось, что лицо рыжеволосой красавицы исказилось от боли.
– В Шлиссельбурге… – в голосе графа прозвучала тоска. – Я видел его однажды. И просил за него Елизавету. Но если Елизавета Петровна не вняла просьбе своего нелицемерного друга, кого же мне просить еще? Екатерину? Бесполезно… Но этот несчастный юноша должен быть освобожден. Государыня перед смертью просила меня об этом. Говорила: «Сними грех с моей души, Алешенька… Вели Петру Федоровичу освободить Ивана. Пусть Иван в Германию, к родственникам своим уезжает…» Петр Федорович и вправду ездил в Шлиссельбург. Хотел освободить Иванушку. Но не успел… Молитесь, Анастасия Яковлевна! Дай Бог, отведете угрозу покойной Анны Леопольдовны! А я и иные средства пущу в ход… Если Иван будет на свободе, с Лизой не случится беды. Мертвые умеют мстить за себя, ох, как умеют! Как бы Анна Леопольдовна, с небес на нас взирая, беды нашей Лизе не пожелала!
– Пишите письмо, граф, – повторила Анастасия Яковлевна. – А молиться я буду непрестанно…
На следующий день в одной из церквей Александро-Невской лавры неизвестная дама заказала службы за упокой души рабы Божьей Анны и во здравие раба Божьего Ивана. А в Шлиссельбургской крепости продолжал томиться ни в чем не повинный узник.
Глава четвертая
Арестант Григорий
У него никогда не было имени, разве только в младенчестве. Иногда, словно в тумане, проплывали неясные картины, казалось бы, навсегда стертые из памяти, но чудом сохранившиеся на самом ее дне. Так он понял, что у памяти есть и подвал, и гостиная. В гостиной всегда людно и светло, толпятся самые близкие и знакомые люди и образы, а в подвале – темно и неуютно, но именно там таится до срока самое важное и нужное. Он вспоминал раннее детство, мать – бесконечно печальную, усталую женщину, ее слабые белые руки, серые глаза с опухшими от слез веками, темное платье и тихий голос. Эти воспоминания, таившиеся в подвале его памяти, теперь стали единственной доступной ему истиной и родословной.
Раньше – это Иванушка знал наверняка – они с матерью были не узниками, а всего лишь сосланными знатными особами и жили (под надзором, конечно) в небольшом северном городке, название которого он так и не смог вспомнить, сколько ни старался. Это название ускользало от него, уходило, таяло, как смутный и печальный сон. В те времена мать называла его Иванушкой и то и дело отчаянно прижимала к себе, словно боялась разлуки.
Отца Иванушка не помнил, братьев и сестер – тоже, в подвале его памяти каким-то чудесным образом уцелел только образ матери, да и тот был так неясен и непрочен, как будто в любую минуту мог растаять. Иванушке не исполнилось и пяти лет, когда его разлучили с матерью, которая, вырываясь из рук удерживавших ее солдат, что было силы кричала: «Иванушку не трогайте! Не трогайте Иванушку!» Но вмешательство матери не помогло – мальчика посадили в карету и повезли из одной тюрьмы в другую.
С ним ехал офицер, который, по-видимому, жалел Иванушку и следил за тем, чтобы ребенок не мерз в дороге, был тих и спокоен. В те далекие, полузабытые времена Иванушка еще мог видеть северное небо, снег, чувствовать прикосновение ветра к лицу, но потом и эти отпущенные ему скромные земные радости исчезли без следа. Осталась комната, больше похожая на камеру, тюремщики, которые приносили ему еду и питье и называли почему-то Григорием и иногда, как редкий и светлый праздник, – книги.
Тот добрый офицер, который долго, несколько недель, вез Иванушку из одной тюрьмы в другую, в дороге от нечего делать выучил с ним азбуку. А тюремщики, следуя распоряжению некой неведомой Иванушке, но могущественной особы, заточившей несчастного в крепость, приносили безымянному узнику Евангелие и Святцы.
«Кто я?» – спрашивал Иванушка у тюремщиков. «Арестант Григорий», – отвечали они, но узник помнил, что в детстве его называли по-другому, и был он, вероятно, большим человеком, – может быть, даже императором. Кто такой император, Иванушка знал с детства. Его мать, правда, называла себя великой княгиней Анной Леопольдовной, но успела рассказать мальчику, что в младенчестве он был властителем огромного государства, но корону у него отняли. Кто отнял, Иван так и не понял, но от доброго офицера узнал, что Россией правит новая императрица с красивым, звучным именем Елизавета и эта царица чудо как хороша. Стало быть, это она обрекла их с матерью на несчастья и вечное заточение.
В восемь лет Иванушка тяжело заболел. Метался в бреду, звал мать. Врача к нему не допустили. Надеялись, что несчастный и не нужный новой власти ребенок сам по себе умрет от оспы. Но он выжил. Выжил потому, что в бреду видел у своей постели мать: она сидела рядом, на убогой деревянной табуретке, шептала слова утешения и ласки. На ней было все то же знакомое ему до сердечной боли темное платье, но глаза источали не печаль, а свободу. Тихая и светлая гостья приходила к Иванушке, мальчик чувствовал прикосновение ее прохладных пальцев к своему горячему лбу, слышал ласковый шепот и сам разговаривал с ней – душой.
Когда Ивану исполнилось пятнадцать, его перевезли в другую тюрьму. Везли зимой, глубокой ночью. Тогда он в последний раз успел увидеть снег и глотнуть свежего, морозного воздуха перед там, как навсегда лишиться и того и другого. Арестант Григорий стал узником Шлиссельбургской крепости, а его оставшаяся в Холмогорах семья ничего не знала о мальчике. Иван часто спрашивал тюремщиков, в чем его вина, почему его всю жизнь держат взаперти, но те отвечали, что арестант Григорий – государственный преступник и злоумышлял против императрицы Елизаветы. «Да как же злоумышлял?» – спрашивал Иванушка, не помнивший за собой никаких преступлений, но на его дальнейшие расспросы тюремщики и не думали отвечать. Император Иоанн Антонович, в младенчестве лишившийся трона благодаря цесаревне Елизавете и ее гвардейцам, не должен был ничего знать о себе.
Иванушку держали в тесной комнате с одним-единственным узким оконцем, дневного света он почти не видел, солнце заменяли огарки свечей. Узник почти не отличал ночи от дня, не следил за течением времени. Иванушка жил в зыбком мире видений, которые с лихвой заменяли ему реальность. Разговаривал с матерью, рассказывал ей о каждом прожитом дне, читал Евангелие, представлял себе Иисуса в темнице и жестокосердных римских солдат, надевших на голову Спасителю терновый венец. Иванушке казалось, что эти солдаты похожи на Власьева и Чекина, его тюремщиков, которые всякий раз называли безымянного узника злодеем, но при этом не рассказывали, в чем именно состоят его преступления.
В один из таких дней или ночей – узник давно уже перестал отличать день от ночи – к Ивану вошла редкой красоты женщина в сопровождении представительного вельможи. Рыжеволосая и голубоглазая гостья сразу понравилась узнику, и Иванушка даже не подозревал, что перед ним та самая царица, которая лишила их с матерью свободы и власти.
– Как живется тебе здесь? – с видимым участием спросила гостья.
Иван стал говорить – быстро, горячо, нервно, сбиваясь и начиная снова.
– Плохо мне, – пожаловался он, – ни света, ни солнца не вижу! Мне бы на прогулку – по траве походить или по снегу, а не по темнице этой каменной! Жить хочу, дышать! А здесь тесно и мрачно. Помощи прошу и спасения – ради Христа!
Женщина горько вздохнула и бросила растерянный взгляд на своего спутника.
– Помоги ему, матушка-государыня, – сказал тот, – за границу отправь, как много раз мне обещала…
– Ты, Алеша, жалостлив больно, – резко ответила женщина и сразу изменилась в лице.
Глаза этой странной гостьи, казалось, меняли цвет в зависимости от ее настроения, а в эту минуту потемнели от гнева. Губы дернулись, как от нервного тика, и Иванушка отскочил к стене – так напугала его эта гневная гримаса.
– На прогулку тебя выводить будут, – продолжала между тем женщина. – О чем еще просишь?
– С матушкой хочу повидаться… – Иванушка упал на колени перед красавицей и прижался губами к подолу ее платья. Та отпрянула, как от укуса.
– Умерла твоя матушка, – безжалостно сказала красавица. И добавила еще резче: – Похоронили ее. Не поговорить тебе с ней теперь. Разве что когда к себе призовет…
Иванушка, не поднимаясь с колен, прижал горячие ладони к глазам, потом жалобно, как побитая собака, взглянул на гостью, пытаясь прочитать в ее глазах сострадание, но не нашел ни сострадания, ни жалости. Зато важный и красивый вельможа поднял Иванушку и сказал с подкупающей уверенностью и добротой:
– Не бойся, Иван Антонович, я попрошу за тебя государыню…
– Государыню? – с ужасом и негодованием воскликнул безымянный узник. – Так, значит, это ты у нас с матушкой царство отняла? Ее уморила, а меня в этот каменный мешок бросила – без вины! Накажет тебя за нас Господь, да так накажет, что от боли содрогнешься!
– Я уже наказана, – ничуть не испугавшись, ответила женщина, и ее глаза снова стали голубыми. – Пленница я, такая же, как ты. О прогулках проси, о книгах, о том, чтобы солнечный свет хоть изредка видеть, да есть получше. Более я для тебя ничего сделать не могу.
– Да как же не можешь, матушка-государыня? – изумился ее спутник, но женщина, не сказав больше ни слова, направилась к двери. Утешавший Иванушку вельможа вышел вслед за ней.
После визита рыжеволосой красавицы жизнь арестанта Григория ненадолго изменилась: его несколько раз вывели на прогулку, принесли несколько душеспасительных книг, улучшили ежедневный рацион, но потом все пошло по-старому. Тюремщики выкраивали гроши и без того скудного Иванушкиного содержания, экономили на продуктах. Они не жалели для узника только книг – и Иван читал быстро, жадно, как будто не мог насытиться. Постепенно реальный мир совсем исчез для него и уступил место мифическим людям и событиям. Иванушка вслух беседовал со святыми, жития которых особенно потрясли его: все они, казалось, были рядом и утешали несчастного юношу.
Так прошло много лет, слившихся для арестанта Григория в один бесконечный день (или ночь?). Умерла государыня Елизавета Петровна, которая некогда лишила Ивана Антоновича престола, и с ее смертью срок наказания без вины, отпущенного Иванушке, казалось, стал подходить к концу. У арестанта Григория появилась надежда – смутная, ни на чем не основанная, но тем не менее завладевшая всем его существом. Он стал видеть счастливые сны, предвещавшие освобождение, в которых один, без Власьева и Чекина, шел по только что выпавшему снегу, который когда-то видел в Холмогорах из окошка своей тюрьмы. Иванушке казалось, что совсем скоро он покинет ненавистную крепость, избавится от постоянного надзора тюремщиков, и жизнь его перестанет быть севшим на мель кораблем.
Потом арестант узнал от тюремщиков, что императрицу Елизавету на российском престоле сменил ее племянник Петр Федорович, а еще через год к власти пришла жена нового государя, императрица Екатерина Алексеевна.
Вскоре после воцарения императрицы Екатерины Алексеевны в тихой, скудной, ничем не примечательной жизни арестанта произошло непредвиденное событие, которое показалось Иванушке исполнением надежды, томившей его с недавних пор. В гарнизоне Шлиссельбургской крепости появился новый офицер – ровесник Ивана Антоновича, двадцатитрехлетний Василий Мирович, в недавнем прошлом – подпоручик Смоленского пехотного полка. Первым делом Мирович споил охранников Иванушки – Власьева и Чекина, чтобы без помех поговорить с узником, а потом смутил Иванушку удивительными словами:
– Ваше императорское величество, Иоанн Антонович! – воскликнул он, рухнув на колени перед узником и попытавшись поцеловать ему руку, которую Иванушка тут же испуганно отнял.
Несчастный арестант привык к оскорблениям и издевательствам, а не к подобным проявлениям преданности. Он был даже не изумлен, а испуган: странный офицер внушал ему больший страх, чем Власьев и Чекин. Те охотно морили узника голодом, но и не думали валиться ему в ноги и называть государем.
– Что вы, что вы, Господь с вами! – пролепетал узник, попытавшись поднять безумного офицера с колен и прервать его пылкую и непонятную речь. Но офицер и не думал замолкать. Мирович не пожалел для надзирателей водки, и, по его подсчетам, Власьеву и Чекину предстоял еще не один час хмельного сна.
– Покойная государыня Елисавет Петровна вас с престола свергла незаконно, родителей ваших в крепость заточила, – продолжил он изумившую Ивана Антоновича речь, – но права ваши на российский трон восстановить надобно. Я – верный ваш слуга, и из крепости этой вас освобожу, вы же моих услуг не забудьте!
– Разве меня зовут Иван Антонович? – робко переспросил арестант. – Матушка звала меня Иванушкой, я помню… Разве я император? Матушка и вправду говорила, что я – большой человек, царь, но Власьев и Чекин рассказывали мне, что я – арестант Григорий и злоумышлял против императрицы Елизаветы Петровны. Почему они называли меня Григорием?
– Как самозванца Гришку Отрепьева, – объяснил диковинный офицер. – Но вы – не самозванец, вы – император по рождению и завещанию покойной императрицы Анны! Да и про Гришку Отрепьева многие на Москве говорят, что он был подлинным царевичем Димитрием, сыном Ивана Грозного.
Иванушка почти ничего не знал из русской истории, поэтому объяснения офицера еще больше смутили его страждущую душу. Он молчал и испуганно смотрел на странного офицера.
– Вы – император Иоанн Антонович! – повторил Мирович. – И вы должны вернуть себе трон. С моей помощью. Моей – и ваших друзей. Я – поручик Василий Мирович – обещаю вам скорое и счастливое освобождение!
Офицер поднялся с колен и вопросительно смотрел на Иванушку. Узник молчал. Конечно, Иванушка догадывался о своем прежнем величии, но и не думал отвоевывать его у новых властителей Российской империи. Арестанту хотелось лишь одного: вернуть себе доступные каждому человеку будничные радости – дышать не гниловатой тюремной сыростью, а свежим воздухом за стенами крепости, самому обеспечивать свои скромные нужды и, главное, – любить и быть любимым. Последнее желание стало посещать узника после визита рыжеволосой красавицы, оказавшейся его смертельным врагом. Поэтому он рассеянно слушал Мировича, почти не вникая в смысл его слов. Но офицер продолжал рассказывать – горячо, уверенно, убежденно.
– Вы младенцем были венчаны на царство, – объяснил он. – Покойная императрица Анна, ваша тетка, оставила вам корону.
– А моя мать? – спросил узник. – Кем была моя мать?
– Правительницей Российской империи Анной Леопольдовной, – охотно ответил Мирович. – Она скончалась в Холмогорской крепости, где и поныне заточен ваш отец, принц Антон-Ульрих, и ваши братья и сестры…
– Холмогорская крепость, – стал вспоминать узник. – Я помню ее… Это было очень давно, в детстве. Там был снег, много снега, ветер и серое небо… Тогда мне еще позволяли видеть снег. Нынче – нет. Недавно разрешили прогулку, но Власьев и Чекин шли за мной, бранились, тыкали ружейными прикладами в спину, и я попросил разрешения вернуться… Лучше одному в камере, чем на прогулке – с ними… Они ведь смеются надо мной, дразнят, а порой и бьют!
– Власьев и Чекин не смогут помешать вашему побегу, – заверил узника офицер. – А прочие будут за вас. Я сумею привлечь на вашу сторону гарнизон.
– Бежать… – медленно и задумчиво повторил узник, словно положил это слово на весы своего отчаяния. – Если бы сие удалось! Я бы увидел все то, что от меня спрятали, заново научился дышать! В этой камере мне так не хватает воздуха…
– Вы снова стали бы императором! – скромные, будничные желания узника показались Мировичу невероятными для такой важной персоны. – Вернули себе трон!
– Трон? – растерянно переспросил узник. – Но мне нужна только свобода.
– Вы станете государем российским, – продолжал офицер, не обращая внимания на последние слова арестанта. – А я – первым из ваших друзей и подданных.
– Вы позволите мне идти, куда вздумается? – спросил арестант Григорий, которого возможность дышать полной грудью интересовала сейчас куда больше, чем власть.
– Вы сами будете приказывать, государь… – эти слова Мировича прозвучали как присяга, и Иван Антонович не стал больше ни о чем расспрашивать. Он лишь терпеливо выслушал то, что ему предложил офицер, изредка поддакивал и сам не заметил, как дал согласие на бунт в Шлиссельбургской крепости.
Впрочем, сначала Мирович подготовил для Ивана Антоновича манифест – снова щедро угостил водкой Власьева и Чекина и получил таким образом разрешение на второй тайный разговор с арестантом. В манифесте говорилось, что Иванушка – законный император России, поскольку после смерти императора Петра Федоровича и ввиду малолетства цесаревича Павла иных наследников у империи Российской не осталось. Правящая же государыня Екатерина Алексеевна не имеет никаких прав на русский престол.
– Что же делать с царствующей императрицей? – робко спросил Иванушка у Мировича.
– Сослать за пределы империи вместе с сыном, – без тени сомнения, нимало не задумавшись, ответил Мирович, как будто лишить власти могущественную Екатерину было ничего не стоящим, пустяковым делом. Впрочем, он рассчитывал на земляков Разумовских и братьев-казачков… – А лучше всего – в Сибирь или в крепость!
– В крепость? – ужаснулся Иванушка. – Как меня? Такой судьбы никому не пожелаю. Даже врагу злейшему.
– Вы слишком добры, государь, – строго заметил Мирович, – и доброта сия вас погубит. Врагов нельзя щадить! Не пощадила же вас Екатерина Алексеевна! Из крепости не освободила, свободу не вернула! А Елизавету Петровну, вас погубившую, тоже бы пощадили?
– Пощадил бы, – Иванушка тепло, тихо улыбнулся. Он всегда улыбался так, когда вспоминал единственный визит Елизаветы. – Она ко мне приходила: прогулки обещала, книги… И все исполнила…
– Прогулки? Книги? – Мирович снисходительно пожал плечами. – Она должна была вернуть вам свободу… Сказывали мне знающие люди, что каялась государыня Елизавета перед смертью в страшном своем грехе перед вашим императорским величеством и покойной правительницей Анной…
– Стало быть, не могла она свободу мне вернуть… И в том перед смертью покаялась… – вздохнул узник и заговорил, как обычно говорят влюбленные, – поэтичными штампами. – Только красивее Елизаветы Петровны я никого не видел. Я вообще не видел других женщин. Только матушку… А у Елисавет Петровны глаза, как весеннее небо. Я видел весеннее небо – еще там, в Холмогорах. И несколько раз здесь, в крепости. А волосы, как огонь…Тот, что душу согревает.
Мирович подивился сентиментальности узника, совершенно неуместной по отношению к той, что некогда лишила его престола, но не стал обвинять Иванушку в наивности. Чего ожидать от мальчика, который провел всю жизнь взаперти! Елизавета могла показаться ему и ангелом небесным – других женщин узник не видел.
– Пора действовать, государь! – прервал откровения Иванушки Мирович. – Извольте подписать манифест!
Иван Антонович покорно подписал протянутую ему бумагу. Арестант как будто не принимал всерьез того, что говорил странный офицер. Ему казалось, что все это – вымысел, фантазия, еще одно проявление того фантастического мира, в котором он давно уже жил. Иванушка ни на мгновение не поверил в то, что Мировичу удастся вернуть ему корону. Арестанту хотелось лишь, чтобы офицер продолжал тешить его сказками и уверять в будущей неизбежной свободе. И Мирович старался, как мог…
Василий Мирович, земляк братьев Разумовских, происходил из некогда состоятельного и даже могущественного, но затем опального и нищего рода. Его дед, Федор Мирович, был генеральным есаулом гетмана Украины Орлика и племянником Мазепы. Федор Мирович до конца остался верен Мазепе и пошел против Петра. Мирович бежал вместе с мятежным гетманом из Украины и оказался в Польше, где его приютили князья Вишневецкие. Петр I счел племянника гетмана Мазепы изменником и трусом, но поскольку до самого Мировича добраться не мог, отыгрался на его семье. Отобрал в казну имения Мировичей и сослал опальное семейство в Сибирь.
Братья мятежного Федора Мировича – Семен, Василий, Иван, Яков и Дмитрий – были сосланы «на вечное житье» в Тобольск. В древней столице Сибири умерли трое братьев – Семен в 1726-м, Василий – в 1732-м, Яков – в 1744-м. Императрица Елизавета, по просьбе нелицемерного друга Алешеньки Разумовского, все хлопотавшего за земляков, хотела было освободить Якова и даже подписала именной указ, но бедняга уснул вечным сном, когда до освобождения оставалось всего несколько месяцев. Ивана Мировича, «ввиду малой личной провинности», еще в 1723 году допустили до государственной службы, но он побоялся злопамятности императора Петра и сбежал в Крым, где пил горькую и допился до смерти.
С сыновьями Федора Мировича император Петр обошелся милостивее, чем с братьями – пожалел малолеток. Но велел им с мятежной родней не сноситься и русским царям служить верно. Петр Мирович, когда в лета вошел, стал секретарем цесаревны Елисавет Петровны, а Якова определили к Антонию Потоцкому. При Анне Иоанновне оба Мировича попали в Тайную канцелярию за то, что, вопреки строжайшему запрещению сноситься со своей мятежной родней, ездили в Малороссию и Польшу, где вели опасные для власти Анны и Бирона разговоры и крепко стояли за царевну Елизавету, благоволившую к украинцам. Анна сослала Петра и Якова Мировичей в Сибирь, где в 1740 году и родился Василий Яковлевич – «сын и внук бунтовщиков».
Когда цесаревна Елизавета стала императрицей, она не забыла тех, кто радел за ее дело и права. К тому же и Разумовский постоянно просил за ссыльных земляков и особенно за бывшего секретаря цесаревны – Петра Мировича. Выживших Мировичей вернули в Москву, но имения и былое богатство не вернули.
Васенька Мирович с детства слышал рассказы дяди Петра, бывшего некогда секретарем цесаревны, о красоте, доброте и уме Елизаветы. Да что и говорить, немало добра сделала Елисавет Петровна для Украины! За это – да и за отмену смертной казни в империи – ей многое простится…
По возвращении из Сибири Фортуна – в лице друга нелицемерного матушки-царицы Алеши Розума – улыбнулась Василию Мировичу. Благодаря заступничеству всесильного графа Алексея Григорьевича Василий попал в Смоленский пехотный полк, где дослужился до поручика, но деньгами не разжился. При Екатерине Василий недолго был адъютантом у Панина, а потом, не без помощи братьев Разумовских, получил сомнительное повышение – назначение гарнизонным офицером в Шлиссельбургскую крепость, где, как поговаривали близкие к Разумовским люди, содержится свергнутый Елизаветой император. Тогда Мирович решил, что к нему в руки наконец-то идет желанная карта…
Он пошел за советом к Разумовским, и Алексей Григорьевич, тайно сносившийся со Шлиссельбургским узником, поведал земляку, что при императрице Екатерине права Украины попраны, а гетманство вот-вот уничтожат. Стало быть, нужно поторопиться и постараться для неньки-Украйны!
«Мы в свое время матушке Елизавете помогли на трон взойти, и она нас не забыла, – увещевал Олекса земляка, – а потом и Украине помогла, гетманство учредила. А нынче что? Брат мой младший Кирилл помог Екатерине самовластной государыней стать, но она добра не помнит – Украйну не жалует… Гетманство грозится уничтожить! Мы-то с Кириллом уже стары стали, нет сил Фортуну, как раньше, за чуб схватить и Украине помочь. А ты молод, тебе и карты в руки! Вон, в Шлиссельбурге таинственный узник обретается – посадить бы его на трон вместо Екатерины! Заодно и грех страшный покойной матушки Елизаветы, о котором она не раз мне говорила, поправили бы, освободили несчастного Ивана Антоновича! А там можно и в Петербург его отвезти – войскам показать!»
«Чем я хуже братьев Орловых, посадивших на престол Екатерину Алексеевну? – подумал тогда Мирович. – Поднять гарнизон крепости – не такое уж трудное дело. Солдаты жалеют бедного Иванушку и наверняка поддержат его. А Власьев и Чекин – не помеха. Их можно или споить, или убить… Решиться, только бы решиться… А там – и слава, и богатство, и власть!»
Мирович решился на бунт в июле 1764 года, а накануне Иванушка увидел необыкновенный, вещий сон. Ему снилась мать, правительница Анна Леопольдовна, а рядом с ней – красавица Елизавета. Обе женщины медленно шли по какой-то длинной, заснеженной дороге, подобной бесконечному пути на север империи, по которому его везли в детстве. Иванушка брел за ними, но видел себя не ребенком, а юношей, как сейчас.
– Ты, Елизавета Петровна, меня не послушалась и сына моего не освободила, – говорила Анна императрице. – Скоро он сам от уз своих освободится, а тебе Господь кару назначит. Дочь твоя единственная узницей станет. Такой же мученицей, как мой Иванушка.
– Меня наказывай, Анна, твоя власть теперь, когда обе мы стоим перед Господом, но я – преступница, а ты – жертва. Только Лизу мою не трогай, – умоляла Елизавета. – Пощади…
Елизавета Петровна бросила на Анну растерянный, умоляющий взгляд, но та лишь отрицательно покачала головой, и Иванушка понял, что рыжеволосую красавицу ожидает жестокое и неотвратимое наказание. Смысла этого наказания Иванушка не уразумел до конца, но ему стало бесконечно жаль Елизавету Петровну. Потом обе женщины растворились в метельном мареве, а Иванушка проснулся. «От уз моих освобожусь скоро… – облегченно подумал он. – Матушка там, на небесах, знает наверняка…» Только освободительницей безымянного узника стала смерть.
Душной июльской ночью 1764 года поручик Мирович решился на бунт. Он поднял солдат в ружье и арестовал коменданта крепости Бередникова. Потом двинул солдат на штурм казармы, в которой был заключен безымянный узник. Солдаты Мировича выкатили на крепостной вал пушку. С Иванушкой оставались только Власьев и Чекин, и тут случилось непредвиденное…
Узника разбудила стрельба во дворе крепости. Мирович неоднократно предупреждал Иванушку о готовящемся бунте, но когда обещанное наконец-то случилось, сверженный император совершенно растерялся. Он присел на узкой и жесткой постели, испуганно оглянулся вокруг – стрельба и шум не прекращались. «Неужели свобода? – подумал узник. – Мирович и вправду поднял гарнизон…» Но арестант не почувствовал ни облегчения, ни радости – напротив, бесконечная тоска, от которой хочется завыть, вцепившись зубами в подушку, охватила его душу. «Не будет свободы, – подумал он, – будет смерть…»
Потом на пороге появились Власьев и Чекин, и безымянный узник понял, что сейчас произойдет что-то непоправимое, мучительное, страшное… Иванушка не знал о том, что на его счет у тюремщиков было тайное предписание императрицы Екатерины: в случае бунта среди гарнизона немедленно убить Ивана Антоновича. Надзиратели сочли, что крепость находится на пороге катастрофы, и поэтому решили заколоть Иванушку.
Сначала Власьев и Чекин помялись у двери, как будто не решались переступить порог, и Иванушка беспомощно наблюдал за их метаниями. Потом Чекин, вскрикнув: «Эх, была не была!» – подошел совсем близко к Иванушке, и тот закрыл глаза, чтобы не видеть, как стальной клинок сладострастно приникает к его горлу, чтобы выпить душу и кровь. Арестант не успел произнести ни слова и уже не слышал, как вбежавший в каземат Мирович отчаянно кроет матом Власьева и Чекина и кричит о том, что они загубили великую надежду России… Смерть-освободительница пришла к Иванушке мгновенно, но все равно опоздала на много лет.
Арестанта Григория похоронили у крепостной стены, а могилу сровняли с землей. Потом на месте погребения построили церковь для заключенных во имя апостола Филиппа. Василий Мирович ненадолго пережил того, кого собирался освободить. Бунт в крепости был подавлен, а мятежного Мировича приговорили к смертной казни. От казни его не спасло даже заступничество неких пожелавших остаться неизвестными, таинственных лиц… Впрочем, «сын и внук бунтовщиков» свои сношения с Разумовскими отрицал и на допросах в Тайной канцелярии графа Алексея Григорьевича не выдал.
Екатерина, в отличие от Елизаветы, не была сентиментальной и возобновила отмененную ее предшественницей смертную казнь. Но она не смогла казнить особу, называвшую себя великой княжной Елизаветой, принцессой Азовской и Владимирской. Дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского предстояло повторить участь несчастного узника Шлиссельбургской крепости – пожизненное заключение, но не в тюрьме, а в монастыре.
Часть X
Воля Екатерины
Глава первая
Племянница гетмана
В год 1774-й в России было неспокойно.
Росла и ширилась пугачевщина, шла затянувшаяся война с Оттоманской Портой. Поэтому императрице Екатерине было недосуг следить за похождениями рыжей красавицы, не удовольствовавшейся именем графини Шубиной и состоянием д’Акевилей и именовавшей себя великой княжной Елизаветой. Между тем намерения у приемной дочери Алексея Шубина были самые серьезные…
В Аничковом дворце умер граф Алексей Разумовский, проживший последние несколько лет совершенным затворником. Затем ушла Настя Шубина. После смерти жены д’Акевиль сильно сдал и предоставил Лизу и Жака их собственной участи.
Этот легкий, веселый, авантюрный человек, балагур и умница превратился в уставшего от жизни философа. Он часами медленно прохаживался по парку, потом запирался в библиотеке, где перебирал старые письма и книги и писал на досуге мемуары. Некому было больше удерживать дочь Елизаветы на краю той пропасти, к которой она так отчаянно стремилась. И вот графиня Шубина исчезла из дома навсегда, а вместе с ней исчез и сын Насти Шубиной и д’Акевиля Жак…
…Вот уже год великая княжна Елизавета колесила по Европе в сопровождении секретаря. В Польше ее принял князь Радзивилл, которому во что бы то ни стало хотелось досадить императрице Екатерине. Польская слава лежала в руинах, и виной тому была Екатерина вместе с марионеточным королем Речи Посполитой – Станиславом Понятовским. А эта неизвестно откуда взявшаяся девица, так похожая на портреты покойной Елизаветы Петровны, обещала, добившись власти, восстановить польские вольности… Конечно, чванные польские аристократы готовы были ссужать княжне деньги, осыпать подарками и комплиментами, а если понадобится, и стоять перед ней на коленях.
Дело принимало серьезный оборот. Екатерина приставила к великой княжне Елизавете агентов, а потом велела графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому срочно приехать в Петербург…
Кирилл Разумовский не видел Екатерину с тех пор, как она ликвидировала гетманство и передала всю власть на Украине в цепкие руки Петра Александровича Румянцева. Бывшему гетману, словно в утешение, оставили его роскошный дворец в Батурине с зеркальным паркетом и мраморными статуями, но отныне Кириллу Разумовскому предстояло быть всего лишь подданным той, кого он возвел на трон. В довершение Кирилл рассорился со старшим братом. Потом Алексей умер, и Кирилл навсегда поселился в гетманском дворце, где верховодила его жена Екатерина, в девичестве Нарышкина, и где он очень быстро обзавелся потомством, скукой и раздражительностью.
И вот однажды в Батурин примчался курьер из Петербурга – от государыни Екатерины Алексеевны. Кирилл Григорьевич, ленивый, вальяжный, в бархатном шлафроке, сидел в тот вечер в библиотеке и рассеянно перелистывал одну из любимых книг Екатерины – «О духе законов» Монтескье. Книга эта его нисколько не развлекала, и бывший гетман лишь скользил по страницам невнимательным, скучливым взглядом. Рядом пылилась знаменитая агатовая трость с рубинами и алмазами, которая напоминала Кириллу Григорьевичу о том, что когда-то он был первым петербургским франтом. В библиотеке было тихо и сонно, а за дверью шумела жена бывшего гетмана, с утра бранившая слуг и изводившая капризами горничную. Екатерина Ивановна отчаянно скучала по Петербургу, и муж, решивший навсегда осесть в Батурине, порой раздражал ее больше, чем слуги с их малороссийской медлительностью и малороссийским же упрямством…
Курьер был молод, красив и служил в том самом Измайловском полку, который Разумовский-младший когда-то привел на помощь великой княгине Екатерине. Увидев его, Кирилл Григорьевич с болью подумал, что Екатерина, как некогда Елизавета, предпочитает хорошеньких гвардейцев. Граф предложил курьеру располагаться, а сам занялся письмом матушки-государыни.
«Драгоценный мой друг Кирилл Григорьевич! Известно мне, что в Польше появилась некая побродяжка, всклепавшая на себя чужое имя. Эта авантюристка без роду и племени называет себя великой княжной Елизаветой, дочерью покойной императрицы и вашего брата Алексея Григорьевича, о безвременной кончине которого я, поверьте, до сих пор скорблю. Жду вас в Петербурге с тем, чтобы обсудить это известие и принять необходимые меры…
Ваша Екатерина».
Кирилл вспомнил обстоятельства кончины государыни Елизаветы – брата, пытавшегося сменить у постели умирающей нового фаворита – Ивана Шувалова, императрицу, шептавшую: «Лизу, позовите Лизу…», и министров Елисавет Петровны братьев Шуваловых, вырвавших из слабеющих рук императрицы новое завещание… Сам он был допущен к постели умирающей, потому что считался приверженцем великой княгини Екатерины. Потом, когда государыню соборовали, Кирилл не отходил от Екатерины Алексеевны, сидевшей на кушетке у дверей императрицы. Наследник Петр Федорович у постели тетки не появлялся. Он упражнялся в игре на скрипке и муштровал голштинских гвардейцев.
Елизавета умерла накануне Рождества, а на похоронах Алексей отвел Кирилла в сторону и попросил нынче же вечером зайти к нему в Аничков дворец для важного разговора. Кирилл пришел и застал старшего брата в библиотеке, где тот возился со старыми, выцветшими письмами и документами.
– Помнишь дочь генерала Шубина? – спросил Алексей без предисловий и отступлений.
– Помню, – ответил Кирилл. – Прелестная девочка, но тихоней ее не назовешь. Настоящая буря, как покойная государыня.
– Как покойная государыня… – повторил Алексей и сложил перевязанные лентой письма в шкатулку липового дерева с вензелем Елизаветы. – Эта девочка ее дочь. Наша дочь и твоя племянница, – уточнил он.
Кирилл почувствовал, как стынет в груди только что горячо бившееся сердце. Он понимал, что стоит перед главным в своей жизни выбором, но выбор этот был сделан уже давно, в Лемешах, когда ему впервые улыбнулась холодновато-отчужденная невеста наследника.
– Зачем ты прячешь эти письма, Олекса? – спросил Кирилл у брата, как будто не слышал его предыдущих слов. – Их следовало бы сжечь. Все кончено, Елизавета умерла, и после поминальной службы нам тоже придется уйти на покой. Есть только одно спасение – поддержать великую княгиню. Ее муж ненавидит русских и недолго продержится на троне.
Алексей бережно убрал шкатулку в тайник и подошел к брату вплотную. Несколько минут они молча смотрели друг другу в глаза, и Алексей прочел в отчаянном, опустошенном взгляде Кирилла сжигающую его страсть. «Голос страсти сильнее голоса крови, – подумал Алексей. – Мне ли не знать этого? Бедная Лиза…»
– Ты должен поддержать великую княжну Елизавету, – Алексей чувствовал, что говорит впустую, но не мог не предпринять последнюю, отчаянную попытку. Сам он был всего лишь обер-егермейстером двора, «ночным императором», как, посмеиваясь, называли его придворные, но Кирилл – гетман Украины и командир Измайловского полка – мог изменить расклад русской игры в пользу великой княжны Елизаветы.
– Елизавете Алексеевне лучше не приезжать в Петербург, – твердо ответил Кирилл. – Гвардия ее не признает.
– Да как не признает! – закричал Алексей, и его грозный, еще не окончательно потерявший былую мощь бас заполнил собой всю комнату. – Она же как две капли воды похожа на Елисавет Петровну! Внучка Петра Великого!
– Гвардия влюблена в Екатерину, как когда-то в Елизавету. Время великой княжны ушло безвозвратно. Государыня должна была сразу признать ее права. Все, что я могу сделать, Алексей, это посоветовать тебе не вызывать Лизу в Петербург. Здесь ее ждет монастырь.
Алексей упал в кресло, как поверженное грозой дерево.
– Не роби цього, брат, – перешел он на украинский, как всегда делал в решающие минуты. – Не пiдтримуй Катерину. Вона тобi не вiддячить. Знаю напевно, що вона радила Iмператрицi знищити гетманщину…[5]
– Екатерина – судьба империи, – голос Кирилла впервые прозвучал горячо и убежденно. – А мы с тобой – всего лишь ее прошлое. Прошлое, которое должно послужить будущему перед тем, как погибнуть. Я поддержу великую княгиню. Прости, брат.
Он вышел, не попрощавшись, ожидая, что Алексей бросит ему в спину слова проклятия. Но Алексей молчал. И только на пороге Кирилл обернулся, чтобы навсегда запомнить потускневшее от боли лицо брата, который в эту самую минуту прощался не только с надеждой на воцарение дочери, но и с украинскими вольностями, которым скоро должен был наступить конец…
Глава вторая
Старица Досифея
После визита курьера от государыни Кирилл Григорьевич немедля отправился в путь. Карета графа ехала быстро, мелькали за окном украинские деревни, где, казалось, сам воздух был наполнен сладкой весенней истомой, а потом показался Киев с его невозмутимым, сонным Днепром и церквями на днепровских кручах. В Киеве Кирилл сделал остановку, чтобы навестить женщину, которая слыла в городе святой и у которой он хотел попросить совета и помощи. За этим советом он и пришел в древнюю Китаевскую пустынь.
Кирилл Григорьевич искал встречи со старицей Досифеей. Досифея была затворницей – много лет назад она пришла в Китаево в мужской одежде и назвалась монахом Досифеем. В те времена еще действовал указ государя Петра Алексеевича, согласно которому женщинам, не достигшим пятидесятилетнего возраста, не разрешалось принимать постриг. Но московская дворянка Дарья Тяпкина, род которой, согласно семейному преданию, происходил от Сергия Радонежского, невзирая на все указы Петра, скрылась от мира в Китаевской пустыни.
Когда набожная государыня Елизавета Петровна приехала в Киев, она посетила Досифею. Императрицу сопровождал граф Алексей Разумовский, но в затвор к Досифее вместе с Елизаветой не вошел и дожидался государыню вместе с другими паломниками, пришедшими к инокине за благословением. О чем тогда спрашивала Елизавета – Бог весть, но Кирилл, некогда услышавший от старшего брата этот рассказ, решил теперь повторить его дорогу. Разумовский-младший был уверен, что Досифея сможет снять тяжесть и с его души.
…Ранним весенним утром 1774 года Кирилл поднимался на китаевский холм по шаткой деревянной лестнице, ступени которой жалобно постанывали при каждом его шаге. Он шел за другими паломниками, стремившимися застать старицу, пока она не отошла в мир иной – легко и светло, как жила. Только что, в церкви, он видел простой и вечный обряд – крестили новорожденного, рядом стояли счастливые родители, а их старший, пятилетний, сын пытался затеплить свечу перед образом Богородицы, но не дотянулся, бедняжка, и мать, улыбаясь, сделала эту несложную работу за него.
Опять, как в дороге, он представил себе семилетнюю дочь генерала Шубина, которую ему так и не довелось увидеть взрослой и которая оказалась его собственной племянницей, вспомнил, как брат просил его поддержать ее права, а он, одержимый страстью к Екатерине, не прислушался к голосу крови. Теперь Лиза была в опасности – Екатерина решила раз и навсегда сокрушить свою беспокойную соперницу, а Кирилл знал как никто другой, что слова у бывшей Ангальт-Цербстской принцессы никогда не расходятся с делом. Теперь он оказался единственным защитником той, кого старший брат в предсмертном письме поручил его заботам.
Бывший гетман Украины поднялся на холм и бросил быстрый взгляд на Китаевскую пустынь, тонувшую в золотистой рассветной дымке. Китаево окружали леса, в десяти верстах от пустыни располагалась Печерская лавра, и Кирилл вспомнил, что, по преданию, Китаево с лаврой соединяли подземные лабиринты. На мгновение он представил, что идет такой вот подземной дорогой, то и дело спотыкаясь и оступаясь. И нет рядом никого, кто прошел бы с ним этот суровый путь.
Кто-то прикоснулся к его плечу, и Кирилл понял, что пора. Он вошел в затвор к Досифее…
Когда Кирилл вновь увидел китаевские холмы, ему показалось, что прошла целая жизнь. Он пробыл у старицы не более получаса, но за это время вновь пережил все, что случилось с ним с того самого мгновения, когда Елизавета Петровна рыдала на груди у казачки Розумихи, а рядом стоял старший брат – красивый, роскошно одетый вельможа. Перед ним промелькнула тщательно разученная, словно фигура в танце, улыбка принцессы Фике, жаркий летний полдень в Люксембургском саду и словно сотканный из облаков дворец Марии Медичи, возвращение в Петербург, бал в Царском селе и властные руки великой княгини Екатерины, упавшие ему на плечи, и еще ее губы, которые ему так хотелось искусать до крови, впившись в них поцелуем… А напоследок – потускневшее от боли лицо старшего брата, который тогда, после смерти государыни Елизаветы, с такой звериной тоской смотрел ему вслед.
Старица почти ничего не сказала, но Кирилл все почувствовал сам. Прошлое змеей зашевелилось у него в груди, а будущее стало ближе, чем старица в черном, не сводившая с него внимательных, всезнающих глаз. Досифея видела его насквозь, как когда-то – государыню Елизавету, но ей не нужны были слова для того, чтобы указать Кириллу на единственный возможный для него путь. Она лишь перекрестила бывшего гетмана Украины и благословила его в дальнюю дорогу.
– Что делать мне, матушка? – спросил все же Кирилл. – Я брата предал, племянницу от беды не уберег. Ради женщины – чужой, далекой, государыни нашей Екатерины.
– Не ищи чужого, своего умей дожидаться, – ответила Досифея. – А на племяннице твоей кровная вина. Матери ее, Елизаветы, и деда, Петра. Ей семейный грех и отмаливать. Помочь ей ты сможешь, но спасти – не в твоей власти. Пресвятая Дева Богородица ее спасет, от врагов в храме своем укроет. И брату твоему покойному уже о том ведомо.
Больше Досифея ничего не сказала, и Кирилл покинул Китаево. Всю дорогу до Петербурга он перелистывал свою жизнь, как книгу, и думал о том, что она не должна завершиться предательством. Бывший гетман Украины решил помочь великой княжне Елизавете.
Глава третья
Кузина Лиза
Жак д’Акевиль привык не сводить глаз со своей кузины Лизы. Порой он казался сам себе зеркалом, отражающим ее капризы, привычки, манеру говорить, слегка растягивая гласные, всю ее противоречивую, огненную натуру. Они всегда были рядом, и сколько бы Жак ни заводил романов, как бы он ни пытался вырваться из нежных рук красавицы-кузины, он оставался лишь зеркалом, благодарно ловившим каждый ее взгляд.
Жак часто вспоминал, как Лиза впервые предложила ему бежать из дома. Как показала письмо Елизаветы Петровны к его матери, забытое Анастасией Яковлевной в какой-то русской книге… Как уверяла, что где-то в библиотеке хранится завещание русской императрицы, в котором засвидетельствованы ее права… Долго рисовала картины блистательного будущего, которое их ожидает. Российская империя у ее ног, она – на материнском троне, он – рядом с ней, словно «нелицемерный друг» Елизаветы Петровны, граф Алексей Разумовский. И вот блистательное будущее на поверку оказалось третьеразрядной гостиницей Вечного города, где они оказались после «увеселительной прогулки» по Польше.
Великую княжну Елизавету больше не окружали гордые польские аристократы, и князь Радзивилл не набрасывал на ее полные белые плечи соболий палантин. Все вернулось на круги своя, и у Елизаветы Малой не осталось иной опоры, кроме кошелька д’Акевиля-младшего и его не оскудевавшей верности. Они засыпали в одной постели, а наутро секретарь под диктовку Елизаветы строчил письма к русским вельможам – графу Панину, Алексею Орлову.
Весна 1775 года застала их в Риме. Лизанька хандрила, считала дни, говорила, что не может жить в нищете и без развлечений и устала видеть рядом с собой одного только Жака. Потом, словно вымаливая прощение за свои резкие слова, целовала его горячо, жарко, роняла на пол только что продиктованные письма и, широко раскинув руки, падала на небрежно застеленную постель, покрытую польскими соболями. В плотно зашторенные окна врывался апрель, Лиза выходила на балкон, рассеянно и лениво оглядывалась вокруг, а потом все начиналось сначала – бесконечные письма к Панину и Орловым, на которые те и не думали отвечать, и визиты папских легатов, пытавшихся обратить претендентку на русский престол в католичество.
Но однажды все изменилось. Был обычный апрельский день, Лиза диктовала д’Акевилю письмо к графу Алексею Орлову, а тот, машинально заполняя терпеливую бумагу просьбами и требованиями княжны, думал о том, сколько они еще смогут продержаться в Вечном городе, не обратившись за помощью к отцу. Денег отчаянно не хватало, тем более что Лиза капризничала, жаловалась, что ее платья вышли из моды, а подаренные в Польше соболя в этом жарком и душном городе совершенно не к месту. Жак терпеливо выслушивал свою сумасбродную подругу и утешал ее тем, что скоро наступят лучшие времена и она непременно воцарится в России. Он ни на минуту не верил в блистательные прожекты и всего лишь не хотел расставаться с рыжеволосой непоседой, к которой раз и навсегда приросла его душа.
Жак как раз завершал письмо длинным перечислением титулов Лизы, как вдруг на пороге появился одетый с крикливой роскошью вельможа, назвавшийся графом Алексеем Орловым. Лизанька ахнула и бросилась навстречу графу, хотя этого-то как раз и не следовало делать – дочери покойной русской императрицы полагалось невозмутимо дожидаться, пока вошедший сообщит о цели своего визита.
Графа, видимо, позабавила детская непосредственность претендентки.
Княжна вихрем вылетела на балкон, Орлов вышел за ней, а она резко захлопнула перед носом секретаря балконную дверь. Стекла жалобно задребезжали, а д’Акевиль изорвал в клочья только что написанное письмо к Орлову… Он понял по восхищенному взгляду Лизы, что она увидела в неожиданном визите одного из первых вельмож екатерининского двора знак судьбы и собирается разыграть собственную партию.
Княжна оставалась такой же фантазеркой, как в детстве, когда уверяла Жака, что в парке поместья д’Акевилей зарыт клад и нужно непременно отыскать его, разворотив клумбу с розами. А он, знавший, что никакого клада в усадьбе нет, все же безжалостно расправился с любимыми розами матери, за что получил нагоняй от отца и на несколько дней был лишен возможности исполнять очередные капризы рыжей сумасбродки.
Княжна с графом говорили недолго, но Орлов вышел, явно довольный собой, и бросил на секретаря снисходительный взгляд человека, которому было обещано так много, что он вправе не замечать соперника. Жак, задыхаясь от злости, бросился к графу, но на его плечо легла властная ручка Лизы, и д’Акевилю пришлось проглотить мерзкую снисходительность соперника.
– Ты ничего не знаешь о нем! – закричал Жак, как только за Орловым захлопнулась дверь. – Он – человек без чести и совести, прирожденный убийца! Он убил императора Петра III, виноватого только в том, что преграждал собственной жене дорогу к власти! Императрица, верно, прислала его для того, чтобы силой отвезти тебя в Петербург! Ей до смерти надоели наши вояжи по Европе!
– Убийцы, милый, иногда бывают весьма полезны… – Лиза ласково обняла его за плечи, как будто хотела смягчить только что произнесенные слова. – Орловы нынче не в чести при дворе Екатерины. Императрица скоро забудет о тех, кто возвел ее на трон. А графа Алексея Григорьевича, адмирала и победителя при Чесме, о чьих подвигах говорит вся Европа, сошлет в Москву, на покой. Графу впору помочь дочери своей былой царицы!
– Он решил выслужиться перед Екатериной, вернуть ее милости, – терпеливо, как ребенку, объяснял д’Акевиль, – поэтому и пришел к тебе. Сколько месяцев мы посылали ему письма, и все без толку. А сейчас этот наглец собственной персоной появился на пороге – и для чего? Не иначе как с тайным поручением русской императрицы.
– Граф обещал мне помощь… – мечтательно произнесла Лиза, и Жак понял, что Орлову удалось заронить в беспокойную душу княжны еще одну фантазию, еще один золотой сон, который развеется, едва начавшись. – Он сказал, что его эскадра, которая стоит сейчас в Ливорно, к моим услугам, что он возведет меня на русский трон… Ты же знаешь, Жак, как я похожа на мать, неужели русские не признают меня, вернувшуюся к ним великую Елизавету? Гвардия обожала Елизавету Петровну, гвардия полюбит и меня…
– Слишком поздно, Лиза. Со смерти императрицы Елизаветы прошел не один год. Нынче у гвардии иные кумиры. Не слушай Орлова, давай лучше вернемся домой. Отец совсем плох. Мы можем скрасить его последние дни…
Лиза отрицательно покачала головой, и д’Акевиль пустил в ход свой последний козырь.
– Есть лишь один человек, который мог бы тебе помочь. Это граф Кирилл Разумовский. Мы без толку изводим бумагу, когда следовало бы написать только одно письмо – в Батурин.
– А разве он не предал меня однажды? Кирилл Григорьевич держит сторону Екатерины и никогда не поддержит других претендентов на русский трон.
– Екатерина отменила гетманство, лишила графа Разумовского власти, он может изменить своим прежним вкусам и поддержать племянницу. Голос крови не замолкает навсегда. Напиши ему, Лиза…
Д’Акевиль уже не просил, а умолял, но княжна могла лишь смотреться в него, как в зеркало. Ей никогда не пришло бы в голову спрашивать у зеркала совета.
Граф Орлов зачастил в третьеразрядную римскую гостиницу…
Глава четвертая
В Царском селе
Кирилл Разумовский, как много лет назад, шел по аллее Царского села рядом с Екатериной и, казалось, не узнавал женщину, ради которой когда-то предал интересы семьи. Ее холодноватая отчужденность, казавшаяся ему воплощением подлинного аристократизма, теперь стала тем, чем и была всегда – равнодушием. Он понял наконец, что никогда не был близок с Екатериной – даже в ту ночь, когда впервые пришел к ней и, не отрываясь, пил из ее губ сладкий яд безразличия и, снимая покровы с тела, не мог ни на йоту приблизиться к душе. Екатерина оставалась чужой, великая княгиня или императрица – неважно, и все, что она собиралась сказать, он знал наизусть, и от этого непоправимо веяло скукой.
Кирилла уже не будоражили сладкие запахи весеннего парка, не томили вишневые тонкие губы Екатерины, открытые плечи, располневшее тело. Он больше не был сельским мальчиком, увидевшим некогда неулыбчивую невесту наследника и не сумевшим ее забыть. Страсть прошла, исчезло томление, рассыпались прахом боль и нежность и то, что некогда представлялось самым важным, теперь волновало Кирилла не больше, чем прошлогодний снег.
– Я отправила в Италию графа Алексея Орлова, – рассказывала между тем Екатерина, – он сумеет доставить в Петербург побродяжку. А вы, Кирилл Григорьевич, должны будете подтвердить, что эта авантюрная особа не имеет никакого отношения к вашему покойному брату.
Ее тонкие пальцы, как несколько лет назад, легли в ладонь Разумовского, но тот не почувствовал ничего, кроме раздражения. Теперь Кирилла только смешила уверенность Екатерины в том, что она по-прежнему имеет право на его душу.
– Эта побродяжка, ваше императорское величество, – ответил он, – дочь императрицы Елизаветы и моего покойного брата. Тому есть веские доказательства. Если граф Орлов доставит Елизавету Алексеевну в Петербург, я первый встану на ее сторону. Вашими стараниями я уже не гетман Украины, но по-прежнему командир Измайловского полка. Вам придется оставить княжну в покое.
– Вы слишком много берете на себя, граф, – невозмутимо ответила Екатерина, и ее пальцы выскользнули из ладони Разумовского. – Авантюристка сгниет в Петропавловской крепости, пусть она и в самом деле дочь графа Разумовского! Не хотите играть на моей стороне – что ж… Обойдемся без вас.
– Вы бы не вызывали меня в Петербург, ваше императорское величество, если бы могли так легко без меня обойтись. Вы приготовили для меня роль несчастной жены Ивана Грозного, которая сначала признала в Гришке Отрепьеве своего сына Дмитрия, а потом отреклась от него. Но княжна Елизавета – не самозванка, и я не стану клеветать на племянницу.
– Тогда это сделают другие… – невозмутимо заметила Екатерина. – Другие ваши родственники… Дараганы, быть может? Вам, верно, уже ничего не нужно – хотите до конца дней запереть себя в Батурине.
– Никто из Разумовских не поможет вам, Фике, – отрезал Кирилл, не заметив, что назвал императрицу ее прежним, драгоценным именем, но Екатерина прекрасно заметила его оговорку.
– Фике… – тихо повторила она, – Фике… Так вы называли меня раньше. Помогите мне во имя нашей прежней дружбы, Кирилл. Поверьте, я не останусь в долгу.
– Я уже помог вам однажды, – саркастически усмехнулся Кирилл, – и в благодарность вы уничтожили гетманство.
– Я не могла иначе. – Пальцы Екатерины снова сжали его ладонь. – Малороссы – как поляки, они ненавидят Россию, а значит, меня. Я должна была обуздать их.
– Императрицу Елизавету Петровну украинцы любили, и она не оставалась в долгу. В Киеве государыня сказала: «Возлюби меня, Боже, в Царствии Небесном твоем, как я полюбила народ сей, благонравный и незлобивый».
Екатерина рассмеялась: подобные высокопарные фразы всегда вызывали у нее смех.
– Пустая фраза, не более, – сказала она, – вам ли не знать, Кирилл Григорьевич, что покойная Елизавета Петровна много говорила и мало делала. Как только она двадцать лет продержалась на троне!
– Я всем обязан государыне Елизавете Петровне и не стану осуждать ее, – твердо ответил Кирилл. – И не предам ее дочь.
– И очень глупо, граф. – Екатерина бросила на Разумовского холодный, как сталь, взгляд. – Ей не поможете, а себе навредите. Прощайте, Кирилл. Возвращайтесь к себе в Батурин – на большее вы не способны.
Разумовский поклонился и зашагал прочь.
«Глупец, – думала Екатерина, глядя ему вслед, – проделать такой путь и не выполнить мою маленькую просьбу! Как упрямы эти малороссы! Они не хотят слышать голос разума… А этот еще учился в Европе! Право, покойной императрице не стоило тратить деньги на то, чтобы лепить из пастуха вельможу. Такие превращения случаются крайне редко – и не в наше суетное время. А с побродяжкой справится Орлов. Крепость или монастырь – невелик выбор».
Глава пятая
Погоня
После разговора с Екатериной Кирилл Разумовский срочно выехал в Рим. Он знал, что Орлов уже там и склоняет княжну к возвращению в Россию.
«Как отговорить ее от этого рокового шага, – думал он в пути, – как доказать ей, что Орлов послан Екатериной? Бог знает, какие золотые грезы он ей навеял! И сможет ли она поверить мне, тому, кто уже предал ее однажды?»
Больше всего Кирилл боялся, что его остановят, что Екатерина отдаст приказ не выпускать бывшего гетмана из России, дабы он не попытался помочь своей опальной племяннице. Разумовский торопил кучера, на каждой станции менял лошадей, сердце лихорадочно стучало в груди – в такт бешено вращавшимся колесам. Успеть, лишь бы успеть…
На границе Российской империи графа охватила тревога – он, казалось, задыхался от нетерпения и азарта. Не мог поднести кусок ко рту, лишь жадно глотал из фляги захваченную в дорогу батуринскую водку.
– Доiдемо, батько! – пообещал ему кучер – в прошлом реестровый казак из Чернигова.
– Треба доiхати, сину, – ответил бывший гетман, вновь почувствовав кровное родство с землей и предками.
Было жарко и душно – Разумовскому то и дело не хватало дыхания, он жадно глотал пустой, безжизненный воздух, а полынная горечь намертво въедалась в губы. Промелькнула граница Российской империи – никто не остановил его. Бывший гетман облегченно вздохнул, а в Польше рухнул на колени и прикоснулся к чужой земле сухими от зноя губами. «Неужели успею?» – спросил он у самого себя, и казак-кучер, в ответ на его незаданный вопрос, заверил:
– Встигнемо, батько!
Так и доехали до Рима.
– Дякую тобi, сину, – сказал граф, поклонившись вознице до земли.
– Нiзащо, – ответил кучер, посвященный в цель поездки графа. – Шукай свою панночку…
Но панночки в Риме не оказалось. Когда измученный, вихрем пронесшийся через всю Европу граф отыскал наконец гостиницу, где остановилась русская княжна, номере был пуст.
– Съехала принцесса, – сообщила убиравшая в комнатах горничная. – Русский граф ее увез. Его корабли стояли в Ливорно. И секретарь вместе с ней уехал…
Разумовский устало, бессильно присел на кровать, на которой были разбросаны забытые княжной польские соболя. «Не успел, значит…» – сказал он сам себе и потер покрасневшие от усталости веки.
Потом русский вельможа окончательно удивил не привыкшую к подобным выходкам горничную – он как подкошенный рухнул на кровать и заснул.
– Не буди синьора, – решил хозяин гостиницы, к которому горничная обратилась за помощью. – Проснется и заплатит за все…
Кирилл Разумовский проспал сутки, потом щедро расплатился с хозяином и велел своему кучеру гнать лошадей обратно Петербург.
– Будемо, батьку, панночку у царицi вiдбивати? – понимающе переспросил кучер.
– Будемо, сину, – ответил бывший гетман, который в эту минуту снова почувствовал себя не вельможей с отточенными манерами и парижским лоском, не первым петербургским франтом и меценатом, а простым казаком – плоть от плоти и кровь от крови того народа, которым он так недолго правил.
Глава шестая
На адмиральском корабле
Худшие предчувствия Жака д’Акевиля сбылись. Графу Орлову удалось склонить Лизу к авантюре, стоившей ей свободы и навсегда лишившей возможности осуществить свои фантазии. Княжна с секретарем прибыли в Ливорно, где стояла русская эскадра, и сошли на адмиральский корабль. Лиза была уверена в том, что Орлов отвезет ее в Россию и поможет отвоевать материнский престол, но княжну с секретарем арестовали и заперли в одной из кают, предоставив д’Акевиля его тщетным попыткам выломать крепкую дубовую дверь.
– Ну, вот и кончилось наше путешествие, Лиза, – устало сказал Жак и сел на пол, прислонившись спиной к двери. – Ты опять не послушалась меня, как в детстве, когда я уверял тебя, что никакого клада в усадьбе нет, а ты твердила, что он в саду – под любимыми розами матери. Я оберегал тебя, как мог, но ты летела к гибели – словно бабочка на огонь, и поверила этому негодяю Орлову. Нынче у нас одна надежда – на милосердие императрицы Екатерины.
Елизавета подошла к Жаку, нежно провела рукой по его волосам, потом села рядом с ним на пол. Ее глаза распухли от слез, лицо пошло пятнами, пышная прическа распустилась, руки дрожали от волнения.
– Что же делать, милый? – спросила она сквозь слезы. – Как бежать отсюда? Я обманулась, но так хотелось верить в то, что русские признают свою княжну!
– Для русских ты – иностранка, – вздохнул Жак. – Француженка. Они еще могут поверить в то, что ты – дочь генерала Шубина, но не проси у них большего. Падай в ноги к императрице и умоляй о милосердии. Это наша единственная надежда.
– Она не простит, Жак, – потерянно ответила Лиза. – Я ведь хотела лишить ее трона.
– Ты – ребенок, который не ведает, что творит. – Д’Акевиль поцеловал ее в покрасневшие, опухшие веки. – Взбалмошная девчонка. По-прежнему ищешь клад там, где его нет и в помине. И я – рассудительный француз, знающий, что клада нет и не может быть, все равно иду за тобой и выкапываю розы из клумб.
Лиза отчаянно зарыдала, уронив беспокойную рыжеволосую голову на колени Жака.
– Мне страшно, – шептала она сквозь слезы. – Меня запрут в монастырь. Уморят в крепости, как несчастного Ивана Антоновича…
– Они не посмеют, – утешал ее Жак, зная наверняка, что императрица Екатерина не остановится перед худшим. – Они сошлют тебя в Шубино, а я поеду с тобой. Мы будем вместе – и счастливы, как раньше.
– Мы не будем счастливы, – рыдала Лиза, – наше счастье осталось в прошлом. В поместье твоего отца… Зачем я только нашла это письмо тогда, в библиотеке? Письмо, из которого узнала правду о себе… Не будь этого письма, я навсегда бы осталась во Франции.
– Мы вернемся во Францию, милая, – шептал Жак, мысленно простившийся с belle douce France в ту самую минуту, когда ступил на борт адмиральского корабля. – Видит Бог, вернемся…
Лиза притянула его к себе, прижалась губами к его губам.
– Иди ко мне, Яшенька, – сказала она. – Мы еще успеем… В последний раз. Пока нас не разлучили…
И пока граф Орлов писал донесение императрице, а каждая минута неуклонно приближала падение и несчастье Лизы, Жак сцеловывал слезы с глаз и губ любимой и в последний раз называл ее своей. Ее тело было покорным и жарким, как в их первую ночь. Она из последних сил льнула к нему, соединяя томление страсти с порывом страха, и Жак не знал, чего больше сейчас в ее душе – страха перед будущим или любви к прошлому. В дверь в любую минуту могли войти, но д’Акевиль ни на мгновение не задумался об этом. Он видел лишь полные белые плечи Лизы, ее бесконечно любимое, сладкое тело, с которым ему предстояло расстаться.
Жак запускал пальцы в спутанные рыжие волосы, перебирал вьющиеся пряди, напряженно вглядывался в округлое лицо с закрытыми в минуты близости глазами и изящным абрисом вишневых губ и проклинал себя за то, что позволил ей ступить на этот корабль. Но разве княжна когда-нибудь советовалась с ним?
В Петербурге их разлучили. Лизу под конвоем увезли в неизвестном направлении, а д’Акевилю после короткого допроса в Тайной канцелярии велели вернуться на родину.
– Я не поеду, – сказал Жак.
– Вас выставят вон из России, – усмехнулся допрашивавший Жака тощий, похожий на крысу чиновник.
– Я все равно вернусь, – ответил д’Акевиль.
– Извольте… – равнодушно ответил тот. – Сколько угодно… Но вы не вернетесь дальше русской границы.
Жака выставили за пределы империи, но, ступив на польскую землю, он и не подумал вернуться во Францию. Д’Акевиль не собирался возвращаться без Лизы. Из захудалого трактира польского городка бывший секретарь великой княжны Елизаветы написал отчаянное письмо графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому.
Глава седьмая
Петропавловская крепость
– Как посмели вы всклепать на себя чужое имя и род? – спрашивала императрица Екатерина у стоявшей перед ней измученной женщины.
– Это мое имя и мой род, ваше императорское величество, – ответила та и, не дождавшись разрешения государыни, устало опустилась на единственный в комнате стул.
Пока рядом был Жак, Лиза держалась. Она как будто не замечала душной каюты адмиральского корабля, где они с Жаком проводили томительные дни пути, отвратительной качки, похожего на стон шума воды за бортом, коротких прогулок по палубе, во время которых арестанты едва успевали глотнуть воздуха перед тем, как вернуться в духоту и зной, пота, стекающего по горячей спине и пропитывающего испачканное платье, и невозможности привести себя в порядок. Даже на минуту она не задумывалась о случившейся катастрофе. Она замечала лишь глаза Жака – внимательные, любящие, терпеливые, губы Жака, стиравшие ее слезы и боль, его колени, в которые можно было уткнуться, пальцы, перебирающие ее волосы, и тот заряд спокойствия, терпения, уверенной и мудрой нежности, который исходил от ее секретаря и любовника.
Лиза впервые видела в Жаке не зеркало, бесстрастно отражающее каждый ее каприз, не спутника, готового на все, лишь бы оставаться рядом, не надоевшего друга сердца, которому она уже месяц предпочитала атлетически сложенного красавца Орлова, а единственного в мире человека, способного принять на себя ее страдание и боль. Впервые она задумалась о том, что Жак мог бы иметь другую судьбу, вступить на дипломатическое или военное поприще или просто быть самим собой – состоятельным дворянином, способным оплатить прихоти и разориться на удовольствиях. Но Жак лишь следовал за ней в ее бесконечных скитаниях по Европе и, казалось, находил странное удовольствие в той бестолковой и опасной жизни, которую Лиза делила на двоих, словно взятый в дорогу хлеб.
Но когда к Лизе пришло это знание, уже поздно было что-либо изменить. Оставалось только исступленно любить друг друга все эти страшные ночи пути, сжимать зубы, чтобы никто не помешал их хрупкому счастью и не расслышал стонов, вздохов и радостного предутреннего шепота, а потом, во время короткой прогулки по палубе, прятать от матросов лихорадочно блестевшие глаза, в которых без особого труда можно было прочитать попытку спрятаться от катастрофы в сладком убежище любви.
К счастью, на время пути граф Орлов оставил своих пленников в покое. Теперь они были для него всего лишь грузом, который нужно было доставить по назначению, по мере сил наблюдая за тем, чтобы груз не испортился в дороге.
В Петербурге их хрупкому счастью пришел конец. Едва княжна с секретарем сошли с адмиральского фрегата, как дожидавшиеся на пристани люди втолкнули их в разные кареты, и напрасно д’Акевиль что-то кричал Лизе, пытаясь отбиться от крепких молодцов из Тайной канцелярии, одетых в зеленые солдатские мундиры.
Потом она увидела Петропавловскую крепость, уже однажды виденную в детстве, когда генерал Шубин привозил ее на свидание с матерью – тонкий золотой шпиль, растворенный в утреннем тумане, мрачную линию стен и серые воды Невы, подступавшие к этим стенам вплотную. Лиза еще не успела понять, что на долгое время станет узницей этой крепости, как ее вытолкнули из кареты, повели по длинному, зябкому коридору, потом открыли какую-то дверь и впустили в комнату, где не было ничего, кроме стола с креслом для следователя и убогой деревянной табуретки, вероятно, предназначенной для арестантки.
У окна стояла полная женщина в светло-сиреневом платье. Незнакомка обернулась, и княжна сразу узнала слегка выпяченный подбородок Екатерины, ее тонкие губы и пронзительный взгляд, знакомые по портретам императрицы. Екатерина не предложила измученной арестантке сесть, а сразу бросила ей в лицо обвинения, из которых следовало одно – отныне всероссийская княжна Елизавета будет даже не графиней Шубиной или госпожой д’Акевиль, а ничтожной самозванкой, посягнувшей на чужое имя и род.
– Ваше прошлое мне известно, – говорила Екатерина. – Вы – авантюристка без роду и племени, сначала пытались поднять смуту в Польше. Потом оказались в Венеции, где принимали папских легатов. В Риме вы по-прежнему пытались добиться поддержки католической церкви. Потом вы были в Рагузе, где продолжали плести интриги. В Ливорно вас арестовал и доставил в Россию граф Орлов.
– Граф Орлов соблазнил меня, – устало, безучастно ответила Лиза. – Посулил поддержку и помощь, сказал, что влюблен. Я поверила ему и ступила на борт адмиральского фрегата… Дальнейшее вам известно.
– Вы посягали на мой трон! Вы – ничтожная побродяжка – претендовали на имя Романовых. – Подбородок Екатерины затрясся от негодования.
Арестантка засмеялась – и этот смех был страшнее самых отчаянных рыданий. По телу Екатерины прошла дрожь.
– Имя Романовых… – говорила Лиза, перемежая эти слова взрывами истерического хохота. – Да какое имеете к нему отношение вы – Ангальт-Цербстская принцесса?! Я – дочь императрицы Елизаветы и графа Алексея Разумовского, ее тайного мужа. Я – внучка Петра Великого! Тому есть немало свидетелей и свидетельств. Еще живы люди, которые могут подтвердить мое происхождение.
– Кто же эти люди? – спросила Екатерина. Арестантка все больше раздражала ее. – Выживший из ума старик д’Акевиль? Или его сынок, ваш секретарь? С отцом мы ничего не сможем сделать, он – подданный французского короля, а вот сын в наших руках и пойдет под кнут, а потом и в Сибирь, в острог. Есть еще граф Кирилл Григорьевич Разумовский, но он отречется от вас.
Арестантка перестала смеяться и с ужасом взглянула на императрицу.
– Жак? Под кнут? В острог? – ахнула она. – Нет, только не это! Пощадите его, государыня! Он же ни в чем не виноват…
– Пощадить? – переспросила Екатерина. – Тогда признайте, что вы – авантюристка, всклепавшая на себя чужое имя и род. Письменно, в присутствии свидетелей. Монаршее милосердие коснется и вас – вместо крепости я отправлю вас в монастырь. Вы избалованы, привыкли к роскоши и крепости не выдержите. А в монастыре, даст Бог, проживете долго.
Лиза закрыла лицо руками – перед ней промелькнула картина из прошлой счастливой жизни. Она сидела в библиотеке поместья д’Аквилей, рассеянно перелистывая какую-то русскую книгу, принадлежавшую Анастасии Яковлевне, как вдруг оттуда выпало письмо, начинавшееся странными, удивившими Лизу словами…
«Ангел мой Настя! Знаю, что брат твой с воспитанницей уже у вас обретаются. Лизу я каждую ночь вижу во сне и тревожусь о ней несказанно. Не оставьте мою дочь своими попечениями, а я, чем смогу, разочтусь. Престол русский ей передам, а не племяннику Петрушке, да и вас монаршим вниманием не оставлю. Друг мой нелицемерный, Алеша Разумовский, вам кланяется.
С сим и остаюсь,
Друг твой Елисавета».
– Хорошо, ваше величество, – тихо сказала княжна. – Я подпишу все, что скажете. Только отпустите Жака.
– Я рада, что вы образумились. – Екатерина шагнула по направлению к двери. – За вами придут.
Лизу отвели в сырую и темную камеру, где она провела сутки, пока за арестанткой не пришли от матушки-императрицы. В присутствии нескольких неизвестных ей лиц княжна отреклась от прав на русский престол и признала себя самозванкой. После этого ее отвезли в Москву, в старинный Ивановский монастырь.
Часть XI
Инокиня Досифея
Глава первая
Сон Лизы
Ночью по дороге в Москву Лизе приснилась мать. Они были в усадьбе покойного генерала Шубина – стояли в гостиной, перед портретом Петра. Было темно, зябко, жалобно дребезжали оконные стекла, ветер пытался ворваться в комнату, а мать подносила к портрету свечу, не замечая, что горячий воск обжигал ей пальцы.
– Смотри, Лиза, – говорила мать, – это твой дед, государь Петр Алексеевич. Полки на шведов водил, под Полтавой викторию одерживал, Россию империей сделал, но много людей погубил и грех свой нам передал, вместе со славой… Так что нам с тобой, Лиза, этот грех искупить придется. Я уже свою чашу до дна выпила. Теперь твоя осталась…
– А если я не хочу? – спросила во сне Лиза. – Если не моя это чаша?
– Твоя это чаша, милая, – с тяжелым вздохом ответила императрица. – Хотела я тебя от нее уберечь, но не судьба, видно. Инокиней ты будешь. Досифеей тебя назовут, как старицу преподобную, у которой я некогда благословения просила. Одна опора у тебя останется – дядя твой, Кирилл Григорьевич.
– А Жак? – это имя Лиза произнесла дрогнувшими губами, уже ни на что не надеясь.
– У Жака, Лизанька, другая судьба, – ответила мать. – Он свое отшагал с тобой рядом. Теперь один идти будет. Только Кирилл Разумовский с тобой до смерти останется. Да я иногда приходить буду. Когда душой позовешь.
Лиза спросила еще об отце, но мать ничего не ответила, только на сердце стало светло и сладко, как будто оба ее отца – родной и названый – были сейчас рядом.
– Приехали, барышня! – раздался совсем близко голос из отступившего на время земного мира, и Елизавета проснулась. Губы были солеными от слез, к щекам прихлынула кровь.
– Нешто всю ночь плакали, барышня? – участливо спросил пожилой солдат в мундире Преображенского полка, приставленный к арестантке.
– Ты деда моего помнишь? – спросила она у солдата, как будто чувствовала, что долгие годы будет обречена на молчание.
– Какого деда? – удивился тот.
– Императора Петра Алексеевича, – ответила Лиза, и солдат взглянул на нее не то с жалостью, не то с испугом, как на сумасшедшую.
– Не застал я его, – ответил конвоир, решив не обижать блаженную. – При государыне Елизавете Петровне служил. Фридриха, короля прусского, колотить приходилось.
– А правда я на матушку, государыню Елизавету, похожа? – с надеждой спросила Лиза.
Солдат пристально взглянул на заплаканную девицу в грязном платье, со спутанными рыжими волосами, меньше всего походившую сейчас на особу царского рода, и хотел было отрицательно покачать головой, как вдруг перед ним мелькнуло давнее, полузабытое воспоминание – ноябрьская ночь 1741 года, казарма Преображенского полка, красавица-цесаревна, такая же рыжеволосая и голубоглазая, как эта несчастная девочка, рыдавшая всю дорогу, и тот единственный вопрос Елизаветы Петровны, который заставил их выбросить из дворца правительницу Анну с сыном: «Ребята! Помните, чья я дочь?» И вот теперь эта полубезумная арестантка спрашивала у него: «Я похожа на мать?»
Конвоир помедлил мгновение, потом поклонился заплаканной барышне и поцеловал ее грязную, исхудавшую руку.
– Похожа, милая, – ответил он, – но другой у тебя, видно, путь…
– Помоги мне, – с последней надеждой прошептала Лиза, – передай дяде, графу Кириллу Разумовскому, куда меня увезли. Он тебя отблагодарит…
– Да как же мне до его сиятельства добраться? – спросил солдат. – Он, поди, сейчас в Малороссии…
Лиза потерянно взглянула на преображенца, но больше они ничего не успели сказать друг другу. Навстречу арестантке вышла игуменья Ивановского монастыря.
Кирилл Разумовский уже неделю добивался приема у Екатерины – государыне было недосуг принять своего былого друга. После поездки в Рим Кириллу дали понять, что его кредит при дворе исчерпался, но он все равно продолжал обивать пороги царскосельского дворца, передавать государыне записочки через фрейлин, на которые та не отвечала, и подавать прошения через нового фаворита императрицы – графа Григория Александровича Потемкина. Как-то у самых покоев Екатерины он столкнулся с Алексеем Орловым, который с удрученным видом выходил от государыни. И не думая сдерживать клокочущую в душе ненависть, бывший гетман шагнул было к Орлову, но тут на пороге появилась императрица.
– Что-то вы плохо выглядите, Кирилл Григорьевич, – сказала Екатерина. – Устали с дороги? Говорят, путешествовали по Италии? Вот и граф недавно оттуда… Прекрасная страна, красивые женщины. Говорят, особенно ценятся рыжеволосые, как на картинах Леонардо. Одну такую я недавно приобрела для Эрмитажа…
– А другую – для Петропавловской крепости? – бледнея, спросил Разумовский.
– Не понимаю, граф, о чем вы? – спросила Екатерина со своей обычной вымученной улыбкой, которая когда-то так восхищала Кирилла.
– О моей племяннице, княжне Елизавете, которую вы, вероятно, держите в крепости, – ответил Кирилл Григорьевич. – И поэтому отказываетесь принимать меня, но охотно беседуете с графом Орловым.
Екатерина скучливо вздохнула.
– Мне недосуг заниматься вашими делами, граф, – пряча зевоту, сказала она. – Возвращайтесь лучше в Батурин. Я сама приглашу вас, когда будет нужно. А вы, граф Алексей Григорьевич, отправляйтесь в Москву, – добавила она, обращаясь к Орлову. – Знаю, у вас там прекрасный дом. Вот и отдохнете от баталий… Война и любовь – это, бесспорно, прекрасные дамы, но и они бывают слишком утомительны, верно?
Екатерина рассмеялась – холодно, неестественно, жеманно, и скрылась за раззолоченной дверью, предоставив врагам поле битвы.
– Вы совершили страшный грех, граф, – произнес Разумовский свой приговор Орлову. – И умрете в мучениях.
– К чему столь мрачные пророчества в наш просвещенный век? – улыбнулся Орлов. – Вы, верно, хотите знать, что будет с итальянской побродяжкой? Извольте, я расскажу вам. Государыня решила обратить претендентку на русский престол в скромную графиню Орлову. Вот мне и предписано отправляться в Москву и просить руки княжны, пока ее не постригли в монахини. Недавно какой-то умник привел государыне известную поговорку про клобук, который не прибьешь к голове гвоздями. Мол, монахиня может легко стать царицей. А графиня Орлова императрице не опасна.
– Княжна не пойдет за вас, – высокомерно ответил Кирилл. – Скажите лучше, где ее держат?
– Право, я сам не знаю, граф, – пожал плечами Орлов. – На месте меня встретят чины из Тайной канцелярии.
– Вот и славно, – Разумовский теперь знал, что делать. – Ведите свою игру, граф, а я буду вести свою. Посмотрим, чья возьмет.
Он холодно поклонился Орлову и зашагал прочь. Но у дворцовых ворот Кирилла Григорьевича окликнул преображенский солдат, стоявший на карауле.
– Вам просили передать, – шепнул солдат. – Барышня в Москве, в Ивановском монастыре. Не оборачивайтесь, ваше сиятельство, – добавил он, когда Разумовский, онемев от изумления, застыл на месте. – Идите, как шли. Себя и меня погубите.
– Как отблагодарить тебя? – успел спросить Кирилл.
– Меня матушка-государыня Елизавета на том свете отблагодарит, – ответил преображенец, пропуская графа.
– Куди поiдемо, батьку? – спросил у Разумовского его кучер.
– До Москви, сину, – ответил тот, – панночку у царицi вiдбивати…
Карета графа тронулась, а преображенский солдат еще долго с веселым удивлением наблюдал за диковинным кучером Разумовского, который, погоняя лошадей, пел о страданиях бедной девки, решившей с горя утопиться в Днепре. Потом карета скрылась из виду, а преображенец заскучал. С каким удовольствием он поехал бы сейчас с графом и его странным кучером – отбивать у императрицы Екатерины ту, кого возница назвал панночкой!
Глава вторая
Узница Ивановского монастыря
О московском Ивановском монастыре ходила дурная слава. Говорили, что старинная обитель, основанная некогда матерью Ивана Грозного Еленой Глинской, стала тюрьмой, подчиненной Тайной канцелярии. Сюда привозили ослабевших от мук заключения узниц, и арестантки становились монахинями. Конечно, для этих несчастных женщин монастырь был спасительной пристанью, единственной возможностью избежать ссылки в Сибирь или пожизненного заключения в крепости. Но игуменье предписывалось запретить бывшим арестанткам свидания с родными и близкими, изолировать их от общения с остальными монахинями, за исключением келейниц, и даже совершать для них отдельные требы, дабы не открылись мирские имена узниц и слух о них не просочился за стены монастыря.
Однако многие сердобольные матушки-игуменьи допускали в обращении с монахинями-узницами непозволительную мягкость. Иногда, в строжайшем секрете, разрешали краткие свидания с родными, передавали на волю записки, а кроме монахинь-келейниц заключенным было позволено общение с духовником.
Летом 1775 года в монастырь привезли таинственную особу, о которой тут же стали без умолку трещать окрестные кумушки. Рассказывали, что новую монашку доставили в плотно занавешенной карете, под конвоем, а потом поселили в отдельном домике из трех крохотных комнаток, расположенном у восточной стены монастыря, рядом с покоями игуменьи. В двух комнатках жила сама узница, а в третьей – ее келейница, монахиня в летах, назначенная игуменьей приглядывать за особой, читать ей душеспасительные книги и готовить к постригу.
Однако насильно привезенная в монастырь женщина первый день прорыдала, второй – неподвижно просидела у выходившего во внутренний дворик окошка, а на третий к ней пожаловал гость из Петербурга, в котором некоторые знающие все и вся жители примыкавших к монастырю улиц признали Чесменского героя – графа Алексея Орлова.
Поговаривали, что пробыл Орлов у узницы недолго, а в минуты его короткого визита в домике раздавались неистовые крики таинственной особы, так что тихая, степенная келейница, не привыкшая к подобным сценам, вынуждена была вывести графа из комнат безумной девицы. Орлов уехал, узница опять прорыдала весь день, а потом к матушке-игуменье пожаловал родственник московского генерал-губернатора Иудовича, граф Кирилл Григорьевич Разумовский.
Граф от имени Иудовича потребовал тайного свидания с узницей, и игуменья не посмела ему отказать, упомянув, однако, что, согласно особому распоряжению императрицы Екатерины, будущей монахине запрещено покидать пределы отведенного ей помещения. Разумовский заверил игуменью, что, будучи верным слугой царствующей императрицы, не собирается подстрекать узницу к побегу или содействовать оному. Он хочет лишь наставить на путь истинный авантюрную особу и склонить ее к покорности и послушанию. Игуменья не поверила ни единому слову его сиятельства, но свидание разрешила – ей и самой было жалко бедную девочку, которую привезли в монастырь прямо из Петропавловской крепости.
Граф Разумовский пробыл в домике больше Орлова, криков и воплей слышно не было – напротив, узница была весьма довольна гостем и даже показала ему медальон, с которым ни на минуту не расставалась. Граф Кирилл Григорьевич приходил снова и снова, и матушка игуменья скрепя сердце соглашалась на эти свидания. Таинственную особу готовили к постригу, а она все читала французские книжки, привезенные графом Разумовским, да рыдала.
Но в ноябре 1775 года от государыни Екатерины пришло предписание ужесточить режим узницы и как можно скорее постричь ее в монахини. Матушка-игуменья вздохнула, режим ужесточать не стала, лишь через келейницу сообщила женщине, что через несколько дней состоится обряд пострига. К удивлению, воплей и рыданий в тот день не было слышно, напротив, узница встретила это известие светло и тихо, даже просияла лицом и сказала келейнице, что видела во сне матушку, покойную государыню Елизавету Петровну, и та благословила ее на постриг. Зато граф Разумовский пожаловал к игуменье и, взывая к ее милосердию и душевной щедрости, предложил неслыханный план…
Глава третья
Покаяние гетмана
– Вы должны помочь мне, матушка, – говорил граф Разумовский игуменье.
Он стоял у выходившего на монастырский двор окошка, из которого был виден домик, отведенный великой княжне Елизавете. Было ветрено, сыро, ветер кружил мертвые листья, которые напоминали Кириллу Григорьевичу старые письма с их пожелтевшей бумагой и выцветшими чернилами. Всю эту осень он был во власти прошлого – то и дело мысленно беседовал со старшим братом и спрашивал у него совета и помощи.
Лиза встретила Кирилла Григорьевича с несказанно удивившей и растрогавшей его радостью, бросилась на шею, а потом, когда он украдкой, таясь от заглядывавшей в двери келейницы, протянул бедняжке письмо от Жака, и вовсе заплакала. Стала благодарить, прижалась мокрой от слез щекой к его плечу. Потом они долго молчали, сидя бок о бок на узком, жестком диванчике, над которым висела старинная икона «Иисус в темнице».
– Что же мне делать, дядюшка? – спросила наконец Лиза. – Не могу я здесь – тяжко мне и горько. На волю хочу. К Жаку, во Францию. Видит Бог, если суждена мне свобода, в России не останусь.
Что он мог ответить ей? Чем облегчить ее страдания? Тогда Кирилл Григорьевич прошептал на ухо племяннице, что непременно поможет ей бежать, и лицо Лизы осветила счастливая, безмятежная улыбка, напомнившая Разумовскому маленькую рыжую непоседу – дочь генерала Шубина.
Но вскоре Лиза изменилась. Стала чаще беседовать с келейницей, которая приносила ей духовные книги и готовила к постригу. Читала Жития святых, Евангелие, заинтересовалась русской историей, расспрашивала у келейницы о других царственных узницах Ивановского монастыря – Пелагее, жене царевича Ивана, сына Грозного, Марии Нагой… Часто ходила в сопровождении келейницы в примыкавшую к ее скромному обиталищу надвратную церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, горячо, истово молилась. Потом долго сидела у крохотного, выходившего во двор окошка и смотрела, как кружат по двору осенние листья, слушала звон монастырских колоколов и все спрашивала у келейницы, можно ли отмолить чужую вину, рассеять молитвенным подвигом грозовую тучу греха, нависшую над их родом?
Келейница, пожилая монахиня, некогда удалившаяся от мира после того, как ее единственный сын погиб в Семилетнюю войну, невольно прониклась жалостью к вечно заплаканной барышне, уверявшей, что она – дочь покойной русской императрицы.
Матушка Пелагия стала баловать Лизу – поила ее липовым цветом, приносила из ближайшей к монастырю лавки тульские пряники и малиновое варенье, читала со своей названой дочерью святцы, рассказывала о великомученице Елизавете, да еще о царевне Алисафии, которую Егорий Храбрый от змея спас. Лиза, в свою очередь, пускалась в длинные рассказы о милой, доброй Франции, где она жила с семи лет, об отце – генерале Шубине – и великодушном семействе д’Акевилей. О Жаке она молчала – слишком горько было вспоминать. Потом не выдержала и рассказала Пелагии, что есть у нее любимый человек, который сейчас далеко, во Франции, и, верно, никогда она его больше не увидит.
Вскоре Кирилл Григорьевич стал замечать, что в его племяннице произошла неуловимая перемена. Она не так уже рвалась на волю, реже вспоминала о Франции, зато не пропускала ни одной церковной службы, и к заутрене, и к вечерне ходила в надвратную церковь – тихо, степенно, в сопровождении келейницы.
Тогда Кирилл понял – больше медлить нельзя, нужно готовить побег племянницы. Если она останется в монастыре, то еще, чего доброго, истает, как свеча, во время церковной требы.
Граф постоянно думал о побеге Лизы, но не знал, как его осуществить. Игуменья, скрепя сердце согласившаяся на его визиты, в остальном строго выполняла предписания государыни Екатерины и не позволяла узнице и шагу ступить за церковные ворота. Разумовский мог проникнуть в монастырь только в одиночку, и короткие свидания с Лизой ничего не меняли – большую часть времени она проводила в обществе келейницы. Побег мог оказаться возможным только с молчаливого согласия игуменьи, и накануне пострига племянницы граф пришел просить именно об этом.
– О какой помощи вы говорите, батюшка Кирилл Григорьевич? – спросила игуменья.
– Помогите бежать Лизе! – воскликнул Разумовский и упал перед игуменьей на колени, прижался губами к ее длинным, словно выточенным резцом ваятеля, белым пальцам. – Умрет она здесь, не выдержит!
Игуменья не отстранилась, не подняла Разумовского с колен, а только сказала, глядя куда-то вдаль:
– Племянницу твою я, батюшка Кирилл Григорьевич, меньше твоего знаю, но одно скажу – покой ей нужен. Мир душевный, которого она сроду не знала. Металась только по свету без толку да других за собой тащила. И снова метаться будет, если душу здесь не успокоит.
– Истает она здесь. Как свеча сгорит, – ответил Разумовский, бросив на игуменью умоляющий, отчаянный взгляд.
– Поднимитесь, батюшка Кирилл Григорьевич, – сказала та. – Нечего передо мной на коленях ровно перед княгиней какой стоять. Перед государыней, чай, уже настоялись, когда за княжну свою просили…
Разумовский поднялся, снова подошел к окну.
– Странный нынче ноябрь, матушка, – сказал он после минутного молчания. – Тихий да кроткий. Ветер шумит еле слышно, как будто ребенок во сне дышит. А если дождь идет, то тоже тихо-тихо. Вы говорите, Лизе тишина нужна. А может быть, эта тишина смерти подобна?
Игуменья вздохнула, подошла к образу Богородицы, у которого теплилась малиновая лампадка, медленно, торжественно осенила себя крестным знамением, сказала:
– Говоришь, она – государыни Елизаветы да брата твоего дочь. Верю, и нельзя тому не верить, ей в лицо посмотрев. Матушка-государыня Елизавета Петровна в нашем монастыре бывала. И на Лизу твою она как две капли воды похожа.
– Так в чем же дело, матушка? – изумился Кирилл. – Почему вы помочь мне не хотите?
– А в том, батюшка Кирилл Григорьевич, – ответила игуменья, – что грех родовой, дедом Петром Алексеевичем да матерью Елисавет Петровной завещанный, твоей Лизе отмолить придется. Говорила она тебе, что на постриг по доброй воле идет?
– Не говорила, матушка…
– Так ты у нее самой и спроси, а потом снова ко мне придешь. Ежели бежать захочет – я помогу. Как в Суздале монахини царице нашей Евдокии Федоровне помогали да потом на муки за нее пошли, – в голосе игуменьи прозвучала такая благая сила, что Разумовскому вновь вспомнилась старица Досифея.
«Как же она про Лизу говорила тогда? – подумал он. – «Иной путь. Иное имя. Досифеей ее назовут, как меня». Неужто и вправду Лиза бежать не захочет?»
– Позовите Лизу, матушка, – попросил он. – Пусть она сама о воле своей скажет.
Лиза вошла незаметно, как будто осенний лист влетел в комнату и медленно, описав круг, упал к ногам Разумовского. Рыжие волосы спрятаны под платок, взгляд – усталый и тихий. Граф почти не узнавал ее сейчас, не находил в ней ничего общего с той проказницей и кокеткой – дочерью генерала Шубина, которую знал когда-то. И даже от измученной, исхудавшей женщины, переходившей от рыданий к безмолвному отчаянию, Лиза была бесконечно далека. «Что с ней? – спросил у себя Разумовский. – Такая и впрямь согласится на постриг… Из такой глины Господь лепит святых».
– Дядюшка, здравствуй, – сказала Лиза чужим, изменившимся голосом. – Зачем позвал меня?
Разумовский подошел к племяннице, обнял, заговорил горячо, быстро, волнуясь и сбиваясь.
– Бежать тебе, Лиза, надо. К Жаку, во Францию, как ты сама хотела. Матушка-игуменья нам поможет.
Лиза помолчала, потом ответила, улыбаясь, и эта улыбка смутила Разумовского больше, чем самые отчаянные рыдания:
– Прости меня, дядюшка милый. Не могу я бежать, другой мне путь от Бога положен.
– Да какой же путь, Лиза? – в сердцах вскричал Разумовский. – Я медлил, прости, дал тебе к монастырю привыкнуть. Хотел, чтобы отдохнула ты, сил для побега набралась. Но бежать тебе надобно – в мир, во Францию, к жениху.
– Сон я давеча видела, дядюшка, – спокойно, ничуть не смутившись, ответила Лиза. – Про узника несчастного, Ивана Антоновича, которого в Шлиссельбурге закололи.
Разумовский вздрогнул. За эти месяцы он совсем перестал следить за ходом событий и лишь недавно, от графа Иудовича, узнал о неудачной попытке гарнизонного офицера Василия Мировича освободить сверженного Елизаветой императора Ивана Антоновича, с детских лет не выходившего из крепости. Иванушку закололи тюремщики, которым было дано строжайшее предписание сделать это при первой же опасности. Но Лиза? Откуда она узнала об этом? Неужто игуменья рассказала?
– Снилось мне, – продолжила Лиза, – что Ивана Антоновича освободить хотели. Он предупрежден был об этом, ждал. Ходил по камере в волнении, как я раньше по комнате своей монастырской. Потом крики, шум, тюремщики вошли внезапно. И холод смертный… Я почувствовала его, как он. Так холодно стало, и глаза закрыть захотелось. И чтобы кто-то потом своим теплом согрел и убаюкал.
– Откуда ты знаешь об этом, Лиза? Кто тебе рассказал о его смерти?
– Никто, дядюшка, – ответила княжна, – сон я увидела вещий.
– С тобой, Лиза, ничего плохого не случится, – Кирилл Григорьевич еще раз попытался вразумить племянницу. – Во Францию уедешь, к д’Акевилям.
Но даже имя Жака не произвело на Лизу ожидаемого действия. Она как будто не слышала Разумовского.
– Кровь Ивана Антоновича на матери моей Елизавете Петровне, – говорила Лиза, – это она его в крепость заточила, за свой престол опасаясь. И правительница Анна из-за нее молодой умерла. А на деде моем, государе Петре Алексеевиче, крови поболе будет. Стало быть, мне всю жизнь за них молиться. А может, и жизни не хватит.
– Да почему тебе? У каждого свой грех и свой путь.
– И у меня путь, – ответила Лиза, – молитвенный. На постриг я по доброй воле иду. Ты только навещай меня иногда. А Жаку напиши – люблю я его и нынче, только любовь моя другой стала. Как у сестры к брату. Он свое отшагал со мной рядом, теперь пусть сам идет.
– Матушка-игуменья, да что же вы с моей Лизой сделали?
Разумовский встряхнул племянницу за плечи, как будто хотел заставить ее опомниться. Она не шелохнулась, не попыталась вырваться, только по-прежнему спокойно и ласково смотрела ему в глаза. Тогда граф отпустил Лизу и, не попрощавшись, вышел из покоев игуменьи. В монастырском дворе он опомнился, зашел в надвратную церковь Казанской иконы Божией Матери, которую так любила его племянница, и упал на колени перед образом Богородицы.
«Вразуми мою Лизу, Матушка Владычица, – шептал он, – в миру ее место». Но чем больше повторял Кирилл Григорьевич эти слова, тем меньше уверенности оставалось в его душе. Место Лизы было не в миру, как бы графу ни хотелось этого, а здесь, в монастыре, который стал для его племянницы не тюрьмой, а местом молитвенного служения. И Кирилл Григорьевич знал теперь наверняка, что пророчество старицы из Китаевской пустыни сбудется, Лиза примет постриг и станет инокиней Досифеей, призванной отмолить тяжкую, десятилетиями копившуюся вину.
Глава четвертая
Святая
Когда императрица Екатерина вновь вспомнила об итальянской побродяжке, ей сказали, что самозванка приняла постриг, стала инокиней Досифеей и слывет в монастыре святой.
– Святая? Она? – рассмеялась Екатерина. – Как суеверны люди в наш просвещенный век!
Государыня спросила еще о графе Кирилле Григорьевиче Разумовском, и ей донесли, что после пострижения монастырской узницы граф вернулся к себе в Батурин, но в Москву заезжает – верно, навещает племянницу. Екатерина хотела было запретить эти свидания, но потом смутная жалость к малороссийскому упрямцу Разумовскому и его рыжей протеже зашевелилась в сердце государыни.
– Кто в духовниках у побродяжки? – спросила Екатерина.
– Митрополит Московский Платон, – ответил граф Григорий Александрович Потемкин.
– Много чести, – пожала плечами императрица. – Говорят, много знати московской в ее тайных друзьях ходит. В монастырь ее сослать дальний – и дело с концом. В Москве она мне опасна.
– Сия мера, государыня, еще больше внимания к Досифее привлечет, – ответил Потемкин. – Оставьте все как есть. Рассказывают мне, что она от дел мирских совсем далека стала – все молится да книги духовные читает. О престоле российском и думать забыла. Живет светло да тихо. Не враг она вам теперь.
– Не враг… – задумчиво произнесла Екатерина. – Бог с ней, несчастной. Пусть живет, как жила. Когда буду в Москве, навещу побродяжку. Интересно мне, как святыми становятся.
Екатерина сдержала свое обещание – через год после пострижения княжны Елизаветы, осенью 1776 года, она тайно приехала в Москву повидать узницу. Игуменья провела государыню в домик у восточной стены монастыря, где по-прежнему жила Досифея. Шел дождь, небо было серым и тусклым, но окна в комнатах у инокини были распахнуты настежь, а сама Досифея сидела у окна и тихо, еле слышно, читала молитву святому Ангелу Хранителю.
Досифея не сразу заметила императрицу, а та не решилась прервать молитву инокини. Когда обе женщины наконец-то взглянули друг другу в глаза, Екатерина с трудом узнала стоявшую перед ней особу. Перед ней была не авантюристка, истерически хохотавшая в Петропавловской крепости, а спокойная особа с таким глубоким, проникновенным взглядом голубых, как у матери, глаз, что Екатерина почувствовала к ней невольное уважение.
– Узнаешь ли ты меня? – спросила Екатерина.
– Узнаю, ваше императорское величество, – спокойно и ровно, без тени страха и удивления, ответила узница.
– Вот приехала повидать тебя, – сказала императрица, – хочу узнать, как святыми становятся.
– Не святая я, – ответила Досифея, – грешница, как и другие.
– Тогда почему тебя святой называют? – Екатерина окинула быстрым взглядом крохотную комнатку узницы. Заметила и узкую жесткую постель, и икону «Иисус в темнице» – все было бедным и жалким, как и полагалось узнице.
– Не знаю, государыня, – Досифея искренне удивилась. – Я родовой грех отмаливаю, а более мне ничего не известно.
– Что за грех такой? – спросила она.
– Деда, Петра Алексеевича, да матушки, Елизаветы Петровны, – так же спокойно и, казалось, безучастно ответила Досифея, и Екатерине вдруг захотелось уколоть ее, да побольнее.
– А о любовнике своем французском вспоминаешь? – как бы невзначай спросила императрица. – Говорят, он женился, а жена ему сына родила.
Екатерина ничего не знала о Жаке д’Акевиле, но ей хотелось нарушить невозмутимое спокойствие узницы и уверить ее в необыкновенном счастье былого друга.
– Грешно лгать, государыня, – ответила Досифея. – Как брат он мне теперь. Один живет. Отца вот только похоронил. Об этом я наверняка знаю.
– Откуда? – раздраженно спросила Екатерина. – Граф Разумовский нашептал?
– Сон я видела, – ответила Досифея. – И душой чувствую.
– А если я твоему любовнику приехать к тебе разрешу, – усмехнулась императрица, – сбежишь с ним?
– Нет, – ровный, бесстрастный голос инокини ни на минуту не задрожал от волнения. – Он со мной долго шел, а теперь один идти будет.
– Так что же ты, Елизавета, – Екатерина впервые назвала узницу ее настоящим именем, – в мир вернуться не хочешь? Даже если я разрешу?
– Не искушайте меня, государыня, – на лице Досифеи появилась удивившая Екатерину светлая улыбка, – зря время не тратьте. Здесь я останусь.
– И меня, мучительницу твою, простишь? – спросила напоследок императрица.
– Прощу, ваше императорское величество, – без тени ненависти или злобы ответила Досифея, – вы меня на муки осудили, но не ваша в том вина. Вы на престол российский взошли, и вам его тяжесть в сердце нести. Матушка Елизавета Петровна Ивана Антоновича в крепости держала, вы меня в монастырь отвезти велели. Но круг этот страшный замкнуть надобно. Вот я и замкнула. Молитвой. Нет иного пути у Господа. Прощайте, ваше императорское величество. Недосуг мне сейчас. Одну меня оставьте.
Екатерина, не сказав ни слова, вышла, и только на обратном пути, в карете, осознала случившееся.
«Неужели и правда, – думала императрица, – родовой грех эта несчастная отмаливает? Нет, суеверия, русская мнительность, быть того не может! А если и вправду – святая она, как в Москве говорят? Тогда мне впору каяться, а ей – Бог в помощь… Впрочем, в этой стране все возможно, и святых не отличишь от безумцев. Покойная императрица была до ужаса суеверна, и дочь – вся в нее. Дочь?! Неужели я и сама поверила россказням итальянской побродяжки? Молится ангелу-хранителю, но ангел-хранитель не уберег ее от монастыря! На свободу не хочет, говорит, что счастлива. И этим людям я пытаюсь привить дух философии, высокие истины просвещенной Европы! Послушал бы мой друг Дидро бред этой московской юродивой…»
Екатерина еще долго не могла прийти в себя и обрести душевное равновесие. Оно вернулось к ней только в Петербурге, когда странная, безумная особа из Ивановского монастыря стерлась из памяти императрицы, уступив свое место иным делам и заботам. Императрица постаралась забыть Досифею и преуспела в этом. Только два человека на протяжении долгих лет сохраняли память о той, что звалась некогда великой княжной Елизаветой – бывший гетман граф Разумовский, по-прежнему навещавший Досифею, и французский дворянин Жак д’Акевиль, которому после смерти государыни Екатерины Алексеевны наконец-то разрешили пересечь границу Российской империи…
Глава пятая
Прощание
Жак д’Акевиль ни на минуту не забывал о Лизе. Жак вернулся в родовое гнездо, похоронил отца, но ни на дипломатическое, ни на военное поприще так и не вступил и жил медведем, как уверяли соседи-дворянчики. Соседки, впрочем, думали иначе и сочли бы Жака очаровательным, если бы не русская красавица, с которой он, по слухам, был некогда близок и которую то и дело звал во сне.
Все эти годы д’Акевиль предпринимал отчаянные, безумные попытки вернуться в Россию и увидеть Лизу. Дальше русской границы его не пускали, и каждый раз бывший возлюбленный великой княжны Елизаветы вдребезги напивался в приграничном трактире какого-нибудь польского городка и проклинал императрицу Екатерину. Одно утешало Жака – время от времени он получал письма от графа Разумовского: витиеватые и запутанные, но вскоре д’Акевиль научился нелегкому искусству читать между строк. Вернее, читала его душа, и глаза едва поспевали за нею.
Граф Разумовский писал, что Лиза жива, но Екатерина заточила ее в московский Ивановский монастырь, где бедняжка должна будет принять постриг. Из дальнейших неясных и сбивчивых фраз д’Акевиль понял, что граф хочет вызволить племянницу, но ему это никак не удается. А потом русская путешественница из тайных друзей бывшего гетмана передала ему записочку от самой Лизы, окончательно смутившую д’Акевиля….
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова путешествовала по Европе. Ее путешествие началось в 1776-м, когда Екатерина Малая, которой Екатерина Великая была обязана короной, попросила у императрицы разрешения отправиться в Европу для завершения образования сына. Княгиня Екатерина Романовна принадлежала к числу тех былых друзей императрицы Екатерины, которые перестали восхищаться холодновато-отстраненной улыбкой государыни, ее безжалостным умом и редкой способностью считать людей шахматными фигурами, годными только на то, чтобы перемещаться по шахматной доске августейших капризов.
Екатерина Малая разочаровалась в Екатерине Великой, неосторожно высказала это разочарование и вынуждена была на долгие годы покинуть пределы Российской империи. Дашкова не удостоилась личного прощания с императрицей. Холодная улыбка во время дворцового приема – вот и все, что получила на прощание лучшая подруга государыни.
Когда же Екатерина Романовна рассеянно прогуливалась по парку – перед дальней дорогой ей хотелось в последний раз вдохнуть сладкий, будоражащий душу весенний воздух Царского села, – к ней подошла родственница братьев Разумовских фрейлина Софья Дараган, в замужестве – княгиня Хованская.
– Могу ли я надеяться, Екатерина Романовна, что наш разговор останется в тайне? – спросила Софья, и легкий малороссийский акцент, который до сих пор был слышен в ее речи, заставил Дашкову улыбнуться.
Княгиня Хованская не один год провела при императорском дворе, но так и не смогла избавиться от малороссийского выговора и малороссийской же эмоциональности. К тому же с ее кругленького личика не стерся южный румянец, который давно должен был смениться чахоточной петербургской бледностью, губы по-прежнему были сочными, как вишни, а глаза смущали озорным украинским блеском. Дашкова прекрасно понимала князя Хованского – он просто не мог обойти стороной такую красавицу.
– Бесспорно можете, княгиня, – ответила Дашкова, и ей захотелось тепло, по-матерински улыбнуться Хованской и назвать ее Сонечкой.
– Граф Кирилл Григорьевич Разумовский попросил меня поговорить с вами, – продолжала Софья, и Екатерина Романовна заметила, что Сонечка нервничает. – Насколько я знаю, вы испытываете самые теплые чувства по отношению к графу…
– Я высоко ценю графа Кирилла Григорьевича, – ответила Дашкова. – Он всегда был другом нашей семьи, и особенно дяди – Михаила Илларионовича. Что же он просил мне передать?
Сонечка замялась, покраснела, как будто не знала, продолжать ей или нет, а потом все-таки продолжила:
– Вы едете в Европу, без всякого сомнения, будете во Франции… Не могли бы вы передать письмо одному французскому дворянину, другу Кирилла Григорьевича. Его зовут Жак д’Акевиль, у него есть чудесное поместье в окрестностях Парижа, возле городка Мелен. Граф Разумовский был бы вам бесконечно признателен.
– Извольте, княгиня, я передам письмо, – согласилась Дашкова.
Сонечка просила о сущем пустяке, и Екатерина Романовна не понимала, почему так смутилась и покраснела княгиня Хованская. Очевидно, в просьбе Сонечки имелся какой-то непонятный Дашковой тайный смысл. Но этот подтекст разъяснился только во Франции.
Дашкова нашла Жака д’Акевиля не сразу. Франция была отнюдь не первым этапом ее путешествия, да и в самом Париже обнаружились неотложные дела, заставившие княгиню на время забыть о пустяковой просьбе Софьи Хованской. Решив свои проблемы, Екатерина Романовна все же разыскала пригородную резиденцию д’Акевиля, которая оказалась изящным каменным дворцом в духе эпохи Марии Медичи, как будто парившим в воздухе. По всей видимости, этот французский дворянин обладал немалым состоянием…
Екатерина Романовна прошлась по ухоженному парку с мраморными статуями, фонтанами и прудами с жирными, раскормленными карпами. Этот парк должен был принадлежать не дворянину средней руки, каким и был д’Акевиль, а по меньшей мере князю. Оставалось только недоумевать по поводу того, откуда у мсье д’Акевиля такое состояние и поистине русский размах в дворцовом строительстве…
Хозяин всего этого великолепия сидел на скамейке в парке, читал какую-то книгу, время от времени рассеянно поднимал глаза и безучастно наблюдал за тем, как медленно падают к его ногам пожелтевшие листья. Его лицо, довольно красивое, показалось энергичной Екатерине Романовне ленивым, сонным и маловыразительным. Мало того, д’Акевиль не поспешил навстречу княгине и даже не поднялся со скамейки – этот медведь, как про себя назвала его Екатерина Романовна, лишь смерил гостью недоуменным взглядом, как будто никак не мог понять, почему она нарушила его покой.
Тогда княгиня решила не тратить времени на объяснения и любезности и без всяких церемоний протянула французскому увальню письмо, которое передала ей Софья Хованская.
– Я здесь по просьбе графа Разумовского, – добавила она, и полусонный француз мгновенно изменился в лице, вскочил со скамейки, к которой как будто прирос, рассыпался в извинениях и предложил Екатерине Романовне пройти в дом.
Во внутреннем убранстве комнат, обставленных с французским изяществом, было что-то неуловимо русское. Екатерине Романовне на мгновение показалось, что она на родине, в доме дяди Михаила Илларионовича Воронцова. Когда же заметно повеселевший хозяин провел гостью в библиотеку, а сам удалился в кабинет, чтобы в одиночестве прочитать письмо, княгиня заметила на полках немало русских книг, и даже совсем свежих – Державина, Фонвизина, Сумарокова. В простенке висел портрет покойной императрицы Елизаветы Петровны, крестной матери Екатерины Романовны – работы Каравакка, как показалось княгине.
Словом, все было как дома, и на душе у Екатерины Романовны потеплело. Она простила этому медведю д’Акевилю его небрежный прием и намеревалась пролистать «Досуги» шевалье д’Эона, которые заметила на полке, как в библиотеку вернулся взволнованный и удрученный хозяин.
– Скажите, княгиня, вы видели ее? – воскликнул этот французский невежа, и Дашкова, не понимавшая, о ком идет речь, удивленно переспросила:
– Кого ее, сударь?
– Лизу, – выпалил д’Акевиль, как будто княгиня могла знать, кто такая эта Лиза.
– О ком вы говорите, шевалье? – Изумление Екатерины Романовны росло.
– О великой княжне Елизавете, дочери покойной государыни и графа Алексея Разумовского, – уверенно ответил д’Акевиль.
– У императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского не было детей! – вне себя от удивления воскликнула Екатерина Романовна.
– Так вы ничего не знаете, княгиня? Граф Кирилл Григорьевич не посвятил вас в эту историю?
– Я не виделась с графом Кириллом Григорьевичем, сударь, – еле сдерживаясь, объяснила Екатерина Романовна, – и не знаю, о чем идет речь в этом письме. Мне передала его княгиня Хованская, урожденная Софья Дараган.
– Так, значит, вам ничего и не стоит знать… – отрезал д’Акевиль. – Прошу простить, что смутил ваше любопытство, княгиня.
– Намерены ли вы что-либо передать княгине Хованской? – сухо сказала Екатерина Романовна, вставая.
Д’Акевиль отрицательно покачал головой, и княгиня покинула негостеприимную усадьбу. Лишь в карете, на обратном пути в Париж, Екатерина Романовна поняла, о какой Лизе говорил д’Акевиль. Она вспомнила историю с итальянской авантюристкой, называвшей себя великой княжной Елизаветой, принцессой Азовской и Владимирской, которую привез в Петербург граф Алексей Орлов.
«Неужто правда? – подумала она. – Неужто эта побродяжка, о которой втайне от Екатерины Алексеевны перешептывались при дворе, – дочь покойной государыни? И что значит письмо, которое Сонечка попросила передать этому грубияну д’Акевилю? Быть может, в нем идет речь о великой княжне? И разве стал бы граф Кирилл Григорьевич печься об авантюристке? И где же теперь эта несчастная? В крепости? В монастыре? Кто знает…»
Княгиня Дашкова была женщиной недюжинного ума, но даже она не смогла разгадать загадку той, что называла себя великой княжной Елизаветой. Бесспорно, у покойной императрицы и графа Разумовского могла быть дочь, но при чем здесь неотесанный французский дворянчик, который так невежливо встретил Екатерину Романовну? И почему Сонечка Хованская просила передать письмо именно ему? На все эти вопросы княгиня Дашкова так и не нашла ответа.
Екатерина Романовна понимала, что единственным человеком, который мог разрешить ее сомнения, была императрица. Но судьбу итальянской авантюристки, называвшей себя великой княжной Елизаветой, Екатерина не стала бы ни с кем обсуждать. Фике никогда не касалась в разговоре спорных вопросов престолонаследия. Ни разу не произнесла она ни единого слова о шлиссельбургском узнике Иване Антоновиче, имевшем куда более неоспоримые права на русский престол. А великой княжны Елизаветы для Екатерины попросту не существовало.
Пока княгиня Дашкова тщетно пыталась разгадать загадку великой княжны Елизаветы, Жак д’Акевиль в который раз перечитывал письмо Лизы, привезенное Екатериной Романовной в подписанном княгиней Хованской конверте. И после каждого такого прочтения ему становилось все труднее дышать, а потом захотелось перестать существовать, навсегда исчезнуть, раствориться в едком тумане небытия… Слишком страшным и неожиданным оказался смысл этого сложенного вдвое листка бумаги.
«Брат мой любимый и друг нелицемерный! – писала Лиза, некогда называвшая его совсем по-другому, как велел голос страсти, а не предписания разума. – Сначала я хотела вернуться в мир, но потом поняла, что мое место в монастыре. Мой долг и моя земная чаша – отмолить грех деда и матери. А ты будь покоен и счастлив, вспоминай обо мне светло и радостно. Я же Господу о тебе молюсь ежечасно.
Сестра твоя, Лиза».
Жак не сразу понял, что это письмо поставило точку в их отношениях, которые должны были завершиться счастливым многоточием. А когда понял, то все потемнело у него перед глазами. Несколько минут он просидел в оцепенении. Он не ощущал резкой, сводящей с ума боли – лишь душевное и физическое оцепенение.
В состоянии такой душевной немоты и беспомощности Жак зашел в отцовский кабинет, снял со стены старое охотничье ружье и собирался было разрядить его себе в грудь, как вдруг ему показалось, что рядом стоит Лиза, и на лице ее застыла грустная, недоуменная и беспомощная улыбка. «Не делай этого…» – как будто говорили губы Лизы, а в глазах ее читалась такая тихая мольба, что д’Акевиль отбросил ружье в сторону. Как только он сделал это, видение исчезло, и Жак с ужасом и болью признался самому себе, что теперь ему предстоит жить по-прежнему, то есть в полном и бесцельном одиночестве.
«Лиза, Лиза, почему ты меня оставила? – в отчаянии повторял он. – Чем я был виноват перед тобой? Разве я мало любил? Разве не готов был следовать за тобой через всю Европу, меняя страны, как лошадей на почтовых станциях? Почему же ты так поступила со мной?»
На последний вопрос д’Акевиль так и не смог найти ответа. Жизнь перестала интересовать его, стала безвкусной, как выдохшееся вино, и скучной, как затянувшийся ужин.
Д’Акевиль не предпринимал больше попыток пересечь границу Российской империи и разыскать Елизавету. Он лишь «превратился в невежу и грубияна», как, вздыхая, говорили хорошенькие соседки, и почти не выезжал из поместья. Часами сидел в библиотеке, рассеянно перелистывая оставшиеся от матери русские книги, потом бродил по парку, но однажды во сне увидел Лизу, которая улыбалась светло и нежно, с не свойственной ей ранее душевной тишиной.
Тогда Жак успокоился, смирился, стал жить, как все окрестные дворяне – от карт к охоте и от охоты к картам. От одной случайной подруги к другой, и так годами, пока не грянула революция, и аристократ Жак д’Акевиль, лишившийся поместья и состояния, вынужден был бежать в Австрию, в Кобленц, где, за неимением других доходов, чуть было не стал карточным шулером.
В 1796-м умерла императрица Екатерина, и д’Акевиль наконец-то смог посетить в Россию. Ему не давало покоя одно воспоминание, шевелившееся на самом дне души – испуганное, потускневшее лицо Лизы, впервые осознавшей, что она превратилась в пленницу, ее слезы на адмиральском корабле – и их отчаянные попытки, несмотря ни на что, побыть вместе еще день, час или минуту.
Как же могла эта женщина, с такой страстью и нежностью приникавшая к нему там, на корабле, написать ровное, бесконечно спокойное письмо отречения, после которого он чуть было не покончил с собой?
Эта загадка не давала д’Акевилю покоя. Чтобы разрешить ее, он и приехал в Москву, к губернатору Ивану Васильевичу Гудовичу, женатому на Прасковье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана, и стал умолять о свидании с инокиней Досифеей.
Гудович благосклонно выслушал потрепанного жизнью французского дворянина, а его супруга, Прасковья Кирилловна, присутствовавшая при свидании, сочувственно охала и вздыхала. Д’Акевиль подумал, что госпожа Гудович, в девичестве Разумовская, приходится его Лизе двоюродной сестрой и, стало быть, обязательно поможет. Московский главнокомандующий рассказал, что после смерти государыни Екатерины к Досифее стали допускать посетителей, а гостя с рекомендательным письмом от самого губернатора допустят без церемоний и проволочек.
Пока д’Акевиля вели к Досифее, он робел, как мальчик на первом свидании, а когда увидел ее, то и вовсе потерял дар речи.
Досифея по-прежнему жила в крохотном домике, у покоев игуменьи, и в комнате ее, обставленной с незатейливой простотой, было все так же пусто и голо.
Перед французом стояла располневшая пятидесятилетняя женщина, все еще красивая, но с таким невозможным, нечеловеческим покоем в глазах, что д’Акевиль не смог вымолвить ни слова.
– Это же я, Лиза, – сказал он наконец, – это же я, Жак!
По лицу женщины пробежало легкое облачко, потом она крепко обняла его и перекрестила.
– Жак, – прошептала она, – брат мой милый!
– Брат? – изумился д’Акевиль. – Да какой же я тебе брат? Разве ты не помнишь флагманский корабль эскадры этого предателя Орлова и наш путь в Петербург?
Досифея овладела собой, и в глазах ее появилось прежнее невозмутимое спокойствие, и д’Акевилю показалось, что он смотрит не в глаза своей былой возлюбленной, а в озерную гладь.
– Помню, Яшенька, – ответила она, – как не помнить? Только иной путь у меня теперь и имя иное. И ты меня прежним именем не зови и прежних слов от меня не жди. Инокиня я теперь, Досифея.
Никогда еще д’Акевилю не было так тяжело – даже тогда, когда, получив прощальное письмо от Лизы, он попытался покончить с собой. Мертвое, страшное русское отчаяние овладело его легкомысленной французской душой. Он покачнулся, как будто был мертвецки пьян и не мог больше стоять на ногах, но Досифея подхватила своего былого друга и положила ему на плечи спокойные, властные руки.
– Ты не бойся, Яшенька, – говорила инокиня, и от каждого слова в душе д’Акевиля рассеивалась страшная, немая боль и становилось тепло и тихо. – Я всегда с тобой рядом буду, как и была. Во сне к тебе приходить буду, как мать к ребенку приходит. Ты только душой позови, и я приду. Позовешь?
– Позову, – ответил Жак и в последний раз взглянул в глаза своей былой возлюбленной.
Досифея улыбалась тихой, ангельской улыбкой, и д’Акевилю показалось, что она похожа на его мать, Анастасию Яковлевну.
– Благослови, матушка, – сказал он, – сына своего в дальнюю дорогу…
Досифея улыбнулась и перекрестила его, как мать крестит уезжающего из дома первенца. Тогда он судорожно приник к крестившей его руке…
Эпилог
4 февраля 1810 года в Ивановском монастыре отпевали старицу Досифею. Чин отпевания совершал епископ Августин Дмитровский. На отпевании присутствовала высшая московская знать, с которой некогда, благодаря своей жене Екатерине Ивановне Нарышкиной, породнился граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Из Петербурга ожидали императора Александра I, но он не приехал. Графа Разумовского на отпевании тоже не было – он раньше племянницы, еще в 1803-м, успел отойти в мир иной. Но зато присутствовала графиня Прасковья Кирилловна Гудович, в девичестве Разумовская, и ее супруг – московский главнокомандующий.
Согласно особому распоряжению императора Александра I, местом погребения для Досифеи был выбран Новоспасский монастырь с его родовой усыпальницей бояр Романовых. При жизни Досифея слыла святой, и у стен монастыря, где отпевали старицу, собралось немало простых москвичей, пожелавших проводить ее в последний путь.
Всех удивил старик-француз, подъехавший к стенам монастыря в собственной карете и упрямо дожидавшийся, пока вынесут гроб. На отпевание он не успел и теперь не отрывал взгляда от монастырских ворот, но видел, как и полагается в столь почтенном возрасте, плохо и чуть было не прождал впустую.
Кучер оказался более зорким, чем его престарелый подопечный, и, едва из ворот вынесли гроб, повернул карету к Новоспасскому монастырю. Когда гроб переносили в усыпальницу бояр Романовых, французский визитер протиснулся сквозь толпу и прикоснулся к восковой руке Досифеи, в которой словно навсегда застыл молитвенник.
– Говорят, перед смертью старице было видение? – спрашивал между тем московский купец Шепелев, про которого поговаривали, что он родственник наперсницы императрицы Елизаветы – графини Мавры Егоровны Шуваловой, в девичестве – Шепелевой, у новой келейницы старицы Досифеи, сменившей отошедшую в мир иной Пелагию.
– Было видение, – ответила та, – покойная государыня Елизавета Петровна к ней приходила. Сказала: «Отслужила ты свое, Лиза, чашу до дна выпила, пора и в дорогу собираться…»
– И что же старица? – переспросил купец.
– Собралась, батюшка, за один день собралась… – вздохнула келейница. – Отошла, как жила, светло да тихо.
– И ничего не сказала перед смертью? – вмешался в разговор протиснувшийся сквозь толпу старик-француз.
– Ничего не сказала, – еще тяжелее вздохнула келейница, – только брату своему названому медальон передать велела… Но где этот брат и кто он такой – сказать не успела.
Она показала Шепелеву изящный медальон на тонкой золотой цепочке, но так некстати вмешавшийся в разговор француз выхватил медальон из рук купца. Жак д’Акевиль с детства помнил это любимое украшение кузины Лизы и знал наверняка, чьи лица увидит, распахнув его створки. Так и случилось – рыжеволосая женщина с голубыми глазами и пухленьким личиком в детских ямочках, цесаревна Елизавета Петровна, улыбалась своему нелицемерному другу Алеше Разумовскому, и ничто в мире уже не могло разлучить их…