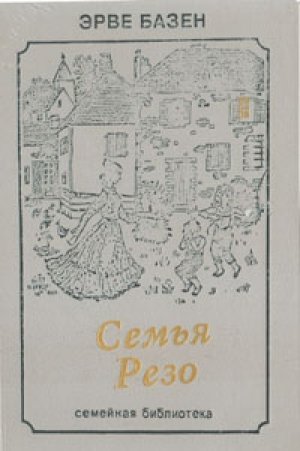
I
Нахлобучив берет на самый лоб, я вошел в кабинет. Фелисьен Ладур — родной брат торговца кроличьими шкурками, ставшего чуть ли не магнатом кожевенной промышленности, — Фелисьен Ладур рассматривал в лупу образчик распятого Христа. Поднеся муляж вплотную к своему единственному глазу, он вглядывался в него с такой страстью, словно молился. Весь стол завален был точно такими же муляжами. Но поскольку деревянных крестов еще не успели сделать, вся эта группа Иисусов, ждущих поклонения, имела почему-то не слишком мученический, а скорее уж спортивный вид. Я ждал, что они вот-вот начнут дружно выполнять различные приемы шведской гимнастики. Но Фелисьен Ладур, начисто лишенный воображения, вполне довольствовался ролью многоопытного и солидного директора «Сантимы», процветающей фирмы по изготовлению предметов религиозного культа, с которой мсье Резо, мой отец, и барон де Сель д'Озель, мой дядя, были связаны самыми благочестивыми интересами. В данный момент кривой, голосом куда более глубоким, чем его пустая глазная орбита, прикрытая моноклем из черной тафты, изрекал свои суждения насчет коммерческой ценности Иисусов.
— Испоганили! — ворчал он. — Взяли и испоганили! Да разве у этого бедняги страдальческий вид! А ноги… нет, вы только посмотрите на ноги! Разве такие ноги у распятых бывают? Это же балерина, а не Иисус Христос!
По другую сторону стола стоял начальник муляжного цеха, к его трагически поджатой нижней губе прилип окурок сигареты. Ладур спрятал лупу в карман, снова взял Иисуса, отодвинул подальше, приблизил к самому лицу, повернул влево, повернул вправо — сначала выпуклой, потом полой стороной, головой вниз, головой вверх, нахмурил левую бровь, затем нахмурил правую, нерешительно присвистнул, и вдруг его осенило:
— Нет и нет. Так дело де пойдет. Вот что! Давайте-ка пустим в серийное производство наш прежний номер пятьдесят три, только улучшенный. Хотите искупить вину, потрудитесь создать богоматерь нового образца. Сделайте мне такую богородицу, чтоб ее из рук рвали и в Лурде, и в Нотр-Дам-дю-Шен, и в Ла-Салет, и в Ченстохове[1]… Словом, так сказать, промежуточный тип! Понятно?
Тут только Ладур заметил меня.
— Да это, оказывается, вы, Хватай-Глотай! — воскликнул он и махнул рукой начальнику цеха, уходи, мол. — Подойдите сюда. Почему вы стоите на самом сквозняке? Боитесь скомпрометировать себя? Моя фирма гордится тем…
Он вдруг запнулся, поскреб пятерней кадык, скривил губы, как бы желая проглотить слово, уже давно изгнанное из его лексикона, и уточнил, бросив в мою сторону пронзительный взгляд циклопа:
— С давних времен ваше семейство гордится тем… Короче, оно вложило в наше дело кое-какой капитал и получает недурные дивиденды. Так что входите свободно и снимите ваш берет.
Честное слово, Ладур, Фелисьен Ладур, брат сыромятника, вовсе не думал насмехаться. Он смеялся самым простодушным образом. Нет, право же, от месяца к месяцу — я заметил это еще во время редких появлений Ладура в коллеже — он становился все более дородным, все менее осторожным. Взять хотя бы то, как он мне сказал: «А, это вы!» — словно обращался к кому-нибудь из своих служащих, которого только накануне отпустил небрежным «до свидания». Называл он меня просто Хватай-Глотай, хотя подобная фамильярность разрешалась лишь членам нашего семейства и была запрещена всем посторонним, особенно же посторонним низкого происхождения. Неужели за последние три года мир так изменился, что какой-то Ладур смеет обращаться со мной запанибрата? Никому ни в «Хвалебном», ни у иезуитов не удалось меня обучить смирению, каковое мой отец считал вежливостью мелкоты… или же гордынею святых. Само собой разумеется, Ровуа — наш классный наставник — предостерегал нас против новых веяний века и провидел, что от сыновей не слишком богатых родителей потребуется принятие мужественных решений. Но изрекал он все эти истины ровным голоском, совсем таким же, каким читал нам вечерами но пятницам слащавые нравоучительные книжки. Между двумя зевками он сообщал нам об опасностях мира сего с такой же малой убежденностью, с какой вдалбливал в наши головы вечные истины Священного писания, и, откровенно говоря, с тем же успехом. Получалось, что опасности мира сего и адские муки — это одно и то же: скучающая литература, сомнительная действительность. Но во всяком случае, декорум был соблюден. «Сударь, — кричал Ровуа, обращаясь к болтунам или курильщику, потихоньку выпускавшему дым в рукав, — сударь, вы заработаете двойку по поведению… а ежели будете продолжать вести себя как идиот, то схватите и единицу». Суровы иезуиты, но умеют соблюдать вежливость! Поэтому я легче бы снес сухой учтивый тон, чем беспардонную развязность. Я открыл было рот, намереваясь преподнести две-три дерзости торгашу, в сущности славному малому, которого мсье Резо, вернее, его супруга весьма легкомысленно выбрали мне в опекуны, но тут же, повинуясь какому-то сложному чувству, подавил свою досаду. Ведь наглость — это, так сказать, мерило уважения. Неужели же наша семья пришла в упадок? Как ни неприятно было бы лично для меня это обстоятельство, для моих родителей оно еще неприятнее. Я испытывал досаду, но, как ни странно, и внутреннее удовлетворение и, не зная, что сказать, только улыбнулся в ответ, но внезапно моя улыбка превратилась в гримасу. Сквозь стеклянную перегородку, отделявшую кабинет Ладура от конторы, я заметил мою кузину Эдит, надо признаться ничуть не изменившуюся, — с обычным своим видом «гаммоиграющей» барышни она в данную минуту терзала клавиатуру «ундервуда».
Ладур перехватил мой взгляд и даже не удивился моему удивлению.
— Да, — буркнул он, — я взял ее себе в секретарши. Только проку от нее мало. Но Торюры находятся сейчас в таком критическом положении, что пришлось уступить настойчивым просьбам барона де Сель д'Озель.
Еле заметное придыхание, так, пустячок, пресекло на секунду его голос, как бы в знак уважения к этому крупному состоянию, еще противоборствующему критическим обстоятельствам.
— Впрочем, я пользуюсь услугами и еще одного вашего родича, — продолжал Ладур, — Леона Резо, которого мне также рекомендовал ваш дядюшка. Приятнейший человек ваш дядюшка, но, между нами будь сказано, чересчур благоволит к родственникам. Не будь я постоянно начеку, он заполонил бы всю «Сантиму» членами вашего семейства, лишившимися ренты и не имеющими определенной профессии. Я не о Леоне говорю, на него как раз грех жаловаться: он у нас лучший коммивояжер, и я подумываю поручить ему управление нашим Миланским филиалом. У него, у этого мальчика, прирожденный талант к коммерции, открывшийся совершенно неожиданно — он ведь чуть было не поступил в духовную семинарию… Впрочем, он, так сказать, остался при том же товаре и с таким рвением торгует своим благочестивым набором, что сумел привлечь клиентуру… Но кажется, Хватай-Глотай, мои слова вас шокируют?
Фелисьен Ладур ничуть меня не шокировал: он меня раздражал. Не люблю тех, кто лишен чувства благодарности, не люблю эту манеру высмеивать людей и вещи, которые тебя же кормят, особенно если субъект, повинный в подобных грехах, не может сослаться в свое оправдание на то, что снисходительная ирония является наследственной чертой его характера. Ирония терпима лишь в малых дозах, как перец. Но куда больше ошеломил меня тот переворот, о котором никто не заикался и который в рекордно короткий срок в корне изменил дух нашего семейства, заставив откинуть свои вековые предрассудки и обратив его представителей в новую житейскую политику. Ведь сам барон де Сель д'Озель в одно из своих посещений «Хвалебного» заявил моему отцу:
— Положение нашей сестры трагично, не спорю. Но, по мне, уж лучше пусть погибает с голоду, чем идет в гувернантки. Лучше вообще не помогать родственникам, чем помогать им опроститься.
И что ж! Этот кремень, этот несговорчивый барон сажает родную племянницу за пишущую машинку, сует в руки родного племянника чемоданчик коммивояжера! Святые отцы, не устававшие твердить нам, что их дело — грехи пресечь, а при случае и нас посечь, святые отцы не раз, повторяю, рассказывали нам о кризисе, но с такой сладостной, с такой христианнейшей улыбкой, столь незначительным казался он в их устах, что я и вообразить себе не мог, какие он принес катастрофы. До наших барабанных перепонок, оглушенных наставлениями, полагающимися при «благочестивом воспитании», уже не доходил громкий треск рушившихся бюджетов и шарканье целого легиона девиц из буржуазных семей, шествующих в конторы по найму (или по меньшей мере приобщаемых к различным семейным делам). Пока я пытался примирить в душе глухую досаду и странное ощущение какого-то сообщничества, даже реванша, Ладур веско проговорил:
— Я, понятно, шучу, но ваш кузен был совершенно прав, как, впрочем, прав и ваш батюшка… Да-с, ваше семейство не без скрежета зубовного решилось подчиниться духу времени. Как сейчас помню слова мсье Резо: «Кто же из нас после знаменитого Законодательства о наследстве[2] рискнет занять должность в суде?» И представьте, рискнул, да еще с какой радостью ухватился за пост товарища прокурора третьего разряда. Судя по его последнему письму, он весьма огорчен, что по скромности дал себя упечь в Гваделупу, а не добился назначения в Анже или в Сегре — другими словами, где-нибудь поближе к «Хвалебному», как он поначалу рассчитывал. Конечно, сейчас он получает повышенный колониальный оклад… Известно мне также, что у вашей матушки были свои личные мотивы… Вы, кажется, что-то сказали?
Я ровно ничего не сказал. Совсем напротив: я слегка сжал зубы.
— Но сейчас, надо полагать, все утряслось. Вы уже не дети. Кстати, а у нее и на самом деле такой крутой нрав, как говорят? Тут мне ваши родственники столько наговорили, что просто не верится.
— Любопытно, — пробормотал я, — что же они могли вам рассказать? Когда в кругу родственников появлялась моя матушка, никто не смел и слова пикнуть.
Вдруг Ладур вытянул шею и удостоил меня пристальным взглядом своего единственного глаза, более способного угадывать недомолвки покупателей, нежели порывы замкнутого сердца.
Взгляд его лишь царапнул меня, но не проник глубже. Тут огромная голова медленно ввинтилась в шею, плохо выбритые щеки подпрыгнули и прикрыли полоску полотняного воротничка 43-го размера. Веко опустилось, и хозяин «Сантимы», даже не догадываясь, чем вызван мой ответ, заговорил самым непринужденным тоном:
— Так я и думал. Люди вечно преувеличивают. Характер вашей матушки вполне объясняется перенесенными ею операциями. Больную пожалеть надо…
Жалеть? Я-то знал, что та, кого советовали мне пожалеть, не потерпела бы этого глагола. Впрочем, именно по этой причине я поспешил согласиться с Ладуром, убежденно кивнув головой.
— Ну и слава богу, — подхватил Ладур, которому мсье Резо, несомненно, поручил прощупать почву. — Надеюсь, что Рохля — ваш старший брат придерживается того же мнения. А младший… Марк, кажется, или Марсель… словом, тот, кого вы зовете Кропеттом…
— Марсель, — поспешил уточнить я, желая подчеркнуть, насколько противно мне слышать из уст Ладура мое собственное прозвище. — Марсель мне не пишет, Фред тоже, так что не знаю, что они думают и чувствуют с того самого времени, когда по неизвестным причинам…
Пауза, которая должна поставить под сомнение эпитет «неизвестный».
— …когда по неизвестным причинам нас взяли из коллежа Сент-Круа и рассовали по разным коллежам. Фред — в Нанте. Его опекает тетя Бартоломи. Марсель учится в Комбре, но, говорят, на последние каникулы его, в награду за успехи, вызвали в Гваделупу, и он поступил в лицей в Бас-Тере. Впрочем, я им обоим не завидую.
«Ибо заботы обо мне были поручены вам, — говорило мое молчание. — Под тем, мол, предлогом, что никого другого в Анже не могут подобрать на роль моего опекуна, а на самом деле — чтобы побольнее уязвить меня, потому что вы мне чужой человек и, что еще хуже, малоблистательный Ладур. А ведь если хорошенько разобраться, этот выбор не так уж для меня невыгоден. Хоть ты… (снисходительная гримаска) хоть ты чересчур Ладур, но ты славный дядька и не особенно приставал ко мне со своими советами».
— Ху-мф! — выдохнул наш компаньон, выразив этим присущим лишь одному ему звуком своеобразное грубоватое удовлетворение. — Я сделал все, что мог… То есть нет… Я намеревался брать вас к себе регулярно, но мне даны были соответствующие распоряжения… Так или иначе, такое положение не может длиться вечно. Ваш батюшка плохо переносит климат колонии. Он в отчаянии: дом брошен на попечение старухи Фины, теперь почти полной калеки, научные изыскания прерваны, сыновья бог знает где и достигли возраста, когда пора выбирать себе поприще и устраивать жизнь…
— …коллекция мух гибнет, — вставил я жалобным тоном, прозвучавшим вполне натурально.
Карьера… Устроить свою жизнь… Теперь все понятно… Не может же в самом деле наша матушка предоставить нас и впредь ненадежному контролю и капризам нашего вдохновения, которое, как известно, диктуется чувствами.
Уж давно бы ей пора вернуться из своего изгнания, покинуть «свою Эльбу».
— Когда она возвращается? — спросил я уже другим тоном, пожалуй чересчур бодрым, чересчур наигранным, — так больной осведомляется у хирурга, на какой день назначена операция.
— Не раньше чем через несколько месяцев. Ваш батюшка должен добиться перевода. В Анже просится слишком много кандидатов.
Ладур повторил свое «хумф». Ничего, кроме распоряжений, продиктованных в последней телеграмме, он сообщить мне не мог. А что будет со мной до их приезда? Ладур растерянно потирал свои отвислые щеки. Наконец решился.
— Простите меня, — медленно пророкотал он, — я еще не успел поздравить вас с успешным окончанием коллежа. Правда и то, что вы не ввели меня в курс дела. Но мне звонил ваш директор. Он считает, что, раз вы уже бакалавр, вам нет смысла сидеть в коллеже во время каникул… Но никаких распоряжений я на ваш счет не получал и, как видите, нахожусь в недоумении. Учитывая все эти обстоятельства, я под свою ответственность решил отправить вас на побережье, в Морбиан. У нас возле Дамгана есть вилла. Жена и дети проводят там все лето. В октябре… Думаю, что вам придется поступить на юридический факультет Католического университета. Таково желание вашего батюшки. Мне ваши вкусы неизвестны, но я предпочитаю, чтобы вы сами уладили этот вопрос с родителями, если это почему-либо еще не сделано.
На мой взгляд, ничего еще не было сделано. Мсье Резо посылал мне все те же неизменные десять строк раз в месяц: «Я вполне удовлетворен твоими отметками, но по-прежнему огорчен плохим поведением. Мое здоровье не улучшилось. Позавчера я нашел интереснейший экземпляр Egerena americana. Фердинан и Марсель чувствуют себя хорошо. Целуем тебя». (Ни разу это «целуем» не было скреплено материнской подписью, так что я успел основательно позабыть изящество ее клинописи.) А тремя месяцами раньше мсье Резо, любезно намекая на уже принятое решение, удостоил меня следующим постскриптумом: «Фред не попал в Морское училище и будет учиться в Гидротехническом. Марсель, сдав экзамены на бакалавра, будет готовиться в Политехнический институт в Сент-Женевьеве. Если ты успешно закончишь второе полугодие, то мы (вот на сей раз „мы“ действительно было собирательным) снимем тебе комнату в интернате юридического факультета Католического университета, где, как известно, я состою почетным профессором».
— Хотите повидаться с кузиной? Осмотреть фабрику?
Упершись ладонями в край стола, Ладур приподнял со стула свои сто килограммов. Тут только я заметил, что у него под пиджаком серенький жилет. Вязаный жилет, восемь крошечных пуговок, и все застегнуты. Умилительный жилет, чуточку глуповатый, как и все, что подчеркивает в туалете мужа неусыпные заботы жены… Жилет, превращавший это директорское чрево в чрево отца семейства.
II
Я из тех, кто близок только с самим собой.
Как вам известно, матери у меня не было, была только Психимора. Но умолчим об этом ужасном прозвище, от которого мы уже отвыкли, и лучше скажем так: у меня не было настоящей семьи, и ненависть для меня стала тем, чем для других любовь. Ненависть? Так ли это? Скажем лучше: я знаю мальчугана, знаю подростка, который, как никто, умел играть в черную меланхолию в те годы, когда детям положено читать «Розовую библиотеку»[3]. Дети не выбирают тех игр, которые им навязывают; только играют они с большим или меньшим увлечением.
В восемнадцать лет я по-прежнему близок только с самим собой: иной близости и не может знать бунтарь. В течение семи лет мои родные были для меня лишь сотрапезниками, разделенными на два враждующих клана. Во время нашей разлуки, за годы учения в коллеже, я, понятно, имел немало случаев завоевать чью-либо симпатию, но отнюдь не дружбу. Учителя, надзиратели, одноклассники — все они уходят, сменяются, исчезают, когда этого никак не ждешь. Иногда успеваешь их узнать, иногда успеваешь их возненавидеть и редко успеваешь к ним привязаться. Кроме того, в религиозных учебных заведениях на дружбу обычно смотрят косо, как на нечто двусмысленное. Только раз, уже в классе риторики, я сдружился с неким Кириллом, сыном русского колониста, проживавшего на Мадагаскаре. Мы с ним да еще пять-шесть учеников делили вместе незавидную участь торчать летние каникулы в интернате. Его скорбь, пленительно-русая, тронула меня. Но по окончании каникул меня вернули в старшие классы, а его в средние. Через служителя он прислал мне четыре записочки, но пятую перехватил надзиратель, следивший за дисциплиной, и, заподозрив мерзости, упрятал Кирилла в карцер, долго его допрашивал, стараясь установить, какие именно знаки внимания я ему оказывал. Эта история бросила на меня тень и стоила мне сомнительной привилегии спать рядом с альковом надзирателя. Кроме того, юные одиночки стали меня сторониться.
Я не особенно от этого страдал: так уж устроено мое сердце, оно мало подходит для функции сообщающихся сосудов. Я даже не протестовал. Конечно, никогда я не был лилией, снежно-белой лилией, которая прямо, как стрела, выходит из луковицы, подобно тем, что держит в руках святой Иосиф — крашеный гипс, номер 196-й каталога «Сантимы». Но я ненавижу пай-мальчиков, для меня они как фальшивая монета, и немалая ирония была в том, что за мной укрепилась подобная репутация среди целого полчища извращенных молокососов, каждое воскресенье исповедовавшихся в своем грехе. Конечно, у меня были прегрешения, но хоть неподдельные. В тех редких случаях, когда мне удавалось выбраться за ограду коллежа с несколькими монетами в кармане, я несся на улицу Шартр, где разгуливали дородные бретонки. В то же время у меня был свой «головной роман»: я хочу сказать, серия нескончаемых, хорошо построенных, хорошо слаженных, логично развивавшихся грез, вроде тех фильмов, в конце которых чудом воскресает пулеустойчивый герой. Именно по этой причине я мог в течение длительного времени пренебрегать чтением, которое является плодом чужого воображения. Какой роман мог соперничать с моим, с тем, который я рассказывал сам себе, своим языком, и где я был одновременно автором и главным действующим лицом? Поначалу это была настоящая эпопея в жанре «Приключений парижского мальчишки» (и прямо соответствовала моим географическим познаниям). Впоследствии издательство моих грез несколько видоизменило сюжет. Я сотворил из собственных ребер не одну, а целую серию не особенно опрятных Ев. Все они назывались родовым именем Магдалина, отнюдь не по причине профессиональной репутации этой святой, а в память о подлинной Мадлен, юной скотнице, которую я в возрасте пятнадцати лет удостоил несколькими небезынтересными встречами в лесах «Хвалебного». Скажу к своей чести: ни разу Магдалины не довели меня до того, что социологи поэтически именуют «рукоблудием в честь суккубы». Впрочем, Магдалины, опять-таки во мне самом, находили свою противоположность — Жанну, то есть существо неприкосновенное, высокочтимая женская ипостась меня самого.
Жанна, Магдалина… извечные темы, не слишком-то оригинальные, которые не смешиваются между собой, как рыбий жир и святая вода.
Во всем я был, таким образом, манихеем[4]. Белое и черное. Я против себя самого. Фикция, разумеется, и комедия! Забавы одинокого мальчишки, который упустил случай стать интересным в глазах своих «врагов» и который старается стать интересным в своих собственных глазах. Но в равной мере и природная склонность разделять надвое все двойственное, видеть в любой паре не общность, а поединок, превращать жизнь в рукопашную, и при необходимости правая рука — против левой, сам — против себя самого. Лицемерие противоположностей, неустойчивое равновесие на манер весов — где нетрудно обвесить, ворон и голубка, цинизм и чистота — все это на одном насесте, злобно, клюв к клюву. В самом себе я обнаруживаю наиболее веский аргумент против той философии, кстати еретической, которая изображает человека якобы добрым от природы.
Говоря так, я не хвастаю, я просто знаю. На меня нашел стих исповедаться, хотя я давным-давно забыл дорогу, что ведет к окошечку исповедальни в самом темном углу храма, которое открывает подагрический духовник. Не такой уж я любитель откровенностей, но бывает, что мне нравится вывернуть себя наизнанку, и в этом я иду в ногу со своим веком. Я ничуть не презираю сложности. Я вовсе не прост. Я всегда считал, что простота (и наш век придерживается того же мнения) — ближайшая родня нищете духа… Блаженны нищие духом — фу, гадость какая! Никто еще не давал обета стать нищим духом. Единственно непереносимое из четырех бедствий, которые делают человека нищим духом, нищим деньгами, нищим телом или нищим сердцем.
Нищий сердцем… вот она, подлинная, самая страшная нищета. Страшная потому, что самая упорная: с помощью воли можно развить дух, разбогатеть, холить свое тело. Но воля бессильна против нищеты чувств, особенно когда эта нищета наследственная.
Я думаю о трех наследничках. Думаю о моем брате Фреде, по кличке Рохля, думаю об этой жалкой свинцовой натуре, которую расплавили и вылили в изложницу апатии, где он и застыл раз навсегда. О Марселе, по кличке Кропетт, медлительном и скрытном, бледнолицем любимчике мамаши. Об этом горлопане Хватай-Глотай, который якобы избрал бунт.
Какой бунт? Тот, что пробегает по вашей жизни, как огонь по бикфордову шнуру, и умеет воспламенять лишь безрассудные выходки да жалкие трескучие петарды? Или тот, что губит одновременно и самого взрывника, и то, что он взрывает? Или тот, что обуздывает себя и становится лучшим пособником справедливости? Ведь бунтуют не только против определенных людей, но против всех, кто на них похож, против идей, которые они исповедуют. Бунт не будет настоящим, пока человек не прекратит бунтовать за свой страх и риск и особенно если он не бунтует против себя самого. Но тут уж, как говорится, бунт становится революцией.
III
Стоявшая между «Кер-Флерет» и «7-А-С» — между двумя гнусными халупами вилла Ладуров красноречиво свидетельствовала об известном наличии вкуса у ее владельцев. «Армерия» — гласила эмалированная дощечка. Сотня квадратных метров садика, и ни одного полагающегося в таких случаях куста, зато блекло-розовый кирпичный фасад вполне гармонировал с местной лазурью, с этой лавандовой дымкой в белых разрывах, с приглушенной охрой утеса, круто спускавшегося к бухточке Кервуаяль, с этой смесью серо-ржавых и серо-влажных тонов — словом, с картиной типичного бретонского пляжа в часы отлива. Шесть настежь раскрытых окон вдыхали сухопутный ветерок, который неспешной рысцой набегал из дальних Ланвойских ланд[5], где, по слухам, нашла себе приют последняя пара волков.
Двадцать четвертого июля 1933 года я, жадно принюхиваясь и весь ощетинясь, предстал перед вратами овчарни, как настоящий волчонок. С полдюжины купальных трусиков сохло на кольях распахнутой калитки. Я разглядел медный колокольчик, позеленевший от времени, но он висел слишком высоко, а шнурка не было. Однако я вскарабкался на чемодан и попытался дотянуться до колокольчика, он издал неопределенное жиденькое звяканье, столь же нерешительное, как и я сам. И сразу же во всех шести окнах показались голые руки, завитушки волос и веселые улыбки.
— Вход свободный! — крикнул чей-то пронзительный голос, голос чайки.
Я не успел пересечь сада, где сохли сети для ловли креветок. На полпути к крыльцу меня затянуло водоворотом юбок, в основном из пестрой шотландки; волей-неволей пришлось остановиться, и я неловко топтался среди садового гравия и восклицаний, явно смущенный этой слишком экспансивной встречей, чрезмерным количеством рук, протянутых ко мне, словно пальмовые ветви при въезде Иисуса Христа в Иерусалим. В довершение всего юноша — на голове у него было накручено величественным тюрбаном мохнатое полотенце — встал передо мной и на манер кудахтающей курицы испустил торжественный призывный крик, крик клана: «Цып, цып! Цып!» Достойный отпрыск семейства, которое все подвергает осмеянию, я не удержался и нахмурил брови. «Ничего, симпатичный, немножко глуповатый, типичный скорняжный выводок». Я слегка пожал наугад две-три руки побольше размером и отвесил такое же количество поклонов. Затем с достоинством пробормотал:
— Мадемуазель… Мсье… Я Жан Резо. Имею честь…
— О-ля-ля! — хихикнул юноша, а девицы, озадаченные подобными церемониями, совсем «завыкали» меня, прочирикивая это «вы» между двумя взрывами смеха.
— Надеюсь, вы удостоите нас чести, надеюсь, вы соблаговолите войти в наш дом! — сказала одна из них, склоняясь передо мной в низком поклоне и взмахивая своей рыжей гривой.
Моя гордыня рухнула в бездну смущения. Напыжившись, как индюк среди изящных цесарок, и потрясая в их честь красным махром, я шагнул к крыльцу. У тебя идиотский вид. Надо приноровиться к ним, просюсюкал живший во мне великий филантроп. На мое счастье, юноша в тюрбане положил конец этой сцене.
— Ваше светлейшее высочество, не следует плевать на весь божий свет. «Ты» — здесь закон. Барышни, выстройтесь по возрасту в ряд… Я лично Самуэль, самый старший, двадцать лет, готовлюсь на агрономический факультет. Вот это Мишель, проще Мику, девятнадцать лет, а эта растрепа Сюзанна — семнадцать лет. Эту сосульку зовут Сесиль — ей пятнадцать с половиной. Подчеркиваю, с половиной. Сейчас переходим к категории малолетних: Жаклина — одиннадцать лет, Роза — шесть и Мадлена — два. Пока все…
— И этого вполне хватит! — раздался новый голос.
Это явилась мадам Ладур… Явление не бог весть какое величественное, укутанное в лиловатый посекшийся халат, в шлепанцах на босу ногу и увенчанное ореолом алюминиевых бигуди. Она шла на меня не торопясь — руки на животе, живот — на ляжках. То же самое солнце, что сушило сети, высекало жалкие искорки из крошечного бриллиантика, из смехотворного бриллиантика, объявлявшего всем и каждому, что до замужества, до своей помолвки, хозяйка «Армерии» была портнихой. Но она властно схватила меня за плечи, привлекла к себе, звучно чмокнула, взяла за подбородок двумя пальцами — большим и указательным, — повернула мою голову сначала направо, потом налево, долго всматривалась в мое лицо и наконец изрекла:
— Вид у юного бакалавра не ахти какой! Держу пари, что у тебя железки распухли.
Она ощупала мне шею и обнаружила железки. Левое ее веко судорожно дернулось, как бы желая скрыть огонек, на мгновение зажегшийся в ее глазах. Зато правое веко прикрыло удивленный глаз, сразу подметивший мое смущение, для нее непонятное и без колебаний отнесенное на счет моей застенчивости. Застенчивости!.. Об этом ясно свидетельствовала ее улыбка, ее улыбка, доводившая меня до бешенства, и я впился ногтями в ладони, сразу взмокшие при мысли, что Фелисьен Ладур отправил меня на какую-то другую планету.
— В общем-то у нас неплохо, — продолжала толстуха. — Запомни, ты обязан прибавить не меньше двух кило! Это моя норма. Можешь называть меня «тетя». Это будет очень мило. Я ужасная наседка.
— Цып! Цып! Цып! — вторично уточнил Самуэль.
Эти Ладуры меня ошарашили. Кто же они на самом деле? Простаки? Лицемеры? Святые? Слабые люди? Уж не шла ли здесь речь о том, чтобы с помощью назиданий и квиетизма[6] соблазнить одного из членов семейства Резо, известных поборников янсенистской ереси[7]? Как могут эти люди, которые внешне всегда согласны между собой, а если не согласны, то лишь по пустякам, как могут они не надоесть друг другу? Как это они все-таки ухитряются заполнять дом своими криками? Ведь их близость содержала и соль и сахар. У Ладуров все время целовались, и целовались взасос. Зато немало и ссорились: просто словесный пинг-понг, короткий обмен целлулоидовыми шариками перебранки.
Напрасно я наблюдал за этими ссорами, которые пугались первой же слезы совсем так, как пугается фанфарон первой капли дождя. Поскольку у всех у них были, очевидно, глаза на мокром месте, досада заменяла им гнев, и, без сомнения, только словарь Ларусса мог просветить их относительно точного смысла слова «ярость», ключевого слова моего отрочества.
К концу недели я вынужден был признать: все Ладуры связаны друг с другом, как связывают букетик фиалок шнурочком из рафии, и больше всего они дорожат именно этим шнурочком. Что же касается самих фиалок, то они бледноваты, не особенно пахучи и не всегда хочется их нюхать. Правда и то, что в семействе Резо наиболее чувствительным органом был нос. У нас носы посажены слишком высоко, как у короля Ферранте, и поэтому нас так легко тревожит чужой запах.
Но недели через три во мне шевельнулась симпатия, медленная, тяжеловесная, неуверенная, с оглядкой: нельзя так вдруг сразу принять новый образ жизни. Тот, что мне предлагали здесь, был в моих глазах чуточку приторным. В восемнадцать лет меня начали обучать детству, тому детству, которого я никогда не знал и которое я с давних пор считал как бы убожеством, слабостью, беззащитностью против родительской десницы. В восемнадцать лет меня обучали игре. Игре! Игре, неразрывно связанной в моей памяти с приказом: «Идите поиграйте! Сегодня вы будете чистить мостовую аллею!» Что игра тому, кто не только не познал радостной бескорыстности движения, но для кого прямой смысл движения — защита, оборона? Кому придет в голову просить воина поиграть в солдатики? Разве не равносилен падению скачок из реальности в видимость? (Я тогда еще не знал, что видимость сплошь и рядом — надежное лекарство от реальности.) «Эх ты, безгубый!» — кричал мне Самуэль, видя, как я морщусь во время игры в «города». Именно безгубый, до того плотно поджимал я губы, снисходя к игрокам. Аппетит к удовольствиям дается при рождении. На фоне этих плотоядных весельчаков я выглядел вегетарианцем.
— Итака, Йорк, Итон…
— И твой брат! Сесиль, вычеркивай! Самуэль уже назвал.
— Эфес, Эфраим…
— Это племя, а не город, — визжала Сюзанна.
Я вмешивался холодно и поучительно:
— Больше того, племя доброго самаритянина. Вычеркивай, Сесиль!
Колебание разрушило все чары. И вот уже играющие вертятся на стуле, обтягивают юбочки, поправляют галстучки.
Что может быть хуже одного скучающего, который заражает всех насморком скуки, а ведь у меня самого от скуки вечно скулы сводило! Не очень-то весело с этим названым двоюродным братцем. Удастся ли его цивилизовать?
К концу месяца я наконец-то сумел приноровиться. По крайней мере я верил в это, и мне удалось уверить в этом Ладуров. Даже задавал тон. Я первым прыгал в холодную воду, первым бежал на соседнюю ферму, первым шел на приступ дюны. Как и подобает «своему парню», я сбивал майонез, мастерил удочки для ловли камбалы, копал червей, орал «Болотницу», укладываясь вечером рядом с Самуэлем, а девочки за перегородкой подхватывали припев; спал как убитый, убитый собственным здоровьем, обжирался свежим хлебом, свежим хлебом их непосредственности. Их хлебом, а не моим… По правде сказать, я не стал ни более разговорчивым, ни более живым; я довольствовался механической жизнерадостностью.
Я радовался исступленно, не понимая, что от этого в кратчайший срок иссякнет и сила, и источник радости.
— Бедный мальчик старается наверстать упущенное, — кудахтала мать-наседка своему супругу, который предоставил себе недельный отпуск и теперь, огромный, обросший рыжей щетиной, загромождал собой весь пляж, то и дело подтягивая трусы, сползавшие ниже его узловатого пупка.
— Не лезьте вы к нему, — ворчал одноглазый.
— О, мой друг…
Ладур был прав. Бывали минуты, когда, не выдержав больше их забот, я задыхался. «Где ты?», «О чем задумался?», «Что-то наш бакалавр не прибавляет в весе…», «Я свяжу тебе пуловер…», «А я свяжу тебе фуфайку…», «Иди сюда, я тебя сфотографирую…», «Знаешь, мы теперь тебя не отпустим…», «Ты должен написать братьям…», «А твоя мама, скажи, правда, что твоя мама…»
Правдой было то, что мне хотелось подышать в одиночестве. Некогда в «Хвалебном» я отправлялся за глотком кислорода на вершину своего тиса: на этой вышине, опасной и живительной, воздух был не такой, как везде. Дважды меня внезапно охватывало желание бросить их и бежать куда глаза глядят. Первая моя вылазка прошла незамеченной. Но вторая, которая продлилась от полудня до вечера в песках, покрытых морскими водорослями, лежащих за Пандером, привела весь Кервуаяль в ужас. Когда я появился у подножия утеса, все Ладуры посыпались вниз по крутой тропинке, ощупывали меня руками, глазами, голосом…
— Что стряслось? Как ты нас напугал… Мама с ума сходит.
Я промолчал: хорош бы я был со своими объяснениями. Выдумал какую-то историю: случайно заснул у подножия скалы на теплом песочке. Девочки вполне удовольствовались этой версией. Самуэль незаметно улыбнулся, вообразив, что здесь пахнет приключением, а более проницательная «тетя» шепнула мне на ухо:
— Ух ты, звереныш! Просто хотел от нас отдохнуть.
Фелисьен Ладур тоже не сделал мне ни одного упрека. Он дождался, когда мы остались вдвоем, и сказал своим обычным ворчливым тоном, который я уже научился ценить:
— Когда тебе придет охота побродить одному, предупреди тетю. Тогда она не будет волноваться… Нет, нет, молчи, я тебя отлично понимаю. Ты пропах затхлостью, ты из тех, кого опасно проветривать слишком быстро… Время от времени уходи, отдышись в сторонке. И не надо слишком прирастать к нашему семейству. Не век же мы будем жить бок о бок. Все, что мы можем тебе предложить — и, думаю, это не такой уж пустяк, — это своего рода сокообмен…
Торговец идолами, неужели же ты также и торговец идеями? Мне не претит более твоя влажная улыбка, растягивающаяся наподобие улитки.
— Со временем ты, возможно, поймешь, какая сейчас тебе выпала удача. Я не люблю громких слов, это не в духе нашего дома. Но ты сам знаешь, что написано на цоколе нашего № 144, на этом ужасном Иоанне Крестителе, предназначенном для сельских церквей: «Возлюбите друг друга». Скажешь, вот, мол, дурак? Но, видишь ли…
Тут, толстяк, твой голос дрогнет:
— Это наша небольшая роскошь. И мы ею дорожим. Вовсе ты не обязан копировать наши манеры, важно, чтобы ты проникся атмосферой дома.
Прошло два месяца, и мои вылазки больше не повторялись. Так уж я устроен: если мне разрешают искать приключений, они теряют для меня всякую прелесть. Тем более что я проходил курс лечения, единственно подходящий для юных отшельников.
И в самом деле, пришло время поговорить о другой стороне моих каникул: о моем вторжении в гинекей. Эти гладкие руки, голые ноги, которые то вдруг скрещиваются под коротенькой юбочкой, то принимают нормальное положение, эти луковицы гиацинтов, подымающие блузку, на все это я смотрел с восхищением и отнюдь не исподтишка. Я трепетал перед этой вечной женственностью чистюль и тряпичниц… Волчонок почуял ярочек. В силу какой аберрации осмотрительный Ладур сам пустил меня в свой дом к ягняткам? Приютив меня на три месяца, уж не таил ли он задней мысли пристроить меня навсегда? Но вероятнее другое — мои восемнадцать лет были мне порукой. А также и моя диковатость, которую он неизменно приписывал застенчивости.
Его супруга, при всех своих сверхчувствительных щупальцах, в этой области полностью лишалась дара прозорливости. Если и существует знаменитое состояние материнской благодати, оно не переступает границу самого материнства: благодать эта сменяется святым неведением или, вернее сказать, полнейшим забвением, хотя матери сами в свое время видели, как их сверстники-мальчики мямлят, отводят глаза, нервно перебирают пальцами, зато дочки с первого взгляда разгадывают тайный смысл такого странного поведения.
Честь и хвала этим дамам: я весьма их уважаю за смелость, за искреннее убеждение в том, что они полны благодати. Разумеется, я вправе судить об этом, но верность суждения рождается в споре с тем, что над тобой властвует, и даже с тем, что тебе мило… или ненавистно. Ну, малютки, кто же начнет? Мишель, Сюзанна или Сесиль? Приятно округлые, вы все до одной на первый взгляд вполне годитесь. Если же я не гожусь вам — это уже вопрос второстепенный; насчет этого тоже можно еще поспорить или даже повздорить. Самое тревожное тут, что, по всей очевидности, вы отнюдь не Магдалины, но столь же очевидно, что вы и не Дианы. Как бы то ни было, можно рискнуть, хотя бы ради чисто спортивного интереса, чтобы испытать свои чары… Чары Резо, в которых нет ничего чарующего, чары, которые вскармливают змею.
Добрая старая философия, добрые старые символы, мы обнаруживаем их здесь, искрящихся лукавством и мечущих свои угрозы посреди ваших радостей. Помнишь, Психимора, помнишь, мамочка, то время, когда я умел оскорблять тебя одним-единственным взглядом, целящим в твои зрачки? Мы звали это «перестрелкой». Но тут иная перестрелка, почти что невинная и куда более легкая!
Под моим пристальным взглядом барышни чувствовали — я это подмечал — легкий трепет, равносильный у девиц первому нечистому помыслу. Понятно, они не собирались окунуться в первую попавшуюся эмоцию, они ничуть не напоминали в этом отношении иву, но, хотя двадцатью пятью процентами своего существа были романтичны, как и положено девственницам, они-то знали, чем обязаны сентиментальным романам Дели, женским иллюстрированным журналам и эпилогам американских фильмов. Я их заинтриговал. А значит, заинтересовал. Вот и все. Ни малейшего кокетства с их стороны, никаких уловок. У нас, то есть у них и у меня, были слишком тяжелые веки. Ничего не происходило. Ничто не вытанцовывалось. Но все, что говорилось нами, звучало уже не по-прежнему, отдавало иным звоном. Друзья, безусловно. Хотя бы через силу.
Разумеется, у меня имелась избранница. И конечно, старшая из сестер. Когда очень молодому человеку приходится выбирать среди нескольких девушек (что бывает не часто), он обычно склоняется к самой старшей. Таким способом ему как бы удается повзрослеть, доказать себе свою мужскую зрелость, в отличие от стариков, которые пытаются сорвать бутончик помоложе — не по испорченности, а лишь в надежде помолодеть в собственных глазах. Поэтому Мику открыла собою список. Не более того. Во всяком случае, когда мои намерения определились, ни Сюзанна, ни Сесиль не были окончательно вычеркнуты из списка, а только переведены в резерв. Я не шучу. Еще долго я буду распоряжаться чужой судьбой, любые обязательства перед другими я сочту как бы изменой возможному, моему возможному, и, какие бы обязательства я сам, кроме того, ни взял, ими, на мой взгляд, будут связаны лишь те, кто может ими воспользоваться к своей выгоде. Недаром же я отпрыск буржуазии: пусть все прочие довольствуются нашими объедками — идет ли речь о женщинах, о землях или о деньгах.
Но тсс! Не повторяйте моих слов: это важнейшее чувство клана, чувство, от которого отделываются с трудом даже перебежчики, это чувство наименее официальное, наиболее затаенное; есть даже десятки учреждений, которые и существуют лишь для того, чтобы помешать вам в это верить; и они распределяют наши объедки, что именуется благотворительностью.
Итак, повторяю, у меня была избранница. Сюзанна, ей-богу же, вечно была растрепана! Веснушки, резкий, как у чайки, голос, большие ноги несколько ее портили. Притом ничуть не задорная, а только колючая, как каштан, вся в скорлупе — словом, одна из тех девиц, которые становятся аппетитными только будучи испечены, я хочу сказать: влюблены. А длинная и вялая Сесиль — она была и впрямь слишком для меня молода — чернявая, медлительная. Еще долго буду я вспоминать ее сутулую спину, благодаря которой у нее был такой вид, словно она болтается в воздухе, как кукла на гвоздике, со своими фарфоровыми пятнадцатью годами.
Другое дело — Мишель. И еще какое другое! На первый взгляд этого не скажешь, ее надо было узнать, и, уж поверьте, я сумел узнать ее за шестьдесят два дня! Глаза у нее были светло-голубые — цвета голубых фланелевых пеленок. Ее косы, ни белокурые, ни каштановые, дважды огибали головку. Мику упорно отказывалась подражать сестрам, не желала стричься и содрогалась при слове «перманент». Тонкость лодыжек, запястий, шеи, талии противоречила ее происхождению. Но зато ее выдавал пушок на коже; вернее, даже не пушок, а просто волосы, если говорить о ногах и предплечьях. Очень переменчивая, в иные дни она была восхитительна, в иные — никакая; ее немного угловатое личико (скажем лучше: резко очерченное) не терпело ничего уродующего, то есть ни усталости, ни печали. Короче, девушка, которая красиво улыбается и некрасиво плачет, красота, нуждающаяся в счастье. При разговоре она наклоняла голову влево и слегка пришепетывала. Грудь мала, зато трепетная: ученый отнес бы ее к категории «дыхательных», грудь тех прославленных влюбленных героинь романов, которые охотно приводят в движение грудную клетку.
К счастью, эта деталь искупалась твердой линией подбородка и гордой осанкой. Словом, нечто предназначенное для романов, но отнюдь не для мелодрамы, не для флакончика с нюхательной солью.
Существует итальянская пословица, которую можно перевести примерно так: «Хочешь заполучить Марию, сделай вид, что хочешь заполучить ее сестру». Не зная этой пословицы, достаточно жестокой для женского тщеславия, я применил ее на практике: и в восемнадцать лет бывают свои озарения. Мику быстро заметила настойчивость, с какой я держался поближе к Сесиль. А я так же быстро заметил, что она это заметила: просто по манере сновать иголкой или, пришивая пуговицу, откусывать нитку. Но в скором времени она догадалась, что мое ухаживание не заслуживает серьезного отношения, и сумела дать мне это понять, неуловимо насмешливо подергивая уголком рта. Потом эта невинная игра стала ее раздражать. Ей не нужно было соблюдать те семейные традиции, которые имеют в своем распоряжении целую систему могучих рычагов и все-таки охотнее прибегают к механизму мелких хитростей.
Она дала волю нервам, начиная от сердитого прищура — «Да идите вы все!», от звонкого нетерпеливого пристукиваний каблучком до наклона головы, как у кошки, заметившей, что «собака лакает из ее блюдца». Когда, по мнению Мику, шутка слишком затянулась, она — прекрасная Минервочка! перешла в атаку. Если возле меня оставался пустой стул, она говорила в сторону: «Занято, мсье флиртует». Невозможно было выйти с Сесиль в сад и не услышать за спиной:
— Эй, вы там! А третий не лишний?
Мику произносила скороговоркой «эйвытам» и, завладев моей левой рукой, влекла меня за собой на буксире, а ее сестрица-разиня тащилась по правую мою сторону.
Как-то вечером я вызвался идти на ферму за маслом.
— Оставьте его, дети, оставьте в покое, — сказала мадам Ладур, свято соблюдавшая нашу конвенцию.
Я запоздал. Когда я возвращался, думая о чем-то, я заметил, что у подножия каменного распятия, стоявшего примерно на полдороге от фермы до Кервуаяля, сидит Мику. Хотя уже темнело, она прилежно вязала и не подняла при моем появлении головы. И тут же мой ангел-хранитель шепнул: «Я и не знал, что ты призывал эту даму! Надвигаются сумерки, до крайности поэтичные и, во всяком случае, уже густые! Ты вполне можешь ее не заметить. Скорее беги с откоса, мой мальчик, и крой прямо через поля. А если тебя окликнут…»
— Жан! — окликнула Мику.
Я не утверждаю, что этот день был тем самым днем. Но, скажите сами, кто сумеет разубедить в этом юную чету, которая, размахивая руками, возвращалась домой, мешкала на вершине утеса и, казалась, позировала перед фотокамерой в роли двух отчетливо вырисовывавшихся китайских теней? Двух глупеньких теней, до того чистых, что любой режиссер пришел бы в отчаяние; две тени, не способные даже следовать ритуалу, обязательному на закате, багровом, как нескончаемый поцелуй. Две тени, столь воздушные, но столь заговорщически близкие этому закатному часу и всей земле! Архангел в сандалиях, архангел всего на пять минут и, возможно, проклятый на всю свою дальнейшую жизнь за эти несколько минут — мне нечего сказать об этом и нечего подумать. Где-то далеко передо мной море, и прошлое отступило вплоть до линии будущего отлива. И так же далеко перед ней чуть крепнет ветер, еще совсем слабый, он щадит ее юбочку из шотландки и уносит за горизонт последнюю чайку. Какой же это болван намеревался испытать свои чары? Не его ли самого испытали? Мы можем вернуться домой, неторопливые и незаметные. Для меня, если не для нее, этот день все-таки стал тем днем.
IV
На следующее утро мои каникулы внезапно кончились. Мы еще сидели за завтраком, когда принесли еженедельное послание от Фелисьена Ладура, уже давно вернувшегося к своим гипсовым фигуркам. Тетя удрученно прочла вслух:
«Родители Жана весьма настойчиво выражают желание, чтобы он участвовал в подготовительном семинаре будущих студентов в приорстве Сен-Ло. Следовательно, он должен возвратиться самое позднее к вечеру в воскресенье, чтобы поспеть в понедельник утром к началу занятий. По окончании занятий он поступит на юридический факультет Католического университета. Мадам Резо просит напомнить, что сын профессора — даже только почетного — освобождается от платы за учение».
— Эта чертова Психимора верна себе, — крикнул я во все горло.
— Жан, я многое принимаю, но только не грубости, — осадила меня мадам Ладур.
Я тотчас проглотил язык. Тетя, Мику, Самуэль, все присутствующие подняли на меня умоляющие глаза. Из стыдливости, из вежливости, а также смутно догадываясь о своем убожестве и не стремясь выставлять его напоказ, я в течение двух месяцев воздерживался от нелестных высказываний по адресу нашей семьи. В области идей Ладуры (как и большинство людей) были способны понять и даже принять чужие идеи, не осуждая их; зато в области чувств они были не столь гибки. Понять то, что не перечувствовали сами, они могли лишь путем противопоставления, путем взаимоперемещения ценностей или, точнее, переменяя знаки. Такое понимание, как и любое другое, основанное не на опыте, а на простой умственной операции, оставалось всего лишь представлением. Эта толстуха, мяукающая: «Я принимаю…» — ровно ничего не принимала. Она признавала факт, она извиняла его, видя его первопричину, но она отказывалась подчиниться его жестокой логике. Логика наоборот… о, скандал из скандалов! Кроткие и уютные мозги! «Добрая тетушка, если ваша логика идет от сердца, а не от мозга, так почему же вы тогда требуете, чтобы моя логика опиралась на стенки моего черепа, а не на полукружье моего шестого ребра?» Однако я счел необходимым пояснить:
— Изучение права меня нисколько не интересует. Я не хочу быть адвокатом, а уж тем более судьей. Можете вы себе представить меня в судейской шапочке со слюнявкой под подбородком? Для того чтобы быть судьей, необходимо обладать изрядной долей наивности или, напротив, извращенности…
— Постой, постой! — прервала меня мадам Ладур. — Теперь ты уже взялся за отца. Если ты выбрал себе другую профессию, так и скажи. Во время каникул ты действительно надумал что-нибудь стоящее?
Молчание. За долгие годы я привык к молчаливым ответам, но не весь божий свет умел, на манер нашей матери, разгадывать этот безмолвный язык. Мое молчание гласило: «Уже давным-давно я знаю, чего хочу. Единственно, куда мне хочется поступить, — так это в Школу журналистики в городе Лилле. Но если говорить по правде, я предпочел бы немедленно устроиться в редакцию какой-нибудь газеты, чтобы набить руку, а главное, добиться материальной независимости, источника любой независимости вообще… К несчастью, мне известно на сей счет мнение моего отца: „Журналистика открывает множество путей, только при условии, если ее бросить, так лучше вообще за нее не браться“. Или еще: „Резо не занимаются раздавленными собаками“. В нашей семье, насчитывающей с десяток борзописцев, самым великим из коих был неутомимый Рене Резо, журналист считается чем-то вроде бедного родственника. Такую упрямую башку (как величали меня не без основания родные) может занести в любую редакцию! Давать в руки оружие этому бесноватому — покорно благодарим! Юриспруденция, одна лишь юриспруденция способна выправить сбитые набекрень мозги! Юридический факультет — прибежище колеблющихся. Юриспруденция помогает повзрослеть, это вроде как бы зубы мудрости!»
— Ты действительно что-то надумал? — настаивала мадам Ладур.
Лучше было сразу выйти из игры, снискать себе полусвободу студенческой жизни. Потом разберемся.
— Поверьте, у меня просто не было времени думать.
— О, как это мило по отношению к нам, — сказала моя псевдотетя.
Тут началась сцена прощания, осложненная советами, укорами, разноголосыми восклицаниями. Я безропотно позволил прижать себя к сиреневому халату мадам Ладур и вышел из ее объятий лишь затем, чтобы упасть в объятия девиц, которые по очереди выступали вперед, дабы впиться поцелуем в щеку изгнанника. Мику, с улыбкой на губах, хотя чувствовалось, что она всей своей сутью опровергает эту улыбку, меня не поцеловала. Я оценил ее такт: в известных случаях сдержанность гораздо более красноречива. Понятно, что Самуэль по-мужски пожал мне пятерню и выразил вслух общее мнение:
— Договорились, когда мы вернемся домой, то есть через две недели, надеюсь, ты к нам придешь.
Возможно, и приду. Но не наверняка. В поезде, который катил к Нанту, к Анже, мне встретилась девица в английском костюме ржаво-коричневого цвета, стоявшая прямо посреди коридора. Без сомнения, Магдалина. Возраст неопределенный — скажем, двадцать. Очевидно, из экономии она сберегла свою детскую горжетку: два хорька, чисто декоративные, симметрично лежавшие на обоих плечах. Казалось, что эти профессиональные душители кроликов впиваются ей прямо в сонную артерию. Губы сердечком накрашены, вернее, многослойно намазаны дешевенькой помадой из магазина стандартных цен. Брошь из того же магазина, помещенная между грудей с целью прикрыть ложбинку, слишком часто посещаемую мужскими взорами, — какая-то нелепая пластмассовая блямба. Ногти покрыты лаком, но не в тон губам. Два оттенка красного спорят между собой. Шестимесячная завивка, волосы белокурые, у корней темные. Кончики пальцев истыканы иглой. Кончики грудей угадываются сквозь прозрачную блузку. Кончики ушей расцвечены целлулоидными сережками. Впрочем, и она за мной наблюдает. Я истолковал себе, просто так, без всякой корысти, ее мысли: «Костюм потрепанный, но сидит хорошо. Лицо жесткое, как у пирата Кида. Он буржуа, этот мальчишка: у него в кармане перчатки. Вкус у него неплохой, раз он мной интересуется: если бы от взгляда можно было промокнуть, на мне бы уже давно сухой нитки не было… Причесан неаккуратно, как все новио!» (термину «новио» ее только что обучил автор романа за 3 франка 50 сантимов, который она держала в руке: «Синеокая андалузка, или Тайны испанской ревности»). Она, не таясь, поворачивает ко мне голову — раз, другой, третий. Я улыбаюсь. Она улыбается. Ну что?.. Пойду с ней? Не пойду с ней?
Нет, не пойду. Конечно, не Мику помешала мне пойти. Что мне Мику? Будь она мне даже дороже зеницы ока, такой третьеразрядный сателлит не помешал бы ей блистать на небосклоне. Для женщин, как и для планет, сателлит — это скорее почетно, как-то яснее становится идея грандиозности Вселенной. Не пойду… Но если я не пошел, хотя ржаво-коричневый костюм оглянулся в четвертый раз, то лишь потому, что слишком живо было во мне чувство благоприличия. Называйте это как вам угодно, я называю это благоприличием. Спускалась ночь, и вчера в этот самый час я был на утесе.
V
Я давно уже знал это кольцо звонка. Знал и это приорство Сен-Ло. Когда мы жили с бабушкой на улице Тампль, еще до приезда нашей матушки (я говорю о первом ее приезде, ибо нам — увы! — угрожал сейчас второй), я каждое утро, направляясь в школу, проходил мимо решетки святой обители, и сестра привратница следила за мной недоверчивым взглядом, боясь, как бы я не изловчился и не позвонил в их звонок. Как сейчас вижу ее под сенью чепца, со стуком перебирающую четки, слышу ее крик вдогонку мне, улепетывавшему со всех ног: «Я тебе все уши оборву, негодник!»
Как ни странно, но в привратницах состояла все та же сестра. А я-то думал, что по монастырскому уставу монахинь (так же как и жандармов) часто меняют в должности. Она сильно постарела, но чисто цицероновская бородавка на ее носу разрушала все могущие возникнуть сомнения. Она открыла мне двери с ледяной вежливостью, экономя слова, кивнула мне подбородком и, даже не спросив моего имени, молча пошла вперед, неся перед собой свою накрахмаленную кирасу и явно чрезмерное количество юбок, волочившихся по земле и до блеска залоснивших задники ее ботинок. Так мы и вошли в сад, как бы прочесанный частым гребнем, усаженный тополями с аккуратными, словно развилины канделябров, ветками. Скромные группки медленно прохаживались взад и вперед, переговариваясь еле слышным шепотком. Привратница остановилась и все так же, подбородком, указала мне на скамью.
— Ваш брат уже здесь, — сказала она.
И удалилась в шуршании юбок. Брат? Какой? И почему? Ясно, Фред, вынужденный пройти ту же самую благочестивую формальность. Но как она-то догадалась? Неужели узнала? Удивительная, профессиональная прозорливость, безошибочная точность взгляда, натренированного под сенью чепца! А я тем временем разглядывал сутулую спину, впалые виски, оттопыренные уши и черную гриву волос. Нос, по-прежнему искривленный в левую сторону, чуть вздрагивающий от негромкого шмыганья, покачивался на расстоянии тридцати сантиметров от последнего кроссворда, составленного Рене Давидом. Ах ты, мой чертов Фреди! Ни он, ни я, как, впрочем, и все Резо, не склонны к внешним проявлениям чувств, однако мы с ним все же были связаны и в известной мере ощущали свое братство. По моим жилам пробежал родственный ток.
— Эй, Рохля!
Фердинан оглянулся, но хоть бы бровью повел. Я знал, что этот мальчик не так-то легко удивляется, но мне было бы приятно подметить хоть легкий блеск в его скучающих глазах под нависшими дугами бровей. Он даже не поднялся с места, а только протянул мне вялую руку, как будто мы расстались лишь вчера.
— Привет! — бросил он. — Ей-богу, это не учение, а семейный съезд. Здесь, кроме нас с тобой, еще Макс Бартоломи и этот карапуз Анри Торюр.
После чего он потянулся, ткнул обкусанным карандашом в сетку кроссворда.
— Вот свинство-то, — сказал он. — «В ложах пусто, а в курилках густо» слово из семи букв… Попробуй догадайся!
Я сжал губы, чтобы не дать вырваться на волю целой сотне важных вопросов. Мне показалось, что, как и прежде, Фред равнодушен к важным вопросам и интересуется лишь пустяками.
Раздобревший, лоснящийся, хорошо, но небрежно одетый (галстук завязан криво, пуговицы не застегнуты, что выдавало нрав их владельца), мой брат не имел ничего общего с обликом прежнего Фреди, тощего шакала. Скорее уж, он стал выставочным догом, мирным, не удостаивающим прохожих лаем. Он высунул язык, потом торжествующе им прищелкнул:
— Знаю, старик, это «антракт»!
Я улыбнулся, передо мной был прежний стопроцентный Рохля, довольный настоящей минутой, беспечно отмахивающийся от следующей, весь в преходящем. Антракт! Этот антракт, затянувшийся на три года, ничуть его не изменил. Занавес вот-вот поднимется, а он даже не знает об этом. Нет, на мой взгляд, он положительно не готов для второго акта. Пока он блаженно зевал, я шепнул на ухо:
— А ты знаешь, что они возвращаются?
— Ну, пока еще…
Он вдруг бухнул, не раздумывая:
— С их отъезда столько всего произошло!
Разговорится ли он наконец? Вспомнит ли? Мне хотелось бы узнать, если только он сам знает, что сталось с Вадебонкером, с Траке и другими нашими наставниками. Мне хотелось бы знать, что он думает сегодня о нашей «перестрелке» с мамашей, о белладонне и купании мадам Резо в Омэ. Мне хотелось бы поговорить о старых, добрых временах… Скажем прямо, о героической эпохе, об этом буйном отрочестве, которое было прожито лучше, чем обычная пресная юность, об этих стычках, как-никак приносивших хоть видимость победы. Но нет, Фреди не хотел вспоминать. Ничего он мне не объяснит, а сообщит лишь всякие мелочи.
Тетка Бартоломи кормит отменно. Кропетт окончил учение с отличными отметками. Он, Фред, носит сейчас ботинки сорок четвертого размера, как покойный Марк Плювиньек, брат нашей матери. Кстати, о Плювиньеках: дедушка прислал ему сто монет, хотя Фред и провалился на экзаменах в Морское училище. (Ему-то повезло, ибо, хоть я и окончил успешно коллеж, бывший сенатор мне даже письма не написал.) А насчет деньжат мсье Резо жуткий скупердяй: ни одного су на карманные расходы. Ему наплевать, а каково Фреду — даже не погулять по воскресеньям с приятелями. Кстати, о приятелях: Макс Бартоломи ничтожество. Однако он забавный…
— А знаешь, — смело продолжал мой брат, — дядя умер.
Речь, несомненно, шла о Дяде с большой буквы в отличие от многочисленных прочих дядей. О Рене Резо. Само собой разумеется, мне это стало известно из возвышенной речи нашего классного наставника, который в течение часа сумел обрисовать жизнь и творчество дяди и кончил свою проповедь, публично призвав меня походить на покойного.
— Я ездил на похороны вместе с Максом. Тетка нарочно вызвала меня из Нанта! Дядя был моим крестным, и, как старший, я представлял на погребении папу.
В качестве старшего отпрыска семейства Резо Фред ужасно пыжился. Он вечно будет настаивать на этой привилегии и никогда не сумеет воспользоваться ею, подобно мсье Резо, который без устали твердит о своем авторитете. Но вот этот пресловутый старший брат вдруг изменил тон, хлопнул себя по ляжкам и громко фыркнул, забыв о сдержанности, которой требует окружающая обстановка.
— Ох, и повеселились мы в тот день!.. Макс!.. Ты его узнаешь? Вон тот долговязый, ты погляди, так и кажется, что его насадили на собственный позвоночный столб… А этот коротышка рядом с ним — это Анри. Иди сюда, Макс, и расскажи моему брату о «последних словах»!
Мои кузены подошли поближе… Кузены… с помощью генеалогии я знал, что они мне родственники и поэтому можно говорить им «ты». Где-нибудь на улице я назвал бы их «мсье». Этих незнакомых мне юношей я едва разглядел на юбилее покойного дяди. Тогда они щеголяли еще в коротких штанишках. А теперь на меня двигались верзила и коротышка, осторожно ступая, чтобы не помять складки на брюках. Не дойдя трех шагов, они остановились, шутовски встали навытяжку. Потом пожали мне руку с наигранным добродушием, и Макс, подстрекаемый Фреди, тут же выложил мне свою незатейливую историю:
— Да, представь себе, накануне похорон в Анже я стоял на лестнице в доме покойного, и вдруг является репортер из «Пти курье»[8], видать новичок, потому что сразу оробел, ошарашенный гулом стенаний и размерами первых присланных венков. Подойти он ни к кому не решался и в конце концов случайно обратился ко мне: «Мсье, мне поручили написать некролог. Целую колонку на первой полосе. Не могли бы вы сообщить мне какие-нибудь сведения, какую-нибудь деталь, какие-нибудь слова покойного… Я работаю в „Пти курье“ всего неделю, и мне не хотелось бы упустить такой случай». Решил я было послать его по дальше, но вдруг на меня нашло вдохновение, и я сказал ему печальным таким голосом: «Я, видите ли, его племянник и не присутствовал при последних минутах дяди… Но, если вам пригодится, перед смертью, как мне передавали, он повторил слова Барреса[9]: „Лучше прекрасная смерть, нежели прекрасные похороны“». Тут я произнес целую речь, запаковал товарец, завязал бантиком. Ах, дружок! Тип ликовал, строчил, сучил от радости ногами: «Это войдет в историю, мсье, слышите, в историю! Большое вам спасибо!» А на следующий день в «Пти курье» вся эта фраза вынесена в заголовок. И тетки под своими вуалями до пят шепчут: «Это неправда, он вовсе этого не говорил». На самом же деле бедняга за час до смерти сказал: «Если бы я мог помочиться, мне стало бы легче». Но вершина всего — это надгробная речь епископа, он, прежде чем взойти на кафедру, очевидно, прочел газету. Его святейшество, как обычно раскатывая букву «р», сообщило нам, что «…в своем безмер-р-рном смир-р-р-рении сей великий муж, умир-р-р-рая, пр-р-рошептал: „Лучше…“»
Макс согнулся пополам, как складной метр, и громко фыркнул. Фред, слегка воодушевившись, своротил пальцем налево свой нос. Анри Торюр даже не улыбнулся. Несомненно, ему было неловко, и, сам не знаю почему, я разделял это чувство. Гораздо легче издеваться над живым, чем над мертвым. Некогда я сам издевался над тем благоговением, которым наша семья окружала свое «светило», и, конечно, с тех пор не переменил позиций. Но если самые почтительные переходят на сторону зубоскалов, я предпочитаю не быть ни в том, ни в другом лагере. Этот самый Макс, который теперь уже не смеялся, но продолжал распространяться насчет «старого краба», несомненно, этот самый Макс важно засовывает большие пальцы за вырез жилета, когда его спрашивают, не племянник ли он академика. Фамильные вина явно начинали превращаться в уксус, но и в этом уксусе еще долго можно будет мариновать корнишоны, то бишь дураков.
— Смейтесь, смейтесь, — сказал Анри чуть ли не вызывающим тоном. — Кончина дяди все-таки большая потеря. После его смерти семья распадется.
— Напротив, — возразил Макс, — она омолодится. Ей-богу же, мы слишком долго варились в старом соку.
Не будем вмешиваться. Этот спор, впрочем вскоре иссякший, меня не интересовал. В сущности, оба моих кузена были одного выводка и разнились лишь оттенками характера. Макс не подозревал, что сам следует доброй традиции: я имею в виду традицию внутреннего всеочернительства, которое всегда было у нас в ходу и которое не имеет ничего общего с бунтом. В их представлении «омолодиться» — значит потрясти кокосовую пальму, чтобы на манер дикарей отделаться от отживших свой век стариков, но отнюдь не от их принципов и их земельных владений. Для них важно занять не новые позиции, а просто новые места.
В сущности… я знаю кое-кого еще, того, что живет во мне самом, он тоже восставал против отдельных лиц и теперь вдруг понял, что бил мимо. Впечатление, впрочем, мгновенное, сразу же исчезнувшее при воспоминании о моих бунтарских вылазках. Да кроме того, в саду зашуршала сутана.
— Все в сборе. Пора, господа, пройти в часовню.
И так на целую неделю. Проходя поэтапно от Руководства по подготовке к принятию духовного сана через «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы к методе, разработанной его преосвященством Клэрсеном. Мы прошли через все. Три года пребывания в коллеже казались нам теперь неестественно затянувшимся семинаром. Ежедневная месса, молитва до и после учения, до и после каждой лекции, до и после каждой трапезы, перебирание четок в течение месяца Непорочной Девы, битье поклонов в течение месяца, посвященного Сердцу Иисусову, исповеди, курс катехизиса, духовное чтение. Каждое воскресенье торжественное богослужение: месса с принятием святых тайн, месса с певчими и органом, вечерня, вечерняя молитва и повечерие. Десять дней этих подготовительных занятий для всех без исключения. Для причастников. Для бакалавров. Наконец перед самым роспуском заключительная и самая важная лекция для философов, прочитанная все тем же прославленным монсеньером Клэрсеном, редким специалистом по таким вопросам, умеющим в два счета доказать преимущества духовного сана. Нет, право же, мне совсем ни к чему была эта новая порция переливания из пустого в порожнее. Ну какое воздействие могло оказать все это на тридцать юнцов из хороших семей, которые вызубрили наизусть Апологетику, а попали сюда, в приорство, лишь потому, что их послали родители, потому, что так принято, потому, что молодые люди нуждаются в духовном наставнике так же, как и в учителе танцев или фехтования.
— Ну и носище! — пробормотал Макс, рассматривая преподобного отца, который взбирался на кафедру, предшествуемый своим носом.
— «Дар божий» — из пяти букв? — допытывается Фердинан.
И так на целую неделю. Фред засовывал свои кроссворды в методическое пособие, которое только что ему выдали. Макс писал стихи на обложке того же учебника. Кроме Анри и еще двух-трех добровольцев, которые поддерживали всю эту благочестивую волынку, все прочие усердно подсчитывали, сколько часов осталось до заключительной церемонии. А я размышлял. Просто размышлял, не согласно планам этих управляемых размышлений, что в моих глазах было слишком сродни методу самовнушения Куэ, а по избранным мной самим направлениям — то параллельно дороге на Дамган, то параллельно дороге на «Хвалебное».
«Хвалебное» восторжествовало. Правда, заслуга в этом принадлежала открытке с изображением «замка», на обороте коего мсье Резо нацарапал следующие строки:
«Дорогие дети!
Пришлось ускорить наш отъезд, мы прибыли вчера. Так как до вторника у меня не будет моей новой машины, я не смогу за вами заехать. Поезжайте в воскресенье автобусом до Соледо. Последний километр пройдете пешком. Успешного ученья.
До скорого свидания.
Резо».
VI
Когда мы подошли к белому шлагбауму, на нас одновременно обрушились дождь и мрак. Обычные наши кранские дожди, подлинные лицемеры, состоящие из холода и медленно просачивающейся, словно сквозь сито, влаги, которые постепенно превращают в болото даже самую плотную глину. Но налетевший сейчас ливень, прошелестев в сухой листве, сразу заполнил до краев обе дорожные колеи, насквозь промочил наши непромокаемые плащи. Поднявшийся ветер толкал нас в бок, пытался прогнать прочь, как прогнал он с луга и унес вдаль стаю ворон, калеча эти увеличенные во много раз диакритические знаки, готовые обрушиться на гласные буквы местного диалекта. По неповторимому скрипу я узнал дуб св. Иосифа, а за ним по маслянистой толще грязи — платановую аллею. Забыв о дожде, я подскочил к платану, провел рукой по коре на уровне своего роста. Но я не обнаружил вырезанных мною некогда букв М.П., они оказались двадцатью сантиметрами ниже, и тут только я понял, насколько я вырос. Буквы расползлись, вокруг них образовался твердый нарост…
— Идиот, куда ты? — завопил Фред.
Я догнал его в десяти шагах от дома, где на крыше вертелись на полный ход флюгера и шумно выплевывали воду водосточные трубы.
Парадная дверь была заперта, фонарь у входа, издавна предназначенный указывать путь ночным гостям, даже не потрудились зажечь. Но из столовой в щели решетчатых ставен пробивались два гребешка света. Я изо всех сил дернул ставню.
— В чем дело? Не могли пройти с черного хода? — крикнул властный незабываемый голос.
Парадная дверь после трех поворотов ключа и долгого скрежета задвижек наконец распахнулась, и мы услышали еще один крик души:
— Только, пожалуйста, не вздумайте отряхиваться, как мокрые собаки.
Она — я хочу сказать, наша мать — высоко вздымала лампу с зеленой мраморной подставкой, и казалось, вся сила света была направлена лишь на нее одну. Он — я хочу сказать, наш отец — с бесцветной улыбкой и такими же усами, с морщинистыми веками, судорожно моргая глазами, теребил в пальцах салфетку. Третий — я хочу сказать, наш брат — стоял позади, длинный и скромный, такой длинный и такой скромный, что в первую минуту показался мне каким-то непомерно огромным, как тень жерди в сумерках.
— Вытрите ноги! — сказала Она.
— Входите, входите, дети! — сказал Он с наигранной бодростью.
— Добрый вечер! — сказал Третий, пуская в ход свой новый голос, который стал лишь октавой ниже, но ничуть не изменился в тембре.
Нас никто не поцеловал в лоб, мы уже не имели права на родительское благословение — в свое время отец, осеняя нас крестным знамением, касался наших лбов мякотью большого пальца, а мать — кончиком ногтя. Ясно, мы вышли из этого возраста. Трио в указанном выше порядке протянуло нам три руки, украшенные тремя золотыми перстнями, на печатке которых был изображен наш фамильный герб. Фред, официальный наследник, недовольно покосился на третий перстень, на перстень Марселя.
— Ого! — удивленно протянул он.
— Награда за отличные отметки, — соблаговолила пояснить, как обычно не тратя лишних слов, мадам Резо, но легчайший оттенок презрения относился к провалу Фреда, а снисходительная нотка в голосе к моим жалким «хорошо».
Ветер хлопнул дверью, и наша матушка свободной рукой опустила по очереди все три задвижки. Мы уже сняли плащи, как вдруг из кухни к нашим ногам подкатилось нечто вроде старой доброй собаки, только в юбке, и стало нас ощупывать, обнюхивать и осыпать непонятными и хриплыми восклицаниями. Это была старуха Фина, наша глухонемая. Так как я уже разучился понимать «финский язык», состоявший из жестов и звукоподражаний, я от растерянности поцеловал ее. «Хорошенький урок для уважаемых господ и дам!» — шепнул во мне все тот же суфлер, который не упускал случая напомнить о своих правах. Но хорошенький урок и для меня тоже. Дорогая моя бедняжка Фина, о которой я ни разу не вспомнил! Но Фина сказала: (Да, да, мало-помалу я вновь осваивал «финский язык»…) Вот она быстро повертела пальцем вокруг подбородка: «часто». Хлопнула себя ладонью по лбу: «думала». Ткнула тем же пальцем мне в грудь: «о вас». Возмущенная этими вульгарными излияниями, мадам Резо пожала плечами и проскрипела, повернувшись к нам спиной:
— Она теперь решительно ни на что не годна. Всегда была глухая, а теперь еще начинает слепнуть. Как только найду другую служанку, непременно отошлю Фину в богадельню.
— Да, — подтвердил отец с жестоким простодушием, — после сорока лет, проведенных в нашей семье, она имеет право отдохнуть.
— Тут в коридоре не жарко, — заключил Марсель. — А что, если мы окончим обед…
Через пять минут мы и впрямь закончили обед, отдав дань чисто спартанскому меню, принятому в «Хвалебном»! После лукового супа и яиц всмятку Фина, которая натыкалась на все углы и подавала на стол чуть ли не ощупью, принесла компотницу, где лежало пять половинок груш. Глаза мои вновь привыкли к прелестям керосинового освещения. Огромный гобелен — фамильная гордость — медленно погибал меж рыхлых панелей, приглашая моль поживиться зябкой идиллией Амура и Психеи. Буквально всё: облезлые обои, отливающие зеленью плитки пола, потускневшая от сырости мебель с потемневшими бронзовыми аппликациями, большие таганы в камине, съеденные ржавчиной, — все вопило о мерзости запустения. В этих вечно туманных провинциях, как и под тропиками, все разрушается до времени, все прорастает селитрой и грибом. Даже сам воздух, казалось, истлел, и лампы хватало лишь на то, чтобы отбрасывать на стены полоски гниловатого света.
Этикет не был соблюден. Мсье Резо сидел на председательском месте напротив мадам. Но Марсель сидел одесную господа бога — я имею в виду вышеупомянутую особу. Мы с Фредом примостились на краю стола. Деталь вроде бы и второстепенная, но весьма символическая. Провозглашение и преамбула новой политики… Мое место оказалось как нельзя более удобным для того, чтобы молчать и глядеть, и я беспрерывно осматривал всех троих. Он не особенно изменился, только как-то осел, сгорбился, стал настоящим стариком и был порабощен супругой до корней волос, окончательно побелевших, как бы олицетворявших белый флаг капитуляции. И Она не изменилась, разве только кожа. Кожа не стала ни дряблой, ни сухой, ни сморщенной, как печеное яблоко. Но она вся пошла мелкими трещинками, будто керамика, и кое-где в эти трещины уже въелась несмываемая грязь. Подбородок, не столь агрессивный, как прежде, уже не выражал злобы, зато ее сохранила линия губ. Злоба была последней гвардией, атакой последнего каре. Гусиные лапки у глаз разветвлялись, как пять пальцев руки, и взгляд, за неимением лучшего, еще настигал вас, как пощечина. Но что же означал этот огонек, временами вспыхивающий в зеленых зрачках? Что означал — удовлетворение, интерес, любопытство, не знаю, как его определить, — этот огонек, загоравшийся в ее глазах на ту долю секунды, когда они останавливались на Марселе? Так изобретатели (часами, с каким-то особым тяжеловесным самодовольством) взирают на свое великое изобретение — несет ли оно людям смерть или благодеяние, изобрели ли они зажигательную бомбу или проволочку для резки масла. Тот, третий, не обращал на это внимания или не знал об этом. Он просто существовал, был полон самим собой, и комната казалась полна им, он не замечал нас в величественной своей скромности; он молчал, но и подавлял всех своим молчанием… Этот субъект говорил с помощью плеч, даже ими не пожимая, и чувствовалось, что он откажется даже от такого способа беседы в тот самый день, когда на эти плечи лягут эполеты. Он был сын своей матери скорее по сознательному выбору, нежели потому, что она его родила. Сын своей матери в большей мере, чем она была матерью своего сына, и в качестве такового не столь решительный в боях, сколь в аннексиях, не столь уверенный в своих правах, сколь в своих привилегиях, что, в сущности, является наиболее характерным для буржуа. Словом, сильный. Сильный, как инерция движения, и унаследовавший от отца лишь капельку покорности, принявшей форму подчинения собственной силе, пущенной раз навсегда между шлюзом выгоды и шлюзом принципов. Отличные отметки на всю жизнь и по всем предметам, включая близорукость. Прелестный наш Кропетт! Как же легко проникал я теперь в его проникновенный вид!
— Ну, ты решился, мой мальчик? — вдруг заговорил мсье Резо. — Ты, надеюсь, будешь изучать право, пойдешь по стопам отца? Я доволен, я очень доволен твоим благоразумием.
Я едва не подскочил от неожиданности. Мсье Резо облизнулся и без дальних разговоров впился последними корешками зубов в грушу. Я тоже проглотил кусочек груши с таким чувством, будто глотаю избирательный бюллетень с единственной фамилией кандидата. Мое «решение» было того же порядка. Но за отцовским простодушием последовала прямая недобросовестность:
— Удивительно, — протянула мать. — Вообще-то он никогда не знает, чего хочет.
Она небрежно стала очищать грушу, насаженную на трезубец вилки, срезая тончайшие слой кожуры, потом разделила грушу на шесть кусков, и все они один за другим исчезли в левом углу рта, там, где сверкал золотой зуб. Расправившись с грушей, мадам Резо все так же небрежно изрекла свое второе суждение:
— А уж о Фердинане и говорить нечего… Возможно, он и знает, чего хочет. Но хочет он одного: ничего не делать.
— Ну, ну, не будем преувеличивать, — слабо запротестовал отец.
И тут он поймал ее тяжелый взгляд. Простой нажим зрачков отослал отца обратно к тарелке, впрочем уже пустой. Вслед за тем мадам Резо, выказав полное пренебрежение, заговорила об антильских почтовых марках — с Марселем, о тарифе на морские путешествия — с Марселем, о последней статье в «Фигаро»[10] — все с тем же Марселем, а он снисходительной дланью пустил по кругу графин с водой. Вне себя от злобы, я вспомнил наши былые упражнения и попытался приступить к «перестрелке». Напрасный труд! Мадам больше не желала играть. Тут уж приходилось не играть, а расстраивать чужую игру. Взгляд мадам Резо стал воздушным и легким, как ночная бабочка, он порхал вокруг моих глаз, вдруг поднялся к потолку, чуть не опалил себе крылышки, наткнувшись на ламповое стекло, успокоился лишь на хрустальном венчике ее бокала и вдруг, после внезапной метаморфозы, вылетел, как пуля, сопровождаемый приказом:
— Пора ложиться. Вы знаете, какие вам отведены комнаты. Я устала. До завтра.
«Вы знаете, какие вам отведены комнаты». Она говорила с нами, как с гостями! Она удалилась, кивнув нам на прощание головой. Она даже не сочла нужным тащить на сворке своего сеньора и повелителя, который поспешно вскочил с места и пробормотал еще поспешнее:
— Мы устали. Покойной ночи, дети. Не забудьте помолиться перед сном.
Марсель тоже не счел нужным шпионить за нами. Равнодушный к нашим переживаниям, он отодвинул стул, глухо бросил нам «покойной ночи» и, широко шагая, поспешил догнать мадам Резо и взять у нее из рук тяжелую лампу с зеленой мраморной подставкой.
— Здорово старуха прибрала их к рукам, — ошалело пробормотал Фред.
Тут только я заметил, что нас с ледяным хладнокровием оставили в полной темноте. Но эта мелочь сослужила мне службу. Сверху, из коридора, мадам Резо не могла видеть нас, стоявших внизу у лестницы, и, думая, что нам ее тоже не видно, сразу ссутулилась, как-то осела, вцепившись в руку своего любимчика. Предательский свет лампы показал, каким металлом отливают ее волосы: слишком много алюминия было вкраплено в латунь. Старуха? Целых десять лет мы говорили про отца «старик», но она тогда не заслуживала эпитета «старухи», а ведь это еще хуже, чем отжившая свой век кличка «Психимора». Эти седые волосы, этот отказ от невинного поединка зрачков и даже наше выдворение было отказом от более решающих боев… Да, подлинно «старуха». Принято.
Принято без всякого энтузиазма. Я уже вышел из того возраста, когда кличке приписывают магические свойства. Но я знаю также, что царствование дряхлых — самое длительное и самое жестокое. Наш дедушка был по-прежнему молодцом, прабабка все еще угасала. Наша мать только еще входила в эту нескончаемую старость семейства Плювиньек, цепкого семейства ползучих. Такая старость ни за что не отречется от власти. Кроме того, что-то разладилось. Во мне. Гнев, казавшийся мне законным, казался мне также мелким или ужасно далеким. Возможно даже, я думал — излишним. Нам не дано дважды пережить одну и ту же великую любовь! Ну а великую ненависть? Я пытался убедить себя, что ненависть сменилась презрением. Тщетно пытался убедить и столь же тщетно пытался заснуть, скорчившись под вытертым одеялом в моей нетопленой спальне. Я искал себя прежнего и не находил, сам этому удивляясь. Я негодовал на себя и за то, что исчез, и за то, что удивлялся. Я сравнивал и негодовал также за то, что сравнивал. Может ли быть, что на нашей земле живут два таких различных, таких в корне друг другу противоположных существа, как эта и та? Эта — бывшая Психимора. Та — Мику. Психимора и Мику, уксус и мед, змея и голубка, моя мать и моя… Откровенно говоря, моя никто. О драгоценная моя никто! Рот без золотого зуба! Пеленочная лазурь глаз! Так почему же мой внутренний суфлер хихикнул: «Что я слышу, Хватай-Глотай, по-моему, ты читаешь акафист деве Марии!»
VII
Местный фотограф распрощался с нами и укатил. Мадам Резо осталась недовольна его работой. Ей хотелось, чтобы ее сняли стоя, в самом центре группы, супруг находился бы справа, а дети примостились бы у ее ног. Но так не принято, когда вышеупомянутые дети превращаются в молодых людей. Ей надо было бы позаботиться об этом раньше. Пришлось ей сесть в вольтеровское кресло… Кресло! Самое парадное кресло из гостиной было признано наиболее достойным, так сказать наиболее Резо, но оно оказалось чересчур высоким. Таким образом, мадам Резо пришлось усесться в него, а мы окружили ее нашими четырьмя фигурами «среднего объема». Итак, ваши внуки и правнуки с умилением будут разглядывать бабушку, не подозревая, что фотограф позволил себе четырежды просить ее опустить подбородок и что ему потребовалось не менее дюжины репетиций, прежде чем пластинка запечатлела ее благожелательную улыбку. А что касается гобелена с Амуром, то готов биться об заклад, что внуки поверят уместности этого идиллического фона. Что ж, пусть так! Возможно, в один прекрасный день они узнают, что слова «группа» и «согласие» отнюдь не синонимы, что маленькая птичка, которая, по уверениям фотографов, должна вылететь из аппарата, часто бывает сорокопутом, если только не вороном. Так или иначе, дело сделано, нас вставят в рамку или положат между страницами семейного альбома. Впрочем, давно пора, давным-давно пора было совершить этот акт, и отец более чем своевременно решил удовлетворить свое давнее желание. Очевидно, старик смутно предчувствовал, что это первый и последний в своем роде снимок. Никогда уже мы не соберемся все вместе в полном составе. Начиналось наше окончательное «рассеяние».
Фотограф опередил нас всего на десять минут: на грязной платановой аллее еще можно было различить четкие отпечатки шин его автомобиля. По-прежнему шел дождь. Сеял, как полагается в наших краях, не то дождь, не то изморось; стирально-туманный порошок, предназначенный для стирки лишайников, облепивших стволы платанов, обрушился на статую св. Авантюрена, свисал капельками с его носа. Мы вчетвером шагали к шоссе, к автобусной остановке. Четверо, из которых троим предстояло разъехаться в разные стороны. Все четверо, четверо мужчин, представляли в совокупности немалую мускульную силу, направляемую сверху, из окна, все тем же небрежным взглядом одной-единственной женщины. Мадам Резо не пошла нас провожать: она устала, она еще не оправилась от усталости. Наша матушка олицетворяла собой ту дипломатическую усталость, сведениями о которой были заполнены письма отца к нам, превращавшиеся, таким образом, в своеобразный «бюллетень о здоровье», — ту самую усталость, из-за которой мать вынуждена была сократить срок нашего пребывания под родительским кровом, отослать нас к любимым занятиям через сорок восемь часов, проститься с нами одним взмахом руки.
— После такой долгой разлуки мне хотелось бы, чтобы вы погостили у нас подольше…
Только один мсье Резо говорил, или произносил монологи, или просто извинялся. Это как нам угодно. Он вытащил на свет божий свою облезлую козью куртку, а сверху накинул плащ, в котором ходил охотиться на куликов. Его старая шляпа, на манер широкополой античной шляпы, которую он носил только в деревне (шляпа ждала его на чердаке, отведенном под энтомологический музей), как и в былые времена, сразу же превратилась в водосточную трубу, откуда вода лилась ему на усы. В руке он держал зонт, но забыл его раскрыть. Пока он разглагольствовал и никто его не слушал, я то и дело чувствовал прикосновение к плечу ручки зонта, словно отец посвящал меня в рыцари.
— Прошу заметить, что… на этот раз надо пожалеть Марселя. Меня назначили в Сегре, и, следовательно, я могу жить в «Хвалебном», Фердинан поселится в Нанте, а ты в Анже. Вы оба будете не так уж от нас далеко. Но Марселю в Версале будет очень одиноко. Конечно, время от времени он может ездить по воскресеньям в Париж к дедушке и бабушке. Но, боюсь, помощи от них ему особой не будет.
Фред громко чихнул, искривив свой длинный нос. Мсье Резо вынул носовой платок, прижал его к губам, но не смог последовать примеру сына, и в конце концов он все же высморкался, чтобы избавиться от щекотки, раздражавшей его ноздри. Только после этого он решился раскрыть зонтик и снова зашагал вперед. Грязь второй подметкой прилипла к его ботинкам на пуговицах, и ботинки тяжело шлепали по лужам. Подняв зонтик еще выше, отец негромко хихикнул:
— Ни на что больше теперь не годны наши Плювиньеки. После провала дедушки на последних выборах они совсем отошли от дел, не выходят из дому и каждый день обнаруживают у себя все новые болезни… Меня очень беспокоит, как они там распоряжаются своим состоянием.
Мы поравнялись с домом Барбеливьена. Фермер тоже вступил в преклонный возраст: казалось, ему стоило огромного труда переставлять ноги в деревянных сабо.
Решительно все: слуги, идеи, капиталы, родители и даже дубы, даже дорога, которую, как морщины, бороздили колеи, — все отдавало старостью, все побуждало меня уйти и дать волю своей юности и дерзости, столь неуместным здесь, у нас. Мсье Резо ухватил меня под руку.
— А вот с тобой я не знаю, как и быть. Этот болван Ладур, по-моему, слишком поздно взялся за дело. В интернате Католического университета уже не осталось ни одной свободной комнаты. Придется тебе жить в городе у некой мадам Полэн, которую он нам порекомендовал. Кстати, сам Ладур…
Вот шлагбаум, некогда белый, вот и гудронированное шоссе, которое под дождем блестит, как цилиндр щеголя, а лепешки коровьего навоза, не поддающиеся ливню, сверкают, как новенькие кокарды. Проглотив слюну, папа договорил:
— …славный человек, очень услужливый.
Странное дело, но когда я слышу это слово в устах одного из представителей нашего семейства, для меня оно всегда звучит так, будто речь идет об испачканной салфетке, которую, не долго думая, бросают в грязное белье.
— …раз он так хорошо разбирается в делах, он сможет дать тебе полезные советы, я его на это уполномочил. Но смотри, с дочками… ни-ни-ни, чтобы никаких историй! Мы будем за тобой присматривать.
Вряд ли стоит отвечать. Мы уже дошли. Наши чемоданы опущены на обочину, а мы сами, благоразумные, молчаливые, стоим в ряд, как черенки одного и того же дерева. Отец уже истощил весь запас слюны. А нам, троим братьям, нам нечего сказать друг другу — ни при встрече, ни при разлуке. Возможно, мы черенки одного и того же дерева, но привитые тремя различными способами и глубоко равнодушные к соседней особи. Мы до странности не знаем друг друга. Меня это даже начинает удивлять, а удивление у меня обычно сродни негодованию: кроме имени и формы подбородка, какой еще объединяющий признак присущ нам троим? Какие радости, какие чувства, какие вкусы и какие цели? Мы одинаково одеты, но ведь это сходство в одежде, пище и в оборотах речи присуще всем обитателям нашего края, будь они хоть заклятые враги. На самом же деле между нами нет ни малейшей реальной общности, как раз этого и добивалась наша мать, поэтому-то она рассеяла нас, отдалила друг от друга, тем самым ослабив нас.
— Ну, до свидания, дети.
Каждому достается прикосновение мокрых родительских усов.
Одышливая колымага Бокажа — рейсовый автобус — подъезжает, окропляя по дороге изгороди жидкой грязью.
Не обернусь. Я и так знаю, что усы судорожно подергиваются и что зонтик с трудом остается там, где ему положено быть — над папиной шляпой. Итак, в последний раз я вижу его среди этих промозглых руин, в этой рамке, которая так подходит ему, бедняге, и так полно его выражает. Пускай себе идет, пусть очистит о скребок около крыльца свои стопудовые подошвы, прежде чем получить очередной приказ: первое же его письмо наверняка будет сухим, кратким, категоричным. Только в письмах, вдалеке от нас, он становился тем, кем не умел быть в нашем присутствии: главой семьи.
Но не будем слишком оплакивать его участь. Есть люди, которые обожают действовать под диктовку. Обо мне этого никак не скажешь. А ведь я заметил за собой, что, во-первых, уже не так хорошо умею пускать в ход клюв и когти и, во-вторых, моя былая виртуозность не сослужила мне большой службы. Короче, детство, которым я еще очень горжусь, кончилось полным провалом, и, право же, я без малейших оснований истолковал его как победу. Даже по «очкам» это не победа. Добившись отъезда из «Хвалебного» и отправки в коллеж, я фактически предоставил матери свободу действий. Она воздвигла новую форму своей деспотии, сделав ее еще более лицемерной и прочной. Неужели все начинать сызнова?
— Посмотри-ка вон там, на задней скамейке…
Я обернулся. Фред, сидевший позади, подмигнул мне. Марсель поднял одно веко и снова погрузился в чтение «Ля сьянс э ля Ви»[11]. Присмотревшись, я узнал кюре Летандара из прихода Соледо, который, надо полагать, едет в Берн навестить своего коллегу и сейчас дремлет над раскрытым молитвенником. Однако я не узнал никого из крестьян, чинно сидевших на обитых молескином креслах, но уже не торопившихся, как некогда, приветствовать нас, поклониться господам Резо.
— Да нет, рядом с кюре…
Рядом с кюре сидела полнотелая девица в ярко-зеленом пальто и соломенной шляпке с синей лентой, над которой трепыхалась гроздь лакированных вишен. Дорожные ухабы сотрясали ее мощный бюст, но даже виражам не удавалось своротить с места эту глыбу розового сала. Она наградила меня улыбкой, которая более пристала тридцатилетней, а ведь ей от силы было лет двадцать. Улыбка скорее простодушная, чем глуповатая, чуть-чуть заговорщическая. Только по светло-карим глазам я и узнал ее. Это, несомненно, Мадлен, классический образец кранских девиц, которую ни повернуть, ни замуж спихнуть. Нечего сказать, хороша победа, хотя в свое время, как и у всех подобных девушек, у Мадлен был свой период стройности и вульгарной прелести. Хороша победа, под стать всем прочим моим победам. Поздороваемся с нею покровительственным движением подбородка и побыстрее уставимся в окно. Главное — совершенно небрежно, ведь нам только что преподали урок небрежности. Я обернулся второй раз, желая убедиться, что не ошибся. Снова еле заметный поклон. Ну да, толстуха, я помню. В те времена я был юн; юн и неразборчив, как и ты. Похорони же эту тайну под двадцатисантиметровым слоем жира. Открой ее, о моя многообильная, какому-нибудь молодчику, который привык ворочать пятипудовыми мешками, а главное, пусть ты никогда не узнаешь, что я тогда до того расчувствовался, что некоторое время идеализировал тебя, превратил даже в прототип милых грешниц. Ах, дурак, которого ты, дурочка, учила уму-разуму.
— Как видно, — не унимался Фреди, — они там, в «Ивняках», не скупясь, кладут в суп масло.
И ты, каналья, подливаешь масла в огонь! Дать бы тебе по морде, любезный братец! Ведь ты же хотел сказать: «Как ты низко пал! Ты меня больше не интересуешь!» Да как он может интересоваться мною? Он теперь даже не наперсник моих забав. Все мы были славные малые, когда спрашивали друг друга, в какую игру будем играть, или когда раздумывали, какой бы номер нам еще выкинуть. Мой авторитет безнадежно упал в здешних палестинах, и надо поскорее удирать отсюда. Ответим же уголком губ, вкладывая в свои слова максимум подтекста:
— Подумать только, что мы с ней некогда занимались любовью!
А теперь помолчим и просмакуем это «некогда», уместное, как соска во рту восемнадцатилетнего балбеса. Я вздохну спокойно, лишь когда вы, господа братцы, разъедетесь по сторонам — один в Нант, другой в Париж. Даже не провожу их на вокзал. Счастливого плавания! Мои братские чувства, целиком поставленные на службу семейной чести, должны непременно и немедленно взять небольшой реванш в доме Ладуров.
Реванш и впрямь не бог весть какой! «Мику? Она у зубного врача», пропищала голосом чайки Сюзанна, встретившая меня на пороге. Оставалось одно — плестись в «Сантиму», чтобы просить отца отсутствующей Мику проводить меня к мадам Полэн, моей будущей квартирохозяйке. А затем отобедать с глазу на глаз с этой незнакомкой, которая сообщила мне тысячу и одну подробность о местонахождении уборных, об употреблении ключей, о необходимости пользоваться половиком и о священном и незыблемом часе трапез. В девять часов я был уже в постели, какой-то серединка на половинку, ни мягкой, ни жесткой, наподобие самой тетушки Полэн, и не испытывал ни малейшего желания побродить, воспользовавшись своей совсем еще новенькой свободой. В конце концов, Мику тоже находится в своем периоде худобы, но, возможно, унаследует от матери ее дородность. И потом, любовь, что такое любовь? «Море и любовь, вечно новы они…» Да что это со мной? Разные штучки-мучки, сантименты, романтика, нет уж, покорно благодарю! Потерять свою силу, нет, покорно благодарю! Я чуть было не раскис, но мой ангел-хранитель не дремлет, мой ангел-хранитель вовремя открыл мне глаза. Какая-нибудь молоденькая работница из Трелазе или девчонка на побегушках из Дутра, так, между прочим, — это еще ничего хлоп! — вроде как наш старик бьет уток. Но вы, дорогие мои барышни, обойдетесь и без сердечных излияний.
Поскольку запись на курс лекций производится бесплатно, я запишусь и на юридический и на филологический факультеты. Я мальчик серьезный.
VIII
По крайней мере в сотый раз я посетил туалетную комнату и в сотый раз не прикоснулся к туалетному столику, где стоял несессер со всеми полагающимися принадлежностями, помеченными буквой «Д». До меня у тетушки Полэн жила студентка, которая в один прекрасный день исчезла, оставив кое-какие пустячки вроде этого несессера и неоплаченные за три месяца счета. (Со мной этого бояться нечего — мсье Резо аккуратно переводит месячную плату.) Из всего этого набора я пользовался лишь расческой, лишившейся трех зубьев. В коробочке из поддельной слоновой кости оставалось еще немножко пудры, и, несмотря на свою малую опытность, я знал, что пудру такого оттенка употребляют брюнетки. Ни за что на свете я не стал бы мыться этой дряблой губкой, которая, несомненно, касалась груди незнакомки, прохаживалась — фу! — по всем извилинам ее тела. Впрочем, мылся я не особенно рьяно: в этой области я получил довольно приблизительное воспитание, и, следуя его правилам, я обычно ограничивался кратким прикосновением уголка мокрого полотенца к своей физиономии.
— Кофе, кофе, кофе! — пропела тетушка Полэн.
Каждое утро она выводила на разные лады этот припев, а уж потом кричала через дверь: «Гитлер получил девяносто процентов голосов!» — или: «Начался суд над поджигателями рейхстага!» Никогда она не входила в мою комнату, где шкаф и столик белого дерева были совсем недавно выкрашены светло-серой эмалевой краской. Ни разу я не видел, как она оправляет мою постель, как застилает ее покрывалом из шелкового репса.
— Кофе, кофе! А знаете, Димитрову, по-видимому, удастся выкрутиться.
И так как я прошел прямо в столовую, она поспешила добавить:
— Только не берите розовую чашку. Вы знаете, это моя чашка. Доброе утро, дитя мое… Но у нас-то чего они ждут, почему не судят Виолетту Нозьер[12]?
Я довольствовался зеленой чашкой с отбитой ручкой, последней из двух чашечек кофейного сервиза на два лица, очевидно подаренного еще к свадьбе. Я зевал, потягивался. Единственным достоинством моего нового жилища оказалось то, что здесь я мог пренебрегать хорошими манерами. Но зато окружающая обстановка способна была довести человека до сухотки! Деревянное яйцо валялось, как в гнезде, в корзиночке с клубками шерсти. Портреты всех трех покойных мужей мадам Полэн — профессиональной вдовицы — висели рядышком над буфетом. По всем стенам пришпилены как попало сотни две фотографий, вырезанных из «Пти курье». Оставшиеся островки обоев наглухо закрывала дюжина почтовых календарей. Само собой разумеется, здесь не обошлось без войлочных шлепанцев, без узких вазочек с «лунником», без вязаных занавесок, без кошки, ютившейся в ящике, но не терявшей надежды проскользнуть внутрь стенного шкафа, воспользовавшись любой щелкой.
— Что-нибудь случилось? — забеспокоилась вдова, видя, как я мешаю кофе с молоком, обильно затянутый пенками.
Не случилось ничего, ни хорошего, ни плохого. Я перечитывал напечатанные на гектографе лекции профессора римского права, разложив их перед собой на столе. «Текст Гайя, долгое время известный нам лишь по сокращенному изложению в Breviarium Alaricum,[13] удалось восстановить полностью по палимпсесту, обнаруженному в 1816 году в Вероне Нибуром и появившемуся в Ecloga Juris[14] в 1822 году в Париже… Многократно комментированные Institutes Юстиниана[15] стали предметом „Исторического объяснения“, ученый автор коего господин Ортолан…» Ортолан, имя-то какое птичье, прямо на вертел просится. Так чего же вы мешкаете, уголья ада?
— Вы скучаете, — не унималась мадам Полэн. — Работа работой, но надо же и развлечься немного.
Я поднял от лекций нос, потом поднял бровь и посмотрел на эту добрую душу, которой дали надлежащие наставления на мой счет, недаром каждый денежный перевод сопровождался «секреткой», а секретка — постскриптумом: «Не забудьте предупредить меня, если мой сын позволит себе какие-нибудь дурачества».
— А что мне прикажете делать без карманных денег? Я не желаю попадать в идиотское положение.
Взгляд моей квартирохозяйки добрых пять минут не отрывался от «Пти курье», а тем временем вставные челюсти ожесточенно боролись с поджаренным гренком. Наконец ее языку удалось пробиться сквозь это препятствие:
— Я встретила мадам Ладур. Она спрашивала меня, почему вы к ним никогда не заходите.
— Это не устраивает моих родителей.
Еле заметный подкоп. Первым делом возбудить у этой дамы, верного друга семьи Ладуров, легкую неприязнь к тому, кто шлет ей ежемесячные переводы. Во-вторых, мое сообщение, соответствующим образом преподнесенное, в равной степени насторожит и Ладуров. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы Ладуры и Резо обожали друг друга. Ладуры, милые сердцу обитателям «Хвалебного», стали бы мне менее симпатичны. Если же я не считаю нужным к ним идти — это уж мое личное дело. Американцы дорожат своими заповедниками, где им запрещено охотиться. Провинциалы дорожат своими музеями, куда они в жизни не заглядывают, возможно, из боязни узнать, что редкие монеты окажутся подделкой или вовсе не имеют той ценности, какую им приписывают.
— Иду на лекцию, мадам.
Но на сей раз я пошел не на лекцию, а в парк.
Это угрюмое благоразумие было, в сущности, ожиданием. Мой искус продолжался, и теперь я затягивал его умышленно. Самое главное было узнать, чего я хочу и что я могу. Если все зависело бы от меня, я немедленно сбыл бы букинисту учебники по римскому праву, сел бы в парижский поезд, попытался бы устроиться в столице на любую работу. Но это слишком походило бы на простое бегство. Попытаемся продержаться год. Таким образом, я смогу получить степень лиценциата по литературе. Но почему бы в таком случае не продержаться три года? В конце концов я получу желанный диплом, и в придачу тот, о котором мечтает отец. Да, но целых три года, в моем возрасте — это же целая вечность! Мне становится тяжело при мысли, что своими знаниями я буду обязан состоянию родителей. Конечно, я не так уж глуп и не буду жалеть о том, что они дали мне образование, но теперь, когда я уже взрослый, я предпочитаю, чтобы дальнейшая моя судьба зависела лишь от меня одного. Я всегда завидовал стипендиатам, которым никто не мог сказать: «Вам повезло, вы из богатеньких папенькиных сынков». Я завидовал освобожденным от лекций студентам, которые работали где-нибудь у нотариуса и ночами сидели над учебниками. Нет, я вовсе не любитель играть в трудности: просто мне противно походить на этих лицемеров семинаристиков, которые твердят о пастырском призвании, чтобы их приняли в коллеж, и испаряются назавтра же после выпускных экзаменов. И у меня, как и у них, тоже будет нечистая совесть. Самое убийственное отчаяние познают не перебежчики, даже не те, кто способен на самую черную неблагодарность. Все мы этим грешим в той или иной мере. Убийственнее всего быть псевдоновым человеком. Можно обмануть людей, но себя-то не обманешь. Тем же, кто утверждает обратное, несомненно, повезло — они сумели обуздать свою гордыню. А я нет. Вот почему эта гордыня дает себя знать. О юность, которой не видно конца! Зачем приходится так долго существовать, прежде чем начнешь просто жить, просить, прежде чем начнешь брать, получать, прежде чем начнешь давать другим?!
Декабрь, слишком мягкий в этом году, благосклонно разрешал небу — этому огромному корыту — подсинивать серые тряпки зимних облаков. Вдоль розового гравия дорожки стоят голые каштановые деревья, уже давно растерявшие всю свою листву, которую собрали граблями в кучи. Один каштановый лист, похожий на семипалую кисть руки, упал на плечо статуи и, воспользовавшись удачей, щупает мрамор. Эта вольность — хороший для меня урок, и моя рука, лежащая на колене, невольно сжимается.
На розовом гравии играла целая куча ребятишек. Хорошеньких. Чуточку глупеньких. Чуточку избалованных и курчавых. На свою беду, наделенных природою удивительной кожей, слишком свежей, слишком тонкой, словно это и не кожа, а ее изнанка: такой коже не выдержать оплеух. Я твердо в этом уверен, я сам никогда не был ребенком. В бассейне кружатся с дюжину парусников, ложатся набок, норовят сорваться с веревочки. И вдруг вопли… Какая-то шхуночка попала под заводной броненосец, и он разворотил ей всю корму. Почему же хнычет этот крошка судовладелец, чего требует? Ведь, спустив на воду населенную золотыми рыбками утлую лодчонку, он шел на риск. С себя самого не взыщешь. С самим собой не сплутуешь.
И вот почему, милый мой, ты спешишь убежать! Ты плутуешь, ты бежишь потому, что на повороте дорожки, ведя на буксире двух сестричек, показалась девушка. Мику! Мику, шхуночка, которая, как ты воображаешь, может пробить твою броню!
IX
— Да ты лопату пониже держи…
Двое чернорабочих, разгружавших со мной одну из шести барж с песком, приплывших по Луаре, осыпали меня грубоватыми советами и потешались над моим неумением орудовать лопатой, над моими скованными движениями, над тем, что я без особого восторга распил с ними литр красного вина, ибо здешние правила вежливости требовали от новичка выставить этот самый литр. Я изнемогал, но не позволил себе ни малейшей передышки. Я был и взбешен и доволен. Меня бесила угрюмая снисходительность и жалость этих здоровенных парней, преувеличенное внимание подрядчика, который, оглядывая с набережной свои артели, кричал мне раза три в час:
— Ну, как дела, любитель?
Но особенно меня бесило то, что я не умел работать лучше; я впервые проверил на практике нелепость фамильной философии Резо, в чьих глазах служба в Иностранном легионе, разгрузка баржи, земляные работы или ремесло тряпичника — профессии, которые доступны любому и за которые можно взяться в любую минуту без подготовки, если к тому тебя вынуждает необходимость. Как бы не так, ваш «любой» не сможет ни орудовать лопатой, ни выгрузить на набережную в положенное время кубометр песка. Вот почему я был все же рад, что нахожусь здесь, рискнул на этот опыт и худо ли, хорошо ли, а все-таки выдержал испытание. И я был также доволен, конечно в известной мере (в той мере, в какой это унижало мускулы Кропетта или, скажем, Макса), я был доволен, узнав, что бывают мускулы умозрительные, как и мышление, и что единственный стоящий аппарат для измерения мышечных усилий — это лопата или какой-нибудь другой рабочий инструмент. Я даже поздравлял себя (тоже в известной мере — в той мере, в какой моя эскапада могла нанести публичное оскорбление нашей фамильной «чести») с тем, что нахожусь здесь, на набережной, что одет в спецовку и на меня с рассеянным любопытством поглядывают прохожие и бретонские няньки, а они, как известно, первые поставщики сплетен для своих хозяек. Я уже представлял себе эти разговоры:
— Ну да, душенька, Резо, средний, который изучает право. Мари сама его видела на берегу Мен. Да, да, видела, говорю я вам, собственными своими глазами видела… На берегу Мен грузил песок. И пил вино прямо из горлышка со всем этим портовым сбродом! Муж уверяет, что существует организация святого Штукаря, или как его там, одним словом, что-то по части социального братства…
— Хм! Что-то на Резо не похоже! Уж скорее…
— Ну знаете, нынешние молодые люди, когда им нужны карманные деньги, на все пойдут.
Я действительно нуждался в карманных деньгах. Но мой поступок объяснялся иными причинами, совершенно непонятными для этих кумушек, а частично непонятными и для меня самого. Двадцать второго декабря, накануне роспуска студентов на каникулы, я получил — и ничуть не удивился тому — нижеследующую открытку: «Мы проведем Рождество в Париже у Плювиньеков. Поэтому мы можем взять домой только Марселя. Оставайся у мадам Полэн. Прими наши наилучшие пожелания». Пожелания эти не сопровождались даже положенной кредиткой в пятьдесят франков, и родительское «поэтому», равно как и «только Марселя», звучало особенно мило.
— Давайте встретим праздник вместе! — предложила мне тетушка Полэн.
Но я не терплю, когда меня жалеют, и поспешил отклонить предложение под весьма благовидным предлогом:
— В студенческом клубе будет бал.
Меня влек иной бал, но и речи не могло быть о том, чтобы я стал домогаться милости попасть туда. Сочельник я провел на улице — более точно, на улице Пре-Пижон, где проживали Ладуры. Я меланхолически шагал взад и вперед, упорно отказываясь уступить презренному типу, который раз двадцать шептал мне на ухо: «Посмотри, какой славненький медный звонок, как он аккуратно вычищен. Ну позвони же!» Проходя мимо ладуровского дома во второй раз, я заметил девиц, возвращавшихся с полуночной мессы, и притаился в арке ворот. Проходя в третий, четвертый, пятый раз, я чертыхнулся, не выдержав ликующего наплыва запахов, шумов, огней. Когда я проходил в десятый раз, из-под голубоватых век занавесок еще просачивались вялые отблески света. Когда я проходил в двенадцатый раз, все огни уже потухли, и, воспользовавшись этим обстоятельством, я дернул звонок в приступе какого-то яростного самоутверждения. И тут же бросился наутек, пробежал километра два и очутился на берегу Мен, которая плескалась у устоев моста и, журча, перекатывала желтые отблески фонарей, стоявших вдоль выщербленной набережной. При тусклом свете мне удалось прочесть извещение, написанное дегтем на фанерной доске: «Требуются чернорабочие». Ага! Почему бы и нет? Случай подсказал мне, как использовать рождественские каникулы.
В пять часов, когда уже начало смеркаться, подрядчик свистнул и приказал мне сложить инструмент. Выйдя из дощатой хибарки и заперев дверь на висячий замок, я вдруг услышал чей-то голос и вздрогнул от неожиданности.
— Нет, вы только полюбуйтесь на этого молодца!
Слишком жизнерадостный голос, слишком иронический для простого рабочего. Впрочем, я его сразу узнал. Пришлось обернуться, выдержать чужой взгляд. Толстяк Ладур шагал прямо по песку с уверенностью человека, который знает, что такое жизнь, который помнил собственную молодость и которому плевать на свои шикарные ботинки.
— Вот уж не думал застать вас здесь. И самое смешное, что эта партия песка предназначена для кирпичной фабрики, которая тоже находится в моем ведении.
Голос его изменился, приобрел дополнительный оттенок уважения, подкрепленного пожатием руки.
— Значит, вы не уехали на каникулы?
Я молчал сконфуженно, упрямо.
— Ах я дурак! — продолжал Ладур. — Как это я не сообразил! Остаться без каникул… Ну знаете, ваши родители перебарщивают.
Очевидно, это критическое замечание показалось ему непомерно резким, потому что он судорожно глотнул и вдруг накинулся на меня:
— А вы, черт побери, если вам уж так приспичило работать ради карманных денег или по каким другим причинам, мне неизвестным, вы могли бы вспомнить о моей конторе, куда вас охотно примут.
Подрядчик приблизился к нам и, засунув свои громадные руки за фланелевый пояс табачного цвета, вежливо прогремел:
— У меня для вас есть кубов пятьдесят.
— Очень хорошо, — небрежно бросил одноглазый и обернулся ко мне. Поскольку ваш рабочий день окончен, увожу вас с собой. Да, именно, в этом наряде. Пускай дети посмеются.
И так как я отрицательно качнул головой, он поспешил добавить:
— Только не подумайте, что я не одобряю вашего поведения. Русские методы, по которым студенту доверяется лопата, вполне себя оправдывают. Но все-таки вам найдется более подходящее дело, чем разыгрывать из себя грузчика.
X
«Генерал отведал раз, отведал два и съел все, что стояло на столе», — писала графиня Сегюр о генерале Дуракине. Я не зря сослался на этот высокий авторитет: обстановка была такая же. И все прочее в том же приторном конфетном стиле. Так как у меня всегда были собачьи клыки, я бесился, чувствуя, что смешон с головы до пят.
— Ну, как живем? — простонала мадам Ладур.
Засим последовали осмотр, ощупывание, гримаски, массаж моих знаменитых железок. Еще разок, и здесь, и здесь! И вся ладуровская свора, не протявкнув ни слова упрека, собралась вокруг меня, тычась мокрыми мордочками, ластясь лапками. Я медленно продвигался вперед, бросая сквозь зубы: «Здравствуйте», и оглядывал всех и вся тяжелым взглядом фаянсовых глаз, как у обиженного бульдога.
Удивительный дом! Я уже знал его атмосферу. Но не знал его реального быта. Ибо здесь он был реальным в отличие от «Хвалебного», где все прежде всего внешнее, только фасад. Здесь любая вещь служила какой-нибудь цели. Ничего показного. Портреты — не предков, а просто обычных дедушек и бабушек — значили что-то сами по себе, независимо от ценности золоченых рам: они приветствовали вас так, как приветствует пришельцев зеркало — этот меняющийся портрет. Печка, радиоприемник, чудовищно безвкусные стенные часы, вентилятор, игрушечная электрическая железная дорога объявляли во всеуслышание, что они существуют, что они имеют право производить шум и вовсе не обязательно им быть шикарными. А Мику, была ли она шикарна? Мать обрядила ее в голубое бархатное платье, цвета морской волны в тихую погоду, откуда это хрупкое дитя выныривало наподобие утопленницы. Эти голые руки, эти ножки в подвернутых на щиколотке носочках, эти желтые под мышками блузки, приподнятые кончиками грудей, эти волосы, разлетающиеся во все стороны от прыжков, эта стрекотня… Вот мы и снова свиделись! С лестницы спускается Самуэль, не по возрасту грузный, а его отец блаженно раскидывается на диване и складывает руки на своем вязаном жилете. В этой бонбоньерке, набитой кисло-сладкими леденчиками, оба Ладура — отец и сын — играют роль глазированных орехов. Словом, мы в кондитерской. Не здесь ли подстерегает меня эта пресловутая опасность? Окажусь ли я дураком? «Бегство в любви — это геройство», — говаривал Наполеон. Опасность, скорее всего, представляю я сам. Как определить это странное чувство, возникшее в неведомых мне самому уголках души, от которого во рту становится горько? «Если ты сам — опасность, тогда беги, ибо это еще хуже».
Я не убежал с поля брани. «Генерал отведал», и так далее, и тому подобное. Вперед, к чувствительным романсам! Начнем розовую эру. Я говорю «эра», ибо она покажется мне нескончаемо долгой, как и всем, кто через нее проходит. Однако же он короток, этот отрезок времени, где ты сам глупее поэзии почтовых открыток, этот отрезок, через который проносишь свои переживания, как ящик с фарфоровой посудой с надписью «не кантовать». Розовая эра. Эра греха, жеманства, целомудренных ласк. Я, очевидно, действовал скорее наподобие весеннего ливня — порывами. Но за мое перевоспитание уже взялись.
— Первого января приходи к нам завтракать.
— Но, тетя…
— Мы тебя ждем, — отрезал Фелисьен Ладур. — А насчет «Сантимы» еще поговорим. На любой работе занят ты будешь всего два-три часа после обеда. Главное, чтобы не пострадало твое учение.
Он обратился ко мне на «ты», и я знал, что этим «ты» я обязан своей рабочей спецовке, что этим «ты» он хотел почтить меня. Поблагодарим же его за это.
— Хорошо, дядя.
— Мы тебя ждем, — повторила Мику, подходя к столу, и, заботливо подобрав бархатное платье, села на свою белую комбинацию, подрубленную узорчатым швом.
XI
Ладур сдержал обещание, и я поступил в «Сантиму», где работал вечерами по три часа в день; я занимался то бухгалтерией, то производством, то обслуживал заказчиков, то сидел в канцелярии. «Дядя» сам взялся известить моего отца и простер свою заботливость до того, что позвонил в Сегре по телефону, дабы захватить мсье Резо в кабинете, то есть вдали от его менторши.
— Хм… Хорошая мысль! — только и сказал в ответ наш прокурор.
Как и следовало ожидать, мадам Резо предприняла контратаку и продиктовала отцу письмо, которое я получил через два дня:
«Бедное мое дитя, ты по обыкновению разбрасываешься. Мы разрешаем тебе строчить бумаги в „Сантиме“, раз ты сможешь немного заработать. Но отныне ты будешь одеваться на свои деньги, а остаток заработков посылай маме, она будет их для тебя копить».
Я тут же решил, что никаких «остатков» у меня не будет, и родители, не имея возможности проверить это обстоятельство, не настаивали. «Хвалебное» замолчало, мне на радость. И молчало целых два месяца. В первый день нового года меня пригласили на улицу Пре-Пижон (Мику от имени всего семейства преподнесла мне бумажник), а потом я вернулся в следующее воскресенье и являлся к ним почти каждую неделю. В доме Ладуров у меня завелось собственное кольцо для салфетки, совсем как у тетушки Полэн. А эта последняя, несмотря на денежные переводы и родительские наставления, становилась ко мне все благосклонней и, желая доказать это делом, совсем замучила меня признаниями и советами. То, что она именовала «моей идиллией», возбуждало ее не меньше, чем события шестого февраля.[16]
— Я же вам говорила, — начинала она, едва мы садились за обеденный стол, — что дело Стависского приведет ко всеобщему оздоровлению. Молодцы!.. Возьмите макарон… Обязательно возьмите еще… Ах, эта противная республика!
Прижав левую руку к желудку, а правой вращая пенсне, она, казалось, с отвращением к чему-то принюхивается. Потом левая рука переползала от грудобрюшной преграды к области сердца.
— Кстати, — продолжала тетушка Полэн, которая обладала талантом моего брата Фреда мгновенно перескакивать с одной темы на другую, — как идут наши делишки? Нынче утром я встретила Мишель. Какая хорошенькая, до чего же хорошенькая!
При этих словах шея ее вытягивалась, голова взлетала над шемизеткой, лицо выражало восторг. Я хмурился, но зря я твердил:
— Тише! Если моя мать…
И мадам Полэн вполне меня одобряла, бессчетное количество раз повторяя «ш-ш», положив палец на сложенные сердечком губы. Но уже через пять минут, когда я спускался по лестнице, она перевешивалась через перила и во все горло кричала мне вслед:
— Хорошенькая девушка, а главное, хорошая девушка! Не упускайте своего счастья.
Что хорошенькая, так это верно. Хорошая девушка — согласен. Но вот насчет счастья… в этом я не так уж уверен. Во всяком случае, я был не слишком удовлетворен этим счастьем, вернее, тем, как я им пользовался. Каждое воскресенье с утра до вечера я болтал разные пошлости, сам себя не одобряя и сам им не веря. Закрыв за собой дверь дома Ладуров, я сразу же понимал, до чего я смешон, но в голове у меня была лишь одна мысль, как бы поскорее открыть дверь снова. Надо сказать, что я действительно преуспел в том кисловатом жанре ухаживания, который благосклонно принимают девицы. Я поддразнивал Мику, я ее изводил. Мои комплименты были отточены наподобие стрелы. Сколько можно играть в слова (на букву «к» — кошка, корсаж, карабин, ключ, ключница, ключарь, ключица), ведь на улице Пре-Пижон прямо-таки помешались на разных играх! Я выжидал своей очереди и, зевая, небрежно предлагал перейти к «м», чтобы позлить Мику, которая сидела справа от меня и с безнадежным видом сосала кончик карандаша, стараясь не писать запрещенных прилагательных. Ходили мы в бассейн, там тоже ей доставалось. Я беспощадно донимал ее теми колкими любезностями, какие взяли себе на вооружение мои сверстники из боязни прослыть дамскими угодниками, предпочитающие гладить своих избранниц против шерсти. Я донимал ее своим дурным настроением и даже своим молчанием. Правда и то, что молчание может быть неслыханно красноречивым, как я постиг на примере нашей матери. Я знал назубок всю лексику молчания.
В общем-то я был восхищен, но не был доволен. В детстве мне никогда не доводилось восхищаться, с меня вполне хватало, если я был собой доволен. Конечно, я еще весь сжимался под благословенным дождем понимающих улыбок, однако постепенно терял свою непримиримость, свою природную диковатость. Иной раз, копаясь в главной картотеке «Сантимы» и проверяя, графу за графой, неописуемое разнообразие богоматерей и святых — главной приманки туристов-пилигримов, — я вдруг вспоминал, что Мику — дочь торговца во храме и что семейные добродетели Ладуров можно весьма точно оценить по прейскуранту благодати. И все же в ближайшее воскресенье я, в угоду ладуровскому клану, преклонял вместе с Мику колена перед гипсовыми статуями, которые в глазах главы дома были обыкновенной статьей дохода. Так я стоял, сложив на груди руки и чувствуя в ногах зуд нетерпения, а моя милая тем временем перебирала перламутровые четки.
— Евангелие, страница сто сорок шестая! — шушукались сестрицы.
И Мику пододвигала ко мне свой молитвенник, чтобы я читал вместе с ней. Я бросал на страницу быстрый взгляд, но сразу же подымал глаза и упирался взором в вырез ее платья, в две впадинки — две солонки — у ключиц, ниже которых был рассыпан перец мелких родинок. Этот перец уже изрядно жег мне глаза.
XII
Пасха. Вторые каникулы в городе. Мадам Резо жалуется на печень. Ну и ладно! Жить вдалеке от нее — это еще не значит жить в изгнании.
К тому же мне не терпелось показать себя у Ладуров. Я решил продемонстрировать им свой первый сшитый на заказ костюм, который потребовал немалых жертв — всего моего заработка в новом году. Я чувствовал себя смелым и каким-то очень значительным. По-настоящему новой вещь бывает лишь на юных плечах. В этом возрасте выйти от портного — это как бы выйти из бедра Юпитера. Вот что преображало меня в этом году и умаляло моих далеких братьев, все еще щеголявших в уродливых костюмах из магазина готового платья, столь любезных сердцу нашей матушки. Памятный день. Чем-то мы его отметим?
В энный раз за шесть месяцев я вошел в дом на улице Пре-Пижон, крышу которого венчали две длинные трубы, казалось вязавшие нескончаемое вязание из дымовых нитей. Мадам Ладур (она ждала восьмого ребенка) тоже вязала, сидя у себя в спальне. Было одиннадцать часов двенадцать минут, и эта точность показывает, что я не потерял головы. Мы с Мику случайно оказались одни и сидели в разных углах розовой кушетки (признаюсь, что с этого дня я амнистировал стиль Луи-Филиппа). И оба мы, я это чувствовал, молчаливо пришли к соглашению, что пора кончать. Слишком долго мы не начинали. Мишель с преувеличенным вниманием полировала ногти о мякоть ладони. Я подвинулся. Подвинулся всего на пол-ягодицы. Мы сидели профиль в профиль — брюки и юбочка туго натянуты на коленях — и молчали самым красноречивым образом.
Я сделал вид, что мне неудобно сидеть, и снова приблизился к ней, но уже на обе ягодицы. Как приступить к делу? Можно, например, сказать: «Мишель, ты по годам уже невеста. Мне не хотелось бы, чтобы ты отдала свою руку случайному…» Нет, лучше сказать посовременнее: «Мишель, давай-ка мы с тобой столкуемся, а?» Я приблизился еще, да так удачно, что мы прижались друг к другу.
— Решился! — бросила Мику.
Оттенок нетерпения, прозвучавший в ее голосе, не делал чести победителю, но я переиначил эту реплику. Легкий дефект произношения моей милой позволял думать, что она просто спрягает священнейший глагол романсов и спрашивает: «Влюбился?» По правде сказать, я и сам не знал, влюбился ли я, но мне почему-то казалось, что это не так уж важно. Ответим на всякий случай:
— Да.
Я сижу с затуманенным взглядом, хищно скрючив пятерню, и сейчас самое для меня главное — это склониться к ней. На миг наши подбородки находятся в волнующей близости, потом повинуются взаимному притяжению, что роднит их с намагниченным железом.
— Только один! — требует Мишель, приоткрыв губы, все в мелких трещинках и пахнущие розовой помадой.
Извините, мы знаем катехизис. Бог тоже един, но существует он в нескольких ипостасях. Леденчик, еще леденчик! Однако я приоткрыл одно веко, нарушив этим деликатный обычай. «Видик у тебя, должно быть, идиотский, — шепчет насмешник и добавляет докторальным тоном: — А знаешь, наши бабушки называли период первых поцелуев — молочный месяц. Смотри в оба! Молоко — оно легко скисает». Зря это он — розовая помада прелестна на вкус. Но тут хлопает дверь. Мику отнимает свои губы, верхняя чуть-чуть дрожит, и отталкивает мою руку, проявляющую повышенный интерес к одному из буравчиков, приподымающих свитер.
— Скажем маме?
— Ни за что на свете!
Очевидно, речь шла о ее маме. Но я подумал о своей и разразился неестественным, испуганным смехом при мысли, что мадам Резо можно посвятить в тайну этой умилительной сценки.
XIII
Тщетная предосторожность: в наше озеро сиропа рухнул камень. Мы думали, что хватит нам не начинать. А пришлось сказать себе просто «хватит!». Через три дня мадам Резо ликвидировала инцидент.
Напевая какой-то мотивчик, я возвращался из «Сантимы». Я ничего не подозревал. На улице было очень хорошо, и, взбегая по лестнице, я пожалел, что расстался с солнцем, до того новым, что оно даже заново выбелило стены дома. В передней ни души, ни души и в столовой. Только из моей комнаты доносились какие-то звуки. Очевидно, воры. Я толкнул плечом полуоткрытую дверь, и она заплясала на петлях.
Картинка! Здесь были воры, но воры особого рода. Мое белье, бумаги, одежда валялись на кровати, на столе, прямо на паркетном полу. Мадам Резо лихорадочно выкидывала содержимое из ящиков комода. Мсье Резо, сидя верхом на стуле и уперев подбородок в резную спинку, следил, позевывая, за ее действиями. В углу в напряженной позе стояла тетушка Полэн, бессильная свидетельница обыска, сложив на животе руки, ввинтив, как гайку, голову в сборочки жабо. На шум моих шагов ко мне разом повернулись три лица; три пары глаз, различные по цвету, по силе выражения, уставились на меня.
— Ты слишком роскошничаешь, милый мой, — проскрипела матушка, ощупывая мой серый костюм.
— Фред тебе пишет? — простонал батюшка.
— Ваши родители… потребовали… — пробормотала вдова.
Целые две минуты длился невообразимый ералаш. Все трое говорили одновременно, и все трое говорили, конечно, свое. Наконец из общего гула вырвался пронзительный голос моей матушки:
— Дайте же мне наконец сказать.
«Усталость», на которую она ссылалась последние полгода, пошла ей явно на пользу. Голоса стихли, и матушка продолжала среди всеобщего молчания:
— Красивые костюмы шьют для красивых девушек! Жак, поговорите же откровенно с этим молодым человеком.
Неслышно, как мышка, ступая своими войлочными туфлями, тетушка Полэн вышла на цыпочках в переднюю. Старик окончательно обмяк. Теперь уж не только подбородок, но и усы, даже нос уткнулись в спинку стула, и чувствовалось, отцу ужасно хочется, чтобы стул превратился в ширму.
— Я собрал все сведения, — с трудом начал он. — Итак, бесполезно отрицать, что…
— По нашему приказанию за тобой следили, — уточнила мадам Резо. — Не зря твой отец помощник прокурора.
— Вы с Фердинаном доставляете мне много хлопот…
— К счастью, у нас есть Марсель!
Речь в два голоса, подкреплявших один другой, тянулась бесконечно. Выяснилось, что мы с братом настоящие преступники. Фред, воспользовавшись тем, что достиг двадцатилетнего возраста, то есть совершеннолетия с точки зрения военной службы, не спросив ни у кого разрешения, нанялся на корабль простым матросом и даже родных не предупредил. А я, я пропускаю занятия и превращаю в посмешище нашу несчастную семью, выгружая песок на набережных Мен. А главное, я ставлю под удар свое будущее, волочась за одной из девиц Ладур, открыто появляясь каждое воскресенье на улице Пре-Пижон. Подумать только — Резо и какая-то Ладур! Это же патология! Никто не спорит, что у Ладуров есть деньги, но, если я так уж люблю деньги, что само по себе отвратительно, хотя и не так уж неразумно (тут мсье Резо кинул быстрый взгляд на свою супругу!), можно найти и деньги, но попозже, со временем, а главное, деньги не с таким дурным запахом. Попозже, ибо я не достиг еще возраста, когда о таких вещах думают серьезно… Мсье Резо разгорячился, разразился тирадой, которую мать подкрепляла междометиями… Конечно, обстоятельства переменились, приходится волей-неволей пересматривать кое-какие нормы, удовлетворять кое-какие житейские нужды. Но только сообразуясь с духом общественных, а главное, семейных добродетелей и с единственной целью — сохранить для Франции непреходящие ценности, а для нас, Резо, сохранить это превосходство, это интеллектуальное главенство, которое не уступит веку ни на йоту, которое вдохновляется известной традицией. Коль скоро ни личные заслуги, ни приобретенное состояние не способны более защитить нас, естественно, что положение человека и его устройство принимают с каждым днем все более важное значение. Неудачники и вступающие в неравные браки представляют сейчас особую опасность — ведь все члены семьи обязаны множить преимущества, даваемые их положением и брачными союзами, дабы противостоять расшатыванию устоев. Неравный брак всегда промах, а в наши дни это прямая измена. А сверх того, революция и ее авангарды, марширующие впереди в самых различных обличьях, отнюдь не единственная опасность. Слава богу, возникло долгожданное обратное течение, однако оно равно несет с собой самое лучшее и самое худшее вперемежку. Толпа выскочек, вообразившая, будто они созрели для того, чтобы плыть в одном фарватере с буржуазией, спускает на воду свой утлый челн в надежде, что их возьмет на буксир какой-нибудь болван вроде меня. Ибо я болван, хуже того — болван неблагодарный. Всем известно, какова цена этим так называемым благородным предлогам, которыми прикрываются вольнодумцы, то есть люди, считающие себя передовыми и в лучшем случае заблуждающиеся. Они хотят отомстить за свою никчемность, демонстративно вступая в союз с завистью или амбициями маленьких людей, а иной раз вступают в брачный союз с их дочерьми. За невозможностью блистать, быть на видном месте довольствуются ролью светлячка среди посредственности. Просим, однако, не смешивать посредственность врожденную и посредственность, так сказать, добровольную. Такие, как Леон Резо, как Эдит Торюр, храня в душе всю утонченность своего воспитания, которое… которому… ну словом, ты сам знаешь, хотя притворяешься, что тебе наплевать… Ну так вот, Леон Резо, Эдит Торюр и даже Фред не падут так низко, ибо их посредственность есть явление преходящее, трамплин, который позволит им последовательно, рывками достичь благосостояния, что в конце концов гарантирует необходимую стабильность элиты. Но чего можно ждать от меня, проникнутого духом отрицания, который не может оправдать даже какая-нибудь случайная удача?
— Короче, — отрезала мадам Резо, которой явно не терпелось перейти к практическим действиям, — мы не можем больше допускать, чтобы ты употреблял во зло свою свободу. В конце месяца ты переедешь от мадам Полэн. Мы добились для тебя от ректора отдельной комнаты в интернате. Там существует хоть какая-то дисциплина: вечерами учащихся не выпускают без специального разрешения и без достаточных оснований. Кроме того, ты уйдешь из «Сантимы» и посвятишь все свое время изучению права. И чтобы ноги твоей не было у этих Ладуров! Довольно, кончен этот грошовый флирт…
— Ну, ну, не будем об этом, — с неестественной живостью подхватил мсье Резо, который, взглянув на мой подбородок, очевидно, заметил, что он угрожающе выпятился.
— …а может, даже и связь! — докончила моя матушка, выплюнув это подозрение уголком губ и наблюдая уголком глаза за моей реакцией на эти слова.
Реакция была простая. Ценой неслыханных усилий я удержал свой кулак, потянувшийся к ее золотому зубу. Я молча поднялся и начал собирать и приводить в порядок свои пожитки. Отец удивленно открыл глаза, а мать — та поняла.
— Тебе только девятнадцать, — медленно проговорила она, — и мы можем лишить тебя денежной помощи.
Я тщательно сложил стопкой свои сорочки и кальсоны (впрочем, это явное преувеличение — стопка получилась жалкая). Потом вынул бумажник, тот, что подарила мне Мику. Кусок бумаги, который я оттуда извлек, был денежным переводом. Все так же молча двигаясь по комнате, будто родителей здесь и не было, я швырнул этот аргумент к ногам матери… Я видел, как она побледнела, потом на лице ее появилась страшная улыбка, предвещающая бой. Она сделала несколько шагов тоже с таким видом, будто не замечает моего присутствия, и ровным голосом сказала отцу, который с перепугу сосал кончик усов:
— Я не хотела скандала, но нас к этому вынудили. Придется заглянуть на улицу Пре-Пижон.
Мсье Резо, который решительно перепутал все роли и играл сейчас роль удрученной горем матери, поднялся со стула и засеменил вслед за женой. Дойдя до порога, он оглянулся.
— Ну, ну, мальчик! — умоляюще протянул он.
Конечно, мне следовало бы промолчать. До сих пор я вел себя с шиком. К несчастью, во мне не ко времени пробудились мои лицедейские таланты, и именно им я обязан ненужной репликой:
— Следуйте за мадам. А я, я выхожу из семьи.
И я с грохотом захлопнул дверь перед самым его носом.
Они уехали.
— Почему ты не закатил ему пощечину? — крикнула мать уже на лестнице.
И тут же я услышал робкий протест и «иду, иду», которое указывало, что мсье Резо не так уж радуется перспективе сразиться с одноглазым Ладуром. Потом шум мотора, прорычавшего на всех своих четырех скоростях, удалился и заглох. Слышны были лишь протяжные крики стрижей, на всем лету разрезавших вечерний свет. Вот я и один. Наконец один, наконец свободен. Наконец сам отвечаю за себя.
Да, но какой ценой? Что произойдет на улице Пре-Пижон? Вдруг меня осенило — я понял, какая ждет меня беда, беда, в которой я не отдавал себе отчета, которая пока еще казалась мне непропорционально огромной по сравнению с вызвавшей ее причиной, ибо совершенно верно, что мы узнаем цену людям и вещам, лишь теряя их. «Если бы я раньше заметил их автомобиль, я проколол бы шины и первым поспел бы к Ладурам… Может быть, мне бы удалось смягчить удар». Я уже знал, что этот удар разобьет мой хрупкий фарфор. Правда, такие удары закаляют, но я не желал им подвергаться. Я хорошо знал свою мать и хорошо знал Ладуров: в результатах встречи можно было не сомневаться. Присев к столу, я уткнулся подбородком в скрещенные руки, мои сухие волосы топорщились на висках, и вдруг с губ моих слетела удивительная мольба: «Господи, сделай чудо!» — и, как прямое ее следствие, еще более удивительные слова: «Ах, если бы я мог молиться!» И тут только я заметил, что кто-то скребется в дверь.
— Войдите!
Скорбно перебирая, как четки, свое янтарное ожерелье, двойной ниткой спускавшееся на грудь, вдова, словно конькобежец, заскользила в мою сторону на войлочных подошвах своих зеленых шлепанцев. Продольные морщины, отвислая кожа под подбородком, бахрома шали, складки платья — все придавало ей сходство с плакучей ивой.
— Я не люблю менять жильцов, — начала она, — если хотите, можете остаться. А сейчас бегите к Фелисьену.
При всей моей душевной растерянности я почувствовал легкие укоры совести. С какой стати я смеялся над этой туго накрахмаленной шемизеткой? Только она одна и была жесткой у тетушки Полэн.
— Скорее, скорее, мальчик! — повторила она. — Пообедаете потом.
Когда я стремглав несся по лестнице, она вдруг крикнула с таким яростным убеждением, что чуть было не вылетели обе ее вставные челюсти:
— Ох, эта женщина!
Через четверть часа я вскочил в трамвай, промчался от остановки галопом на улицу Пре-Пижон как раз в тот момент, когда оттуда выезжал родительский автомобиль. Хотя мать, конечно, заметила меня, она даже не обернулась. За стеклом я увидел лишь ее острый профиль, подобный ножу гильотины.
В три прыжка я очутился у дома Ладуров, позвонил и стал топтаться у дверей. Скверное предзнаменование: на сей раз мне открыла не одна из барышень Ладур, а служанка. Бросив ее в передней, я помчался в столовую.
Вся семья была в сборе. Вся семья, молчаливая, скупая против обыкновения на жесты, застывшая в растерянности, как в трясущемся желатине… Только взгляд кривоглазого был нацелен прямо на меня, все же остальные избегали смотреть в мою сторону, включая Мику, которая не отрывала взора от тарелки бульона, будто загипнотизированная глазками жира. Густо пахло гневом, унижением, конфузом. Разливательная ложка задрожала в руках мадам Ладур, простонавшей:
— Вам не следовало сюда приходить!
Услышать это «вы» из столь милосердных уст было равносильно приговору. Она снова взялась разливать суп, Мику предприняла отвлекающий маневр — стала вытирать нос младшей сестренке, а я готов был провалиться сквозь землю, не зная, куда девать свои руки. Наконец Ладур скрестил руки на груди.
— Мне незачем уведомлять вас о том, — нанес он мне удар, — что ваши родители сейчас были здесь. Самое меньшее, что я могу о них сказать: они показали себя гнуснейшим образом. К несчастью, я не мог не подумать, что вы их достойный наследник.
— Фелисьен, — умоляюще проговорила мадам Ладур, — уведи его в свой кабинет.
«Его»! Я уже стал просто местоимением! Кривой поднялся со стула. Меня не так испугал взгляд его единственного глаза, как монокль из черной тафты. Но Ладур снова тяжело рухнул на стул, потряс головой, как бык, подсчитывающий количество впившихся в него бандерилий, и негодующе промычал:
— Она посмела сказать, что жалеет об оказанном мне доверии, мы, видите ли, воспользовались этим, чтобы навязать вам свою дочь… И все это с таким видом! И каким тоном!.. «Не возражайте, мсье Ладур, я в курсе дела, у меня есть свои соглядатаи. Впрочем, это секрет Полишинеля. Жан сам рассказывает встречному и поперечному, что ваша дочь — его любовница».
Молчание. Ни взгляда в мою сторону. Нет, нет, я вовсе не ненавидел тебя, мамочка, я только учусь понимать, что такое ненависть. Ты прибегла именно к такому роду клеветы, от которой всегда что-нибудь да останется. А эту клевету не могут простить ни они, ни я. К чему протестовать словами? Мои сжатые кулаки и челюсти, мои глаза протестовали куда красноречивее всяких слов. Впрочем, зря. Выдумка это или правда, обвинение само по себе достаточно серьезное. Если это правда — виновен я. Если это — выдумка виновна семья, где возможно такое вероломство и где Мику не могла бы жить. Ладур снова заговорил — именно это он и объяснил мне:
— Я не поверил ни слову, но ты сам понимаешь, сынок, что при сложившихся обстоятельствах остается одно — раззнакомиться. Ты нас знаешь. Мы — Ладуры, мы — семья. На ваших высотах нам, возможно, трудно было бы дышать, зато у нас есть некий орган, именуемый сердцем. Мои дочери свободны, но они не вступят в брак потихоньку, не перешагнут не то что через распри, но даже через простое безразличие. Как бы ни был хорош жених — кстати, к тебе это не относится, — все равно выходишь не за него одного, но и за всю его родню. Слава богу, вы с Мишель даже не помолвлены, мы не хотели замечать вашей взаимной склонности. Все это несерьезно, и твоя мать могла бы не заводить себе нового врага, а новый враг, уж поверь мне, отныне ей обеспечен. А что касается вас с Мишель, то вы оба еще очень молоды, вы скоро все забудете.
Он поднялся со стула на этот раз уже окончательно. Я повернулся к Мику, но она не шелохнулась, придавленная тяжестью кос, уложенных короной на голове. Но тут в тарелку супа скатилась слеза, и это оказалось сигналом к всемирному потопу. Младшие девочки сразу же плаксиво сморщились. Сюзанна высморкалась. Сесиль громко потянула носом, а тетя разрыдалась. В течение нескольких секунд вся семья громко всхлипывала. Я не знал, куда деваться, и, когда Ладур твердой рукой взял меня за плечо, я был даже благодарен ему за это.
Домой я вернулся уже с готовым решением, на этот раз Фред показал мне пример. Завтра уеду в Париж. Утром постараюсь добиться перевода на филологический факультет, продам свои юридические учебники, получу в «Сантиме» то, что еще не получил, — какой-то пустяк. Понятно, можно бы остаться у тетушки Полэн, работать. Но «Хвалебное» отсюда в тридцати километрах, а Мику — меньше чем в трех. Я хотел избежать любой капитуляции и опасался, что могу скапитулировать дважды: к этому меня может принудить наша семья — это раз, и могут принудить мои собственные сожаления — это два. Выклянчивать примирение или тайное свидание, отступить перед трудностями или тоской — ни за что на свете!
— Ну как? — спросила вдова, когда я вошел в переднюю.
Но, взглянув на мое лицо, не стала ждать ответа.
— Так я и думала. Идите, миленький, обедать…
Но мне хотелось побыть одному. Мне равно претили и лапша и жалость.
— Простите меня, но я не хочу.
Вдова вздохнула и перестала настаивать. Число людей, вздыхающих из сочувствия ко мне и тут же меня зачеркивающих, катастрофически росло. Я понял, что ей хочется меня поцеловать, и не сердился на нее за то, что она верила в силу поцелуев. Ладуры тоже обожали лизаться.
— Завтра я уезжаю в Париж.
За мой пансион было заплачено до конца месяца. Я мог бы потребовать половину денег, и уверен, мадам Полэн не отказала бы мне. Но мелкие подачки влекут за собой крупные. Уеду без гроша.
— Подумайте хорошенько, — сказала вдова, нервно перебирая свое янтарное ожерелье.
Все было уже обдумано. Я заперся в своей комнате и в мгновение ока уложил чемодан. Вещей было немного, и в чемодане осталось пустое место. Ну и пусть! Самое ужасное, что я ничего не увозил с собой на память о «ней», если не считать бумажника из шагреневой кожи, но в нем нет ни фотографии, ни письма. Когда кожа перестанет певуче скрипеть под пальцами, что останется от этого очаровательного детского приключения, которое открыло мне совсем новый мир? Открывшийся, но тут же закрывшийся мир. У меня перехватило дыхание… Ну и ладно! Я уже начал было ее любить, эту малютку. Я мог сказать это не стыдясь, поскольку моя печаль была более живописна, чем мои любовные утехи. Я начинал любить ее, и моя мать догадалась об этом раньше меня. Ее поступок выдал ее, окончательно определил ее сущность. Больше всего она боялась вовсе не Мику, а того, что я могу быть счастлив. Она принудила меня учиться на юридическом факультете, потому что не может преуспеть человек в деле, навязанном ему против воли. Она устроила эту сцену у Ладуров, имея перед собой двоякую цель. Одну главную: «добиться» моего непослушания, извлечь из него решающий аргумент, чтобы удалить меня из семьи, сделать мое учение чрезвычайно затруднительным, а мое будущее неверным. Вторая цель, побочная: нанести мне удар в ту потаенную область чувств, куда ей, несчастной, не было доступа!
Несчастной? Странное озарение! Подобный сатанизм мог быть порожден лишь ужасом или страданием. Еще недавно я считал, что спустился в самые глубинные недра ненависти, а дело было в ином — так начиналось мое презрение. Психимора-воительница стала старухой, искушенной и мерзкой паучихой. Она сошла с пьедестала, на который вознесло ее мое злобное преклонение. Знамение времени, благотворное действие «грошового флирта» — сейчас мне казалось не так важно побороть ее, как обезвредить.
Я говорю это тебе сегодня, в свой черный день смятения чувств: слушай, мать, я сведу тебя к нулю. Сведу своим счастьем, которое для тебя оскорбление и которого я во что бы то ни стало добьюсь. Тебе просто было отказано в счастье или ты его потеряла? Конечно, мы еще далеки от цели, и пока ты еще можешь торжествовать. Лежа одетый на кровати, я хорохорился, надеясь заглушить боль. Эти косы, уложенные короной, эти голубые глаза цвета детских пеленок, эти луковицы гиацинта, шотландская юбочка… Я потерял тебя, моя маленькая.
Плачь же, Хватай-Глотай, слезы никого не позорят.
Слеза скатилась, но у крокодила было слишком много зубов. Говорят, ночь хороший советчик. Иногда плохой советчик. Моя вторая реакция была совсем иной, типичная реакция Резо. Завтра на заре я буду считать, что Ладуры слишком легко выставили меня из дома, что Мику, эта плакса, вела себя бог знает как! Уже на вокзале, перед самым отходом поезда, я, повинуясь какому-то жестокому наитию, подошел к цветочному киоску и велел отправить мадемуазель Мишель Ладур венок из белых цветов, великолепный кладбищенский венок с традиционной надписью: «От неутешного». Инстинкт подсказал мне: лучше разрушить, чем потерять.
XIV
Резо в лакеях, это же скандал! Я не нашел ничего лучшего, чем этот черно-красный жилет, даже не новый и слишком широкий в груди, объем которой равнялся восьмидесяти сантиметрам. Красный цвет — иной раз цвет стыда — я сохранил для семьи. Она, наша семья, еще заплачет по этому поводу кровавыми слезами. Скажем откровенно: я достаточно легко решился на этот шаг, столь оскорбительный для родни. Я видел только одну прелесть в этом унижении — возможность в моем лице принизить всех Резо скопом; а черный цвет на моем жилете — цвет бунта — худо ли, хорошо ли вознаграждал меня за другой его цвет. Впрочем, повторяю, я не мог найти себе иной работы, и это предложение, исходящее от Студенческой взаимопомощи, давало немалые преимущества, ибо лакей живет, как известно, на всем готовом. Кроме того, это решение свидетельствовало о моем мужестве. Нужда порождает мужество, но гордыня тут же присваивает себе эту вывеску. Под ее сенью переход в разряд гнущих спину, необходимость молча глотать обиды вырабатывают силу характера.
— С этими ехиднами надо быть философом, — твердила рыженькая Одиль, переводчица, телефонистка и отчасти мажордом, когда одна из двух барышень Помм — наших хозяек — кричала ей в трубку свои распоряжения.
Эта «философия» нищих, эта атмосфера покорности, эта лакейская разновидность стоицизма ничуть не удовлетворяла меня! Ведь если ты обязан «не забываться», то еще вправе не забывать и о своем достоинстве. Дабы спасти нас от сатаны, господь бог принял облик человека; дабы спастись от моего демона, я пошел в лакеи, временно конечно, до дня своего воскресения. К тому же не то это слово — лакей. Мои довольно-таки двусмысленные функции в шикарном отеле на авеню Обсерватуар позволяли мне щеголять званием метрдотеля. Габриель Помм — младшая из сестер и настоящая хозяйка отеля — снабдила меня фраком, который оказался мне столь же узок, насколько широк был жилет.
— В основном, — сказала она мне, — вы будете убирать мужские номера, а Эмма — дамские. Вечерами, то есть с шести часов, надевайте фрак. Ресторана я не держу, но кое-кто из приличных клиентов заказывает себе в номер ужин из соседнего ресторана.
Сестры Помм — особы весьма респектабельные, их полностью характеризуют каракулевые манто, серые шелковые шарфики и пронзительные дисканты, — обе сестры Помм[17] — кальвиль и ранет, одна еще не старая, а другая вся в морщинах — условились, по обоюдному согласию, не слышать, как с треском взлетают к их лепным потолкам пробки от шампанского на любовном рандеву. Начиная с такой-то цены (а цены здесь вообще были высокие), любой постоялец становился более чем порядочной особой. В лоне известного комфорта (а ковры в номерах были толстые) скромность заглушает критику. Поэтому-то Мишель Помм, старшая сестра, еле поводила бровью, когда три юные особы запирались в номере люкс (этот номер 18 числился за таинственной шубой, которую все именовали: господин депутат) или когда через приоткрытую дверь красного дерева видно было, как среди бела дня стрелой пролетала в ванную не по времени полураздетая женская фигура.
— Жан, как только эта дама выйдет, ополосните немедленно ванну, — приказывала мне старая дева.
Я особенно не любил старшую сестру Помм. Эта морщинистая старушонка, целыми днями торчавшая в холле и вышивавшая крестиком наволочку, смела носить дорогое мне имя — одно уж это меня бесило! Но чего я действительно не мог переносить, так это ее манеру каждую минуту и по любому поводу окликать меня по имени, как я сам в свое время называл наших фермеров. Особенно противно было видеть, как она шепчет на ухо уезжавшим постояльцам: «Не забудьте, пожалуйста, гарсона». Еще противнее было ее подмигивание, советовавшее мне поскорее освободить правую руку — хотя я с трудом удерживал в обеих руках бесконечное количество кожаных чемоданов и протянуть ее для получения изысканного плевка, превосходного оскорбления — чаевых. Мое отвращение в такие минуты было заметно за километр.
— Что тут такого? Это же нам полагается, — шипела Одиль, рыжая телефонистка. — Не строй барина, а то всех клиентов распугаешь.
Она выхватывала у меня из рук монету или кредитку, опускала эту милостыню в наш общий ящичек, так как вечерами мы делили выручку. Иногда к вечеру, когда я кончал пылесосить коридоры и вытирать кожаные кресла, я присаживался у подножия высокого табурета телефонистки.
— Не смотри на мои ноги! — бросала она сквозь зубы и только потом замечала: — Да опять он со своими книгами!
Ноги Одиль и впрямь меня не интересовали. Пока их разочарованная владелица яростно совала в аппарат разноцветные фишки и говорила, безбожно коверкая иностранные языки, сначала с перуанцем из двенадцатого номера, а потом с человеком, не имеющим гражданства, из двадцать первого, полосатый жилет усердно зубрил «изменение каузальных форм в старофранцузском языке через флексию „с“».
Так проходили эти шесть месяцев. График — я познал эту истину еще в коллеже — не что иное, как камнедробилка воспоминаний: двадцать четыре зубца суток хватают их, дробят на мелкие частицы, а время — каток — выравнивает их, расплющивает в памяти. Моя память немного удержала из этого превратившегося в пыль периода. Думаю даже, что сделала она это с умыслом, именно из-за полосатого жилета. Порывшись в памяти, я, конечно, обнаружу там Габриель и Мишель Помм — двух архангелов, наподобие Гавриила и Михаила, расправляющих шарфики, как крылышки, и готовых лететь на зов по первому требованию своих постояльцев; Эмму, молоденькую горничную, вытряхивавшую в окно пыльную тряпку — круп вверху, голова внизу; Шарлотту, кухарку, лоснящуюся уроженку Мартиники; опять Эмму в кружевной диадеме, в шотландской юбочке, исподтишка посылающую мне улыбки шестнадцатилетней горничной; меховой воротник депутата и эту надменно-важную еврейку, жадно сосущую турецкие сигареты, неизменно стоявшую в глубине своего номера между плюшевыми красными портьерами, которые, казалось, вот-вот распахнутся, чтобы пропустить волну ее ароматов. Смутно слышу безличную смесь голосов:
— Вы забыли помыть биде в седьмом номере.
— Прежнему гарсону Гюставу этот аргентинец всегда давал по сто монет.
— Пришел депутат, приготовь ему талон на три разговора.
— Жан, мою корреспонденцию!
— Жан, мои чемоданы!
Только собственные мои голоса, внутренний и внешний, по-настоящему удержала память. Обращенный к одной из сестер Помм: «Мадемуазель, мыло кончилось». Обращенный к Мику: «Шестьдесят пять, семьдесят, восемьдесят дней я тебя не видел, детка!» Горничной во внезапном порыве рук: «Ну-ка постой, кошечка!» Нашей матушке тоже в порыве, но уже иного сорта: «Видела бы ты меня сейчас!» Кухарке: «Спасибо, Шарлотта, я не пью вина». И эта последняя реплика, сам не знаю почему, казалась мне наиболее для меня характерной. Среди сочленов нашего профсоюза домашней прислуги я единственный презирал вино. По приказу матери нам в «Хвалебном» никогда не давали вина, и если я допивал остатки церковного кагора, то лишь в качестве протеста. На авеню Обсерватуар красное вино вызывало во мне такое же чувство, как чаевые. Может же человек выказывать свое презрение хоть к мелочам, если ему нельзя проявить его в серьезных вещах.
Так проходили месяцы. Даже выходной день не давал мне возможности вырваться из этой серятины: в день седьмой я сидел у себя на седьмом этаже и зубрил. Впрочем, и каждый вечер от девяти до двенадцати я брался за книги, отказывался слушать, как Эмма кричит под дверью: «Значит, мы с тобой так никогда и не сходим в кино?!» — и отказывался слушать, как увещевала ее Одиль: «Оставь его, мсье учится» — с той злобой в голосе, которую питают новобранцы к солдатам-добровольцам, профессиональные нищие к нищим случайным, осужденные на пожизненное заключение к осужденным на сроки. Искушение отдавалось у меня в коленях щекоткой, но другой голос шептал мне над ухом пророческие слова: «Я сулю тебе будущее, которым вряд ли можно будет гордиться», а я не был слишком горд настоящим, чтобы терпеть его и впредь. Я погружался в учебники, а тем временем рядом, за перегородкой, храпела кухарка Шарлотта и в коридоре две старушонки далеко за полночь обменивались горестными соображениями о том, как подорожал лук-порей.
Само собой разумеется, в зимнюю сессию я выдержал экзамены. Но пусть вас не слишком раздражает это «само собой разумеется». Я недобрал одно очко, но жюри смилостивилось надо мной, приняв во внимание чрезвычайные обстоятельства, в которых мне приходилось заниматься. Возвращаясь на авеню Обсерватуар, я бесился и решил немедленно восполнить недостающее очко. Однако крошка Эмма в этот вечер оказалась менее сговорчива, чем мои экзаменаторы. Она позволила пригласить ее в кино, позволила ее обнять, пощупать, отвести в нашу овчарню, втащить к нам на седьмой этаж, но, очутившись в своей комнате, захлопнула дверь перед самым моим носом. Вернувшись ни с чем к себе в каморку, я разразился смехом. Только сейчас я понял, чем заинтересовала меня эта заурядная девчонка. Подбородок у нее был круглый, волосы коротко острижены, руки шершавые от работы, говорила она ужасным языком, зато носила юбочку из шотландки и глаза у нее были голубые — словом, она напоминала Мику.
— Мику! Это уже наглость! Даю тебе неделю сроку! — произнес я вслух.
Я посмеялся еще, впрочем без всякой охоты. В течение полугода я убеждал себя, что вопрос с Мику покончен. «Молочный месяц, а молоко-то скисло». Чувство, у которого нет будущего, не заслуживает воспоминаний. Следовало думать о Мику как можно меньше, наброситься на учебники и пыльные тряпки. Я забыл довольно основательно. Но существует три вида забвения: забвение сердца, забвение гордыни, забвение плоти. С одним из этих забвений дело обстояло довольно плохо, где-то в глубине моего естества таилось глухое смятение, прошлое оживало при виде шотландских юбочек… Эмма была похожа на Мику! Тем хуже для нее, для Эммы. Некоторые сожаления — всего лишь фикция.
Для этого мне потребовалось два месяца. Как-то сентябрьской ночью юбочка из пестрой шотландки скользнула по разошедшимся половицам пола в мою комнату. Скажем, не кичась: Эмма оказалась невинной. Такое бывает даже среди служанок, но легко теряется в мансардах. Вот почему я сказал, что она была невинной, а не девственницей. Все Резо мира отлично знают, что только барышни из хороших семей обладают драгоценной девственностью, потеря которой является катастрофой по меньшей мере в масштабе кантона, в то время как не стоящие внимания дочери простого народа обладают разве что не стоящей внимания невинностью, потеря которой не имеет никакого значения и которую потребитель рассматривает как некую гарантию, вроде обертки стерильного бинта. Да и сама Эмма, видимо, придерживалась того же мнения.
— Ну вот, — вздохнула она, — рано или поздно это должно было случиться.
Скорчившись в уголку постели, великолепно нагая, на простынях сомнительной чистоты, целомудренная в своей наготе, она переживала жалкую зарю своей юности. Дрянная шипучка, выпитая за счет сестер Помм, поблескивала в глубине ее голубых глаз. У нее тоже голубые, как пеленки, глаза, но голубизны пеленок, которые свалялись и побурели, пролежав целый год мокрые в неопрятной колыбельке. Я был не особенно удовлетворен победой. Этот легкий успех раздражал меня почти как поражение. Впрочем, разве это не настоящее поражение? Подобно моей матери, я принадлежу к особой категории людей, палачей собственных поступков в том смысле, что часто они совершают тот или иной поступок не из желания его совершить, а повинуясь некоему внутреннему велению… Странное в данном случае веление! Перед лицом желания все женщины взаимосвязаны, ибо они взаимозаменяемы, и та, что отдается, наносит оскорбление той, что себя блюдет. Но желание не может оскорбить любовь, ибо все предъявляемые им векселя фальшивы. Принося в жертву присутствующих, мы не властны уничтожить отсутствующих. Жалкая магия подмены любимых служанками! Ненужные обиды! Смешение жанров! Мой троицын день еще не наступил: мой демон по-прежнему жил во мне.
Действительно, получилось скверно! Через две недели рыжая (предположим, что из ревности) выдала нас сестрам Помм.
— Я не потерплю разврата на седьмом этаже! — прошипела мадемуазель Габриель, которая терпела только роскошный и дорогостоящий разврат, надежно защищенный дверями красного дерева. — Кроме того, — добавила она, — вот уже дважды о вас справлялся полицейский инспектор. Интересно, что вы могли натворить у себя на родине, если за вами следят! В моем доме никаких историй! Лучше вам отсюда уйти! А Эмму я отошлю к родителям.
Я ушел в тот же вечер. Из чистой бравады я решил было увести с собой и Эмму. Но ее не оказалось дома. А когда она вернулась, сестры Помм (которые, несомненно, боялись неприятностей с несовершеннолетней и не желали привлекать к себе внимание полиции нравов) выкинули ее еще до моего ухода и, не дав ей времени опомниться, доставили на вокзал Монпарнас, откуда она, вероятно, отбыла в свою родную деревню.
XV
Я неистовствовал. Изгнанный с авеню Обсерватуар с небольшим выходным пособием, я поначалу поселился в подозрительных номерах на улице Галанд, и, так как каникулы кончались, я немедленно записался на новый учебный год. Оставшись в скором времени без гроша, я пустился на поиски работы. Мое единственное удостоверение личности («Я, нижеподписавшаяся, Габриель Помм, удостоверяю, что мсье Жан Резо работал у меня в качестве лакея с 6 мая по 26 октября 1934 года») оказалось скорее опасным, чем полезным: долго ли позвонить по телефону. Передо мной постепенно закрылись двери трех контор по найму, не считая Студенческой взаимопомощи. Я не стал настаивать и набросился на маленькие объявления в газетах: «Требуются мужчины, без специальных знаний, хорошо воспитанные» — и т. д. и т. п.
Известно, что это означает: нужны годные на все и ни на что не годные. Вот «главный инспектор» принимает вас в конторе IX округа, подальше от главного здания, где помещается администрация. Для него важно использовать человека, то есть эксплуатировать его, выжать из него все соки. А вам вменяется в обязанность застраховать вашу родню и ваших знакомых, всех, кто пойдет на ваши уговоры скорее, чем на уговоры какого-нибудь незнакомца. Поскольку я не имел ни связей, ни родственников, которых можно щедро снабжать страховыми полисами, меня немедленно выставили за дверь, как только обозначилась падающая кривая, отразившая низкий уровень моей производительности.
Есть еще пылесосы, стиральные машины, чистка ковров… Такая-то фирма предлагает будущим своим продавцам «пройти недельную оплачиваемую стажировку». Каждый бросается туда сломи голову. Понятно, берут только на эти семь дней. «Улица Реомюр, — шепчут в кружке годных на все руки (в конце концов все перезнакомились и стараются подсунуть другому что похуже, ибо конкуренция свирепствует внизу еще яростнее, чем наверху), фотография на улице Реомюр ищет агентов». Мчусь туда со всех ног. Хотя заранее знаю, что речь идет об уже изжившем себя деле, период расцвета которого пришелся на 1930 год, когда фирмы буквально наводнили деревню увеличенными, раскрашенными фотографиями в светлых позолоченных рамках. В течение недели мы пытались всучить хоть одну такую фотографию недоверчивым жителям предместий, у которых уже побывали представители десяти конкурирующих с нами фирм.
В конце концов мы опустимся до того, что будем ходить от двери к двери, предлагая всевозможные предметы гигиены, продавая «запасы вин» (запасы из подвалов ловких рыцарей наживы), парижские «предметы роскоши» с ярлыком «made in Germany».[18] Будем уличными торговцами, будем шагать по бульварам, советуя встречным спешно наведаться к мадам Сфэнжес, ученой-ясновидящей, чей адрес, намалеванный алыми буквами, торчит на метр выше наших плеч; с четырех часов утра будем на Центральном рынке рысцой развозить тележки, груженные плетеными корзинками с цветной капустой, будем рикшами для прожорливых белолицых братьев…
Скажем короче. В течение почти двух лет я буду искать это неуловимое «что угодно», которым занимается бесчисленное количество «кого угодно». Подобно многим и многим, я буду жить, одержимый мыслью о сотне франков — цена за мои тридцать квадратных метров с клопиными обоями — и даже о пяти франках, необходимых для покупки розового талона (обед без мяса) в «Фамий нувель». Великолепное противоядие против тщеславия. Тут нечем хвастаться и не на что сетовать. Благодаря мадам Резо мы были хорошо натренированы, мы умели обходиться без каминов, без вина, без приличного обеда, без теплых одеял, без новых ботинок, без чистого белья и прочей ерунды. Я говорю мы, ибо я был не один. Десять тысяч моих товарищей жили на положении бродяг. Как раз в ту пору министр почт и телеграфа великодушно разрешил нанимать на работу «без предварительных испытаний» преподавателей философии и лиценциатов филологических наук в качестве сортировщиков почты, считая, что такая квалификация незаменима для этой работы. Тем временем я продолжал учиться, просиживал бессонные ночи над дорогостоящими учебниками, решив в конце концов получить диплом, хотя нашими дипломами были усеяны улицы, как засаленными листками, с той лишь разницей, что в них не заворачивали пирожки.
— Вам следовало бы добиться стипендии или постараться попасть в университетское общежитие, — посоветовал мне один из профессоров. — Я поддержу ваше ходатайство.
Но я не слишком стремился к стипендии и общежитию. Я учился, но я не был студентом. Кроме того, у меня не было разрешения родителей — я все еще не достиг совершеннолетия. Впрочем, их разрешение только помешало бы мне: расследование установило бы, что мои родители платежеспособны. Мое происхождение оборачивалось против меня. Я не был бедняком: я был обездоленным, чтобы не сказать — деклассированным. Никто не беспокоится о беспокойных людях.
Не беспокоится?.. Черная неблагодарность! Временами и обо мне тоже беспокоились. Полиция регулярно наводила справки у хозяина гостиницы. Но он, на мое счастье, всего навидался на своем веку и только время от времени шептал мне на ухо: «Сегодня опять приходили». В квартале было немало юбок, и порой они проявляли интерес к моей юности. Не будем никого называть, кроме последней по времени: Антуанетты. Я вовсе не отрицаю той истины, что подобно тому как, переменив двадцать профессий, впадаешь в нищету, так и, пережив двадцать любовных приключений, впадаешь в одиночество. Но не забудем и мою соседку по гостинице: Поль, подружку. Подружку в случае нужды и по постели, но только в случае необходимости. «Подруга» в кавычках, которая была и осталась другом без кавычек. Холодная муза, что и не удивительно со стороны девушки, носившей то же самое полярное имя, что и моя мать.[19]
Однако полюс южный, в то время как моя мать — полюс северный, вечно выводящий из строя мой компас. Мадам Леконидек по удостоверению личности, где указано: глаза черные, волосы черные, лицо круглое, нос прямой, цвет кожи смуглый. Отец — капитан дальнего плавания, мать — метиска из Бразилии. Добавлю: в прошлом студентка медицинского факультета, не окончившая курс из-за каких-то любовных историй и, за неимением лучшего, добившаяся со временем диплома медицинской сестры.
Сегодня Поль Леконидек, которая служит в частной клинике и работает круглые сутки (через три дня на четвертый), собирается ложиться спать. Она окликнула меня через дверь, и я тут же вскочил с места, ибо не мог упустить случай позавтракать. В клинике Поль «кормят» (чудеснейший глагол!), и она пользуется этим, чтобы время от времени принести мне кусочек ветчины, яблоко, вареную фасоль в горшочке: она уверяет, что стащила эти продукты, но, по-моему, просто уделила мне из своей порции.
Покуда я уписываю за обе щеки фасоль, даже не сказав «спасибо», Поль раздевается. Она даже не считает нужным отвернуться. В этом бесстыдстве нет ни вызова, ни расчета. Если я захочу с ней лечь, достаточно просто заявить об этом: она окажет мне и эту услугу — в числе прочих. Я познакомился с ней в день моего переезда в гостиницу: по ошибке в мой номер занесли ее кувшин для умывания. На следующий день она научила меня хитроумному приему: в провода втыкают две булавки и таким образом можно, минуя счетчик, включать вместо лампочки подпольную плитку. Потом мы стали встречаться ежедневно. Я — дикарь по природе — дошел до того, что выложил ей все свои несложные истории; рассказывал ей много о Мику, от которой мне, впрочем, следовало бы отречься, и чуточку о моей матери, от которой отрекаться я не собирался. В течение двух месяцев любезность Поль держала меня на почтительном расстоянии. Однако я хотел ее, хотя она утратила свежесть молодости, хотел потому, что она казалась недоступной. Потом вдруг перестал ее хотеть, в тот самый день, когда в ответ на мое неожиданное для нас обоих объятие она спокойно сказала:
— Прости, я совсем забыла, что тебе двадцать лет. Если это тебе действительно мешает жить, приходи сегодня ко мне вечером. Сегодня, и завтра, и послезавтра… словом, до тех пор, пока мы не отделаемся от этой истории. А потом успокоимся.
Конечно, я пришел к ней. Для очистки совести я чуть было не сказал: из вежливости. Она проявила достаточно пыла, который при наличии доброй воли можно извлечь из длительного любовного опыта, а я отдал ей должное на манер юных критиков, аплодирующих сотому представлению скучной пьесы. Ласки, если они лишь добрая ласковость, — печальная разновидность желания. Через неделю я увлекся — тоже на неделю — некой Жизель, барменшей у Рузье. Поль это, по-видимому, ничуть не задело. Она даже подчеркивала, что довольна этим происшествием, умеренно довольна, подобно тому как рядовой охотно отказывается от ответственности и преимуществ капральского чина.
— Вот видишь, — говорила она, — ты меня даже не хотел, ты просто хотел, чтобы я тебе уступила. Бойся таких чувств в любви, а то по-прежнему будешь только шкодить.
С этих пор Поль со снисходительной злобой начала говорить со мной о мужчинах. Хотя она не посвящала меня в свое прошлое и официально числилась в разводе с мужем — морским офицером, — она была застарелая сторонница «полиандрии», как сказал бы профессор социологии. Очевидно, у нее было немало приключений, она и сейчас не избегала их, но уже не искала. С нею победитель ничего не побеждал, даже усталости. Вот что, в моих глазах, лишало ее сексуальной притягательности (хотя время от времени, признаюсь, я проводил у нее ночь). Говорить о женщинах во множественном числе и настоящем времени — это вполне нормально для молодого человека; но когда женщина говорит о мужчинах во множественном числе и в прошедшем времени — это обесценивает ее еще больше, чем климакс.
Поль продолжала раздеваться, не нарушая моего злобного молчания. Подобно тому как человек снимает перед сном вставную челюсть, она сняла с пальца и положила на ночной столик свое кольцо с крупным бриллиантом — ревниво хранимая память (о каких былых великолепиях, о какой минувшей любви?), — игра которого затмевала тусклый блеск ее глаз. Потом она аккуратно развесила белье на спинке стула и прыгнула в постель, пружины которой еще долго не желали успокоиться. Резким жестом я бросил ей свое одеяло, поскольку сегодня мы спали с ней в разные часы. Поль легла на живот, потрясла головой, чтобы ее великолепные черные волосы, прошитые белыми нитями, рассыпались по подушке, и пробормотала, зевая:
— Чего ты сегодня дуешься? Почему ты не пошел на Центральный рынок?
— Мне не на что нанять тележку. Но я видел объявление в «Энтрансижане»[20]: требуются мойщики окон.
— Дай-то бог! Только не забудь — на дворе минус шесть градусов.
Я и сам знал это слишком хорошо. Вот уже пять минут, как валил снег, покрыв белой ватой оконные переплеты.
— «Кермесса ангелов, где эдельвейс роняет лепестки», — продекламировала Поль. — До чего же поэзия может быть комфортабельной! А я стараюсь устроить тебя в нашу клинику в качестве помощника санитара. Ты был бы занят с полудня до восьми вечера — значит, мог бы по утрам ходить на лекции, а вечерами с девяти до одиннадцати зубрить и был бы уверен, что каждый день тебе обеспечена горячая пища. А что еще новенького?
Рот мой наполнился слюной при этой светлой перспективе. Последнее время я был не так уж сильно уверен, что заботы о пище недостойны моего внимания. Однако я проглотил слюну и буркнул:
— Да ничего особенного. Ходил на свидание с Сюзанной, дочерью сапожника с улицы Сен-Северен. С Антуанеттой что-то не клеится. Мне-то, сама знаешь, плевать, но, боюсь, она наставляет мне рога.
Поль откинула прядь волос и подняла голову:
— Ах, вот в чем дело!
Она фыркнула.
— Превосходный урок! Будешь меньше обманывать других, когда на своем опыте узнаешь, каково оно.
— Вчера вечером опять приходили шпики от мадам. Вот упорная старуха! Никак не пойму, почему она так держится за их донесения и не подстроит мне еще какое-нибудь свинство.
— Очевидно, считает, что ты сам себе их достаточно подстраиваешь.
Поль нырнула под простыню. Ее голос, проходивший сквозь бумажную ткань, вдруг стал резким:
— Надоел ты мне со своей мамашей! Люди, конечно, на все способны, но я, слава богу, вышла из того возраста, когда верят в людоедов и людоедок. Дай мне поспать, мальчик с пальчик!
— Ну и спи, глупая!
Резо-младший, с всклокоченной шевелюрой, с воинственно выдвинутым подбородком, величественно выпрямил стан. Кто же она, эта женщина, которая так глупо хочет ему добра и вместе с тем осмелилась коснуться его мифов, того, что составляет смысл его жизни и его борьбы? Поль повернулась к стене, вздохнула:
— Иной раз ты и святую можешь из себя вывести.
Разгневанный мальчик с пальчик ретировался. Нет таких семимильных сапог, которые помогли бы преодолеть то расстояние, что отделяет тебя от понимания самых близких друзей. Это я замечаю уже не впервые: когда я говорю о своей матери, меня обычно слушают вполуха. Даже у такой женщины, как Поль Леконидек, лишенной каких-либо иллюзий, все восстает в душе, когда касаешься этой интимной смеси из рождественских елок, восковых младенцев Иисусов, пощечин, родительских ласк, ежедневных тартинок и воскресных тортов, бесценного клада воспоминаний, хранящихся под шелухой жизни на дне мерзейших выгребных ям. Понося свое собственное детство, я задевал чужое. Как утверждают, золотой век находится где-то позади, и столь же ошибочно рай помещают в преддверие жизни. Загубленное детство — преступление немыслимое, это все преувеличения борзописцев. Так не будем же удивляться, что потребовалось сто лет, дабы уничтожить дома, забитые маленькими чудовищами, которых никто не любил. Не считают ли люди, что не уметь заставить себя полюбить — значит тем самым поставить под сомнение бескорыстную нежность всех тех, кому удалось преуспеть в этом. Негодование легко переходит в недоверие. «Спрячьте свою культю!» — кричат сначала. А затем: «Да что вы мне рассказываете? Это вовсе не культя! Мальчик с пальчик, неженка, это же просто бобо!»
Я открыл окно и, опершись локтями о подоконник, стал думать о своих «бобо». Гнев мой улегся. Цел, я уцелел. Без вмятин и повреждений. Мне никогда не бывает скучно, мне некогда, я не могу позволить себе такой роскоши. Чего же мне, в сущности, недостает? Уж не становлюсь ли я романтиком?
Там, внизу, на улице, вот они настоящие жертвы. Проститутка из дома № 50 уже вышла на промысел и поводит запавшими, подчеркнутыми тушью, мокрыми, как губы, глазами, взгляды которых протягиваются, точно пальцы, готовые подцепить прохожего. В униформе богадельни, сплошь дырявой, но блистающей металлическими пуговицами на казенных брюках, семенит по снегу Тав. Я знаю его, этого старика, славящегося в нашем квартале своей татуировкой: руки, лоб, шея — все покрыто синеватыми надписями, въевшимися в кожу ругательствами, которые не имеют ничего общего с подлинным текстом его души и являются как бы отсебятиной этой кожи, этого живого палимпсеста. Нынче тетушка Моб поднялась слишком поздно и теперь напрасно роется в уже обшаренных помойках, волоча за собой дерюжный мешок, кое-как заштопанный бечевками, в грубой косынке на свалявшихся, как старая-престарая паутина, волосах. Как и каждое утро в этот час, час мусорщиков, аккордеон в руках слепого музыканта то трясется в пронзительном визге, то вдруг рушится в торжественном адажио. Но вот самое страшное: узкое крысиное личико, дитя сточных канав, это не то восьмой, не то двенадцатый ребенок в семье, которого вместо еды угощают подзатыльниками; а вся его одежда — лохмотья, вот он идет в рваных галошах на босу ногу и пожирает глазами витрину бакалейной лавки. Я полностью разоблачен! Что перед этим зрелищем сетования и бунт какого-то Хватай-Глотая, мальчика нелюбимого, но не мученика; у которого все-таки был над головой кров, которого кормили, учили, который будет фигурировать в отделе хроники и объявлений «Пти курье», который готовился к реваншу, которого пощадила грязь? Можно закрыть окно. В самом деле, я не столь уж интересная персона. Не пойду просить прощения у Поль, это не в стиле здешнего заведения. Но согласимся, что она не так уж не права.
XVI
Годовщина моей независимости уже прошла. Я выстоял. Я не столько гордился этим, сколько удивлялся. У меня не было впечатления, будто этот год действительно прожит, я не считал его чем-то значительным и теперь с трудом его вспоминаю. Ведь мы оцениваем года, как фрукты: по вкусу и по весу. И забываем, что мякоть — это одно, а косточки — это другое. Мы сбрасываем со счетов эти промежуточные этапы, которые сыграли в нашем развитии важную роль, но не могли стать датой. В сущности, мы перенимаем у истории ее метод — пренебрегать эпохами, которые бедны событиями; у нашего прошлого тоже есть свойство садиться от стирки временем.
Что можно сказать еще о новом Жане Резо, кроме того, что он учился быть бедным, познал истинную цену — нет, не в денежных единицах, а в затраченном труде — пары носков, порции эскалопа и номера в гостинице? Научился не забывать о цене труда, поскольку очень трудно забыть о тяжести своего ярма. Научился походя владеть весьма малым числом действительно необходимых вещей и желать иметь (тоже походя) те из необходимых вещей, которых у него не было (то есть почти всего). Жалкая, как видите, наука, не заслуживающая исторической хроники! Впрочем, успокойтесь: Жан Резо не особенно-то в ней преуспел… Что бы Поль ни думала, в нашем семействе святых нет.
Я делал что мог. Я уже не всегда знал точно, на каком я свете. Уже во многом отличный от бывшего Хватай-Глотая, я еще во многом походил на него. Мне хотелось продлить свою битву, но я желал также поскорее постареть, чтобы избавиться от необходимости делать непомерные усилия, я не особенно был удовлетворен своим возрастом и вовсе не желал, чтобы он длился вечно. По правде говоря, я испытывал странное ощущение, что у меня вообще нет возраста. Трудно определить возраст того, кто не был по-настоящему ребенком и для кого недействителен закон чередования различных этапов жизни. Кроме того, двадцатилетний рабочий, который живет на свой заработок, то есть на свои мускулы, совсем иного возраста, чем, скажем, двадцатилетний студент, который живет в ожидании будущего диплома и в социальном плане значительно моложе. А ведь я был одновременно и студентом, который высиживает положенные часы лекций в Сорбонне, и тем парнем, который должен сначала заработать на тарелку супа, а уж потом сесть за стол. Я жил в двух ритмах, я принадлежал к двум породам, я был существом пограничным.
Общество не любит таких метисов. Чистильщики, мойщики окон, грузчики на Центральном рынке не упускали случая напомнить мне о правилах приличия, о социальной сегрегации так же, как и мои обеспеченные товарищи. Ксенофобия — естественное свойство людей, ибо повадки и привычки эмигрантов кажутся нам прямым вызовом нашим собственным традициям, и наиболее отсталые народы наиболее щепетильны на сей счет именно потому, что страдают комплексом неполноценности в наиболее острой форме. Остракизм, которому народ подвергает деклассированных, проистекает из тех же умонастроений. Выражение «маменькин сынок» (по сути дела, нелепое и оскорбительное для всех матерей) имеет ныне свой противовес в выражении «сын народа».
— Ты родился не в нашей среде, ты с нами только случайно, ты не можешь многого понять, наши проблемы все-таки останутся для тебя книгой за семью печатями.
Сколько раз (в более примитивной форме) слышал я эти рассуждения! Сколько раз меня старались осадить, указывая на этот новоявленный источник благодати, вне которого несть спасения! Я терялся перед этой неожиданной метаморфозой предрассудка, касающегося привилегий происхождения, и, лишь вспомнив о Резо, начинал ему радоваться. Как только буржуазия стала сомневаться в своем превосходстве и вопрошать свою нечистую совесть, предместья тут же присвоили себе ее девиз и заявили: «Это мы соль земли!», с тем большей убедительностью и основанием, что могли позволить себе добавить: «Ибо мы прекрасно можем обойтись и без вас».
Обходитесь без Резо и им подобных, пожалуйста! Но обойтись без меня — ни за что на свете! Таков был, признаюсь, окольный путь, которым я проник в другой мир. Инстинкт самосохранения всегда будет поставлять революции необходимых ей интеллигентов и специалистов, которых она отстранит в дальнейшем, выковав свою интеллигенцию. Бороться за свою собственную гибель — это не обязательно безумие: ведь есть же люди-торпеды. Других притягивает магнит или подхватывает вихрь головокружения перед неизбежным, и они успокаивают себя мыслью: «В конце концов удалось же христианству перетянуть на свою сторону язычников».
Я даю здесь свое собственное толкование событиям. Эту сторону вопроса следует подчеркнуть. Мелкий буржуа может пойти в народ, держа на ладони свое сердце, а в другой руке у него — мозг, который он предлагает не столь чистосердечно. Мелкий буржуа, о котором родные с ужасом говорят, что он опростился, никогда не будет с народом на равной ноге, ему придется «склоняться» к младшей братии, ибо он уже родился на каблуках. Найдем же в себе мужество сказать: какова бы ни была политическая формула, которая должна обеспечить торжество бесклассового общества, если оно восторжествует, мы, мелкие буржуа, будем не столько жить его жизнью, сколько ее принимать. Те, кто родился с комплексом превосходства, редко становятся по-настоящему «равными»; великодушные, они просто не смогут побороть своей жалости, поддадутся мелкому тщеславию самоотречения. Но утешимся тем, что народ, идущий к победе, не тот, каким будет народ, который воспользуется ее плодами. Надо сначала, чтобы «плебс» поднялся до «популюса», чтобы одно поколение забыло другое. Те, кто родился с комплексом неполноценности, тоже никогда не будут «равными», они останутся в плену идеи возмездия, если не просто в плену у тех, кто предложит не спешить воспользоваться преимуществами возмездия, но зато распространить это благо на всех. Во имя прошлого или во имя будущего мы все принесены в жертву.
Тем временем Поль продолжала мне помогать. По-всякому. Воистину агрессивное долготерпение! Вот я и выразил впервые в жизни чувство, близкое к благодарности. Я перезабыл многие лица, но никогда я не забуду ее лица, которое по заслугам следовало бы отчеканить на золотой монете моих двадцати лет, если бы оно уже не было запечатлено на стольких фальшивых монетах. И особенно не забуду того, что Поль научила меня нежности, сначала двусмысленной, но становившейся все чище под влиянием благодарности.
Мое положение улучшилось. Поль не удалось устроить меня в клинику, но зато она нашла мне место секретаря у одного из своих бывших клиентов. Правда и то, что через две недели мой новый патрон вследствие какого-то таинственного вмешательства отослал меня без долгих разговоров. Стремясь спасти меня от врагини, чьи намерения Поль уже разгадала, она пустилась в интриги, добилась рекомендаций от врачей и пристроила меня в качестве агента в фирму, торгующую медикаментами. Кое-как выпутавшись из этого дела, я устроился наконец в той же фирме на менее блестящую, казалось бы, должность ночного сторожа, что, по существу, было почти синекурой. И вовремя. Месяцы лишений и изнурительного труда постепенно довели меня до худосочия. Я выдохся настолько явно, что мне не пришлось даже просить отсрочки в военном комиссариате для окончания учебы: призывная комиссия по собственному почину дала ее мне.
Тем временем я сдал годовые экзамены: опять едва-едва вытянул их. Дочь сапожника сама собой ликвидировалась или ликвидировала меня: сейчас уже не помню, да это и не имеет значения. Я не заменил ее другой. Не заменил я также и бумажника, подаренного Мику, хотя он вытерся по краям и кожа уже не скрипела под пальцами.
XVII
Почти каждый день после завтрака — вернее, того, что заменяло мне завтрак, — я выходил посидеть в сквере Вивиани, расположенном под моим окном. Если Поль была свободна, она присоединялась ко мне. Пока я проглядывал учебники, она с увлечением читала детективные романы, на последней странице которых все персонажи, сраженные пулей или кинжалом, валяются на земле во имя слишком поздно восторжествовавшей морали и к вящей славе сыщика-любителя. Поль никогда не брала с собой рукоделия: она принадлежала к тому меньшинству женщин, которые хвастаются, что пуговицу пришить не умеют.
Почти каждый день, в одни и те же часы, пестрые стайки птиц, ребятишек и девушек, ожидавших открытия контор, набрасывались на скамейки, и ветер ерошил их перышки или их шестимесячные завивки, разматывал шарфики, пел радость на свирели их смеха и на гармониках их плиссированных юбочек.
Тот же ветер, играючи, рвал вязание из рук незнакомки. Обычно незнакомка приходила одна или в обществе все той же подружки; появлялась она в час и удалялась в час сорок пять. Садилась всегда на одну и ту же скамейку. Я уже давно заметил ее, хотя она была не из тех, кого замечают. Я вовсе не хочу сказать, что в ней не было очарования: напротив, на нее приятно было глядеть. Но казалось, она совсем не стремится быть вам приятной. В ней не было того задора, той живости движений, того избытка молодости, от которого молодеет даже улица, когда по ней шествует сама юность, швыряя в лицо прохожему целыми охапками праздничную свежесть. С первого взгляда сдержанность и пунктуальность незнакомки казались даже несколько старомодными. Так или иначе, она принадлежала к тому большинству женщин, которые вечно щетинятся пластмассовыми спицами, шагу не могут ступить без клубка шерсти, и даже начинает казаться, будто клубок — это часть их тела наравне, скажем, с грудью. В течение трех месяцев эта спокойная девица вязала что-то из светло-серой шерсти, посвящая тысячи секунд созданию сложнейшего и нескончаемого шедевра; Поль выводило из терпения ее терпение, она прыскала, когда незнакомка откладывала одну за другой бусинки миниатюрных счетов, которыми пользуются для подсчитывания петель. А мне незнакомка была определенно симпатична. Ведь Мику тоже считала петли, полуоткрыв рот и высунув кончик языка.
Десятого октября — пойдите скажите после этого, что люди не запоминают дат, — мы увидели наконец долгожданный шедевр на плечах моей незнакомки. Это было демисезонное вязаное платьице, при виде которого я восхищенно присвистнул.
— Ничего не скажешь, — начала было Поль, но ее следующий за мной сыщицкий взгляд принес ей, очевидно, тревожные донесения. — Достаточно тряпки, — вздохнула она, — чтобы мужчина переменил свое мнение о женщине!
Впервые я разглядывал незнакомку с таким вниманием. Особенно меня заинтересовали ее глаза. Они могли бы быть больше, веки более гладкими. Зато они были свежие, трепетные, про себя я называл такие глаза — уклейки (пансионерки на прогулке пошлют вам навстречу целый косяк этих рыбок). Ее быстрый взгляд, блеснув на мгновение, тут же нырял под ресницы, а лицо скрывалось под дымкой волос, как будто ему хотелось стать еще незаметнее, еще бледнее. Все прочее — если только можно говорить о всем прочем, когда речь идет о молоденькой девушке, — утопало под серыми волнами джерси, оставляя для наблюдателя лишь гальку локтей, плеч и колен.
— Если хочешь, я могу уйти… — предложила Поль.
Конечно, ее присутствие меня стесняло. Пусть незнакомка для меня еще незнакомка, все-таки неприятно показываться перед нею в обществе другой дамы. Не мог же я крикнуть: «Знайте, вот та дама, слева от меня, ничего общего со мной не имеет!» Я не посмел ни ломать с хрустом пальцы, ни притворно покашливать — одним словом, отыгрываться на полувежливом нетерпении. Но Поль все поняла по моему молчанию, она избавила меня от излишнего хамства, сунула в книгу вместо закладки перчатку и тихо поднялась со скамьи.
— Ну, до скорого!
Откуда-то свысока, чуть ли не с высоты плеча, она протянула мне руку — это рукопожатие, казалось, отбрасывало меня за сотни метров от всякой интимности — и удалилась, жеманно ступая на цыпочках, словно шла не по гравию, а по воробьиным яйцам. Я не был ей благодарен за эти маневры. Ее улыбка, чересчур заговорщическая, оставляла мне свободным поле действия, а ведь и речи не могло быть о легком приключении. Ни о каком приключении даже не могло быть речи: у меня на это не было ни времени, ни охоты. Я сторонился всех Мику, как и всех Эмм, а из этой малютки Магдалины не выйдет…
Злясь на все эти сложности, я тоже поднялся и пошел к калитке, которая трижды хлопнула за моей спиной. Этот металлический лязг заставил подскочить задремавшую няньку и чиновника в отставке, погруженного в чтение «Энтрансижан», где красовались последние фотографии югославского короля Александра. Два голубя поднялись в воздух, посвящая солнцу голубизну своего взлета. На улице я все-таки оглянулся… На кончике взгляда, заброшенного, как удочка, в мою сторону, блеснула уклейка. Но она тут же сорвалась с крючка и схватила другую наживку: шерстинку нового вязания.
XVIII
Декабрь обглодал статуи. Из моего окна, вздымавшегося над куполом Сен-Жюльен-ле-Повр, я видел, как дрожат от холода ивы в сквере Вивиани, куда вряд ли придет посидеть в такую погоду незнакомка. По правде сказать, проверить этого я никак не мог. Я схватил хронический бронхит и уже месяц сидел дома на иждивении и попечении того самого социального страхования, которое мсье Резо некогда ставил много ниже прежней взаимопомощи, якобы свободной потому, что зависела она от хозяев. В нем, в этом социальном страховании, благодаря которому я мог существовать, немало хорошего. Развернув газету, я просматривал заголовок за заголовком, одобряя рабочие требования, упорство которых может оценить лишь тот, кто знавал подлинную усталость, волчий голод и боль в отмороженных руках. С некоторого времени — и с позиций, которые мне самому еще казались несколько узковатыми, — я стал интересоваться создававшимся тогда Народным фронтом[21]. Я даже получил членский профсоюзный билет — эту визитную карточку бедноты. Я уже начинал подсмеиваться над неким Хватай-Глотаем, который читал левые газеты из чистого удальства, лишь бы досадить семье. Разумеется, ни сейчас, ни позже я никогда не буду с ними заодно. Этот их тон, эти тяжеловесные эпитеты, пропагандистские «песни голодных» раздражали меня, бойца, считавшего себя достаточно сильным, чтобы в одиночку победить несправедливость, с которой ему приходилось сталкиваться. Но мы еще поговорим об этом…
— Я принесла тебе чашку бульона, — пробормотала Поль, входя в комнату.
Н-да… Почему, почему ей уже тридцать шесть лет, почему у нее помятые веки в морщинках, почему в волосах рассыпаны седые нити, почему ей приходится подтягивать живот «грацией» и ладонь моя знает, что груди у нее пустые, вялые, как выжатый лимон! Все свои одеяла Поль набросила на меня, и я догадываюсь — вечером она не решится их отобрать, не предложит лечь со мной, как брат с сестрой, и не захочет привлекать внимания, потребовав дополнительный плед, а не раздеваясь нырнет в постель, укрывшись грудой старых пальто. Я не такой уж знаток по части чувств, но я отлично вижу, что за эти полгода ее пресловутое равнодушие сдало и ее непринужденность дала трещину, как вот эта чашка, которую она поставила передо мной.
— Пей, пока горячий.
Мне нравятся эти знаки внимания, не отяжеленные лишними словами и жестами. Заметив, что из наших ртов идет пар, пожалуй не менее густой, чем от бульона, Поль зажгла рахитичную походную печку, от которой воняло бензином. Потом она оправила мою постель, почистила мой пиджак, наскоро сложила книги.
— Хорошо, что ты хоть деньги получишь вперед за месяц, — сказала она, лишь бы нарушить молчание.
Бронхит и в самом деле стал для меня чуть ли не благодеянием. В «Хвалебном» даже представления не имели о подобных «удачах». В нынешнем году я решил получить степень лиценциата, сдав еще два не хватавших мне экзамена. До апреля я надеялся скопить немного денег, чтобы в последнем триместре посвятить себя целиком учебе. Я снова и снова излагал эти благородные намерения Поль, но их прервал сильный приступ кашля. Поль нахмурилась, похлопала меня по спине, потом приказала:
— В постель, сударь! Сейчас принесу банки и термометр.
Но эта программа была сорвана. Пока я укладывался под одеяло, удар кулака потряс мою дверь, и я услышал топот по крайней мере двух пар ног.
Это было настоящее вторжение. Первый военный торжественно вошел в комнату, предшествуемый парой белых перчаток. Его шинель походила на строгий переплет книги, а красные лампасы на панталонах — на роскошные закладки. На боку у него, поблескивая, болталась шпага. Именно в этих «академических шпагах» выражается тоска их владельцев по настоящему холодному оружию. Вверху царила треуголка, и казалось, она еще сама хорошенько не знает, чей она головной убор — дипломата, академика или просто принарядившегося жандарма. Но очки, серебряные нашивки свидетельствовали о том, что треуголка принадлежит студенту Политехнического училища или в данном случае Марселю, новоиспеченному слушателю сего учебного заведения, а сам слушатель поднес к ней в виде приветствия указательный палец и нашел слова, как нельзя более подходящие к данной ситуации:
— Добрый день!
Второй военный, общество которого казалось не слишком почетным для первого, просеменил следом, как денщик, и продемонстрировал нам свой синий вылинявший воротник и красный помпон. Он втянул кривым носом дружественный смрад бензина и протрубил:
— Шли мимо, старик, и решили заглянуть.
Вот они стоят оба на моем облезлом паркете. Матрос разглядывает Поль, как портовую девку. А мой без пяти минут офицер смотрит на нее как на воплощение смертного греха. Его перчатки цвета ничем не омраченной совести, очевидно, тянут вниз его руку, и он не протягивает ее нам. Поль улыбается, показывая в улыбке все свои зубы, бормочет положенные приветствия и удаляется с наигранно смущенным видом, помахивая чашкой, и все это в безукоризненном стиле субретки. Треуголка чуть-чуть склонилась, одобряя ее поведение. И уже через секунду для меня ожила знакомая атмосфера Резо.
— Надеюсь, дела идут неплохо? — соболезнующим тоном осведомился политехник.
— Я в отпуске, — пояснил Фред. — Сначала навестил Марселя. А он захотел пойти со мной к тебе… У тебя здесь не очень шикарно. Как ты выкручиваешься? Впервые вижу тебя таким худым…
Он-то был жирный, его-то хорошо кормило интендантство. Здоровье Марселя не так бросалось в глаза.
Первый же мой ответ должен был внушить братьям заслуженное мною уважение:
— Кончаю, старина, университет. А так как ренты не имею, приходится одновременно работать.
На Марселя мои слова, по-видимому, не произвели особого впечатления.
— Вовсе не обязательно было так усложнять себе жизнь, — сказал он. — Впрочем, странно: меня уверяли, что ты провалился на экзаменах.
Несомненно, его «уверяла» та, у которой были сухие волосы, бульдожий подбородок и одинаковое имя с моей соседкой. Я резко произнес:
— Справься для верности в Сорбонне… А она тебе не сообщила, что я собирал по помойкам сухие корки?
Марсель предпочел расхохотаться. От этого снисходительного кудахтанья треуголка чуть сползла набок. Простим же кое-какие неточности бедной нервной женщине, которую к тому же третирует ее собственный отпрыск. Зато красный помпон Фреда склонился надо мной.
— Ей-богу же, — признался Фред, — она мне позавчера рассказывала, что тебе в прошлом году еле удалось избежать суда за безнравственность, что тебя на призыве забраковали из-за туберкулеза, что сейчас ты живешь за счет какой-то шлюхи…
В эту минуту вошла в своих бесшумных тапочках Поль, и последние слова ударили ее прямо в лицо. Но она и бровью не повела, поставила на столик коробку с банками, пузырек со спиртом, положила пачку ваты.
— Шлюха… это я! — со смаком сказала она, встряхивая градусник. — Присядьте, господа!
Тихий ангел слишком медленно пролетал над нами, и будильник со ржавыми подпалинами, купленный мною в Сент-Уэне, так же медленно грыз тягостные минуты. Наконец Поль, которая делала вид, что ее позабавила эта сцена, скромно положила мне под язык термометр и только тогда обернулась к треуголке.
— Обязательно передайте вашей матушке, — начала она, выделив голосом притяжательное местоимение, но тут же спохватилась: — Нет, ничего ей не говорите. Она и так чересчур осведомлена. Она будет в отчаянии, что ваш брат обманул ее ожидания. Клевета — последнее прибежище бессилия.
Фред, в надежде, что ему простят недавний промах, решительно поддакнул Поль:
— Ей действительно очень хочется, чтобы мы довели ее до отчаяния. Позавчера она мне так любезно сказала: «Когда тебя демобилизуют, можешь идти в лакеи по примеру своего братца». Но через пять минут она уже бросила зубоскалить и сказала папе, который желает, чтобы ты выкарабкался: «Если он добьется успеха, нам это дорого обойдется».
— Не надо ничего преувеличивать, — степенно заметил Марсель.
Он был как бы в двойной броне — своей шинели и невозмутимой серьезности. Однако ему было явно не по себе. Недаром же он покусывал кончики пальцев, обтянутых перчаткой. Не знаю, пришел ли он ко мне в качестве полномочного представителя, или просто соглядатая, или для того, чтобы показать свою новенькую форму, или чтобы помешать нам с Фреди заключить союз, или же просто так, из любопытства. Ни на мгновение я не подумал, что его привели ко мне родственные чувства. Во всяком случае, я понял, что он жалеет об этом визите и что ему не терпится уйти.
Пока Поль, вынув термометр, неодобрительно разглядывала мои 38,2°, Фред разглагольствовал, повторялся, блуждая вокруг да около, острил. Их броненосец «Пуанкаре» стоит в Шербуре. Его, Фреда, отпустили на неделю. Два дня он провел в «Хвалебном» — неслыханная милость, тем более что мать больна гриппом. Правда, это она посоветовала ему не засиживаться в родительском доме.
— Старуха была просто сахар, да и только!.. «Я в восторге, говорит, что наконец-то ты покаялся в своих былых заблуждениях, но мы, — говорит, не можем тебя здесь держать!» И каждые пять минут вытаскивала носовой платок — смотри, мол, какая я больная. А платок до чего грязный! Скупа становится: у них даже прислуги нет… А папе — это уже точно — угрожает уремия… Досаднее всего, что я сижу без гроша. Франция, конечно, наша мать; к несчастью, у нее есть супруг — Государство, а Государство такой же скупердяй, как мсье Резо. Я и в Шербур-то нарочно поехал через Париж: надеялся, что дед с бабкой раскошелятся. Держи карман шире! Только одному Марселю удалось их приручить.
— Да нет, — проговорил тот, став еще более серьезным, — я хожу к ним лишь раз в месяц.
Он поднялся, любовно посмотрел на свои золотые часы (ясно, награда за поступление в Политехническое училище), потом тревожно на Фреди.
— Я приглашен к маркизу Лэндинье… Не можешь же ты явиться к ним в дом в этой форме, а у Жана, конечно, нет приличного костюма, чтобы дать тебе надеть. Поэтому оставайся лучше здесь. Если сто монет тебя устроят…
Но я не дал довести до конца движение белоперчаточной руки, уже полезшей в бумажник. Слишком подходящий представился случай, и мое «великодушие» тут же взыграло.
— Бронхит не заразен, Фред может прекрасно переночевать у меня. Пусть здесь и живет до конца отпуска.
Я сам толком не знал, как я его прокормлю, и уже упрекал себя в душе за то, что слишком рассчитываю на помощь Поль. Но она одобрительно мне улыбнулась. Слегка сконфузившись, Марсель разыграл роль брата, радующегося успехам близких, и важно пробасил: «Прекрасная мысль!» — засим немедленно последовало брошенное с его обычным лаконизмом: «Ну, пока!» Мне он подал на прощание палец, проверил, в порядке ли его амуниция, и повернулся к нам спиной. Я с секунду надеялся, что он зацепится своей шпагой за спинку стула. Но Марсель был слишком хладнокровен, слишком внимателен, чтобы выставить себя в смешном виде. Его рапира не коснулась даже дверного косяка и ни разу не звякнула на ступеньках лестницы.
Несмотря на смрад бензиновой печурки, воздух, казалось, стал чище. Мы с Поль старались шутить, и, как только на лестнице стих благопристойный скрип ботинок Марселя, к нам присоединился Фред.
— Ясно, — сердито буркнул он, — как же это он может представить меня своей мадам Лэндинье: «Мой брат матрос!..» Но почему ты помешал ему дать мне сто монет? С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ведь он за наш счет кормится.
Не поняв нашей гримасы, Фред расположился поудобнее, вытянул ноги и стал говорить, говорить, говорить… Черты его лица, чепуха, которую он нес, сплетни, вспышки злобы — все выдавало в нем плювиньековскую сущность, чего я раньше и не подозревал. Если от отца Фред унаследовал только нос, инертность и отцовский лжеинтеллект, скользящий по поверхности вещей (и считающий себя светочем, поскольку это интеллект не кого-нибудь, а самого Резо), то от матери он взял — в уменьшенной пропорции — эгоизм (высокомерный у нее, нищенский у него), подозрительность, злобу (наступательную у нее, какую-то унылую у него), презрение к миру, который не вознес его на пьедестал, где бы он по праву красовался в своих ботинках 44-го размера. Слушая его снисходительные рассказы о морской жизни, можно было подумать, что по капризу злой судьбы ему выпало спасать честь портовых девок. От его презрения к погонам и нашивкам отдавало сожалением, что ему-то их не дали. Он даже не кричал, он поплевывал. Он ничего не отрицал, ни от чего не отрекался, скепсис был для него вроде как бы сепсис. Просто загнивание крови, его голубой крови.
И к тому же паразит! В течение шести дней он был нам обузой. Одна его манера держать ложку и подымать при этом локоть отбивала аппетит и жажду. Правда, на следующий же день, убедившись в скудости моих харчей, он вдруг вспомнил о своих родственных и дружеских обязанностях и начал охотиться за приглашениями на обед, добиваясь их у приятелей или парижских членов нашей семьи, еще чувствительных к престижу его права первородства. Не забывая притчи о чечевичной похлебке, он вспомнил предложение Марселя и пошел в Политехническое училище, где и сорвал с него сотню франков. Он даже рискнул сделать несколько замечаний, которые позже дошли до меня. «Если Жан обнищал, — говорил он, — это еще не резон кормить меня одной вареной картошкой». Вплоть до его отъезда я виделся с ним только ночью, так как он возвращался часа в два, иной раз навеселе, и будил всю гостиницу, грохоча грубыми башмаками. Но Поль по-прежнему улыбалась:
— Да не дуйся ты. Нельзя ничего делать наполовину.
Очевидно, в благодарность за все ее хлопоты Фред сказал мне, вскидывая на плечи свой рюкзак:
— Она неплохая девка, твоя Поль! Но неужели ты не мог найти что-нибудь посвежее?
XIX
Последние километры, так же как и первые, всегда самые длинные. Когда трогаешься в путь — цель еще слишком далека. Когда путь почти пройден тебя сковывает страх. Приближаясь к цели, начинаешь понимать, что она даже не этап, а просто верстовой столб, мимо которого, не замедляя своего движения, проходит жизнь. Закон инерции наиболее жестоко действует не столько в сфере пространства, сколько в сфере времени. «До Соледо — три километра» или «До окончания университета — три месяца»… А куда мы отправимся затем?
Я и сам не знал. Мне пришлось вылезти из постели, чтобы снова пройти призывную комиссию, где на сей раз меня забраковали вчистую. (Хотя забракованные притворяются довольными, в глубине души их несколько уязвляет подобная милость.) Итак, на военную службу меня не возьмут, и тут встал новый вопрос: а что, если, воспользовавшись этим, продолжать учение и получить докторскую степень?
— У меня такое впечатление, — говорила Поль, — что ты не из тех, кто переплетает свою жизнь в кожаную обложку диплома. Я теперь тебя хорошо знаю: тебе лишь одно важно — унизить или эпатировать свою семью. Лакей, человек-сандвич, мойщик окон — все лишь потому, что ты надеешься унизить их в своем лице да еще вдобавок получить аттестат мужества. Но ты путаешь мужество и «гром победы, раздавайся!». К тому же ты думаешь, что своими собственными силами доберешься до высот Резо и даже возьмешь над родичами верх. Ты живешь не для себя, ты живешь против них. И даже не понимаешь, как они над тобой потешаются. Они отлично знают, что диплом не даст тебе никаких прав на долю тех социальных благ, которые ты потерял. Тебе придется пробивать себе путь самому, без связей, в период кризиса и, возможно, под залпами заградительного огня. Вот тут-то они тебя и подловят.
После визита моих братьев Поль изменила тон, как будто внезапно столкнулась с какой-то новой проблемой и теперь искала решения. Мне этот тон не особенно нравился. Свой житейский опыт нельзя передать другому, и мы особенно подозрительно относимся к неудавшимся опытам. Теперь-то я знаю, что Поль внутренне выиграла, загубив свою жизнь, но тогда наши споры казались мне чем-то вроде знаменитого «стрижено-брито». Я относился к ее советам, как к советам заблудшего пастыря, и терпел их единственно потому, что питал к самой Поль теплые чувства или, точнее, любил ее за ее любовь ко мне. Чего же она боялась? Все как будто шло хорошо. Я еще не приступил к работе, но зато был на попечении социального страхования. Увидев рентгеновский снимок моей грудной клетки, довольно подозрительный в смысле туберкулеза, врачи сначала предоставили мне длительный отпуск по болезни, а потом временно перевели на инвалидность. К счастью, мне удалось избежать санатория, и я смог, таким образом, посещать занятия, спокойно окончить университет. Да и наша семья, видимо, сдалась; во всяком случае, к хозяину гостиницы уже больше не приходили с расспросами обо мне. В апреле я стал совершеннолетним. Хотя Марсель, поступив в Политехническое училище, жил со мной по соседству, он ни разу больше у меня не появлялся; когда мы случайно встречались на улице, он изо всех сил старался не броситься от меня со всех ног; говоря о Фреде, который «по-прежнему торчит в матросах и даже до боцмана, болван, не может дослужиться», он только пожимал плечами, простирал свою снисходительность до того, что сообщал мне новости о матери, которая «совсем извелась», и о мсье Резо, «у которого почки работают все хуже и хуже». Наконец весна вывела на сквер Вивиани целую армию крокусов, раздирающих газон, целую армию ребятишек, раздирающих барабанные перепонки, чиновников в отставке и незнакомку… Незнакомку, чье имя я уже знал, потому что как-то подруга крикнула ей при мне:
— Моника, пора! Опоздаем!
Имя, вполне устраивающее того, кому знаком греческий язык и кто склонен приписывать любви главный атрибут господа бога: единичность. Вот в каком положении находились дела. От природы я не слишком робок, не склонен разыгрывать романтического влюбленного под лиловатое хныканье глициний, но я люблю поиграть в кошки-мышки, даже еще не поймав мышь. Это входило в ритуал игр моего наступившего с запозданием детства.
— Смотрите-ка, Мику номер два, — хихикнула Поль, указав рукой в окно.
Я едва не вспылил, но сдержал себя и посмеялся ее словам как милой шутке. Однако Поль как-то странно вздохнула и продолжала:
— Иди же в сквер, тебе этого до смерти хочется. Боишься загубить девушку? Ей-богу, юные грубияны вроде тебя — самые заядлые романтики.
В субботу, когда в сквере запылало разом триста тюльпаньих сердечек, я сказал Поль:
— Давай держать пари, что я пойду?
— Как бы не так! — крикнула она с какой-то даже страстью.
Я спустился в сквер, но на знакомой скамье уже никого не было. Вслед за мной пришла Поль и уселась в заветном уголке.
— Прости, что я заняла еще теплое местечко, — начала она. — Я хочу тебе сказать… Я должна была бы… Словом, эта девочка или другая, не в том дело! Главное в том…
Она замялась, встряхнула волосами, которые в свое время были черными. Говорила она жалобным, прерывающимся голосом, но он пробивался сквозь все пласты моей стыдливости, которая, как я полагал, защищена более надежно.
— Главное, — продолжала она, — это выиграть. А ведь ты не выиграл. Те, кому не повезло с женой, утешают себя, думая о своей матери, и имя им легион! Но таких, кому не повезло с матерью, — считанные единицы, и нельзя, чтобы им не повезло с женой. Любовь… Не смей, пожалуйста, улыбаться! Если любовь изобрели женщины, то патент на любовь выправили себе мужчины! Любовь тебе, пожалуй, нужнее, чем кому-либо другому… Знаю, знаю, о чем ты думаешь, мой маленький Резо, ты не любишь, когда тебя судят, зато ты скор на то, чтобы судить других. Ты думаешь, сама, мол, испортила свою жизнь, и именно в том смысле, о котором я тебе говорю. Ты думаешь, кому-кому, а мне бы следовало помолчать… А то, что я недавно крикнула у окна, так ты не обращай внимания. Возможно, я немного ревную: я ведь не святая. Но я уже давно привыкла терять и в случае с тобой хотела бы потерять красиво. Твое счастье… Опять заулыбался, дружок?.. Поверь мне на слово. Свое счастье я губила три-четыре раза. Я считала, что это слово пригодно лишь для мидинеток[22]. О нем столько писали в бульварных газетенках, что оно потеряло цену. Однако счастье — как это славно! Быть несчастным так легко, так глупо, так общедоступно! Хотеть быть несчастным или даже просто принимать несчастье — это значит ничего не хотеть.
Вот хитрюга! А еще говорят, что женщины ни о чем не думают или думают не о том. Поль думала обо всем. Решила объехать меня на кривой. Не сдержавшись, я улыбнулся.
— Да ну тебя! — проговорила она. — Тебя просто невозможно наставлять, ты все сразу замечаешь. Для тебя буквально все шито белыми нитками. А ведь ты из той породы людей, на чьих слабостях нужно играть, чтобы обратить себе на пользу их силу…
Вдруг она положила руку мне на плечо.
— …ибо надо признать, ты рожден сильным. Но твоя сила тебе не служит, ты ей служишь. Ты дерешься там, где нужно воевать. Твоя позиция почти всегда оппозиция. Я говорю «почти», потому что за этот год ты во многом стал лучше… Но вот я думаю, уж не считаешь ли ты любовь противоположностью ненависти. В таком случае ты все еще сын своей матери.
— Опять белые нитки! Ты повторяешься!
— Посмей сказать, что для тебя это не важно.
Какая проницательность! Даже противно. Именно этот аргумент я выдвигал против себя всякий раз, когда мне приходила охота загубить какую-нибудь Эмму, какую-нибудь незнакомку, какую-нибудь благородную идею. И впрямь, весь вопрос сводился к одному: сумел ли я утвердить «господство над самим собой»? Если моя гордыня поднялась на такие высоты, не шла ли речь в любых случаях о моей драгоценной особе, о моем драгоценном счастье, о моей драгоценной силе? «Идти вперед с гадюкой в кулаке, пугая зрителей…» Ба! Нет человека, который не был бы прежде всего своим собственным зрителем! Разве не о том шла речь, чтобы устрашить меня самого? Любая печаль с опаской ждет своего конца и с ужасом думает о том дне, когда исчезнет без следа боль. Так и ненависть превыше всего боится освободиться от себя, все время кусает себя самое за хвост… Гадюка в большей степени, чем все прочие животные, наделена инстинктом самосохранения. Где же она еще копошится?
— Я сначала относилась к любви иронически, — продолжала Поль негромким голосом, — затем со страхом, затем чуть ли не со стыдом. Много позднее пришло удивление и стыд за прежний стыд, затем ожидание, которое усугубляет этот нерастраченный жар…
— Сочиняешь, Поль! Ты это обо мне говоришь.
— Ясно, о тебе!
Она резко поднялась со скамьи, теперь она могла покинуть теплое местечко. Ветер взметнул ее волосы как факел, и она, вся лучезарная, крикнула мне:
— На сей раз ты не мог заметить белой нитки! Просто почувствовал нутром, паршивый мальчишка! Ты выиграешь!
Вдруг ее пыл разом угас. Она ссутулилась, вцепилась в мою руку, повисла на ней, с трудом прошептала:
— Я, пожалуй, помогла тебе… немножко…
Я знал, что еще точнее было бы сказать «полюбила».
XX
Ну вот мы и лиценциаты. Мы — другими словами, несколько тысяч студентов, и я тоже, затерянный среди этих тысяч. Возможно, мне приходилось потруднее, чем им, но результат был одинаковый: довольно ничтожный. Окончив с таким трудом университет, я теперь спрашивал себя, так ли уж мне пригодится диплом лиценциата. Для преподавательской работы его недостаточно, так как требуется еще пройти конкурс, и, помимо всего прочего, она мне не слишком улыбалась. Да и сам титул лиценциата был недостаточно громким, дабы фигурировать на моих визитных карточках. Конечно, в наши дни нужно быть, на худой конец, хоть лиценциатом, чтобы с тобой считались: за последние четверть века привилегия университетского диплома заменила собой былые привилегии происхождения. Но к чему, в сущности, нужен этот папирус, который к тому же есть у всех и который ничего не облегчает, а, напротив, рождает необоснованные претензии? С тех пор как я получил право писать на своей учетной карточке в разных бюро по найму магическое «лиценциат филологических наук», служащие не осмеливались посылать меня на первое попавшееся место, как простого смертного. Они озабоченно сосали кончик ручки и заносили мою фамилию в самый конец безнадежно длинных списков, намекая, что если у меня есть знания, то все равно у меня нет специальных навыков. «Лучше было бы окончить техническое училище!» — признался мне один из них с заслуживающей уважения искренностью. Каждое утро мы, в количестве пятидесяти человек, и никак не меньше, сидели на скамейках в хорошо вычищенных шляпах, в хорошо вычищенных костюмах, плотными рядами, как банки с вареньем. И мне казалось, что без меня вполне можно обойтись, как без десерта за обедом.
Но, так как жить было нужно, я торговал «Энциклопедией для самоучек» от одной издательской фирмы, которая охотно пользовалась услугами таких, как я; фирма подыскивала комиссионеров, обладавших «изысканной» внешностью, красноречием, разнообразными познаниями, а главное, тех, кому с голоду достаточно сильно подводило живот, чтобы довольствоваться грошовыми комиссионными. Кроме того, в одном еженедельнике мне удалось заполучить крошечную рубрику, но, увы, на добровольных, то есть неоплачиваемых, началах. Разумеется, будь у меня серьезная поддержка, я мог бы устроиться на постоянное место, даже несмотря на кризис. Но об этом не могло быть и речи. Я не имел никаких связей, а будь они у меня, я бы ими не воспользовался. Преуспеть в жизни по причинам, так сказать, не внутреннего, а внешнего порядка — это же унизительно. Как это легко и вполне достойно буржуазной гордыни, опирающейся, на чье-то покровительство: не так уж неприятно слышать, когда за твоей спиной шепчут: «У него есть кое-какой багаж». Но я содрогался от отвращения, когда к этому определению добавляли: «И к тому же он племянник такого-то или такой-то». Гнусное дополнение! Чемодан, в котором заключен этот пресловутый багаж! Уж лучше было оставить свой чемодан в камере хранения и устремиться в жизнь с пустыми руками.
И вот мы влюбились. Мы, то есть несколько тысяч молодых людей, и опять-таки я сам, затерянный среди этих тысяч. Мое мелкое тщеславие приняло первую же попавшуюся кандидатку, возведя ее в избранницы. Наконец-то мне удалось заговорить с Моникой, и притом самым нелепым образом: не на скамейке, даже не в нашем сквере, не прибегнув к танго или вальсу в день 14 июля, я не толкнул ее будто бы случайно и не пристал затем с извинениями, не спросил, на какой улице она живет, в какие часы бывает дома, — словом, обошелся без всех тех приемчиков, которые допускает метод «пойдем-со-мной-девочка». Итак, повторяю, самым глупейшим образом: в семь часов вечера у кассы метро «Сен-Мишель» с помощью случая и любезности одного моего старинного приятеля. Знаменитые «повороты» в жизни обычно просто маленькие виражи, и следовало бы задуматься над тем, почему самым существенным в вашей жизни вы непременно обязаны какому-нибудь пустяку. Я не любил этого своего приятеля, невежду в стиле трубадура (даже имени его не помню), производившего жестокие опустошения в рядах полудев. Мне даже неприятно вспоминать его зеленые глаза навыкате, какие-то колючие и въедливые, как репейник, цепляющийся за подолы крестьянских юбок. Его лицо цвета нуги, вялые руки, его манера брызгать при разговоре слюной — все это показалось мне оскорблением для трех молоденьких девушек в светлых платьицах, доверчиво согласившихся составить ему компанию. Я прошел, не остановившись, но он меня окликнул:
— Резо!
Я обернулся и узнал свою малютку. Рыбка нырнула… Я хочу сказать: взгляд выразил смущение, и это немного вознаградило меня за то, что она находится в таком обществе.
— Ты, очевидно, знаком с Мари, — сказал мой приятель вкрадчиво и плавно. — Наверняка знаком: Мари только что окончила юридический. Но не думаю, — небрежно добавил он, — чтобы ты знал ее подруг Габи и Монику.
— Габриель, — поправила Габи.
— Моника Арбэн, — уточнила посетительница сквера Вивиани сухим тоном, услышав каковой я возликовал, ибо имя ее звякнуло, как щит.
Эфеб с лицом цвета нуги снисходительно улыбнулся. Мари сняла перчатку с правой руки, а две другие девушки вертели в пальцах билеты. Видно было, что между ними нет даже намека на близость. Их свела здесь, как пассажиров одного купе, лишь временная симпатия. «Да говори же, старина, говори», — отчаянно твердил я себе. Свет электрических лампочек, падая на ступеньки, зажигал искорки в чешуйках слюды, тысячи отсветов бежали вдоль белых сводов. Я глупо спросил:
— Почему вы сегодня не надели вашего вязаного платья?
Впрочем, так ли уж глупо? Этот странный намек, этот намек на вполне конкретную деталь был красноречивее любой, самой пространной речи. Веки Моники поднялись высоко, застыли на мгновение, как бы зацепившись за брови, открыв весь белок и загоревшиеся любопытством глаза серо-мышиного цвета. Потом веки вдруг опустились, притушив ее радость, игру улыбки. Упали, как коротенькая вуалетка, она поднесла к лицу руку, чтобы скрыть еще оставшееся не скрытым, и проговорила, чтобы что-то сказать:
— Я с ним здорово намучилась!
— Значит, вы знакомы? — проворчал мой приятель.
Но Моника уже удалилась, ничего не ответив, увлекая за собой Габриель, и бросила нам через плечо:
— Простите, но мы должны вернуться вовремя.
Через десять секунд они уже спустились по лестнице, живые, скромные, и все: гибкость лодыжек и твердая линия бедер — было для опытного глаза самим воплощением девичества.
— Вы с ней знакомы? — допытывалась у меня Мари.
И так как я неопределенно повел рукой, она сказала снисходительным тоном:
— Она не то чтобы моя подруга. Она секретарь в нотариальной конторе на бульваре Сен-Жермен, где я стажируюсь. По-моему, она живет в пансионе, который содержат монахини.
И добавила не без игривости, как многоопытная девица:
— Тут вам делать нечего. Советую не терять зря времени. Эта из тех юбок, что мнят себя хоругвью.
— А плевать мне на это! — кратко сказал я.
Мне было до того на это наплевать, что я в свою очередь спустился с лестницы быстрее, чем позволяли мои коленные суставы (ибо у мужчин гибкостью обладают лишь коленные суставы). Орел или решка! Орлеанская застава или застава Клиньянкур? Я выбрал Клиньянкур. Вихрем промчался через турникет и успел вовремя вскочить в поезд, увозивший Монику.
XXI
Вежливость, милая недоверчивость, изящная словесная игра. Потом осторожный спор о вкусе и цвете, и через этот окольный путь — обмен основными сведениями, полупризнания. Наши глаза, наши руки, наши ноги, коснувшись друг друга, тотчас же отпрядывали назад; весьма подчеркнутая щепетильная, в сущности, весьма целомудренная воспитанность дозировала наши жесты, слова и даже молчание. В течение двух недель мне пришлось выдержать целый натиск обычных запретов: «Не провожайте меня до самого подъезда», «Не ждите меня завтра», «Лучше не берите меня под руку»… Однако сами эти запреты уже свидетельствовали об известном прогрессе. Мы прогрессировали в сторону первого свидания, которое было назначено, согласно обычаю, на следующую субботу. Разумеется, это первое свидание, тоже согласно обычаю, мне было назначено в людном месте и под неусыпным наблюдением все той же подружки. Короче, речь шла о самом первом контакте, как нельзя более осторожном, как нельзя более классическом.
И именно это меня смущало… Труднее всего мириться с банальным, особенно когда оно окрашено нежностью. «Мелкие» эмоции меня унижают. Моя способность восхищаться раздражает меня или, во всяком случае, вызывает во мне чувство ложного стыда, чем страдает все мое поколение, которое как огня боится, что его хоть на минуту могут счесть сентиментальным, и которое убеждено, что улыбки перенести труднее, чем удары.
Ну и пусть мы покажемся смешными. Кино, танго или лодка? Моника предоставляла выбор мне, выказывая, впрочем, склонность к прогулкам на свежем воздухе. И я избрал Марну: не так уж неприятно продолжить начатое изучение, особенно когда напротив тебя находится некто в купальном костюме. Дабы не бросать вызова изобретательности десятка тысяч парочек, которые встречаются каждую субботу, мы с Моникой тоже выбрали себе местом встречи часы на станции метро «Алезиа». Моника удовольствовалась пятиминутным опозданием. Я пришел за полчаса до назначенного срока и успел десятки раз поправить узел галстука. Заметив ее, я отступил в глубину платформы, чтобы она подумала, будто я явился одновременно с нею, а сам на свободе ее разглядывал. Слава богу, она не взяла с собой ничего лишнего, вроде зонтика, шарфика, перчаток и прочего снаряжения. Только на кончике пальца болталась матерчатая сумочка. Ее пляжное платье с четырьмя карманами и большими пуговицами было, на мой вкус, слишком отглажено и вызывало во мне желание крикнуть: «Реклама! Стиральный порошок „Персиль“!» Ее волосы, как и всегда, казалось, только что вышли из-под пульверизатора. Руки и ноги — голые, очень гладкие — простодушно являли себя чужим взорам. Первая радость: на нее смотрят. Вторая радость: она никого не замечает. Третья радость: ее улыбка, дошедшая до меня издали, вполне заменила собой «добрый день». Хотя я уже с неделю назад подметил одно свойство своей подружки, я не переставал дивиться этому столь редкому у женщины качеству: Моника почти не разговаривала. И это-то спасало ее от сравнения с другими: вот она — четвертая радость.
— Давайте поедем на метро до Шарантона, а потом на восемьдесят первом до Сен-Мориса.
— Идет, — ответила она.
— А ваша подруга не пришла с вами?
Моника открыла было рот, и я увидел кончик ее языка, он подрожал с секунду между зубами, потом она проглотила его вместе с недоговоренной фразой. Веки опустились на глаза, и в оставшихся узеньких щелочках вспыхнул серый дерзкий огонек. И только когда я уже вел ее, судорожно сжав рукой ее прохладное запястье, только когда она вытащила из кармана свой проездной билет, только тогда она соблаговолила ответить самым уголком губ:
— А вы жалеете?
Через час мы уже плыли по Марне, подставив солнцу как можно больше обнаженного тела. Монике достаточно было тут же, в лодке, расстегнуть платье, чтобы очутиться в купальном костюме. Нет, эта крошка решительно не способна взять фальшивую ноту. Немалое искусство — без долгого раздевания на глазах посторонних сразу перейти в состояние статуи.
Все изящество женщины разом гибнет, когда она при всех мучительно выпутывается из сложной системы белья; слишком затянувшаяся церемония стыдливости становится бесстыдством, даже если под платьем уже надеты лифчик и трусики. Не стоит даже и говорить о тех неосмотрительных особах, которые не позаботились об этом заранее и за неимением кабинки немыслимо корчатся на глазах у публики, прибегая к самому прискорбному камуфляжу, чтобы незаметно стащить с себя штанишки.
Я не люблю грести, наша родная Омэ была слишком узка, и мы передвигались по ней, отпихиваясь багром или в лучшем случае орудуя кормовым веслом. Гребец не видит, куда идет лодка. Зато кормщик смотрит вперед: в шуанских болотах издавна приходилось быть начеку. Мои весла, как бы в насмешку над поэтическими реминисценциями, самым жалким образом баламутили воду, нарушая гармонию волн, впрочем, тут хватало таких же малоопытных гребцов, как я, бултыхавшихся среди радужных пятен нефти. Моника смеялась, попадая под град брызг. И эта молчальница, которая не произнесла и трех фраз, напевала что-то, заполняла молчание пением, как птица. Сидя на противоположном конце лодки, повернув ко мне корпус анфас, а лицо в профиль, сжав колени и свесив руки, она не шевелилась.
— Вам не холодно, Моника?
Обращенная в профиль головка чуть повернулась, отрицательно качнулась справа налево, и профиль снова стал медальным. Я не мог отвести глаз от этого низкого выреза, полагающегося купальщицам, от этого загоревшего треугольника, как бы удлиняющего шею. Ибо чуть ниже вздрагивали груди, не заостренные, а очень круглые, широко расставленные. Между лифчиком и трусиками виднелась неширокая полоска нагого тела с еле приметными валиками от резинок. Еще ниже плоский живот, но ляжки и бедра, пожалуй, несколько тяжеловаты.
— Моника, почему вы на меня не смотрите?
— Потому, что вы на меня слишком смотрите.
Серые глаза посмотрели на меня, как бы подчеркивая свой упрек. Она была права: я занимался только ею, и, однако, я ею не занимался. Я занимался ее двойником, тем, что мне в нем нравилось, и тем, что мне в нем не нравилось, я занимался лишь самим собой. Убийственная привычка! Сегодня утром Поль сказала мне:
— Остерегайся, дружок, головной любви. Ты принадлежишь к тем милым эгоистикам, которые всегда стараются остаться наедине с самим собой, даже когда бывают вдвоем: «Оставь меня, крошка, в покое и позволь мне помечтать о тебе».
Я все еще не отделался от своей агрессивной юности — я научился быть с кем-то, но не научился быть с кем-то вместе. Бойся шуанства. И бойся шуанских чувств. «Головная любовь — голова и хвост — становись в хвост», — как говорил некий юморист и добавлял при этом на манер нотариуса: «Что касается женщин, то обладание удостоверяет право на владение. Пусть же твоя память будет складом движимого имущества…» Но что это за внутренний монолог, которому все еще дивятся серые глаза? Проклятый буржуа! Слюнтяй! Я не живу любовью, я ее декларирую. Моника, удели мне твоей простоты!
— Жан! Неужели вы позволите этой толстухе нас обогнать?
Я очнулся. Я на Марне, о которой совсем позабыл. Я в лодке, в плавках, наедине со свеженькой девушкой, которая мне всего лишь симпатизирует и которая не изощряется в психологических тонкостях, — девушкой, которая целую неделю роется во всяких юридических справочниках и хочет воспользоваться субботним отдыхом. Только сейчас я заметил толстую даму, заполнившую своей особой всю лодку лакированного красного дерева и яростно орудовавшую веслом в надежде похудеть.
— Возьмите одно весло, Моника.
Моника подскочила ко мне, села рядом, прижав свой теплый маленький зад к моему, и взяла весло. Но нам не удавалось грести слаженно, и, хотя уключины жалобно скрипели, мы не двигались с места. «Раз, два», — медленно командовала Моника. Наконец-то мы попали в такт. «Раз, два», — снова скомандовала Моника, но в более быстром темпе. На сей раз нос лодки приподнялся и вода зашуршала, как накрахмаленное белье. Ну объясните мне, пожалуйста, чему я так обрадовался? Ясно, этот общий ритм — прелюдия иного. «Раз, два», — продолжала Моника, незаметно для себя выделяя голосом слово «два». Когда навстречу нам подплыл остров Шарантоно, толстая дама исчезла в проложенной нами водной борозде.
Лодка переваливается с боку на бок, кокетничает со своей тенью. Мимо не спеша проплывает пустая консервная банка, которую несет течением прямо к плотине. Этот яркий свет вовсе не обязан своим происхождением солнцу: почему-то кажется, что его шлют водяные лилии, ввинченные в воду, как лампочки, в центре рефлекторов — своих листьев. Упоительный час: опять-таки этого требует обычай. Десять тысяч субботних парочек слились в объятиях. Я сам насчитал поблизости с полдюжины, и их добрый пример воспринимаю как поощрение. Уже давно мы вышли из воды, уже давно Моника надела платье и спрятала в пляжную сумочку купальные трусы и лифчик. Я даже не заметил, когда она успела это сделать, впрочем, я и не глядел на нее, я ее слушал, а так как она ничего не говорила, я был во власти чар. А теперь она говорит, потому что настала минута, великая минута объяснений. Чтобы не травмировать свои голосовые связки, она почти шепчет:
— Если хотите, можете не верить, но я в первый раз выезжаю за город с молодым человеком…
Я не очень-то этому верю и не слишком польщен этим: я предпочитаю иметь конкурентов и восторжествовать над ними.
Моника поспешно добавляет:
— С незнакомым молодым человеком.
В конечном счете это уточнение не особенно меня утешает. В нем заложено не одно противоречие. Я ревнивее мавра и тотчас становлюсь безраздельным собственником того, что люблю. (Так и во всем: я легко отдаю, но никогда не одалживаю. Тот, кто отдает, тот бросает или избавляется, а тот, кто одалживает, — делится.) Я смотрю на Монику и думаю: когда я покупаю себе сорочку, я вытягиваю ее из-под самого низа стопки, так я хоть уверен, что ее никто не видел, не трогал, что никто не позарился на нее раньше меня. Мне кажется, что так она чище. Но будем справедливы, замешательство Моники под моим изучающим взглядом, чадра смущения, которой она себя окутала, доброе предзнаменование.
— Не скрою, я в затруднении, — продолжал слабый голосок. — Мне хотелось бы, чтобы вы меня успокоили, сказали мне, к чему вы, в сущности, стремитесь. Но я не из тех, кто уже через неделю готов на все, и я отлично понимаю, что вам необходимо сначала поразмыслить. Вы обо мне ничего не знаете… Я о вас ничего не знаю. Давайте сегодня вечером попытаемся…
— Конечно, конечно, расскажите мне о Монике Арбэн.
Я опередил ее из осторожности. Или из-за застенчивости: не думаю, чтобы я первый мог пуститься в откровенности. Сверх того, существует неписаный закон: мужчина раздевает женщину и в прямом и в фигуральном смысле слова… Из воды выскакивает щука, и Моника приподымается, считает расходящиеся по воде круги, радуясь этой отсрочке. Я отлично вижу, что она колеблется. Теперь, когда она стоит на коленях, кажется, будто она готовится к исповеди.
— С чего начать? — вздыхает она. — Я ведь такая же, как и все.
От души надеюсь, что это не так. Единственное извинение, которое я смог найти для своей матери, единственная причина, по которой я не хотел бы сменить ее на другую женщину, — это то, что в своем роде она неповторима. Я отнюдь не ненавижу всех простых смертных, я даже не против того, что они меня окружают, но я не хочу, чтобы в массе окружающих людей растворялись существа мне дорогие — или ненавистные. Интуиция почему-то подсказывает мне, что такая Моника издана лишь в одном-единственном экземпляре.
Любовь?.. Конечно, я говорю о любви юмористически, и я ужасно благодарен тебе за то, что ты ни разу не произнесла это священное слово. Есть что-то созвучное в словах «юмор» и «амур», и это меня смущает. Любовь! Хо-хо-хо! Я не так-то уж верю тому, что только что сказал, я непременно сморожу глупость, но я могу позволить себе нынче вечером быть глупым. Любовь — вот что делает человека единственным (как бог), вот что спасает его от посредственности. И для того, кто не ценит этого, все посредственно, даже совершенство. Я уже давно подозревал: бог может существовать лишь силою человеческой любви. И точно так же человек существует для нас лишь в той мере, в какой мы выделили его из общей массы. Вывод первый: для Психиморы я не существую. Вывод второй, более тревожный: я буду единственным лишь в том случае, если меня полюбят. Вывод третий: торопись же меня полюбить…
Шепчи, девочка, шепчи. То, что ты мне сейчас рассказываешь, не имеет ровно никакого значения; я уже все знаю, я позавчера подробно расспросил Мари. И все-таки шепчи, шепчи мне на ухо. Еще ближе. И не пугайся: если я привлеку тебя к себе, то лишь затем, чтобы облегчить тебе твой рассказ. Я чувствую под пляжным платьем твою лопатку. Даже после купанья от тебя пахнет душистым мылом. Но о чем же ты, в сущности, говоришь?
Нам, оказывается, девятнадцать лет. Мы совсем, совсем одни. Мама умерла восемь лет назад (душераздирающие комментарии по поводу такой удачи). Ну конечно, ну конечно, я сочувствую. Папа в Мадагаскаре женился на чернокожей даме, чье имя сразу не выговоришь: шутка ли! — девять слогов. Папа во Францию никогда не приезжает; он народил кучу толстогубых ребятишек и надзирает за какой-то плантацией, где растет рафия (насколько я понимаю, папа окончательно «омадагаскарился»). Девчурка, которую воспитала тетя по имени Катрин, кончила школу, получила диплом частной школы машинописи и стенографии, прошла курс кройки и шитья, кулинарии и ухода за младенцами. Вот уже два года, как она поселилась в Париже, у сестер из Сакре-Кер, которые держат специальные пансионы для молоденьких девушек, и поступила к адвокату Гану, для которого подготовляет дела, пока сей великий муж подготовляет свои замечания по делам. Живущие в их пансионе не имеют права уйти раньше семи часов утра и, если заранее не получено особое разрешение, обязаны возвращаться к обеду. Но это разрешение дается только по просьбе родных и сурово проверяется, значит, Моника никогда его не получит, так как тетя Катрин вернулась к себе на родину в Монпотье, маленький городишко департамента Об.
— Так что фактически я сирота вроде вас.
Ого! Значит, Мари просветила не только меня одного!
— Признаться, я вас немножко побаиваюсь. Если бы я имела такую мать, как ваша, мне кажется, что я бы заставила ее себя полюбить. Ведь мать — это…
Знакомая песенка! Но сейчас я не протестую, я покачиваю головой, проникновенно выслушивая нравоучительные соображения насчет матерей. Будем же возвышенно-печальны: в этом черном жанре удобнее всего гудронировать дорогу к успеху у дам, ибо каждая из них в потенции — мать и желает примирить вас со своим призванием. «Первый ребенок женщины — это мужчина, которого она любит», — то и дело повторяет Поль, эта бесплодная смоковница, у которой таких детей было множество, и среди них я последыш. Не будем шокировать этими соображениями Монику, ту, что хочет меня усыновить. Впрочем, она на этом не настаивает. Снова раздается ее шепот: но я уже не слышу его, как привычное тиканье будильника. Должно быть, она теперь говорит о том, чем она живет, о своих привычках, о своих подружках, о своей тесной, как келейка, комнате, о своих азалиях… Голос затухает, а я не замечаю этого. Мы не шевелимся. Небо, вода, минуты — все блестит, струится, розовеет.
К несчастью, на руке у меня часы.
— Ой, без десяти семь! — вдруг восклицает Моника и вскакивает на ноги. — Я опоздаю. И вы мне ничего не сказали.
— Я вам напишу.
Мы бежим к лодке, которую еще надо вернуть на станцию. Но между лодкой и нами возникают два дерева, и сень их небезынтересна. Моника останавливается и глядит на меня. Вернее, останавливаюсь я и гляжу на нее.
— Нет, — шепчет Моника.
Но не трогается с места. Обе мои руки, сначала правая, а потом левая, ложатся ей на плечи, и ее стан клонится ко мне, но одновременно выдвигается колено, и эта рогатка благоразумных девиц мешает мне приблизиться к ней вплотную.
— Мы торопим события. Нам не следовало бы…
Робкое сослагательное, которое тут же глохнет.
XXII
Поль тряхнула головой, как лошадь, которой надоело стоять в оглоблях, как лошадь, с которой роднит ее эта грива длинных, блестящих, струящихся волос, с математической точностью разделенная пополам прямым пробором. Поль тряхнула головой и медленно повернулась ко мне:
— А, это ты! Как это тебя занесло ко мне в воскресенье?
В голосе ее ни тени упрека. Поль знает, ради кого я пренебрегаю ее обществом. Вот уже целый месяц я уделяю ей, и то изредка, всего по получасу.
— Моника уехала к тетке в Об. Она там проведет свой отпуск, то есть все три недели.
— Три недели, — задумчиво протянула Поль. Потом спохватилась. — Все понятно! За неимением лучшего хороша и эта бедняжка Леконидек… Впрочем, я рада тебя видеть, мне нужно с тобой поговорить.
Торжественный тон, которым Поль произнесла последние слова, заставил меня насторожиться. Хотя глаза ее были искусно подмазаны, их склера напоминала смятый целлофан. Возможно, в этом был повинен солнечный свет, который в порядке исключения проникал в ее комнату с соседних крыш и заливал каньон улицы Галанд, обычно погруженный в полумрак. Я подошел к открытому окну. Пробившийся откуда-то издали луч окрасил в первородный цвет три бегонии, которые чахли в деревянном трухлявом ящике, стоявшем на выступе за окном, и на которые Поль ежевечерне выливала целые кувшины воды, невзирая на протесты жильцов нижнего этажа.
— Возьми их к себе в комнату, — заявила она. — А то хозяин их загубит.
И так как я ошалело уставился на нее, она решилась:
— Я хотела тебе сказать, я собираюсь уехать в Испанию.
Я уже окончательно ничего не понимал. Что это еще за комедия? Поль продолжала:
— Ну и что ж тут такого? Там для медицинских сестер работы хватает. Я заскучала, мне надоели почтенные пациенты из нашей клиники. Хочу лечить этих «злодеев» из «Френте популяр»[23].
При этих словах мадам Леконидек рассмеялась: смех получился чуть-чуть неестественный и напомнил мне ее блеклые, безжизненные бегонии. Мне были известны политические симпатии Поль — я их разделял. Хотя поначалу мне подсказало их желание петь в унисон с врагами моих врагов (которые мне гораздо дороже, чем друзья моих друзей!). Я понимал Поль особенно хорошо еще и потому, что с некоторых пор мои личные «стимулы» уступили место более общим «мотивам», а мои неотложные потребности подвели достаточно солидную базу под мои убеждения. Но Поль, которая была левой, свободомыслящей или, вернее, свободомечтающей и не скрывала этого, не раз говорила мне, что терпеть не может попугайщины, приказов и прямого действия. Решение ее исходило из иных мотивов, и я без труда догадался, из каких именно.
— Сейчас мне здесь нечего делать, — призналась она, и голос ее прозвучал устало. — Я просто старая кляча и гожусь разве что на махан!
Поль, сильная Поль сникла, завела нескончаемые жалобы. Я слушаю ее, онемев от изумления. Самое трудное в подобной ситуации — помешать женщине говорить, а мужчине молчать. Инстинктивно я весь внутренне сжался. Ненавижу всяческие утешения, будь они обращены ко мне или к другим: я не способен найти нужные слова, чтобы остановить лавину сетований. Лично я предпочитаю заложить в руины динамит. Наконец я так и сделал:
— Мне тебя жаль!
Это было именно то, что нужно. Поль даже подскочила.
— Жаль! Мсье, видите ли, меня жалеет! А я его жалела? Уж не вообразил ли ты, что я приношу жертву ради твоего драгоценного счастья? Я, конечно, понимаю: мое присутствие тебя стесняет. Но уезжаю я вовсе не для твоего удовольствия… уезжаю просто для того, чтобы избавиться от одной идиотки, от себя самой избавиться. Убираюсь подобру-поздорову из твоей жизни.
Но этот взрыв негодования быстро рассыпался на части.
Поль раскинула руки, словно выбираясь из-под груды развалин, и, успокоившись, проговорила с некоторой напыщенностью:
— Во всяком случае, могу тебе сказать: ты не будешь моим последним свинством, ты будешь первой моей чистотой.
Чистотой? Я прекрасно понял, что она имеет в виду. Мне не следовало бы улыбаться, но как не улыбнуться? Чего стоит это слово в устах женщины, до того доступной, что я как-то даже представить себе не мог, что она была когда-то девушкой?
Уязвленная моей улыбкой, Поль встряхнулась и бросила мне в лицо:
— Конечно, я приносила жертвы, иногда даже спала с тобой. Подумаешь! Нужно же заботиться о младенцах!
Она окончательно овладела собой.
— Давай поговорим серьезно. Я уезжаю потому, что пора, так лучше для тебя. Не скрою, поначалу я думала, что ты в конце концов свяжешься с какой-нибудь злобной шлюшкой. Мужчины из вашей среды, когда их не защищают барьеры, которые буржуазия воздвигает на своих границах, обычно женятся на ком попало. Я ошибалась. Тебя защищала твоя юность. Разумеется, ты совершаешь мезальянс, но это хороший мезальянс. Тебе не грозит участь большинства молодых людей, которые любят любовь ради нее самой. Кроме того, тебя невозможно удержать чувственностью, ты ее презираешь. В случае необходимости ты сам готов заставить ее замолчать, чтобы втолковать, что такое цельное чувство. В конце концов, ты вполне способен внушить женщине страсть. Но ты сам прекрасно знаешь, что восхищаешься своей матерью… Придется восхищаться своей женой. О, тут я тебе доверяю! Ты не будешь скупиться, как и с матерью. А сейчас я хочу дать тебе один совет… не наделай глупостей с Моникой! Ты ей этого никогда не простишь.
Сразу вознегодовав, я нахмурил брови, искренне забыв с полдюжины бедных девчонок, которых я, так сказать, подверг высшей мере, а Поль улыбнулась:
— Знаю, знаю. Она будет защищаться. Она сама добродетель, эта белокурая мадонна, сменившая твою чернокудрую мадонну. Однако не торопи ее слишком и женись поскорее. Если она, не дай бог, будет сопротивляться недостаточно стойко, она перестанет для тебя существовать. Не следует уступать ненависти: кто ей уступит, тот погиб. Бессознательно ты вывел отсюда следующую аксиому: не следует поддаваться любви, кто ей уступит — тот погиб. Не возражай… Я ведь не сказала, что ты так думаешь. Ты отлично знаешь, что если ненависть — это битва, то любовь — лишь видимость битвы, а фактически она пакт. Я говорю об инстинктивном чувстве, въедливом, как пырей; кстати сказать, ты распространяешь это чувство не только на область чувств: ты был вынужден сопротивляться, ты вошел во вкус, ты чрезмерно возгордился этим и уважаешь лишь тех, кто сопротивляется тебе, ибо уважение, которое мы питаем к ближним, обычно основывается на сравнении их с нами самими.
Когда тебя разбирают вот так по винтику, это довольно противно. Поль знала это, но пренебрегла. Объяснения, предостережения, проповеди… Я понял: положив левую ладонь на стол и вскинув правую руку, Поль завещала мне…
— Впрочем, я, кажется, учу ученого, — произнесла она, — ты и сам все это знаешь. Хоть понимаешь ли ты, что тебе повезло? Твой ребяческий бунт помог тебе ускользнуть от предназначенной тебе участи, обычной участи ничтожного и претенциозного Резо. Сейчас твой бунт уже не имеет смысла. Против кого тебе бунтовать? Но ты уже приобрел привычку к бунтарству — до конца твоих дней ты нутром будешь чувствовать отвращение к несправедливости; это чисто физическое, непреодолимое отвращение, которое в сотни раз действеннее, нежели головная жалость. Перенеси его в общественный план, и ты… К черту нотации! Хватит, надоело! Ты сам видишь, чего я от тебя жду… Разреши сделать только одно замечание. У тебя есть невыносимое свойство: во всех случаях жизни ты прав — и в отношении матери, и в отношении братьев, и в отношении общества. В сущности, получается, что единственное непогрешимое существо на свете это ты сам. Прошу тебя, не будь так предубежден в свою пользу!
Уф! Слава богу, кончила! Поль очень хорошая женщина, и я искренне огорчен ее отъездом, но я вообще-то не слишком люблю увещевания и, кроме того, не переношу возвышенного слога (у других!). Я затрясся, так как Поль снова открыла рот. К счастью, славная моя подружка заговорила своим обычным милым голосом, естественным голосом, как и подобает при решении практических вопросов.
— Кстати, о Монике, что ты рассчитываешь делать?
Ответ был быстр, как удар теннисной ракеткой:
— Жениться, черт побери!
Но Поль послала ответный мяч на заднюю линию:
— Я имею в виду, на что ты рассчитываешь жить? Нельзя строить семейную жизнь с такими ненадежными доходами, как твои.
Если бы я не знал так хорошо мою Поль, я, пожалуй, решил бы, что она разыгрывает из себя адвоката дьявола. Но ее беспокойство, совпадавшее с моим, не ускользнувшим и от Моники, было более чем обоснованно. Мне не оставалось ничего другого, как расписаться в собственном бессилии:
— В сущности, все это не так уж страшно. Моника работает, а я как-нибудь выкручусь. На нас двоих хватит. Но я не могу жениться на женщине, которая зарабатывает больше меня, и к тому же только один из нас двоих имеет обеспеченный заработок. Я не посмею на нее взглянуть, не решусь проглотить ложки «ее» супа. А если у нас будет ребенок и Монике придется оставить службу? Нет, покуда я не добьюсь определенного положения, придется ждать.
Четыре параллельные складки прорезали лоб Поль, а челка упала чуть ли не до бровей.
— Н-да, опасно, — пробормотала она.
— Я тут надумал кое-что, но очень уж это все проблематично.
— Расскажи все-таки.
Меня смущал взгляд Поль: слишком ясно в нем выразилось желание узнать решение задачи и пренебречь деталями. Ведь, в сущности, говорить надо бы о ней, а не обо мне. Я стал излагать свой план, вяло ворочая языком.
— Мне хотелось бы взять патент, то есть приобрести право торговать на рынке. Рынки в окрестностях Парижа торгуют только до полудня, так что я мог бы вечером писать. Конечно, не такое уж это блестящее решение вопроса для человека с высшим образованием, но зато я зарабатывал бы деньги регулярно и приличным способом, не во вред своему подлинному призванию. Может быть, мне удастся пробраться в журналистику. Теперь я веду хронику уже не бесплатно: вчера я получил первый гонорар, а это хороший знак. На худой конец, если мне в газете не повезет, я останусь на рынке, попытаюсь получить постоянное место или открою палатку. Возможно, дорогая, я так и окончу свои дни в шкуре рыночного торговца…
— Как я в шкуре монахини, — отрезала Поль. — Впрочем, мысль неплохая. А чем ты намереваешься торговать?
Мечтать никому не возбраняется! И я объяснил Поль, что самое главное это специализироваться в какой-нибудь одной отрасли, что я, например, решил продавать недорогие чулки и носки где-нибудь на рынке в рабочем районе. По правде сказать, я ничего не решил. Патент, закупка товаров и оборудования требовали денежных вложений, а денег у меня не было. У Моники, правда, есть кое-какие сбережения на книжке, но тронуть их я в жизни не соглашусь…
— Понятно, — прервала Поль. — Сколько тебе нужно?
Я назвал цифру, и мы оба замолчали. Поль зевнула, потянулась, подошла к окну, оперлась о подоконник, вернулась за кувшином и вылила всю воду на свои бегонии. Но я заметил, что проделывает она все это машинально, а думает о чем-то другом. Только потому, что было воскресенье, мы, соблюдая традицию, вышли из дома, долго бродили по бульварам и наконец без сил рухнули на стулья в каком-то маленьком кинотеатре. Поль больше не открыла рта и на прощанье вместо «покойной ночи» буркнула что-то неразборчивое. Еще долго я слышал, как она описывала круги по своей комнате и под ногами у нее скрипел паркет, слышал хрипловатый голос, тот голос, о котором сама Поль говорила с обычной своей образностью, что от него «крысу и ту бы стошнило», еще долго терзала она навязший в зубах припев… «У меня никогда не было по-настоящему своего мужчины, не знаю даже почему, ведь не урод же я какой-то. Не спорю, может, я сама растяпа, а может, таких мужчин вообще не существует». Меня грызла жалость, я томился как преступник, тщетно стараясь зарыться головой в подушку, и в конце концов постучал кулаком в стенку. Я очень люблю Поль, но я не люблю мелодрам.
Но в следующий вечер, около полуночи, на этот раз уже сама Поль забарабанила в мою дверь, ворвалась в комнату и бросила на стол пачку кредиток.
— Вот деньги. Продала кольцо.
И я взял, я, который отказывался от сбережений Моники, я, который ничего ни у кого не брал. Я взял, потому что ребенок может взять у матери любое, потому что Поль — это моя доля материнского бескорыстия. Я взял, как берет ребенок, то есть плохо взял, не понимая размеров принесенной ради меня жертвы, и думал лишь о подозрительном происхождении этого кольца (но ведь согласился же Иисус Христос принять от Магдалины, этой публичной девки, миро). Я подумал, посмел подумать: «В иных случаях брать — это давать». И Поль, которая стоила в тысячу раз больше меня, казалось, тоже этому верила.
XXIII
Моника — мой цветок, а вернее, стебелек — неподвижно выросла передо мной. И к тому же столь же безмолвная, неизменная, она предлагала моему вниманию взамен жестов лишь трепет, который любое растение может отнести за счет ветра.
Тетя Катрин, багрово-красная, перехваченная в талии наподобие рака и подобно раку щетинившаяся какими-то странными отростками, как природными, так и благоприобретенными, с выпуклыми, вылезавшими из орбит глазами, сразу же окружила меня целой стеной недоверия, подпрыгивала, отступала, колыхая юбками, продвигалась как-то боком, протягивала мне свою клешню, скрежетала что-то вроде «добро пожаловать». Узенькая аллейка была до того бела, что казалось, гравий только что промыли с мылом. Осенний дикий виноград покрывал домик и краснел один за всех нас.
— Очень рада… А мы вас не ждали… Боже мой, какой сюрприз!.. Входите, входите! Не обращайте внимания, у нас жуткий беспорядок… В конце концов, я ей заменяю мать.
Две последние фразы были явно излишними, ибо обе были чистой условностью. Я заранее знал, что в домике из двух комнат и кухоньки все будет вылощено, протерто до блеска, что там я обнаружу неизбежный буфет в стиле Генриха II, что круглый стол будет покрыт клеенкой (с бурым треугольником — след горячего утюга), что я также обнаружу комод в местном стиле, не забыть бы еще половичков под всеми креслами и стульями, фотографий полувековой давности, календарей за последние пять лет, раковин с розовой пастью, солнечное пятно на медной грелке для постели, блюдечко для кошки, компотницу с кусочками тыквы и лакированную коробочку, с крышки которой готова вспорхнуть нарисованная ласточка, несущая в клюве ленточку с надписью «На память о Монтелимаре». Я знал также, что мадемуазель Арбэн будет многословно изливать на моей груди свои чувства и перечислять мне все достоинства: ласковость, верность, домовитость — своей племянницы, почти родной ее дочки, да, да, дочки, а уж потом превратит меня в подушечку, всю утыканную иголками мелких вопросов. Я знал, что сожмусь, отгородившись от тети своей шляпой и любезными улыбками, сконфуженный тем, что не в силах поднять глаза выше свежих коленок Моники.
К великому счастью, мадемуазель Арбэн не дожидалась моих ответов и тут же задавала новые вопросы, перескакивая от пустяков к важным вещам. Слово «рынок» показалось ей подозрительным и, без сомнения, вызвало перед ее дальнозоркими глазами образ цыганского племени, торгующего вразнос плетеными корзинами. Но когда тот же дальнозоркий глаз разглядел в моем новеньком профсоюзном билете, отдаленном от тетиного лица на расстояние вытянутой руки, слово «коммерсант», напечатанное заглавными буквами, а также № 7848 парижской секции Национальной федерации профсоюзов коммерсантов, веки трижды моргнули в знак уважения к моей особе. Куда больше я испугался (и Моника тоже, я сразу это заметил), когда мадемуазель Катрин Арбэн вежливо осведомилась о здоровье мсье и мадам Резо и спросила, как они относятся к моему новому положению. Кое-как мне удалось выпутаться — я сокрушенно сообщил ей подробности о плачевном состоянии их здоровья, и старая дева от всего сердца пожалела меня за то, что бесценная жизнь моих бесценных родителей находится в опасности, от души пожелала, чтобы совершилось чудо, и пустилась в рассуждения о болезни печени, которая и ее не пощадила, а также о болезни мочевого пузыря, которая поразила ее лучшую подругу и соседку, да так жестоко, что бедняжка, простите на слове, может мочиться только с помощью катетера. Наконец от разговорчиков и сплетен она властно повернула к цели моего приезда, подморгнув в сторону Моники, застывшей как статуя в своем молчании, и проворковала:
— Надеюсь, вы приехали просить у меня ее руки?
Я подтвердил эти слова движением подбородка.
…Если говорить откровенно, вовсе не это было целью моего визита. Я приехал даже не затем, чтобы сообщить Монике добрую весть о моем новом коммерческом поприще. Внезапный отъезд Поль — назавтра после ее дара выбил меня из колеи. В течение девяти дней, хотя все мое время поглощали различные хлопоты, формальности, покупка товара и первые мои шаги на пригородных рынках, я не мог свыкнуться со своим одиночеством. Мне необходимо было видеть Монику или видеть себя возле нее. Да, какая уж тут гордость! Я — и вдруг страдаю от одиночества! Скандал, да и только! Неужели же я разучился довольствоваться самим собой? Куда девалась моя юношеская жизнерадостность, не боящаяся одиночества? Напрасно я твердил себе, что целостность присуща только детству, ибо оно все воспринимает поверхностно и не углубляется в противоречия, напрасно говорил себе, что эти противоречия формируют человека и что постоянство характера полнее всего выражается подчас в самой непоследовательности поведения, — все эти доводы не прибавляли мне силы. А может быть, не так уж преувеличивали мои пятнадцать лет, провозглашавшие: «Любить — это значит отречься от себя самого»? И не пора ли согласиться, отрекшись от своей юности, что сила Хватай-Глотая была лишь отражением силы его матери, отталкиванием от нее, лишь индуктированным током? «Ты только посмотри на бобину! — хихикнул знакомый демон. — Ты просто ищешь себе нового индуктора, вернее, индукторшу, хочешь питаться новой силой, которая, по сути, то же, что прежняя, но с обратным знаком. Да, в каком-то смысле ты сейчас попросил руки Моники: ведь ребенку надо держаться за чью-то руку, чтобы перейти улицу».
Последний порыв ХГ (ХГ — сокращение от Хватай-Глотай, последнее изобретение, чтобы насолить самому себе). Мне было очень грустно, и моя гордыня тут же воспользовалась этим обстоятельством, ибо моя гордыня подымает любую неприятность на щит, мобилизует все силы. Впрочем, к ней отчасти примешивалась еще и тоска излечившегося наркомана по своему зелью, демобилизованного солдата по жаркой опасности боя, преуспевшего человека по своим былым трудностям. Если весьма сомнительна мысль, что нельзя делать хорошую литературу из хороших чувств, то не вызывает сомнений, что хорошие чувства кажутся безвкусными тому, кто привык культивировать иные. Существо этого спора можно свести к двум глаголам с одним корнем: нас влечет лучшее, а увлекает худшее.
Тем временем мадемуазель Арбэн все говорила и говорила, терпеливо, на манер кролика, перемалывая передними зубами каждое слово. Не потеряв своей вечной привычки не слушать, что мне говорят, я и не заметил, когда она успела дать свое согласие. Я вынырнул из бездны своих размышлений лишь затем, чтобы уловить:
— На вашей свадьбе не будет много народу.
«Бракосочетании», — поправил я про себя, снова погружаясь в свои мысли. «Свадьба» звучит плебейски. И тут же внутренний голос шепнул мне: «Это верно — ты совершаешь мезальянс, ты опускаешься». Но немедленно последовал ответ: «Я подыму ее до себя». Но вот вмешался третий голос, который с недавних пор решал все мои контроверзы: «Вы встретитесь на полпути».
Мы встретились этим же вечером у грядки с тыквой, в глубине огорода. Через выломанную в заборе доску виднелось несколько арпанов виноградника, а за ними на многие километры тянулись поля Шампани, так непохожие на наши кранские чащи. На огромной шахматной доске полей торчало всего несколько деревьев, как шахматные фигуры в конце партии. Дюжина грязных овец с блеянием трусили на смежных выгонах. Оба мы держались отлично. Ни рука в руке, ни минорных излияний, ни бесконечных воспоминаний, ни томности. А главное, без лапания вопреки нашей национальной традиции, или без petting[24] вопреки традиции американской; существует два вида чистоты: белая и черная — та, что щадит, и та, что откровенно идет напролом. Ненавижу лженевинность, втихомолку маневрирующую дверной задвижкой. Повторяю, держались мы отлично, молодцом. Ничуть не натянуто, не глупо, не слащаво, не недоверчиво, а главное, не цеплялись за полы декорума. Лишь чуть-чуть нетерпеливо. И чуть-чуть кичились собой, как гимнасты, которые проходят по грязным предместьям, молодые, жизнерадостные, все в белом. И, как они, чуть скованные заботой о гармонии, о чистоте жестов. Словом, почти простые. ХГ не горланил, ХГ впитывал молоко Геркулеса, свою новую силу.
— Жан, — вдруг сказала Моника, — я хочу вам задать один вопрос.
— Слушаю.
Я уже представлял себе, что это за вопрос! Нам было так хорошо. Так для чего же впадать в благоговение, в «поэму из двух слов», в сентиментальность?
— Вы подумали, что у нас могут быть дети?
— Надеюсь, что будут.
Неожиданный вопрос. Неожиданный, чисто инстинктивный ответ. Конечно, Моника могла бы и должна была сказать: «Вы хотите иметь детей?» Я вовсе не собирался иметь детей, просто чтобы не отстать от традиции, от установленного порядка, а потому что… И в самом деле — почему? Давайте получше разберемся в этом вопросе. Потому, что я не люблю плутовать: ни до, ни после. Потому что мне вовсе не улыбается оставаться в роли потомка и не стать предком. Потому что (забежим вперед) мне казалось любопытным и интересным проделать этот опыт. Потому, наконец (вот оно, самое существенное), что я смогу увидеть лицо, которое мне было заказано видеть…
— Счастливые дети — это же реванш!
Вот этого, черт побери, не следовало говорить, Моника.
XIV
Снова пришла зима: первая, которая обернулась для меня весенней прелестью. Вот уже четыре месяца, как мы были помолвлены полуофициально; вот уже две недели, как помолвлены официально в силу извещения, ломавшего все традиции: «Моника Арбэн и Жан Резо имеют удовольствие сообщить вам» и так далее. «Удовольствие», даже не «честь»! Правда и то, что нашей честью было наше счастье. Разумеется, я ни от кого не получил традиционных поздравлений. Вообще никаких не получил, кроме открытки от Фреда со штемпелем «Дакар»: «Браво! Значит, продавая на рынке товар, ты нашел себе носок по ноге!» Я вообще не обратил бы внимания на эту стрелу, вполне достойную матроса по кличке Рохля, если бы содержавшийся в открытке намек не просветил меня насчет того, что наша семья по-прежнему находится в курсе моих дел и поступков, вернее, не вполне: я теперь был уже скорее журналистом, чем торговцем. Хотя я действительно продавал носки, гольфы и чулки на всех рынках, даже на тех, которые не удостоились чести фигурировать в справочнике Лагюра, я по-прежнему вел хронику, начал печатать небольшие новеллы в еженедельных второстепенных журналах и статьи в кое-каких не совсем благомыслящих газетах. А полутайком я работал на одного утомленного мэтра, который снисходительно ставил свою подпись под моими произведениями и выплачивал мне четверть своих гонораров. И уже совсем тайком я послал серию сказок в одно издательство, которое в ту пору объединило в своих руках детскую литературу. (Бедные крошки! Стоит ли признаваться, что я писал свои сказки с неизъяснимым чувством удовлетворения? Ведь только вы одни умеете так прелестно сочетать глупый восторг и веру в торжество справедливости.) Отчалив подальше от улицы Галанд, я снял квартиру в XIII округе и кое-как ее обставил (покупка в кредит, нет уж увольте! Вещь, как и женщина, должна принадлежать вам сразу. Покупка в рассрочку годится лишь тому, кто умеет любить в рассрочку). Для моего устройства более чем хватило стола и четырех стульев, кушетки и шкафа, буфета и двух табуреток — из того превосходного белого дерева, которое поглощает литрами политуру и в результате становится пегим: один кусок черновато-серый, соседний — желтый, чуть подальше — светло-кофейный. У нас еще хватит времени после свадьбы, назначенной наконец-то на середину января, сравнивать достоинства ореховой мебели, которая вечно расклеивается, палисандрового дерева, покрывающегося трещинками, с мебелью в деревенском стиле, в котором нет ничего деревенского. Мы могли бы пожениться чуть раньше, но отец Моники, почтово-телеграфное ведомство и нотариус дружно объединились против нас, и нам пришлось ждать мадагаскарского согласия. Лично я горько сожалел о недавней отмене требований на разрешение брака, именуемых «актами уважения»: с каким удовольствием я выразил бы этим способом уважение мсье и мадам Резо.
Я только что вернулся с рынка в Сент-Уэне и сел писать «Тайны зеленого острова», как вдруг у дверей затренькал звонок. Я никого не ждал. Так как я не имел приятелей (для этого я был слишком беден), не имел связей (кроме двух-трех деловых, и то приобретенных в самое последнее время), то и в гости ко мне никто не ходил. Даже Моника заглянула ко мне всего один-единственный раз во время краткого пребывания ее тетушки в Париже. А вдруг это Поль, беглянка, которая мне даже не пишет? Я пошел открыть в полной уверенности, что за дверью стоит консьержка или служащий газовой компании. Но я так и замер на месте… В шляпе, ухарски сдвинутой на затылок, в брюках гармошкой, сползавших на ботинки, с галстуком, завязанным широким узлом и заколотым золотой булавкой в виде кабаньей головы, с зонтиком в руке и фиолетовой орденской ленточкой, расцвечивавшей выдровый воротник шубы, стоял мсье Резо и улыбался во весь рот.
— Не так-то легко до тебя добраться, сынок.
И вот уже пышные белые усы, лежавшие над родительскими устами в виде голубки с аккуратно распростертыми крыльями, потянулись ко мне и облобызали поцелуем мира. Только после этого мсье Резо со своим зонтиком сделал шаг вперед.
— Ай-ай-ай! — добавил он по зрелом размышлении.
Так как я испуганно смотрел на полуоткрытую дверь, отец поспешно заговорил, и голос его выразил всю силу его авторитета, всю его широко известную свободу действия:
— Нет, нет, я один.
Я чуть было не спросил с лицемерной любезностью: «Каким счастливым ветром вас ко мне занесло?» — но тут же вспомнил о приличиях: светские люди выдают цель своего визита лишь после порции болтовни.
— Ты живешь в ужасном районе, — простонал мсье Резо. — Пришлось ехать на метро, а я ненавижу этот вид транспорта. Впрочем, я ненавижу также всю эту беспокойную жизнь. Мои современники утомляют меня. Мне хотелось бы…
К чему он клонит? Если верить Монтерлану, отцу нет никакой нужды менять своих современников. Мсье Резо живет в минувшем веке, обитает в доме «своих предков», пользуется их законами, их церквами, их рентой, их предрассудками. Впрочем, что такое современник? Вот мы, чьи мы современники — папуаса, отставшего от нашего времени на три тысячи лет, или какого-нибудь американца, обогнавшего наш век на двести лет? Но мсье Резо продолжал ныть:
— Я только что тяжело переболел. Уремия! Твоя бабушка и твой дядя скончались от уремии — это наш семейный недуг. Я чуть было не отправился к праотцам, нет, долго я не протяну. Я теперь лишь почетный судья: пришлось подать в отставку, возвратиться в «Хвалебное». Теперь всем ведает твоя мать: я выдал ей доверенность. Хотя и она тоже устала. У нас ведь только приходящая прислуга. В наших краях просто невозможно найти хорошую служанку: крестьянские дочки не желают идти на место, а если, паче чаяния, удается отыскать девицу, то наверняка наткнешься на грубиянку и лентяйку! И к тому же куча претензий. Ох, это поколение!
Вот что даст ему возможность свернуть на желанный путь.
Можно не сомневаться. Поколению предстоит выслушать немало горьких истин.
— Это видно хотя бы на примере моей собственной семьи, я ведь пришел к тебе не как враг, но я обязан тебе все же сказать: вы перебарщиваете! Фред скоро уйдет с морской службы без единой нашивки, не создав себе никакого положения. Скажи на милость, на ком же мы сможем женить такого? Ты влюбляешься в какую-то дурочку, убегаешь, потому что мы помешали тебе на ней жениться, и, когда мы решили, что ты уже угомонился, снова берешься за старое! Должен признать, держится только один Марсель, но он воображает о себе невесть что, смотрит отчужденно, свысока: ей-богу, он тоже, видимо, считает, что буржуазия — это просто способ делать карьеру. Я знаю, что вы… вы считаете буржуазию…
Суровый взгляд поверх усов:
— …считаете ее кастой, подлежащей уничтожению…
Взгляд к небесам:
— …тогда как это достойное звание!
И пошло! Целых десять минут рассуждений об этом достоинстве, которое в союзе с традицией обеспечивает цельность элиты и незыблемость идеалов… Я уже позабыл этот наш фамильный хлам, сорную мешанину ходячих истин. Теперь, когда я уже был далек от всего этого, я испытывал мучительное чувство, видя, как отец размахивает перед моим носом старым боа из страусовых перьев.
В течение нескольких лет под этим же самым страусовым стягом все-таки хоть как-то шевелились, модернизировались, омолаживали свои формулы, с утра до вечера твердили слово «социальный», во имя белого цвета вербовали красный и выдавали его за синий. Это было уже не смешно, скорее забавно, даже интересно в качестве некоего археологического раритета, как, скажем, политические граффити на стенах Помпеи.
— Заметь, я вполне понимаю твое умонастроение, — поспешил заверить меня отец. — В известном смысле оно проистекает из нашего отношения к народу, который мы так хорошо понимаем. Мы ведь вовсе не страшные капиталисты! Презрительно величать нас «буржуями» (обычная брань этих недоучек, в голове которых все путается) — это значит искажать смысл слова. Я тебе сотни раз говорил и не устану повторять: буржуазия буржуазии рознь. Мы лично составляем часть прекрасной, одухотворенной буржуазии, единственно подлинной, единственно истинной. Это видно на примере Германии, хотя Гитлер и не лишен кое-каких полезных идей: подавление нашего класса привело там к развязыванию диктатуры эгоизма. Еще со времен Революции мы против всяческих злоупотреблений, против всех дерьмовых привилегий, мы лишь защищаем порядок, основой которого является положение, приобретенное в обществе, следовательно, заслуги. О чем это я? Ах да… Ты не ошибаешься в конечной цели, ты ошибаешься лишь в средствах… Наше исчезновение будет означать гибель этой страны, которая живет исключительно продажей предметов роскоши. Наше исчезновение… Я не берусь в двух-трех фразах описывать тебе это общенациональное бедствие, это неизбежное торжество произвола и несправедливости, эту ночь…
— Возможно, ночь на четвертое августа?[25]
Плечи мсье Резо поднялись, голова закачалась над золотым кабаном, жалостливо-оценивающим взглядом он оглядел мою мебель, мои чемоданы с носками и, наконец, меня самого.
— Люди, которые критикуют существующий порядок, — продолжал отец, — прежде всего не желают критиковать самих себя. Неужели ты и впрямь думаешь, что оказываешь услугу нашей стране, утверждая, что простой народ хорош в силу одного своего происхождения, а мы в силу тех же причин просто спекулянты, из всего извлекающие выгоду?
Первая разумная фраза, которую изрек отец с начала нашей беседы. Но все это имело лишь самое отдаленное отношение к цели его визита. К чему, впрочем, вступать в спор! Я знал своего отца, которого ничем не проймешь, господина, который не доверяет чужим идеям, но не подвергает сомнениям свои, праведника, для которого не существует несправедливости, поскольку она освящена традицией, а особенно потому, что она приносит барыши. Этот праведник продолжал метать громы и молнии:
— Ах, когда я узнал, что ты пишешь в левой газете, моя старинная вандейская кровь вскипела в жилах!
Наш вандеец говорил теперь о Революции… Я решился прикрыть ладонью долгий зевок, а мсье Резо со вздохом потрогал свои дугообразные усы. В моей почти пустой комнате радиатор центрального отопления казался почему-то скелетом допотопного животного. От его двенадцати секций, выгнутых как ребра, исходило горячее дыхание. Слышно было, как в соседней квартире жужжит кофейная мельница.
Кофейная мельница перестала жужжать, и тут же зажужжал мсье Резо, перемалывая зернышко за зернышком свои новости. Мику вышла замуж. Да, да, вышла. Отец повторил эту фразу, потому что я поморщился. Она ждет ребенка. На этот раз, не скрою, я не мог сдержать гримасы. Мику, легкая моя, какой гнусный сатир тебя обрюхатил? О, если бы кто-нибудь посмел так осквернить Монику, я бы его задушил… Но к чему эти гримасы, ведь все мои помыслы с Моникой… Мику замужем, Мику беременна, ну и бог с ней! Такие случаи как раз и доказывают тщету интрижек и даже самой любви, коль скоро она не освящена единодушным согласием обоих семейств. Дядя протонотарий[26] скоро получит сан епископа. Папаша Перро, папаша Барбеливьен, старуха Фина — умерли. Да, редеют наши ряды! Кардинал Кервадек тоже скончался. Невольно задаешь себе вопрос, почему господь бог не щадит своих верных слуг и призывает их к себе во цвете лет, хотя их присутствие столь необходимо здесь, на нашей земле. Но зато внучатая племянница кардинала Соланж Гийар де Кервадек и его внучатый племянник, то есть наш Марсель, думают вступить в брак; точнее, за них решила баронесса де Сель д'Озель. Ничего не скажешь, крошка Кервадек — богатая невеста! Мсье Резо отлично знал, что богатые невесты чаще всего весьма разорительны и что ни одно приданое не устоит долго при социалистических девальвациях, но зато Кервадеки с избытком обладают превосходными принципами и превосходными землями. Такой разумный юноша, как Марсель Резо, не женится на ничего не стоящей девушке, у которой ничего нет. Последние слова мсье Резо произнес без злобы, ибо он не считал, что девушка, у которой ничего нет, автоматически переходит в разряд ничего не стоящих девушек.
И мсье Резо продолжает издали обстреливать мои позиции, не пытаясь их прорвать. Я начинаю понимать, разгадываю данный ему приказ: «Образумьте его, Жак, но не в лоб, а окольным путем, будьте дипломатом». Мадам мамаша переходит в оборону. Мой брак — самое заветное ее желание, надежнейшее средство, чтобы меня подорвать, чтобы обречь меня на жалкое существование, чтобы лишить всех наследственных привилегий, полезных связей. В деле с Мику речь шла о том, чтобы спровоцировать разрыв с родителями, дабы лишить меня материальной поддержки и поставить в такое положение, при котором немыслимо сделать себе карьеру. План этот удался лишь наполовину, и на сей раз мадам Резо решила обратить себе на пользу мои собственные замыслы. Ей просто необходим этот мезальянс, чтобы разрушить у нашей родни надежды, которые мог бы еще внушить мой полууспех. Она соглашается на мой брак, ибо, по буржуазному ее убеждению, именно он-то и послужит орудием моей окончательной погибели. Однако следует официально высказаться против этого брака, дабы иметь потом возможность сказать: «Я всеми средствами пыталась ему помешать». Следует что-то сделать, и это «что-то» и есть отцовский визит, протест «главы семьи». Таким образом, все апарансы будут соблюдены. Таким образом (мать знает меня достаточно хорошо), я только укреплюсь в своем решении, если случайно я почему-либо еще колеблюсь. Кроме того, покорность все равно не поможет мне войти в милость. Я уже слышу, как мадам Резо говорит: «У этого мальчика совсем нет характера. Он сам не знает, чего хочет».
— Ты теперь имеешь университетский диплом, — говорит мсье Резо. — С нашей помощью ты можешь устроиться в какой-нибудь уважаемой газете, жениться на девушке из приличной семьи. Если тебе уж так нужна жена…
Отцовские губы кривит легкая гримаска отвращения: любовь для Резо — это синоним чувственности.
— Мы нашли бы тебе невесту. Ну? Брось свою машинистку, и мы примем тебя с распростертыми объятиями.
Сейчас эти руки, сулящие стать объятиями, сложены на папиной груди, а сам папа глядит на меня поверх своего длинного носа. Вид у него очень убежденный и в то же время очень сокрушенный. Весь он какой-то осевший, действительно старик, действительно подорванный, дышит с трудом.
— Надеюсь, ты не наделал глупостей? Ведь тебе… не обязательно жениться? Мать именно этого и боялась.
Узнаю в этих словах плод целомудренного воображения мадам Резо. А воображение моего отца столь чудовищно в своем простодушии, что вне подозрения для него остаются лишь жена и дочь Цезаря, а добродетели бедных вроде бы и не существуют.
— Знаете что, — сухо говорю я, — речь идет о девушке, по-настоящему чистой.
— Тем лучше, тем лучше! — подхватывает мсье Резо довольно-таки кислым тоном. — Что же ты решил?
Я подымаюсь, протягиваю руку к столу.
— Вы избавили меня от почтовых расходов.
Отец берет карточку и задумчиво читает ее, приглаживая указательным пальцем седой хохолок на виске. Он ничего не говорит и, судя по его виду, не столько недоволен, сколько удивлен. Он сыграл свою роль, так почему же мне не попытаться, как в былые времена, вывести его из этой роли — пусть будет самим собой, а не полномочным послом Психиморы.
— Что посеешь, то и пожнешь! — заключает мсье Резо, нравоучительно поднимая мизинец и один ус.
Потом сразу начинает плакаться:
— Все это меня крайне огорчает. Несчастная семья! Воображаю, как вы все перегрызетесь, когда меня не будет на этом свете. Несчастное наше «Хвалебное»! В чьи руки оно попадет? Мама предлагает полюбовную сделку, но, я уверен, каждый из вас будет считать себя потерпевшей стороной. Если имение останется за Резо, значит, одного из вас придется поставить в привилегированное положение, как в свое время меня.
— Почему одного из нас? Вы имеете в виду Марселя?
Мсье Резо стыдливо опускает голову, он смущен тем, что проболтался. Его взгляд падает на портрет Моники, приколотый к стене четырьмя кнопками.
— Красивые зубы! — замечает он.
Усы его дрожат. Я вскакиваю с места.
— У консьержки есть телефон… Я позвоню и представлю вам свою невесту.
— Нет, нет, — протестует мсье Резо. — Мне пора на вокзал. Я ухожу.
Он подымается, берет шляпу, машинально отряхивает свой выдровый воротник.
— Просто не знаю, когда я смогу еще с тобой повидаться.
Очевидно, никогда. Но мы расстаемся так, словно увидимся через несколько часов. Вечная разлука обычно предстает коротким расставанием «до завтра». Я гляжу, как отец идет по коридору, покачивается, спотыкается, задевает плечом то одну, то другую стенку. Бахрому седых волос приподымает темный мех воротника. На первой ступеньке его ботинки на пуговицах жалобно скрипнули, и впервые от этой жалобы у меня перехватило дыхание.
XV
Я шагал счастливый и недовольный под ручку со своей женой, а в кармане у меня лежало брачное свидетельство.
Первая причина неудовольствия: этот высокоторжественный день получился довольно кургузым. Повсюду: и в пансионе Моники, и в мэрии, и в зале бракосочетаний, и в церкви, от паперти до ресторана — нас старались поскорее сбыть с рук. Скороговоркой прочитанные соответствующие статьи законов, обычная цепь формальностей, практикующаяся в субботу утром, когда какой-нибудь шестой заместитель мэра гонит церемонию на курьерских, церковная свадьба по дешевке, без органа и ковров в боковом приделе, скудное меню. Моника надела белое платье, которое потом можно выкрасить в любой цвет, фату, белую волну тюля, и приколола три цветка каллы. Мэтр Ган, мадемуазель Арбэн, кузен — седьмая вода на киселе, случайно оказавшийся проездом в Париже, две подружки по пансиону (в том числе уже известная читателю Габриель), моя консьержка (завербованная в свидетели с целью уберечь Монику от непочтительного отношения) и целый табун соседей составляли весь свадебный кортеж. Я должен бы добавить: и тень Поль, но о ней по-прежнему не было ни слуху ни духу. Что касается Фреда, я до последней минуты надеялся, что он приедет, но он или не пожелал себя компрометировать, или не сумел добиться отпуска.
Вторая причина неудовольствия: мэтр Ган — величаво отрешенный, с излишне покровительственным видом, — заменяя отсутствующего отца, подводил Монику и к трехцветному шарфу мэра, и к стихарю священника. Против воли я вспоминал кранские свадьбы в Соледо: именно так мсье Резо вел к алтарю дочек своих фермеров, вручив им предварительно в качестве дара зеркало или пару простынь.
Третья причина неудовольствия — я согласился на церковный обряд. Через несколько дней после своего визита отец обратился ко мне в письме с удивительной просьбой: изложив вторично все свои соображения, он закончил челобитную следующей фразой: «Уж если ты женишься на своей крошке, то хоть женись церковным браком». Я тут же понял (или просто подумал, что понял): «Это изощряется моя матушка» — и немедленно истолковал для себя эту просьбу так: мадам Резо мечтает о гражданском браке и надеется достичь цели, требуя обратного. Тогда, она сможет не считаться с моей женой, объявить, что Моника не законная ее невестка, а просто узаконенная любовница сына. У нее будет превосходный предлог нас угнетать. Я сразу же решил удовлетворить эту просьбу, но никак не мог примириться с тем, что, проявив внешнюю покорность, я отрекся от самого себя, пожертвовал собой ради тактических соображений. Конечно, две трети моих современников вступают в церковный брак, просто подчиняясь рутине. Обряд крещения, свадьбы и публичного отпущения грехов входит в состав декорума, где священник играет точно такую же роль, как церемониймейстер (существование определенных тарифов на все эти таинства, а также система «разрядов» лишь подтверждают мою точку зрения). Конечно, многие неверующие соглашаются преклонить колена на бархатную скамеечку из вежливости, потому что так поступили в свое время их родители, потому что невеста, теща или собственное положение вынуждают их к этому, потому что гражданская свадьба, в конце концов, слишком уж простая формальность, потому что лучше застраховаться дважды, чем один раз, особенно же в тех случаях, когда желательно не слышать слова «наложница» и приобрести право на уважение консьержки. Со своей стороны Моника даже думать не могла о гражданском браке. Она жила в религиозном пансионе для молодых девиц не по душевной склонности, а по необходимости (других мотивов, в сущности, и не бывает) и хотела получить, так сказать, моральную гарантию, что в какой-то мере тоже не оставляло меня равнодушным. Церковь она посещала редко, ходила к мессе, как ходят в баню, и религия была для нее как бы чистое белье. Впрочем, религиозность Моники была сродни той типично женской набожности, в сущности какой-то неопределенной, случайной, когда прицепляют образок к браслетке ручных часов, пренебрегают богом-отцом ради какого-нибудь святителя попредставительней и в календаре ищут переходящие праздники, особенно если при них есть пометка «нерабоч.»…
Все эти причины — впрочем, хватило бы и одной, первой, — не только вынуждали меня огласить наш брак, но и не возражать против церковных обрядов, словно все это было в порядке вещей. Добавим в мое оправдание, что ко всему этому примешивалась тоска по абсолюту, желание придать вес своим поступкам: в свете этих соображений я способен был венчаться одновременно у кюре, у пастора, у православного священника, у имама и у языческого жреца, лишь бы мой брак был законным в глазах всех богов и согласно всем обрядам. Однако, как я уже сказал, я не был собой доволен. Я испытывал странное чувство неловкости: делать что-либо наполовину никак не в моем характере. Не люблю я также действовать в силу второстепенных причин: причинять неприятность мадам Резо, делая приятное Монике, — этого мне было слишком мало. Жалкие мотивы, в сущности, они лишь кое-как прикрывали компромисс во имя застарелой ненависти и юной любви.
Вот почему я шагал одновременно счастливый и надутый под мелким дождичком, чувствуя, как в желудке у меня булькает шипучка, изображавшая шампанское, и ведя под руку Монику; а ее тетушка семенила вслед за развевающимся белым тюлем и пыталась остановить такси, чтобы поскорее попасть на вокзал. Я шел, твердя про себя, что единственно первое «да» имело законную силу и что бог — если богу есть до этого дело — не слишком должен быть польщен вторым «да», небрежно брошенным в лицо викарию, который, торопясь закончить службу, бормотал что-то по-латыни.
Но самым главным «да» было и остается третье.
Не надейтесь, что я пущусь в подробности. Я до глубины души презираю тех новобрачных, которые между двух рюмочек аперитива (или на двухстах страницах романа) расскажут вам, как они опрокинули мадам на постель, сообщат, простофили, где и сколько у нее родинок, опишут линию ее бедер, а в конце всего поведают о своих весьма сомнительных рекордах. Когда-то утверждали, что мужчина женится, чтобы положить конец определенному периоду своей жизни, а потому женился он поздно, утвердив сначала на других свой петушиный престиж, о собственной жене он говорил в завуалированных выражениях и каким-то каплуньим голосом. Думаю, что мое поколение, которое женится молодым, устремляется к браку как к некоему началу: оно обращается с законными женами как с любовницами и гордится скрипом пружинного матраса.
Я намерен уважать свою жену. Тут не просто капитуляция перед романтикой или даже перед целомудрием. Напротив, тут упорное неприятие всех тех мерзких подробностей, что несет с собой совместное существование и слишком будничная близость. Уважать женщину — это значит воевать с женщиной, не позволять ей распускаться (а ведь один бог знает, как склонны женщины распускаться, коль скоро они имеют право каждый вечер раздеваться при вас!). Требовательность, к которой приучила меня моя мать, возможно, переменила знак, но осталась все такой же настоятельной; я не вступлю в сделку с любовью, как не вступал в сделки с ненавистью. И тут нужен высокий класс.
Любовь, ненависть — все это мифы. Монтескье говорил о счастье, что оно определенная «способность». Способность к определенному стилю жизни. Любовь не этот стиль, а лишь один из этих стилей. Самое отвратительное то, что слово «любовь» применяют ко всему на свете и его нельзя заменить никаким другим словом или перифразой (нежность, дружба, привязанность, страсть и так далее, и тому подобное не заменяют его и лишены гибкости). Святая любовь, сыновняя любовь, любовь к отчизне, любовь как таковая… Есть ли у них общий знаменатель? Все отвлеченные понятия отчасти обман, а уж данное — прямая измена. Разумеется, за неимением лучшего я тоже буду его употреблять, даже им злоупотреблять, ибо предательства такого рода нам привычны, более того — дороги. Но давайте условимся: между Моникой и мной царит или будет царить некое состояние благодати, к которому не приклеишь ярлыка.
Повторяю: не ждите подробностей. В свое время, лежа с Мадлен, а потом и с другими, я думал: мужчина, оскверняющий женщину, тем самым оскверняет отчасти и свою мать. Но теперь я знаю, что презрение не самое страшное оружие: уважение, которое мы питаем к одному-единственному существу, по сути дела, куда более худшее оскорбление всем тем, кого мы не уважаем. Я не верю в массовое искупление, но вполне возможно, что каждый находит свое личное — пусть маленькое — и Моника для меня не что иное, как искупление.
Не что иное? По крайней мере мне этого хотелось. Почему мне так трудно отвлечься от твоего пояса, от этого пояса, который, следуя моде, может передвигаться чуть ли не от подмышек до бедер, но во всех случаях перерезает женщину надвое? Почему я был смущен, открывая дверь? Мою дверь. Нашу дверь. Я уступаю тебе дорогу. Кладу руку на твое плечо. Чувствую, как шевелится у меня под пальцами твоя лопатка. И я улыбаюсь потому, что твоя лопатка коснется арены, как у побежденного борца. Неужели я так никогда и не отделаюсь от этой столь враждебной жизненной силы? Ты смущена гораздо меньше, чем я, ты, моя вертикальная, входя в эту комнату, где стоит слишком горизонтальный диван. Женщина с головы до ног, моя единственная женщина. Для тебя все просто, и твоя чистота ко всему приспособляется. А моя парализует пламенное желание! Вопреки закону и пророкам, давшим мне на тебя все права, вопреки твоей доброй воле, которая слабо сопротивляется, я колеблюсь, я медлю сделать необходимые движения, которые напоминают приготовления палача. Деликатность? Не верю этому! Я длю тебя, моя мышка. Меня разрывают на части желание наброситься на тебя и страх тебя задушить. Наконец (но никому этого не повторяй: больше всего я боюсь иметь снобистский вид), нынче вечером во мне живет добропорядочный малый, который все принимает всерьез, который не намерен торопить обряды, как тот чиновник и тот викарий. Любой торжественный ритуал не терпит суеты, и твое третье «да» стоит церемонии.
XVI
В этот хрупкий час рассвет, забренчав жестяными мусорными ящиками, удивился, обнаружив на коврике возле постели избыток розового белья, столь же необычного здесь, как избыток нежности в моей душе. Я не смею встать, так как на мне только пижамная куртка: мне понадобится еще не меньше полугода, чтобы дойти до того супружеского простодушия, когда без боязни показываешь свои слишком худые ноги.
А ведь Моника еще спит, раскинувшись на постели, и веки ее пришиты к щекам стежками ресниц. Она спит с непоколебимой убежденностью куклы, трогательная до слез, наивная или же чувствующая себя уверенной под охраной своего обручального кольца. И кроме того, моего кольца, хотя рассвет не подчеркивает этой детали, этого обстоятельства, которому следовало бы быть более наглядным, оставить свой стигмат, как красное пятнышко Шивы посреди лба. Она спит, она вдыхает свой сон, пьет воздух мелкими глотками, и горло ее возле впадинки чуть вздымается и опускается, как у лягушки-древесницы. Плед чуть сбился на сторону, зато одеяло туго натянуто, и я его не приподниму. Следует щадить свои глаза: в любви их одаряют всегда в последнюю очередь, но одаряют так обильно, что они пресыщаются первыми. Впрочем, взгляд — это ничто, если статуя не знает, что ею любуются. И наконец, ладони мои куда более требовательны, нежели зрачок: со вчерашнего вечера они узнали эти рельефы, которых отныне я сам ваятель.
— А ее-то ты знаешь?
Я произнес эти слова вслух и сам удивился. А ведь верно!
Я знаю ее совсем мало, эту незнакомку, которая и наяву, пожалуй, такая же молчальница, как во сне. За полгода беглых встреч она представала передо мной лишь как видение свежести. Случай, который дал мне ее и может отнять, он и есть случай. Неужели можно так дорожить чужой женщиной, для которой ничто ваши привычки, ваши воспоминания, ваши обиды? Наша близость не покоится на плотном слое прежней жизни, на этих обломках совместной истории, на семейном черноземе, который вскармливает и самые прекрасные, и самые жестокие побеги чувств. Разве не так, мадам Резо? Эта крошка, представьте себе, тоже зовется мадам Резо! Держу пари, что ей не так-то легко будет реабилитировать это имя, и я спрашиваю себя, сколько же потребуется ей времени, чтобы стереть ваш след в моей памяти, чтобы стать более значительной, более насущной для меня, чем вы… Но позвольте, позвольте! Вот она уже шевелится, и потягивается, и вкусно зевает, открывая белые зубы — прямое оскорбление для ваших пораженных кариесом корешков.
— Ты уже…
Новый зевок, проглотивший новое для нее местоимение. Одно веко отпарывается от щеки, потом второе, открывая влажные зрачки глубоких глаз с поволокой. Одна рука высовывается из-под одеяла, хватается за спасителя, который ныряет в клокотание простынь, и проходит еще добрых пять минут, прежде чем на поверхности показывается растрепанная головка и задыхающийся рот четко произносит во втором лице единственного числа:
— Ты хорошо спал? Ты хочешь завтракать? Ты уже побрился?
Я бросаюсь к своим брюкам. Потом открываю окно: нынче утром воздух приобрел удивительное свойство — доносящийся издали голос консьержки почему-то не такой дребезжащий, как обычно. Отвернувшись от окна, я обнаруживаю, что потолок много белее, чем вчера, что моя комната вовсе уж не такая пустая… А в кровати никого нет. Моника странствует по квартире взамен свадебного путешествия (у нас на него не было ни времени, ни денег, но я об этом не жалею: мне непременно казалось бы, что, покидая типичный гостиничный номер, я что-то в нем оставил).
— Где у тебя чайные ложечки?
Иду на кухню к жене. С полдюжины предметов уже переселились на новые места. В самой маленькой из моих трех кастрюль, бывших когда-то эмалированными, кипит вода. Чайных ложечек у меня нет. А кружка только одна. Я сажусь. И если я нахмурил ту бровь, что лежит чуть выше другой, то лишь потому, что жена уселась ко мне на колени, должно быть, у нас обоих просто умилительно идиотский вид! Я хотел было надуться, но мне не удается. Сварив кофе, Моника принялась рыться, убираться, разбираться. Она носится вприпрыжку, напевает, кружится на одной ножке и наконец замирает перед тюлевой волной, в которой щеголяла вчера и которая сейчас висит на плечиках. Попробую вмешаться:
— Из нее нельзя даже занавески сделать.
Моника ничего не отвечает. Задрав нос, касаясь пальцем уха, она мечтает, нет, прикидывает.
— Вполне хватит на полог для колясочки, — говорит она.
Ай-ай-ай! Моя бровь не выносит такого рода неловких положений, моя бровь протестует. Впрочем, зря, ибо Моника аккуратно сняла с плечиков свой тюль, сложила его втрое, засунула в чемодан, временно заменяющий комод. Она не вспыхнула, не моргнула, не похоже, чтобы она собиралась возвестить о непорочном зачатии. Просто заперла свой чемодан, поднялась, распрямила спину и, не зная капризного нрава знаменитой брови, ущипнула ее двумя пальцами и, потянув книзу, пошутила:
— На что это она жалуется?
Моника ничего не добавила, а если и спросила меня, то лишь одними глазами, серый цвет которых принял металлический оттенок и которые, пробуравленные точечкой зрачка, ужасно напоминают монеты в одно су. Грошик моего везения! Заявляю вам, ХГ, что вы настоящий осел. Ваша жена не ангел, не зверь, а на редкость простой человек и к тому же решительный. Скотина, вот кто вы. А что касается ангела, так я знаю одного черного, которому здесь нечего делать и который, хлопая крыльями, убирается прочь.
XVII
Мед.
Пчелы, приносившие в мае этот мед, несомненно, обладали жалом. «Самый пылкий влюбленный, — гласит индийская мудрость, — ненавидит свою жену по крайней мере восемь часов в день». Я не ненавидел Монику, но ссорились мы азартно. Прежде всего мне надо было оставаться в форме. У наступавшего через минуту примирения был чуть кисленький вкус, а именно в этом нуждались мои десны, привыкшие к едкой кислоте. Наконец, скажу вам прямо: было две Моники, одна импульсивная, другая рассудительная. Первая в течение целых суток демонстрировала мне свои маленькие причуды, свои грешки, свои тонны молчания, свои гримаски исподтишка, приставания и это молниеносное движение, которым она сбрасывала платье, прикрывавшее маленькую крепкую грудь… Зато вторая донимала меня своими хозяйственными добродетелями, худшей из коих было безоговорочное согласие со всем, что делается, говорится, думается или что принято. Эта соглашательница повсюду пришпиливала слово «хорошо», не догадываясь, что оно означает «ничто» (как слово «порядочный» утрачивает свой прямой смысл в выражении «порядочная дрянь»), и понятно, что ее вечное со всем согласие было просто бунтом против моих отказов (ибо покоренные способны лишь на этот, единственный, вид бунта). Моника соглашалась вся — с ног до головы. Когда она соглашалась телом — мы оба не жаловались. Худо, что она соглашалась также и головой, где у нее засели свои идеи, как бывают волосы с виду вроде дымки, а на самом деле вросшие чуть ли не в мозговую оболочку. Не будем говорить о ее покорности перед авторитетами! Ими определяется ее выбор книг для чтения (мэтр Ган), ее религиозность (наставница-монахиня), ее техника подмазывания губ (Габриель), ее кулинарные рецепты (мадемуазель Арбэн). Только и слышно было «тетя» да «тетя». Мы еще не отпраздновали недели со дня свадьбы, а я уже начал считать милую тетю несколько обременительной особой.
Теперь, как только я слышал, что Моника разбивает первое яйцо об угол газовой плиты, я всякий раз провозглашал:
— Омлет с шампиньонами а-ля Катрин Арбэн!
Чаще всего Моника молчала, только быстрее обычного швыряла в помойное ведро яичную скорлупу. Однажды она все-таки не выдержала и дала мне отпор:
— Сегодня омлет а-ля Резо. Нужно взять поганки, хорошенько их перемешать, посыпать мышьяком, залить тремя яйцами, предпочтительно тухлыми…
Конец фразы был заглушен стуком вилки, яростно взбивавшей клейкое золото желтков. Впрочем, это не значило, что мы расквитались. В тот же вечер, когда я объяснил Монике, почему я не поклонился уже не помню какому из друзей своей матери, которого я встретил днем, и что мое поведение в данном случае «вполне естественно», раз этот тип рассчитывает на сугубо вежливое отношение со стороны членов нашей семьи, она воскликнула:
— В сущности, у тебя тоже есть свои авторитеты, только ты пользуешься ими наоборот.
Опять взяла верх! Ужасно неприятно обнаруживать в себе недостатки, в которых сам упрекаешь ближнего. Когда соломинка приподнимает бревно и обрушивает его нам на голову, от нас остается мокрое место. Однако худшее даже не в том, что Моника была права. Для меня и на самом деле существовало два мерила ценности вещей: одно прежнее, идущее от нашей семьи и уже поэтому вызывающее у меня желание противоречить, и другое сравнительно недавнего происхождения и ценное одним тем, что было связано с Ладурами, с Поль, с Моникой. Кроме того, все эти «за» и «против» смешались во мне, и их нагромождение повергало меня в растерянность: такова участь каждого, кто делает ставку на чужие критерии и у кого суждение лишь придаток к дурному нраву. Моя мать была благомыслящей. Как же она могла быть неправа, коль скоро она моя мать, если права Моника, коль скоро она моя жена? Если даже я и провозглашу, просто желая выпутаться из этого противоречия, что мнения моей матери были вскормлены корыстью, а взгляды Моники — великодушной наивностью, все равно и те и другие где-то смыкаются. Скандальное смешение! Прискорбно уже и то, что моя жена одного пола с моей матерью. Хватает и этого! Те, кого я люблю, и те, кого я ненавижу, не должны иметь никаких точек соприкосновения. Понадобятся еще годы и годы, прежде чем я откажусь от философии предвзятости. Поль уже разоблачила меня, бросив мне как-то:
— Ну и сектант! Из тебя получится превосходный политикан!
Примерно то же самое, но в другой форме означало восклицание Моники, когда я заметил ей, что она ложится слишком рано, что именно в этот час мадам Резо отсылала нас, детей, спать.
— Не могу же я отказаться от всего только потому, что так делали у вас дома. Надеюсь, вы ели? Так вот, запомни, и мне, бывает, хочется есть.
Эти трения были не единственными. Нашу близость — вообще-то вполне благополучную — еще следовало обкатать. Ось (ось — это, конечно, я) слишком зажимала колесо. Желание мужчины не расставаться с женщиной для нее всегда лестно, и я пока не слышал, чтобы оно ей приедалось. Но я еще не овладел искусством давать передышку, свободу действия, не навязывать своего присутствия, избегать вечных «куда ты идешь?», взоров крепостника, клохтания наседки. Говорят, что мужчина ревнует к прошлому, а женщина — к настоящему (и именно поэтому мужчина предпочитает быть первой любовью женщины, ибо его ревность идет от духа творящего, тогда как женщина предпочитает быть последней любовью мужчины, ибо ее ревность идет от духа соперничества). Не то чтобы я особенно ревновал к прошлому (несуществующему), или к настоящему (занятому мною), или к будущему Моники. Я не ревновал ее во времени, а ревновал в пространстве. Меня одного должно было хватать, чтобы заполнить все ее пространство. Ты уходишь, я ухожу, мы уходим: ambo![27]
— Давай пригласим к нам в воскресенье Габриель, — предложила Моника.
— Зачем? Я тебе надоел?
— При чем тут «надоел»? Она моя подруга.
Подруга. На что ей подруга? Разве у меня есть друзья? Разве у той женщины, что целиком и самозабвенно посвятила себя обитателям «Хвалебного», — разве у нее были подруги? Нам было плохо или хорошо, было жарко или холодно — только в семейном кругу. Никаких посторонних, никаких равнодушно-тепловатых! И вот с губ моих срывается ошеломляющее признание, хотя язык мой не успел еще отмерить положенные семь раз:
— Как тебе известно, мне хорошо только в кругу семьи.
— Вот уж действительно! — фыркает Моника.
Но хорошо может быть по-разному: в домашних шлепанцах или, скажем, с автоматом в руках. Все дело в темпераменте. И я поспешил уточнить лирическим тоном:
— Я говорю о моей семье… о нашей… если угодно, о той, какую мы создадим.
— Ясно, — согласилась моя жена с той особой гримаской, появляющейся на лице человека, который уже растрогался, но еще боится, что его чувства не найдут отклика в собеседнике. Потом, хрустя пальцами, она добавила: — Давай не будем торопиться покупать столовый гарнитур. Зачем нам столько пустых стульев?
Но вот один палец хрустнул громче остальных, Моника взорвалась:
— До чего же ты все-таки требовательный! Все или ничего, ты и я, только мы двое… ты мне все уши прожужжал своими требованиями! С такой молодостью, как твоя, человек должен стремиться к бесхитростному счастью.
Да нет же, совсем наоборот! Но как ей это втолковать? Поймет ли она, что я привык ко всему чрезмерному, исключительному? Когда нас захватывало это… это устаревшее… это скандальное чувство… мы вовсе не переставали интересоваться друг другом. Пронзительно, страстно одержимые — вот какие мы. И притом предельно внимательные.
— Значит, ты предпочла бы безмятежное счастье?
— Вот уж нет! — Губы Моники снова кривит гримаска, но тут же исчезает, чудесно преображенная улыбкой.
Еще мед. Этот мед мало-помалу засасывает меня, обволакивает мою ярость куда полнее, чем это удавалось сделать желчи Психиморы и слюням Поль. Ни принуждение, ни доводы разума не могут образумить воинствующего: если он падет, то лишь от ударов сердца. Но этой благодатью была наделена только Моника, она одна. Напрасно я в свое время боялся стать пошлым, боялся расслабнуть: цветок и сталь могут остаться голубыми в одной и той же руке. Проповедующие безоговорочную верность своим женам без труда от нее отрекаются, а солдафоны легко впадают в сентиментальность. Мы созданы не из одного куска, и еще долго наши гневные вспышки будут сопутствовать нашим радостям; единственная услуга, которую вторые могут оказать первым, — это занять нас собою, отвлечь наше внимание.
Я редко думал о «Хвалебном», но его атмосфера — в силу контраста — становилась мне с каждым днем все противнее. Запасной путь ненависти — это презрение (и оно в сотни раз мучительнее для такой, как Психимора).
Я медленно — очень медленно! — шел по этому пути, лишь смутно провидя новую форму реванша. Во всяком случае, будучи уверен, что не обедняю свое «я», а обогащаю его. Удивляясь тому, что открыл в любви (на сей раз для определения я вправе прибегнуть к этому слову) иную форму познавания. По-глупому гордясь своим открытием, которое другие делают еще в младенчестве, я радовался, что ничуть не обязан этим материнскому молоку, черпал в этой чести неуемное веселье и живость, таившуюся целых пять лет под спудом нерешительности.
Нет, наши споры не шли в счет. Все это мелочи. День ото дня становилось все яснее: мой тайный страх увидеть, что мадам Резо-младшая играет при мне роль мадам Резо-старшей, ни на чем не основан. Внушения Моники всегда будут не замаскированными приказами, а просьбами: я очень люблю, когда меня просят, но, право, ненавижу, когда меня умоляют. Моника умеет относиться к мужу с уважением и не посягает на его прерогативы! Она готова в любую минуту отречься от прежних своих авторитетов и признать авторитетом меня, колонизатора: и все чаще «как говорила тетя» сменяется «как ты говоришь»…
XVIII
— Я хочу тебе сообщить одну важную вещь, — прощебетала Моника. — Только сначала прочти письмо… А сегодня уже три месяца, — добавила она, вручая мне конверт.
Марка была проштемпелевана, и на ней стояла дата 16 апреля 1937 года. Значит, мы были женаты уже три месяца. Мне не нравится эта бухгалтерия, которую усердно, с молодым пылом ведет моя супруга, подбивая итоги каждый месяц. Но это лучше, чем твердить «еще девяносто дней на казенном пайке», по-мышиному отгрызая день за днем будущее; ретроспективный подсчет применим только к радостям.
— «Морской флот», — добавила Моника. — Значит, от твоего брата.
Моника никогда не вскрывает моих писем — даже жалко, я бы не прочь посмотреть! Но зато она, быстроглазая, взяла себе в привычку стоять рядом со мной, наморщив любопытный носик, и живо поводить головкой справа налево, как кошка, поджидающая у норки мышь.
И действительно, послание было от Фреда. Только он один выводит такие каракули, и буква «ж» характерна у него отсутствием полагающейся черточки. Письмо от Фреда, черт побери! От Фреда, который через несколько дней будет свободен и, очевидно, намерен свалиться нам на голову. У меня нет ни малейшей охоты восстанавливать с ним родственные отношения, как, впрочем, и со всеми другими членами нашего семейства. Ничего о них не слышать, развязаться с ними раз навсегда — вот чего я хочу, и хочу почти искренне. Сердито насупившись, я взял жирный кухонный нож и одним махом вскрыл конверт с такой силой, что хватило бы на настоящее харакири. На листке бумаги в клеточку (такая бумага продается в пачках дюжинами) во всех направлениях извивалось двадцать голубоватых строчек. На пятой нож выпал у меня из рук, и я пробормотал:
— Только не так!
— Что случилось? — спросила Моника, тревожно глядя на мои стиснутые челюсти. — О чем это ты?
Но я молчал, я пока уточнял про себя свою мысль… Нет, я вовсе не таким способом хотел отделаться от своих. За исключением «ее», да и то не наверное. Мне вдруг представилась спальня родителей, две стоявшие рядом кровати, широкое одеяло на волчьем меху. Следовало бы… следовало бы пощадить одну из этих кроватей, ту, что стоит слева. Внутренне заледенев, я кончил письмо и протянул его Монике, которая прочла вполголоса:
«Шербур, 14-4-37.
Дорогой Жан, я получил весточку от Марселя. Папа, у которого было уж два приступа уремии — первый полгода назад, а второй вскоре после твоей свадьбы, — снова заболел, и на этот раз очень серьезно. Раз Марсель мне пишет, значит, папа безнадежен. Возможно, сейчас он уже умер. Меня отпустят только 20-го. Иначе я немедленно поехал бы в „Хвалебное“. Несмотря на заговор молчания, думаю, что не ошибусь, сообщив тебе, что с наследством нас ждут различные сюрпризы: старуха начисто ограбила нас в свою пользу и в пользу Марселя.
Думаю, что ты не в курсе дела: они решили тебя игнорировать, за исключением тех случаев, когда твое присутствие необходимо для различных формальностей. Если папа скончался, очевидно, нас с тобой скоро постигнет одинаковая участь. Нам нужно объединиться.
До скорого. Жму лапу. Фред».
Я даже не пошевелился, когда Моника с отвращением швырнула письмо на стол.
— До чего же противный твой брат! Плевать ему на смерть отца. Он одного боится — как бы его не обошли с наследством. Но твой отец еще не умер: тебя известили бы телеграммой.
— Ни за что не известили бы. Даже Фреду сообщили с запозданием. С умышленным запозданием.
Серые глаза уставились на меня, потом испуганно померкли. Сколько ни объясняй постороннему, чем дышат в нашей семье, только конкретный пример может окончательно его убедить. А я, не имея еще никаких доказательств, знал, что Фред не ошибся. Через два дня после похорон отца я получу извещение большого формата с черной каемкой сантиметров примерно в пять и под этим извещением сорок персон поставят свои подписи, укажут чины и звания в порядке степени родства и лишь затем с глубоким прискорбием сообщат о непоправимой потере, понесенной ими в лице Жака Резо, почетного судьи, награжденного знаком отличия по министерству народного просвещения, кавалера ордена святого Георгия, принявшего христианскую кончину на шестьдесят втором году жизни после соборования и миропомазания. Меня пригласят на похороны, когда погребальные свечи уже давным-давно погаснут, а святая вода успеет испариться. И по всему Кранэ разнесут суровый приговор: «Бессовестные! Даже на похороны отца не приехали». А в наше отсутствие исчезнут все бумаги, ценности и побрякушки. И если мысль об этом будила у Фреда гнусные чувства, у меня она развивалась в ином направлении: я охотно отказался бы от своей доли наследства, лишь бы спасти имение, как в свое время сделали братья и сестры в отношении моего отца, но я так же охотно разорил бы нашу семейку, чтобы ей не повадно было впредь обходиться без моего согласия.
— До чего же все это гнусно! — жалобно твердила Моника. — Неужели же вы ничего и никого не уважаете? Ведь он же умер… Что ты решил делать?
— Есть только одна возможность: позвонить в Соледо мэру. От консьержки нельзя звонить по междугородному, сбегаю на почту.
Я отлично видел, что мое хладнокровие пугает Монику. Но это было сильнее меня, я должен был хранить равнодушный вид, должен был выйти, печатая шаг, фыркая, как лошадь, запряженная в катафалк.
Резо знают, как нужно держаться в подобных обстоятельствах. Мы, Резо, стойкие, мы придерживаемся великой традиции, согласно которой идем за гробом с сухими глазами и нанимаем плакальщиц. Мы — говорю я, ибо Рохля не в счет, и, как ни скандально может это показаться, я теперь почти первенец, почти глава семьи. Спокойно закроем за собой дверь, не спеша сойдем с лестницы, а главное, навсегда утаим, что, завернув за угол, мы тут же бросимся бежать опрометью.
Домой я вернулся через полчаса. Я вошел в квартиру неслышно, как мышь, как будто в комнате и впрямь лежал покойник. Приличия требуют, чтобы люди ходили на цыпочках, словно боясь разбудить труп. Ничего не объяснив Монике, я подошел к шкафу, достал черный галстук и стал его повязывать. Рефлекс вполне в духе Резо, которые превыше всего чтут форму. И мой собственный рефлекс: я люблю жест. Моника, прикорнувшая в уголке дивана, холодно следила за мной.
— Умер? — спросила она, и голос ее дрогнул.
Надо открыть рот и начать говорить, хотя мои зубы наподобие соломорезки дробили фразу на маленькие частицы:
— Умер и похоронен… Похоронен сегодня утром в Сегре. Не понимаю, почему в Сегре: ведь фамильный склеп находится в Соледо. Мне удалось связаться с секретарем мэрии. Он хихикал. Посмел мне сказать: «Можете обратиться к нотариусу!» Ах, сволочь!
Слова эти сопровождало какое-то рычание, над которым я был не властен и которое можно было истолковать на сотню ладов. Должно быть, Моника истолковала его к моей чести, потому что выражение ее лица изменилось. Интуиция, эта пресловутая интуиция, которую приписывают женщинам и которая действительно говорит в них, когда они вас любят или ненавидят (моя мать достигала в этом деле чуть ли не гениальности), шепнула Монике на ушко благоразумный совет. Она не бросилась мне на шею с рыданием, брызгая слюной при каждом очередном «увы!». Она потихоньку сняла свой шерстяной жакетик (он был красного цвета). И вот ее губы полуоткрылись, и, умеряя голос, она сказала специально для меня:
— Я тоже когда огорчаюсь, то злюсь.
Я не поверил ни слову, но, когда видишь, что твои несчастия разделяют, легче их переносишь. Да, я огорчаюсь по-злому, согласен, но раз у меня злое горе, значит, оно есть. В общем, нечего размазывать: у меня горе. Мое горе, как и моя любовь, существует вопреки моей воле, вопреки моему сознанию. Я оплакивал то, чего уже нет, ту капельку тепла, которую остудила эта смерть, ту боязливую доброту, которая неизменно отступала, прикрываясь бессильной пышностью его усов. О мой отец! Если все наши воспоминания разнести сейчас по графам прибылей и убытков, если для того, чтобы установить ваш актив иным способом, чем у нотариуса, я сделаю переучет вашим привязанностям, которые не что иное, как постоянная рента, отданная в пользование ближним… о мой отец, каким же вы окажетесь в таком случае бедняком! Скорее уж многострадальный Иов, чем многодумный простофиля! И если вас удовлетворяли, если вас утешали ваши мухи, приколотые тончайшими булавочками или наклонные наискось на кусочки сердцевины бузины, ваши генеалогические изыскания, истребление куропаток, ваши торжественные приемы, прославляемые во всем Кранэ, — до чего же вы мне тогда непонятны! Я не упрекаю вас за то, что вы, в роли главы семьи, были смехотворно нелепы, были самцом странного насекомого-богомола, которого пожирает самка, — я упрекаю вас за то, что вы были таким отцом, каким бывают крестные, упрекаю за то, что вы были всего-навсего моим ближайшим предком. Конечно, я жалею о вашей смерти, ибо любой траур подсекает наши корни. Я жалею вас, как побежденная страна жалеет бесплодный край, кусочек пустыни, аннексированный неприятелем. У вас были свои оазисы… Помните период междуцарствия, когда вы были возведены в чин «наместника» вашего собственного королевства? Помните ваши прогулки к мосту, поездку на Юг, ваши тремоло перед гобеленом «Амур и Психея»? Я-то помню. Вы не были злым. Вам просто не повезло. Вы нарвались на амазонку и на этого непреклонного отпрыска плювиньекских кровей, на вашего младшего сына. Удалитесь же, отец, уйдите на цыпочках! Вы будете не более отсутствующим, чем были при жизни, но вы и не будете больше ни за что в ответе, и особенно за это ваше отсутствие. Если я сердился на вас, то теперь я буду сердиться меньше. Я вас не забуду. О, конечно, я не буду каждый день благоговейно перетряхивать память о вас, но я предлагаю вам нечто большее, чем заупокойную мессу и золотую рамку в ледяном коридоре «Хвалебного».
— Милый, — воскликнула Моника, — я же знала, что ты не из мрамора.
Очевидно, это бросается в глаза. Ну и пусть! Я встрепенулся и попытался отвлечь от себя внимание Моники:
— А какую важную вещь ты хотела мне сказать?
— Боже мой, — проговорила жена, отворачиваясь, — это письмо все испортило.
Она вытащила носовой платок, сложила его вчетверо, аккуратно расправила: у Моники это признак глубокого смущения. Обострившиеся черты лица, лиловатый оттенок век, отяжелевшие груди под блузкой уже давно сказали мне все и пробудили во мне смутную радость, которая предпочла не обнаруживать себя. Не подобает, особенно в такой день, пренебрегать обычаем нашего клана: тот, кто знает, должен притворяться незнающим, ибо только официальное подтверждение имеет цену. Наконец Моника решилась, и с губ ее срывается завуалированное признание:
— Одно поколение уходит, — шепчет она. — Приходит другое.
XXIX
Ни извещения. Ни Фреда. Никаких новостей в течение двух месяцев! Наконец пришло приглашение от нотариуса, где он рекомендовал мне дать ему доверенность, чтобы представлять мои интересы. Но это предложение мне не улыбалось: я сам прекрасно мог себя представлять и настолько не боялся предстать перед своей родней, что не колеблясь решил взять с собой Монику. Мы просто в качестве предосторожности побывали в красильне. Любой недоброжелатель, приглядевшись поближе, мог бы не без основания заявить, что мы недотянули по части траура. Только новый черный цвет имеет по-настоящему траурный вид: перекрашенная в черное ткань приобретает какой-то неопределенный оттенок. Не думаю также, что у нас был достаточно подавленный вид и достаточно траурные чулки и обувь.
Хотя легкая волна крепа (очень тоненького крепдешина — так сказать, малый траур) заменила собой волну белого тюля, в котором Моника щеголяла всего пять месяцев назад, поездка всегда развлечение, и данное путешествие стало эрзацем нашего свадебного. Моя жена — истая дочь Восточной Франции после Ле-Мана не отходила от окна вагона, она дивилась живым изгородям, смыкавшимся все теснее и теснее. В Сабле у нас была одна пересадка, вторая в Сегре, и, наконец, узкоколейка доставила нас на вокзал в Соледо, отстоявший на километр от нашего поместья.
— Со-ле-до, — пропел единственный железнодорожный служащий, упирая на «о», как оно принято в нашем дождливом крае, и с удовлетворенным видом взмахнул красным флажком.
Он еще сворачивал свой флажок, а мы уже спрыгнули на платформу, где как звезды сверкали одуванчики, и паровоз, выпустив струю серого дыма, понесся к станции Шазе. Со мной железнодорожник не поздоровался: некогда он был единственным избирателем в Соледо, решившимся не подать свой голос за маркиза Лэндинье, и единственный послал своих ребятишек в светскую, а не в церковную школу. Но за нами уже захлопнулась с железным лязгом калитка. Бокаж, моя родина! Воздух и трава так по-родственному смешались между собой, что первый казался зеленым, а вторая трепещущей. Склоны дороги горбились под тяжестью колючего кустарника и головастых дубов, обкорнанных неумелой рукой. Дорога в Круа-Рабо шла между живыми изгородями; колеи, глубокие, как рвы, были до краев наполнены жирно поблескивающей водой, где рыжели капустные кочерыжки. А вот и хрупкий фарфор шиповника, плоды которого нынче осенью снабдят местную детвору неистощимым запасом «чесательного порошка». Вот ядовитая желтизна рапса, каменные дубы, покрытые лишайником, мелкорослые коровенки, которые делят с сороками честь быть раскрашенными в черный цвет сутаны и белый шлагбаума. Вот Омэ, охотно предоставляющая свою мутную воду в распоряжение прачек и их вальков. Вот Соледо и его колокольня, которая вяжет серую шерсть облаков. На треугольной площади подрагивает под ветром листва одиннадцати лип — я недосчитался двенадцатой. Бакалейная лавка, кафе «Золотой шар», кузнец, каретник, сельская почта, церковный дом; и повсюду шевелятся раздвинутые на целый сантиметр занавески. Единственный признак жизни в этих низких лачугах. Как и полагается, нотариус Сен-Жермен живет в домике повыше, чуть в стороне, на надлежащем расстоянии от галок, от грохота наковален, от школы с ее шумными переменами и смрада жженого рога.
Сопровождаемый своим клерком, нотариус самолично открыл нам дверь. Он был из породы орешников, тоненький и до того хлипкий, что при малейшем сквозняке весь начинал как-то трепыхаться, а его огромные плоские кисти похожи были на самые настоящие листья, и соединялись они с руками при помощи жиденьких, как черешки, запястий. Головы вроде как и вовсе не было: она вся свелась к глазам, тоже неопределенно-орехового цвета, в кольце подергивающихся век. Он, этот невесомый законник, прошел впереди нас, проскользнул между обитых войлоком дверей и, отослав клерка, предложил нам сесть на красные бархатные стулья. А сам остался стоять вдали от письменного стола, покачиваясь от собственного дыхания и клонясь долу под грузом сочувствия.
— Прежде всего разрешите мне, мсье и мадам, сказать, что я вполне разделяю…
Мы отлично знали, что он разделяет наше состояние: во всяком случае, получит куш от доли наследства крупнее моего. Уголком губ я пробормотал слова благодарности, стараясь говорить потише, чтобы наш хозяин не взлетел на воздух. Сменив сочувствующий тон на деловой, мэтр Сен-Жермен обогнул стол и взгромоздился на вращающееся кресло, что позволило ему занять господствующую позицию.
— Вы пришли раньше назначенного часа. Вы вполне успели бы заглянуть в «Хвалебное». Полагаю, ваши братья проехали прямо туда, чтобы подготовить мадам Резо к тягостным формальностям.
Больше наш нотариус ничего себе не позволил. Слова его означали: «Вы не сын, а выродок, но я знать ничего не знаю». А ведь он, мэтр Сен-Жермен, знал, знал лучше всех, почему я не поехал в замок, почему явился прямо в его контору. Он притворялся и будет притворяться до конца, что ни за что не решится заглянуть за стену, огораживающую личную жизнь клиента, даже если стена эта огораживает нечто приобретшее уже громкую известность. Ничего из того, что ему полагалось не знать, и ничего из того, что полагалось знать мне, не просочится сквозь барьер его гнилых зубов. Уж не знаю как, но ему удалось поддерживать разговор, и он завел бесконечную беседу о том, что здешний диалект и местные головные уборы уходят в прошлое, о грозном нашествии колорадского жука, о постепенном заилении речки Омэ. Вводные предложения, отступления, замечания, прерываемые паузами, внезапный переход от скороговорки к высшему искусству медленно цедить фразу за фразой — все это заполняло секунды и минуты. Мы с Моникой мало чем ему помогали и ограничивались лишь поощрительными междометиями. И однако, когда зазвенел властный и долгожданный звонок, мэтр Сен-Жермен чуть не извинялся перед нами за то, что вынужден прервать столь содержательную беседу. И он не удостоил вниманием быстрый шепоток Моники:
— Скажи, милый, должна я здороваться с твоей матерью?
Стоило ли отвечать на подобный вопрос? Вдова с головы до ног, в трауре, с приспущенными, как флаги, веками, закутанная в свои черные вуали, старая Андромаха шествовала по кабинету, казалось, ничего не видя, ничего не ощущая; она осторожно опустилась в кресло, подставленное ей мэтром Сен-Жерменом. Марсель и Фред — оба в штатском, оба в одинаковых черных костюмах — как будто тоже не заметили нашего присутствия и заняли места чуть поодаль по обе стороны мадам Резо. Мы с Моникой, сидя в нашем уголке, казались в высшей степени ненужной деталью, вернее, и впрямь были неким аксессуаром. Прежде чем усесться за письменный стол, мэтр Сен-Жермен возобновил свои соболезнования, в вялых ватных выражениях он перечислил заслуги нашего покойного отца — своего соседа, друга, клиента и коллеги по муниципальному совету. При этом он, не отрываясь, смотрел в глаза моей матери, будто завороженный этим щелкунчиком в юбке. Марсель не шелохнулся. Фред — наконец-то! — быстро оглянулся в нашу сторону и похлопал в мою честь веками.
Потом Сен-Жермен снова стал официальным лицом. Он сел, его голос окреп и дошел до самого верха гаммы:
— Я не пригласил вас раньше, господа, дабы избежать ненужных осложнений. К тому же мсье Марсель Резо достиг совершеннолетия только позавчера… Итак, мы собрались здесь, чтобы ознакомиться с завещанием, написанным целиком рукой завещателя, которое уже прошло процедуру вскрытия и содержание коего было сообщено мне председателем суда. Это завещание наиболее классическое и справедливое из всех, когда-либо существовавших.
Плоская кисть руки как-то ребром врезалась в тускло-зеленую папку, мирно дремавшую на столе. Два пальца, большой и указательный, извлекли оттуда простой листок писчей бумаги с бланком «Хвалебного».
— В принципе, — продолжал нотариус, — это завещание должно было быть написано на гербовой, а не на обыкновенной бумаге. Однако оно имеет полную юридическую силу, только нам придется внести небольшую сумму за его регистрацию. Покойный мсье Резо хорошо изучил право! Разрешите, мадам, огласить текст? Ну так вот… «Я, нижеподписавшийся, Жак Резо, бывший товарищ прокурора, проживающий в Соледо, департамент Мен-и-Луара, настоящим завещаю моей жене, урожденной Поль Плювиньек, четвертую часть всех своих владений и четвертую часть всего своего имущества, движимого и недвижимого, составляющего мое наследство. Настоящим упраздняю все другие завещания, предшествующие этому. Составлено, написано, датировано и скреплено собственноручной подписью в Соледо, 28 числа октября месяца 1936 года».
Мэтр Сен-Жермен поднял от бумаги нос, крохотный носик, на котором не уместились бы разом даже две мухи.
— В сущности, — разъяснил он, — мадам Резо наследует долю имущества, которой можно свободно распоряжаться, а каждый из вас, господа, получит свою долю, на которую за ним остаются права законного наследника. Дай-то бог каждый день заниматься такими ясными завещаниями.
Фред снова обернулся ко мне: угол его рта, тот, что не могла видеть мать, если бы она даже соблаговолила взглянуть на своего первенца, искривила сардоническая ухмылка. Сидевшая рядом со мной Моника скорчила гримаску, и я понял ее смысл. «Эта убитая горем женщина, этот справедливый раздел наследства, — должно быть, думала Моника, — явно противоречат рассказам моего супруга». А я пока что воздерживался: я-то знал цену всему этому показному великодушию, которое наше семейство обожало разыгрывать для галерки. Нотариус добавил самым естественным, даже веселым тоном:
— Вы можете спокойно согласиться принять это завещание. Если актив не так значителен, зато нет пассива. Состояние, которое оставил мсье Резо, разделено следующим образом…
Все лица окаменели, кроме лица Фреди, которое, наоборот, обмякло до того, что даже подбородок отвис. Но вот один из пальцев у мадам Резо, у этой статуи, шевельнулся, неприметно затряслась шея. Сен-Жермен снова заговорил голосом пономаря:
— Текущие счета мсье Резо, как в Лионском кредите, так и в Учетно-ссудном банке, составляют кредитовое сальдо в сорок тысяч франков. Я еще не произвел оценку бумаг, хранящихся в моей конторе, но знаю их хорошо и примерно определяю их стоимость в двести тысяч. Мадам Резо дала мне знать, что в сейфе покойного содержится сверх того на полмиллиона различных ценностей, возникших в результате новейших операций. Таким образом, имеется примерно семьсот сорок тысяч франков, из которых сто восемьдесят пять тысяч переходят в полную собственность мадам Резо, еще сто восемьдесят пять также достаются ей по праву наследования как узуфрукт[28], и каждому из сыновей…
Счеты, расчеты… Я знал, что у отца не было значительного движимого имущества. Основная часть доходов нашей семьи шла от лакомого приданого мадам Вдовы. Были также фермы. Почему же мэтр Сен-Жермен ничего не сказал о «Хвалебном», о его обстановке, о гобеленах? Тут Марсель с трудом проглотил воздух, словно крутое яйцо. Пора переходить в атаку:
— Что касается «Хвалебного», которого никто из нас не в состоянии выкупить, считаю, что мы можем оставить его неделимым.
— Что? — пискнул нотариус, и обе руки его взлетели в воздух, словно подхваченные ураганом удивления.
Все шеи на четверть оборота повернулись в мою сторону, все лица дружно выразили изумление, упорное и чистосердечное. Что это еще за младенец? С луны он, что ли, свалился?
— Ну, ну, — пробормотал мэтр Сен-Жермен, — вы же знаете, что ваш батюшка, выйдя в отставку и не располагая достаточными средствами, продал имение с правом пожизненного пользования в октябре месяце. Покупатель дал ему полмиллиона, именно об этих деньгах я вам сейчас и говорил; это обеспечивает вам достаточно большую ренту. К несчастью, вашего отца не стало…
Мадам Резо скорбно сжала руки.
— О! — простонала она. — Должна признать, что это очень неудачная сделка. Но мой бедный супруг мог прожить еще двадцать лет. Кто же предвидел его кончину? И вот я теперь без крова над головой, и хорошо еще, что покупатель согласился оставить меня в качестве съемщицы.
Еще немножко, и нам же придется ее жалеть. «Сделки» тоже начали мало-помалу проясняться. Пойдем до конца, пускай Моника глядит на меня с упреком.
— А обстановка?
— «Хвалебное» было продано с обстановкой, — ответила мать, и быстрота ответа выдала ее с головой.
Совсем хорошо! В цепи теперь не хватало лишь одного звена:
— Кому?
Марсель побагровел, нотариус совсем ушел в кресло. Но мадам Вдова приняла вызов:
— А какое тебе дело? «Хвалебное» продано и поэтому не фигурирует в завещании, вот и все. Точка. Надеюсь, твой отец не обязан был просить у тебя разрешения располагать своим имуществом, чтобы иметь кусок хлеба на старости лет.
Но Фред в мгновенном приступе отваги нагнулся ко мне.
— Покупатель — мсье Гийар де Кервадек, — хихикнул он.
Так вот в чем фокус! Я понял. Я старался обдумать все как можно быстрее, старался найти решение и, главное, выигрышную позицию, а мэтр Сен-Жермен, введенный в заблуждение моим молчанием, живо вытащил из папки уже готовые документы. Он вдруг ужасно заторопился. Как во сне, я слышал его бормотание:
— Будьте любезны, подпишитесь, мадам… здесь… и здесь… потом тут… Благодарю вас.
Мадам Резо поднялась, поставила свою клинообразную подпись и снова упала в кресло. Я почувствовал на себе ее испытующий взгляд: теперь она ищет моих глаз, но зря ищет. Я наблюдал за Марселем, который тяжело поднялся со стула: шестьдесят гектаров земли — по одному гектару в минуту — в течение одного часа свалились ему на голову. Он невозмутимо подписал документы. Затем наступила очередь Фреда. Но Фред заколебался, поглядел сначала на ручку, которую поощрительно протягивал ему Марсель, потом на свою мать, потом на меня.
— Не подписывай.
Я встал. Сложил на груди руки и пошел чеканить слова:
— Давайте подведем итоги. Мадам Резо, имея на руках полную доверенность и действуя от имени нашего тяжело больного отца, продала в последнюю минуту имение и всю обстановку, то есть основную часть наследства, и продала за смехотворно низкую цену.
— С правом пожизненного пользования для вашего батюшки! — возразил мэтр Сен-Жермен, а мадам Резо вся сжалась, делая невероятные усилия, чтобы не выйти из своей роли безутешной вдовы.
— Хорошенькое дело — пожизненное пользование. Дни отца были уже сочтены. А кто покупает имение? Мсье Гийар де Кервадек, будущий тесть Марселя. Держу пари, что через год «Хвалебное» вернется в нашу семью, но пользоваться им будет лишь один из нас, причем мадам Резо получит от него немалую долю доходов. Классический номер! Кроме того, если полмиллиона составляют продажную цену и эту сумму вычтут из стоимости движимого имущества, то подсчет неверен. Я уже не спрашиваю, что сталось с серебром и драгоценностями… Тут пахнет прямым грабежом, и дело суда в этом разобраться…
Раздался сухой стук — это Фред уронил ручку. Марсель шагнул вперед, вытянул руки, как бы желая защитить мать. А она, забыв о своей слабости — теперь хитрить уже было бесполезно, — вскочила с кресла, как папа Сикст V после избрания. От ее размашистых движений траурные вуали взлетали, она казалась паучихой, засевшей в центре паутины.
— Можешь делать все, что тебе угодно, — завопила она. — Я все предвидела. Не допущу, чтобы родовое имение попало в руки бездельника, который в течение десяти лет занимался всякой ерундой, который унижал нас любыми способами, который опоганил все, что было у нас святого. Лакей! Человек-сандвич! Неудачник, который вступил в идиотский брак…
Любопытное дело, но тут голос моей матери прозвучал ненатурально: она декламировала, она осипла и наконец, с трудом справившись с одышкой, трагически крикнула:
— Твоя женитьба убила отца!
Марсель пытался увести ее прочь. Мэтр Сен-Жермен корчился, как на дыбе, и, брюзжа слюной, твердил: «Ну, ну!» — это обращаясь к матери и: «В полном соответствии с законом» — это обращаясь ко мне. Разбушевавшаяся старуха крушила теперь направо и налево.
— А ты, матрос, можешь складывать чемоданы. И не рассчитывай на меня, я пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь. Что один брат, что другой — прелестная парочка.
Под обстрел попала даже Моника, которая вдруг начала улыбаться (я понял, почему она улыбнулась: теперь она знала, как к этому относиться). Преступление ее заключалось в том, что она, положив мне руку на плечо, пробормотала: «Пойдем отсюда, миленький». И тут же ее обвинили в грехе нежности. Уже стоя на пороге, мадам Резо ухитрилась вырваться из рук Марселя, обернулась и выплюнула нам в лицо свою заключительную тираду:
— А вы, мидинетка, запомните раз навсегда — наша семья никогда вас не признает.
Золотой зуб блеснул грозно, как молния. Ах, раздробить бы этот зуб, эту челюсть, эту башку! Но вот блеснуло что-то иное: рука моей жены, на которой сверкало тонкое обручальное кольцо, властно схватила меня за запястье. И новая Моника, неожиданная, нечувствительная к унижению, как бы неуязвимая, ответила нежным голоском:
— Вот как, мадам? Оказывается, у вас есть семья?
Больше нам здесь нечего было делать. Мы уехали. Я хотел было посетить могилу отца, но Фред, который успел смотаться в «Хвалебное» и догнал нас на дороге, объяснил мне, еще не отдышавшись от бега:
— Мсье Резо умер в больнице, в Сегре, куда его ради экономии велела перевезти нежная супруга… Кстати, знаешь, какой трюк выкинула сейчас эта неутешная вдовица? Потребовала, чтобы я при ней уложил чемодан, — помнишь, как мы укладывались при ней, уезжая в коллеж. Обыскала меня, хотела, видишь ли, проверить, не увожу ли я чего-нибудь из того добра, которое она у нас стащила. Ничуть не изменилась вдовствующая королева!
«Вдовствующая королева» — очень неплохо. Подлинной королевой, вдвойне живой мадам Резо была теперь моя жена, которой я стал ужасно гордиться, потому что за ней осталось последнее слово. Впрочем, если старая мадам Резо не изменилась, так откуда же то чувство, какое она мне ныне внушает? Когда улегся первый гнев, я не обнаружил в своей душе прежней ярости, вскормившей мою юность, заключившей с врагиней пакт вражды… Наши прежние великие стычки не были столь мучительны, как вот эта последняя; в них было порой даже что-то вдохновенное. Наша ненависть выродилась: ее великолепная бескорыстность погрязла в чистогане.
— Мы еще вернемся, — торжествовал Фред. — Мне все-таки удалось стащить у нее под носом ключ от теплицы. Этим входом никто не пользуется, старуха в жизни не догадается.
Я с любопытством оглядел ржавый ключ, который Фред крутил на пальце.
— Вот стерва-то! — бросил он наконец и вытер нос, свернув его по обыкновению налево.
— Надо было бы сказать ей это в кабинете нотариуса! — кротко заметила Моника и спрыгнула в ров, чтобы нарвать букетик одуванчиков, а потом без всякой видимой причины прыгнула мне на шею.
Фред отвернулся: подобные проявления нежности его раздражали. Но внезапно — правда, всего на несколько секунд — споры о наследстве показались мне менее важными, воды Омэ более светлыми, а рапс не таким ядовито-желтым. Кроме мрачно каркающих ворон, тяжело взлетавших с пашни, есть же все-таки жаворонки, которые заливаются и разливаются высоко-высоко в небе, под самым солнцем.
XXX
В Париже нам пришлось приютить у себя Фреда.
— Только временно, старик! — уверял он.
Это «временно» грозило затянуться. Мсье Резо (после смерти отца мой старший брат настаивал на том, чтобы на конвертах писали его фамилию, без имени), мсье Резо находил наше гостеприимство более чем естественным и, так как в него уже входила не только вареная картошка, бойко орудовал ножом и вилкой. Мы без лишних раздумий купили кресло-диван, и мсье Резо охотно им пользовался, хотя находил, что его ложе «жестковато». Ибо он простер свою снисходительность до жалоб, и его благодарность, схожая кое в чем с чертополохом, уже начинала неприятно щекотать мои барабанные перепонки.
— Если бы ты не заварил этой каши, — ворчал он, — я прекрасно мог бы остаться в «Хвалебном». Старуха из благоразумия держала бы меня при себе, пыталась бы меня нейтрализовать, ведь она не очень-то спокойна за свои делишки! А я бы мог там, на месте, за ней следить… Уверен, что, если порыться в ее бумагах, можно разыскать кое-какие компрометирующие документы.
Иногда, правда, он менял пластинку:
— Если бы ты не помешал мне подписать, я бы мог попросить у нотариуса денег вперед.
Целыми днями он терзал нам слух своими выкладками. Наследство должно было составлять четыре-пять миллионов, и каждый из нас получил бы свой кирпичик-миллион. С помощью этого «кирпичика», первого (и последнего) камня в единственном сооружении, которое Фред был способен воздвигнуть к своей вящей славе, он сделал бы то, сделал бы другое, сделал бы еще вот это, но в основном все сводилось к развеселым пирушкам. Младший брат — то есть я — умеет только орать, и никакого плана у него нет. А у него, Фреда, есть свой план, и все увидят, каков это план. Первым делом…
— Надо работать, — докончила Моника.
Но если у нашего покойного отца были слишком деликатные руки и он далеко не всякое занятие считал почетным, то у Фердинана Резо, сына Жака, были просто-напросто руки-крюки. Он решил («как и ты, старина!») делать все что угодно, лишь бы это «все что угодно» его не обременяло. А пока что Фред коптил небо. Три года безделья на военной службе научили его паразитизму, к чему, впрочем, он был склонен по складу своего характера. Уже через неделю я отказался от намерения доверять ему свои торговые дела и посылать вместо себя на рынок. Эта затея, которая позволила бы хоть как-то пристроить брата, а мне выкроить время для писания, оказалась практически невыполнимой. Ошалевший, растерявшийся, брюзжащий, а главное, скованный неодолимым ребяческим тщеславием, Фред отпугивал покупателей и брал себе довольно солидную мзду с того малого, что выручал на рынке.
Мы не решались отделаться от него. Великодушие Моники и моя гордость мешали нам выставить его за дверь. Впрочем, его присутствие, как оно меня ни злило, оказало мне косвенную услугу: Фред (боюсь, я на это и рассчитывал) окончательно развенчал нашу семью в глазах Моники. Кроме того, он служил мне агентом-осведомителем, тайком бегал к специалистам по тяжбам, чего лично я делать не мог, ибо все эти ходы претили Монике. Если у моего братца не текла в жилах буйная кровь, зато слюна у него была ядовитая; он показал себя великолепным шпиком, и благодаря его услугам я мог не пачкать рук, копаясь в процессуальной грязи. Итак, я позволил ему бегать по судам и плакаться в жилетку крючкотворам, но зато мог сидеть с ангельской физиономией, когда Моника нетерпеливо восклицала:
— Отстаньте от нас, Фред, с вашим процессом! Вообразите себе, что у вашей семьи вообще нет состояния, и результат будет тот же.
Таково было и мое личное мнение, но иного придерживался Хватай-Глотай, внезапно разбуженный воплями нашей матушки. Ему тоже плевать было на наследство, зато он требовал кары.
Смесь солнечных лучей и пыли осыпала мой лоток с балдахином из красной клеенки. Ветер раскачивал этикетки, свисавшие с кончиков сиреневых ниток. Хмуро размахивая метелочкой из перьев, я без конца стряхивал пыль с носков, уложенных красивыми стопками на плетеной решетке. Это воскресенье, последнее в месяце, было плохим воскресеньем, но плохое воскресенье все-таки лучше хорошей субботы: рыночный торговец не имеет права сидеть сложа руки, когда закрыты лавки.
Я был один. Обычно по субботам Моника, пользуясь сокращенным рабочим днем, приходила мне помогать, и эта молчальница мягкими движениями, мягкой улыбкой умела убедить клиента. Она словно священнодействовала, натягивая на кулак клиента носок, и даже самый хмурый покупатель брал еще пару. Но я не хотел, чтобы она по пяти часов подряд стояла на ногах. Я предпочитал оставлять ее дома, где она, удобно усевшись в кресле, забыв обо всем на свете, рассматривала последний выпуск журнала «Вязание для грудных детей».
Отложив в сторону метелочку, я изящным движением подбородка старался подбодрить некую матрону, заглядевшуюся на мой товар, как вдруг показался неизвестно откуда взявшийся Фред и, раскидывая на ходу кастрюли моего соседа — торговца скобяным товаром, — подошел ко мне. С видом превосходства он с минуту слушал мою беседу с покупательницей, сообщавшей мне подробности своего телосложения (торговец, как и врач, не мужчина: ему можно сообщить любые подробности) и жаловавшейся на то, что самые лучшие чулки немедленно рвутся, так как ноги выше колен у нее толще, чем полагается.
— Ну и ходите без чулок! — посоветовал этот образцовый торговец, даже не дав мне времени предложить покупательнице чулки экстра 4 особой прочности.
Потом он схватил меня за пуговицу пиджака и протрубил:
— Давай кончай, старик!
Тоже выдумал! Но Фред бросил новой покупательнице категорическое «Отстаньте от нас» и, продолжая отрывать мою пуговицу, шепнул мне на ухо:
— Я вчера не мог тебе при Монике сказать. Есть новости. Я только что узнал, что Марсель со старухой в Париже у Плювиньеков. Официальный предлог: Всемирная выставка. А на самом деле вдовствующая королева и носа во дворец Шайо не сунет: она приехала обрабатывать деда, которому тоже пора помирать. «Хвалебное» заперли на две недели — самое время действовать. Все деловые люди одобрили мой план: невозможно предпринять ничего для аннулирования завещания, если мы не представим какой-нибудь компрометирующий документ. Сама по себе продажа имения, даже за такую низкую цену, действительна; поскольку отец продал «Хвалебное» с пожизненным пользованием, трудно требовать семи двенадцатых, предусмотренных законом за причиненный ущерб. Но должна же существовать переписка Резо — Кервадек, возможно, даже существует какой-нибудь тайный документ, аннулирующий продажу, или признание долга фиктивным. Ведь в конце концов, старуха не сумасшедшая и должна была иметь какие-то гарантии на тот случай, если брак Марселя с Соланж не состоится. Если мы заполучим такие бумаги, нам легче будет разрушить их план. Не положила же госпожа матушка эти документы в банковский сейф: в период, когда нас вводят в наследство, это было бы опасно. Итак, объект номер один — английский шифоньер в ее спальне. Заодно мы можем прихватить драгоценности, если только они там есть. Она про них не заявила… Драгоценности, а может, даже денежки, ха, ха! Чистенькое дельце!
Он весь разгорячился от алчности. Брызги слюны, попадавшие мне в лицо, пахли анисовой водкой. Мне было противно, но я поддался соблазну. Зачем я снова увидел мать? Зачем я снова разбудил свою ненависть? Теперь я стоял перед альтернативой — дать себя ограбить, то есть дать себя одолеть, то есть унизить себя в глазах матери (да и в моих собственных), или защищаться такими же мерзкими способами, как противник, то есть унизить себя в глазах жены (и в моих собственных тоже).
А тем временем Фред все с большим красноречием складывал хворостинку за хворостинкой в вязанку крючкотворства. По его словам, бояться нам нечего: когда речь идет о матери и сыне, закон не признает ни воровства, ни нарушения неприкосновенности жилища. Мадам Резо временно снимает «Хвалебное», поэтому достаточно не трогать обстановки, которая формально принадлежит отцу Соланж. Впрочем, наши недруги побоятся принести жалобу: из благоразумия они не захотят привлекать к себе внимания казны, так как жульнически укрывают то, что украли у нас. В дом легко войти, не взламывая дверей, не разбивая окон — у нас есть ключ от теплицы. Нечего опасаться соседей — Барбеливьена или его жены: присутствие сыновей в родительском доме, в конце концов, вещь вполне естественная, да и мы постараемся, чтобы нас не видели.
Уж не вообразил ли Фред, что я струсил? Сжав зубы, я молча начал складывать свои товары.
— Уже уходите? — спросил мой сосед. — В таком случае я займу часть вашего места.
— Пожалуйста, пожалуйста, дружок! — разрешил Фред с небрежной улыбкой.
В автобусе, несмотря на ворчание кондуктора (мои чемоданы и товары весили немало, и работники городского транспорта не упускали случая заметить, что я загородил всю площадку), Фред терпеливо излагал свои аргументы — так маленькая страна пытается втянуть в конфликт великую державу.
— Ну, скажи сам, я спрашиваю, какой у нас будет вид, если мы, пригрозив, что будем бить стекла, вдруг безропотно покоримся? Я тебя просто не понимаю. В конце концов, речь идет не только о тебе одном. Ты не имеешь права позволять грабить свою жену, пусть даже с ее согласия, а тем более обокрасть будущих твоих детей. Мы ведь требуем лишь то, что нам причитается. Миллион, понял? Моника может бросить работу, а ты, вместо того чтобы торговать с лотка какими-то несчастными носками, купишь себе магазин. Я тебя просто не понимаю… В прежнее время ты был куда крепче. Ей-богу, ты просто обуржуазился.
Конечно, в тот же вечер вопреки протестующим взглядам серых глаз я купил билеты на поезд.
XXXI
И вот мы едем, оба возбужденные, разгоряченные как черти, которых припекают на жаровне. Я имею в виду старую жаровню своей ненависти, которую всячески стараюсь раздуть, хотя мехи уже сдают. Но ведь известно, что последняя головешка особенно щедра на искры.
Мы открыто слезли в Соледо, выбрав на всякий случай вечерний поезд. Обогнув городок, мы пошли окольным, более коротким путем, то есть по дороге Круа — Рабо, и проникли в парк со стороны плотины, перекрывавшей Омэ. В парке — впрочем, это только так говорится «парк», потому что парка больше не существовало, он превратился в огромную лесосеку, — Фред сообщил мне, что артель лесорубов повалила весь строевой лес. Вдовствующая королева успела наделать дел за один только месяц! Кругом лежали дубы, платаны, кедры, вязы — все столетние патриархи, посаженные в разное время разными поколениями Резо, и почти каждое дерево имело свое имя: один дуб носил имя какого-нибудь из наших предков, другой имя святого, а третий и два имени разом. К ним подвешивали скворечники, а во время трехдневных молебнов об урожае накануне праздника Вознесения — букеты кранских цветов. Только урожденная Плювиньек могла решиться на эту бойню.
— Осторожность и алчность, — изрек Фред. — Мамаша реализует акции на лесные угодья. Если даже нам удастся выиграть дело, лес уже будет продан. Старуха проводит эту операцию под девизом: «Спасти майорат!».
Мой брат вправе сетовать, а я понимаю мать. Я тоже был бы способен разорить все дотла, придерживался бы политики выжженной земли. На коре половины из этих трупов еще сохранились две зловещие буквы «М.П.», и я вдруг одобрил в душе исчезновение этих отживших свой век символов. Но я не мог сдержать крика ярости при виде последнего ствола, уже без веток, уже готового к отправке, лежавшего на ложе из щепок, иголок и кусков коры: этот тис, рухнувший всеми своими двадцатью пятью метрами поперек лужайки, был моим одиноким убежищем. Спасибо, мамочка! Спасибо за услугу, вы сами сумели подхлестнуть мой ослабевший дух! Я увереннее зашагал к цели, зато Фред стал, наоборот, не в меру подозрительным и оглядывал каждый кустик, следуя теперь в моем фарватере.
— Лучше бы подождать, когда совсем стемнеет, — шептал он. — Барбеливьен под вечер всегда шатается здесь.
Подумаешь, важность! Этот дом — дом моего отца, и я его законный наследник. Я у себя. Будь здесь даже Марсель, будь здесь сама вдовица, я теперь вошел бы в дом силой. Я уже завелся, а раз я завелся, остановить меня не так-то легко.
— Дай мне ключ.
Фред повиновался. Этот псевдопервенец снова стал вторым, а вернее, второстепенным и только беспокойно шмыгал носом. Ключ повернулся в замке, и я даже не принял мер, чтобы он не скрипнул. Я вошел в теплицу, громко топая ногами.
Если кто-нибудь из крестьян, притаившись за живой изгородью, заметит нас, то, видя наше хладнокровие, наверное, решит, что мы пришли сюда полить бегонии, умирающие от жажды в своих треснутых фарфоровых горшочках. Я сразу же насчитал с дюжину огромных тенет паутины, куда набилась стародавняя пыль. Стекла теплицы полопались от жары и града. Лакомки-глицинии нагло проскальзывали в любую щелку и неслыханно разрослись.
Но это было еще только начало. В столовой нас поджидало куда более тягостное зрелище. Роспись на стенах облупилась, источенные жучком деревянные панели еле держались, а серебряные канделябры, монументальная чаша, украшавшая камин, таганы кованого железа, оловянная посуда из поставца — те и вовсе исчезли. На месте остались лишь громоздкие шкафы, потускневшие от сырости, выглядевшие на фоне голых стен коричневыми мастодонтами. Ибо наши гобелены, гордость семейства Резо: «Деревья», «Голубой попугай», «Парижская шкатулка», «Амур и Психея», — тоже исчезли. Остались только следы гвоздей, которыми крепились планки, да на стене красовались нанесенные угольным карандашом огромные цифры — видимо, перенумеровали гобелены.
— Солнце освещает Амура! — хихикнул Фред.
И впрямь, солнцу «полагалось» освещать Амура: сейчас стояли самые длинные дни в году, и сумерки слали нам косой предзакатный луч, редчайший из редчайших лучей, который, по древней традиции, еще до царствования Психиморы, считался поцелуем мира. О, насмешка! Я и в самом деле ощутил странное умиротворение, я был доволен: это же вполне логично, это же естественно, что Амур и Психея покинули наш дом.
— Наши ковры! Наши кресла! — возмущался Фред, открывший дверь в смежную со столовой гостиную.
Фред говорил «наши», имея в виду «мои». Притяжательные местоимения, впрочем, были ни к чему: ковров и кресел тоже не оказалось на месте. В каждой комнате мы делали новые открытия. Все, что имело хоть какую-то ценность, испарилось. Один бог знает куда! Боюсь, все эти сокровища плесневеют в сараях какой-нибудь кранской фермы. В библиотеке — ни одной книги. Из большой галереи исчезло старинное оружие, но предки остались на месте, досадуя, что не представляют собой ни малейшей коммерческой ценности. Кухня лишилась сверкающей меди кастрюль, и лишь в буфете мы обнаружили следы скудного рациона мадам Резо: остаток засохшей овсянки, несколько листиков маринованного салата и горбушку серого хлеба, твердого, как утрамбованная глина в сентябре. Да еще в ларе лежал мешок с бобами, который Фред тут же вспорол, и содержимое рассыпалось по каменному полу. Не забудем также бутыль с уксусом, где плавал уксусный гриб, вонючий и разросшийся, как губка. Уксус был единственной роскошью, которую позволяла себе мадам Резо, чей желудок нуждался в очистительных средствах. Фред схватил швабру и за неимением иного букета водрузил ее в бутыль. Тут уж я не мог сдержать неодобрения: мой братец разнуздался, как отступающее войско. Только мое энергичное вмешательство положило конец этому вандализму слабых и побежденных.
Я увлек его за собой. Мы вскарабкались по лестнице, которая вела в святая святых — в спальню родителей, но, когда я открыл дверь, энтузиазм Фреда разом угас. Еще слишком чувствовалось ее устрашающее присутствие. Он вздрогнул. Шепнул мне:
— Помнишь?
Еще бы не помнить! Спускалась ночь, она несла с собой запахи затхлости, оплывшей свечи, застоявшейся дождевой воды. Спускалась ночь, вся исхлестанная ледяным полетом летучих мышей; лягушки-древесницы уже начали пробовать свой голос, а скоро насмешливо прохохочет первая сова. Десять лет назад, вскочив с постели, я босиком добрался сюда, присел на корточки у этой двери, чтобы подслушать ядовитый диалог родителей, переговаривавшихся через узкий проход, разделявший супружеские постели. Ну, живее, войдем, массивный английский шифоньер, конечно, на месте и, конечно, заперт на два оборота ключа. В темноте поблескивало зеркало, перед которым брился отец.
— Я задерну шторы. А ты, Фред, зажги керосиновую лампу, она на ночном столике.
Мы научились отпирать любые шкафы еще с эпохи «ключемании». Достаточно повертеть в скважине крючком для ботинок, валяющимся на туалетном столике, и дело сделано. И если моя рука чуть дрожала, то лишь потому, что этим крючком мсье Резо застегивал свои ботинки на пуговицах… Я почувствовал всей спиной его пронзительный взгляд, ибо он был здесь на стене, в квадратной шапочке на голове и со слюнявкой под подбородком, с распушенными усами, со всеми своими экзотическими побрякушками, приколотыми к красной профессорской мантии, — словом, такой, каким его увековечил художник. Легкое щелканье известило о том, что язычок замка сдвинулся с места, и я обернулся, торжествующий и смущенный. «Я прожил в этой спальне двадцать лет, — казалось, говорили глаза мсье Резо, — и ни разу не отпирал шифоньера». Фред перехватил мой взгляд и проворчал:
— Ну, знаешь, старик, сейчас не время сентиментальничать.
При свете лампы горят как уголья его шакальи глаза, свет подчеркивает непомерно длинные ногти на этой руке, которая нетерпеливо тянется к полкам шифоньера. Я отлично знаю, что этот шакаленок вполне мог поладить с матерью, если бы она ограбила только меня одного, и изо всех своих сил лаял бы мне вслед. Он любит меня, но совсем так, как шакал любит пантеру: ведь пантера позволяет ему доедать после себя падаль. Так пусть же действует, пусть обрушивается на потайные ящики, откуда идет непереносимо утробный дух.
— Драгоценностей нет, — разочарованно проскрипел Фред.
Я этого ждал. Драгоценности не приносят дохода. Мадам Вдова, которая никогда не носила ценных украшений, очевидно, сбыла их, дабы увеличить свою долю ренты. Вот и все. Осталась все же платиновая змейка с сапфирами вместо глаз, которую хозяйка сберегла, так сказать, из симпатии к своим сородичам и которую Фред торопливо сунул в карман.
Наша мать не сохранила ничего, кроме обручального кольца и перстня, подаренного ей отцом в день помолвки. Необследованным остался лишь один ящик, запертый на ключ. Не дожидаясь, когда я пущу в ход крючок, Фред вытащил верхний ящик и сунул руку в нижний. Первой ему попалась тетрадь в черном молескиновом переплете, и Фред разочарованно протянул:
— Должно быть, старухины счета.
Однако добыча оказалась богатой… В эту тетрадь мадам Резо записывала месяц за месяцем все бумаги, по которым подходил срок получения процентов. Итак, мы узнаем точную сумму семейного достояния.
— Письма!
Мадам Резо женщина аккуратная: все письма были сложны в пачечки, перевязаны, снабжены соответствующими надписями. Разберемся потом.
— Бумажник!
Фред произнес это слово со страстью, по слогам. Но его любопытство тут же уступило место досаде. В бумажнике хранились одни лишь фотографии. Фотографии одного лишь Марселя, нашего «китайского» братца. «Марсель в возрасте шести месяцев», — сообщала клинообразная надпись на оборотной стороне карточки. «Марсель, Шанхай, 12 июня 1920 года». Опять «Марсель 17 мая 1921 года на борту „Портоса“». Еще Марсель, Марсель, смирно стоявший рядом с мамочкой. Очевидно, это была часть какой-то общей фотографии, и мы догадались, что это наш единственный групповой снимок: ножницы сделали свое дело и гильотинировали всех остальным. А теперь полюбуемся самым последним снимком, насчитывающим не более двух недель: Марсель в форме младшего лейтенанта.
— Даже умилительно, — сказал Фред. — Ты хоть понимаешь, в чем тут дело? Ведь она никогда его особенно не выделяла. Когда мы были маленькие, она обращалась с ним чуть-чуть лучше, чем с нами.
Чуть-чуть лучше, чем с нами… Но все-таки лучше. Мой старший брат был только удивлен. А я сражен. Мне казалось, что я дышу сквозь толстый слой ваты. Разве можно быть таким идиотом! Я как бы вновь услышал свое бахвальство: «О чем бы ты ни подумала, мамочка, я тут же разгадаю твои мысли» — и еще: «Если у нее есть щупальца, так и у меня они тоже есть…» Коротки же оказались мои щупальца! В свое время я думал: «Она пользуется услугами Кропетта, но его не любит», думал, что она бросала ему мелкие подачки, полагающиеся предателю. Вовсе она не пользовалась его услугами: она сама ему служила. Она любила его, и, что еще хуже, любила таким, каков он есть, любила его, недостойного ее выбора. Эта воительница потворствовала своему рабу, великолепное чудовище предпочло этого холодного, усердного и расчетливого очкарика. Странное открытие, неожиданно пробудившее во мне ревность! У гадюки оказалась капля теплой крови. Вспышки ее гнева были отчасти наигранными. И бесспорно, ее поведение было политикой, которую я не понял.
Вдруг меня пронзила запоздалая догадка. Не объясняйте мне ничего, только не объясняйте… Я не спешу узнать. Да, нам повезло! Если даже в этой груде бумаг мы не обнаружим больше ничего интересного — а я готов держать пари, что обнаружим, — все равно мы потрудились не зря!
Мой брат может продолжать обыск… А что делаю здесь я, завербовавшийся под его знамена? Посмотрите на эту сороку, которая за неимением лучшего открывает жестяную коробку, набитую деньгами — тысяч десять франков, не меньше, — и со счастливым квохтаньем прячет их себе в карман! И я с трудом улыбаюсь краешком губ, когда Фред, вооружившись пузырьком йода и трубочкой из закрученной папиросной бумаги, из которых наша бабушка делала целые букеты (с помощью этих трубочек зажигали керосиновые лампы в старых кранских домах, не имевших электричества), когда Фред, фыркая от радости, выведет эпитафию:
XXXII
Фердинан зовется Фердинаном потому, что наш отец звался Жаком, наш дедушка звался Фердинаном, а прадедушка Жаком, и так на протяжении столетий два этих имени перемежались в каждом поколении. Я зовусь Жаном. Отец госпожи матушки, который тоже зовется Жаном, решил, вероятно, что меня назвали в его честь, чтобы доставить ему удовольствие, и ручаюсь, никто не собирался убеждать его в обратном, ибо он сенатор, а главное — богач. На самом же деле я просто увековечил память о некоем Жане Резо, который, говорят, был «главный посадчик королевских лесов» (теперь эта должность называется скромнее: «главный смотритель лесного ведомства»). Что же касается Марселя, то его должны были назвать Мишелем, как дядю-протонотария, или Клодом, как знаменитого вандейца, победителя при Пон-де-Се[29]. Мсье Резо несколько раз намекал на это обстоятельство: «Бедный Кропетт, я хотел дать ему имя одного из тех святых, что обычно покровительствуют нашему семейству. А твоя мама потребовала, чтобы его назвали Марселем. Странная идея! Почему тогда не Теодюлем? Ни по прямой, ни по боковой линии я не знаю ни одного Резо по имени Марсель».
Возможно, что среди Резо действительно никогда не бывало Марселей. Эта мысль буквально меня ошеломила — до этого я ни за что бы не додумался. Вот почему я сказал «возможно». Сказал из чувства стыда. То есть стыда за свое долгое и скандальное неведение. Скажем осторожности ради: очевидно, Марселю дали это имя потому, что имелся другой Марсель, атташе при Генеральном консульстве в Шанхае, которого мы обнаружили в письмах нашей матушки. Этот Марсель писал нашей матери двадцать восемь раз, и письма его делятся на три серии: серия «Дорогая мадам Резо», серия «Дорогой друг» и серия «Моя крошка Поль». Я позволил себе сделать сопоставление этих двух Марселей. Такое сопоставление мог бы вполне сделать и мсье Резо: оно было у него, что называется, под рукой. Для этого достаточно было пройти шесть шагов от медной кровати до английского шифоньера, куда он, однако, в течение двадцати лет ни разу не сунул носа. Но такая женщина, как мадам Резо, знала, каков характер у мсье Резо: его слабости были надежнее любых сейфов.
— Проклятый Кропетт! Ублюдок несчастный! — ликовал Фред, законный первенец, но подлинный ублюдок духом.
Мы вернулись домой и склонились над письмами нашей матушки, как склоняется аптекарь над пузырьком с мочой, сданной на анализ.
— Хорошо съездили? — бросила нам Моника, удостоившая меня холодным поцелуем.
Я услышал, что на кухне готовится яичница, но Моника против обыкновения не мурлыкала песенку. Через каждые пять минут она появлялась в комнате и бросала на нас издали любопытный взгляд — ведь она женщина, и встревоженный взгляд — ведь она моя жена.
— Прочтите-ка это письмо, невестушка! — предложил Фред, потирая руки.
— Большое спасибо! — отрезала Моника и ускользнула, неестественно прямая, что не вязалось с ее положением.
Я не разделял ее отвращения. По крайней мере, испытывал его по-иному, чем Моника, потому что к нему примешивалось какое-то сомнительное удовольствие. Жалкий разиня отец, недостойная и, как теперь оказалось, безнравственная мать, ни на что не способный первенец, младший брат — брат только наполовину… Вот она во всем своем блеске — наша бесценная семейка, вся слава которой мертва, а все имущество перешло — о, поэма из поэм! — Марселю, этому приблудному кукушонку. Однако радость моя скоро померкла. Прежде всего у нас не было прямых доказательств: письма не снабдили нас таковыми, ибо написаны были в достаточно туманных выражениях — так сказать, на полдороге между намеком и сдержанным умолчанием. «Не знаю, радоваться ли мне сообщенной вами новости», — гласило самое откровенное, предпоследнее письмо, написанное почти холодно. Последнее письмо, которое, видимо, долженствовало открыть собой четвертую серию «серию молчания», можно было истолковать самым невинным образом: «Я охотно согласился бы быть его или ее восприемником от купели, но, как вы знаете, меня отправляют в Вальпараисо». Доказательство, откровенно говоря, не бог весть какое. Оно имело ценность лишь для меня, оно становилось решающим фактором, как капсюль для взрыва бомбы. Оно стягивало вокруг себя второстепенные аргументы, его подтверждающие: это имя, эти каштановые волосы, так непохожие на наши черные гривы, это характерное строение лица, весь внешний облик, все повадки Марселя свидетельствовали, что наш брат типичный полукровка. А главное, вспомним предпочтение, которое ему всегда выказывала мать. Предпочтение неустойчивое, хорошо закамуфлированное, ставшее более открытым только с годами и постепенно дошедшее до своего теперешнего состояния: предпочтение исключительное, отнюдь не тайное и которое слабо пытается найти для себя законное оправдание — ну там отличные отметки, треуголка, эполеты.
Самое мучительное во всей этой истории было то, что в ней заключалось искомое объяснение. Я не сетую на то, что оно слишком куцее; в подобных случаях, как гласит пословица: «От худого семени не жди доброго племени», и надо было иметь темперамент мадам Резо, чтобы в прямой обход обычая обокрасть законных детей в пользу приблудного. Я не сетую, что эта великая грешница заставила закон служить своему беззаконию, и далеко не единственному, и всю энергию, которую полагалось бы вложить в раскаяние, вложила в пощечины нам. Я отлично понимаю, что эта властолюбица привязалась к самому маленькому, слабенькому своему детищу, к тому, кто был обязан ей всем, и только ей одной. Я сетую на это объяснение, ибо оно объяснение; а всякое объяснение (особенно запоздалое) разрушает образ той матери, какую я себе выбрал. Мне досталось чудовище, чудовище неповторимое в своем роде, и оно дало мне жизнь. И вот вместо этого чудовища подсовывают мне согрешившую женщину, самую обыкновенную, движимую самыми обыкновенными, почти человеческими чувствами, — возможно, даже еще более человеческими, чем я мог себе вообразить. Десятки раз я отказывался слушать всяческие призывы к снисходительности, ссылки на пагубные последствия овариотомии, удаления желчного пузыря, отказывался слушать тех, кто пытался извинить ее поведение печальной юностью, когда закоренелые эгоисты Плювиньеки, продержав дочь до восемнадцати лет в пансионе, наспех сбыли ее первому попавшемуся жениху. Все эти толкования бесили меня, вызывали во мне точно такое же чувство, которое испытывает верующий, когда в его присутствии скептики всячески стараются свести любое чудо к какому-нибудь физико-химическому явлению. Ах, я бы еще мог без особого труда переварить чувство унижения за собственную недогадливость: можно ли, в конце концов, требовать от ребенка особой проницательности? Внешняя видимость для него вроде как бы щит, который не могут пробить копья его взглядов — невинное оружие поединка. Но я не могу смириться с тем, что сверзился с такой высоты в банальщину, я судорожно цепляюсь за мой миф, я чудовищно ревную.
Конечно, я не ревную из-за вашей любви к нему, мамочка! Я досадую на ваше внимание к нему. Не соглашусь с тем, что вы мне в нем отказывали; вы сами сказали как-то: «Из вас троих ты больше всех похож на меня». Я гордился этим, я был признателен вам за это сходство и за свою гордость этим сходством — только за это. Я отлично знаю, что с тех пор я сильно переменился. Тем не менее мне удалось перемениться, только отталкиваясь от вас, что, в конце концов, тоже один из способов воздавать вам должное. Но вы-то, вы вели нечестную игру, вы меня обманывали. Да я и сам себя обманывал, принимая вас чуть ли не за богиню Кали, а оказывается, передо мной разгуливала на низких каблуках просто злобствующая мещанка! Я посвятил вам свое великолепное отвращение и надеялся, что ему соответствует столь же страшный пламень. О наивность! Теперь я понимаю, почему вам не требовалось моего присутствия, почему вы сделали все, чтоб меня устранить, убрать с вашего пути и из вашей жизни. Вы ненавидели меня рассудочно: вы питали ко мне неприязнь, отвращение, антипатию, вражду… Впрочем, слова тут не играют никакой роли, предоставляю вам самой выбрать подходящее в нескончаемом списке злых чувств. Но вы не ненавидели меня по-настоящему в силу жизненной необходимости. Вы ненавидели меня холодно, бесстрастно. Для вас это была поза, привычка, даже развлечение от безделья… Вы, вдова моего отца, вы, пожалуй, не более живая, чем он теперь. Сказать ли вам? Хоть я сильно изменился, я помню все. Без вашей ненависти Хватай-Глотай чувствует себя отчасти сиротой.
Мы продолжаем копаться в этих бумажках, благо еще не готов обед.
Тетрадь в молескиновом переплете оказалась обвинительным документом: на ее страницах грациозно смешивался почерк отца, похожий на мушиные следы, и клинопись матери. Одна треть перечня ценностей (как будто случайно перечислялись ценности только номинальные, которых нельзя было скрыть) была подчеркнута красным карандашом: она как раз фигурировала в завещании. Остальное в нем не было упомянуто: речь шла о документах на предъявителя. Но это еще не все. Если нам не посчастливилось найти документ, аннулирующий продажу, или фиктивную расписку — возможно, всего этого просто не существовало, — зато нам попалась переписка Марселя с мсье Гийаром де Кервадек.
— Ну, теперь они в наших руках! — каждые пять минут восклицал Фред.
Письма и в самом деле были на редкость красноречивы. Они подтверждали черным по белому то, что было нам уже известно, таким образом мы восстановили генезис этой истории, письма помогли нам стать свидетелями споров, сделок, заключенных матерью еще при жизни ее мужа. Если эти письма будут представлены на рассмотрение суда, все сомнения отпадут, а фотокопии этих писем чрезвычайно заинтересуют налоговое управление. Одновременно из этих писем мы узнали и нечто иное: каждая из заинтересованных сторон старается урвать себе кусок пожирнее. Самые последние письма, написанные уже после продажи «Хвалебного» и смерти мсье Резо, свидетельствовали о серьезных «расхождениях в толковании» (слова, заимствованные из письма мсье де Кервадека). Мадам Вдова предлагала разрешить проблему обратной передачи имения самым простым способом: покупатель выдаст на него дарственную Марселю, который будет, таким образом, единственным владельцем «Хвалебного», а право пожизненного пользования имением останется за матерью. Усадьба, проданная с обстановкой, будет возвращена Марселю без мебели или, вернее, якобы без мебели: мадам Резо, таким образом, подарит себе мебель ipso facto,[30] Марсель, напротив, настаивал на том, чтобы в дарственную включили и обстановку: ясно, боялся, что матушка все распродаст, чтобы пополнить свою мошну. Его аргументы, густо сдобренные медом, подчеркивали то обстоятельство, что в случае смерти матери «есть определенный риск: обстановка будет поделена», причем напоминалось, что она — неделимая часть владения «этого морального майората». Что касается Кервадека, то он считал «более нормальным» уступить «Хвалебное», включая обстановку будущей чете Марсель — Соланж… Ну и настряпали! Я не говорю уже о второстепенных документах, о законниках, которые самым серьезным тоном обсуждали все эти проблемы, не говорю об этой банде горе-стряпчих, которые нижут витиеватые фразы, наперебой предлагая вам наилучший и наизаконнейший рецепт. Вся эта переписка имела для меня еще одну ценность: я понял, что вдовствующая императрица боится за свое наследство, что она не слишком уверенно огрызается, хитрит и не решается перейти в наступление. Похоже даже, что после сцены с завещанием она немножко запаниковала, если верить Марселю, посмевшему написать ей: «Не теряйте хладнокровия. Для того чтобы вести такой процесс, потребуются не только доказательства, но и деньги. А я уверен: денег у них нет».
— И правда, у вас их нет! — вставила Моника, которая по-прежнему сновала по квартире и не упускала случая бросить на наши раны щепотку соли.
— Как нет! Это у нас-то нет? А это что? — возмутился Фред и, порывшись в карманах, извлек оттуда платиновую змейку и любовно подбросил ее на ладони.
На этот раз моя жена приросла к полу.
— Воровство против воровства? — с силой воскликнула она, положив обе руки на свой выпуклый живот. — Продав эту штучку, вы сами станете участниками преступления, против которого вы будто бы боретесь… В общем, оба вы хороши! Первым результатом процесса будет то, что казна обложит это сомнительное наследство огромными налогами и от него ничего не останется. Но главное то, что ваш брат и ваша матушка уступили вам свою далеко не завидную роль. Вот отчего вы беситесь! Вы не знаете, что бы вам еще сделать, лишь бы превзойти их славу в этом состязании в гнусности.
Фред засунул браслет в карман, вытянул губы трубочкой вместе с зажатой в них сигаретой, пять-шесть раз выпустил из ноздрей клубы дыма и наконец выплюнул скользкий окурок.
— Гнусность! Гнусность! — проворчал он. — Это вы уж слишком! Каждый защищается, как может! Впрочем, мы не отказываемся идти на мировую.
Он зашагал враскачку по комнате, искоса поглядывая в мою сторону. Потом вдруг выпрямился, принял важный вид, а я не мог сдержать улыбки, вспомнив, как наш отец становился именно в эту величественную позу, дабы передать нам решение своего суфлера (все-таки отцовские усы были куда декоративнее).
— Лучше будет, если я один займусь этим делом. Кстати, у меня много свободного времени, а ты перегружен работой. Если ты не против, я распоряжусь нашим трофеем по своему усмотрению, конечно в общих интересах…
— Распоряжайтесь, распоряжайтесь! — живо отозвалась Моника и с облегчением вздохнула.
Не дожидаясь моего ответа, Фред схватил бумаги и сунул их в карман рядом с банковыми билетами и браслетом. Его не удивило мое молчание, он привык, что командуют женщины. За исключением последнего, я был с ним, впрочем, согласен: и на сей раз я предпочел переложить на него это грязное дело.
— Дорогая, — начал Фред (и я содрогнулся от этой фамильярности), поскольку у нас есть кое-какие деньги, я попытаюсь найти себе приличное жилье. Меня немного утомила эта бивуачная жизнь.
— Я вас отлично понимаю! — ответила ликующая Моника.
XXXIII
Сняв себе весьма комфортабельную меблированную комнату на авеню Гобелен, Фред первое время приходил к нам каждые два-три дня, чтобы держать в курсе дел, которые, по его словам, продвигались удачно. Он пополнил свой гардероб, чтобы «иметь представительный вид», и купил себе велосипед, чтобы «дешевле обходились разъезды». И у него даже появился известный шик, а глаза свежо заблестели, как у сытой овчарки.
Потом он стал заходить реже. Мой воспрянувший духом братец соблаговолил сообщить нам, что мужчина не создан для одинокой жизни. С каждым разом он становился все великолепней и все озабоченней, ибо на него свалилась куча дел, от которых он меня великодушно избавил, однако теперь он уже не считал необходимым надоедать нам своими рассказами. Дела шли своим чередом, и всякому известно, что юридические разбирательства меньше всего похожи на стремительный поток. Не думаю, чтобы обстоятельства нам благоприятствовали, так как я получил классическую повестку из суда, предвестницу завершения раздела, чего как ни в чем не бывало требовала противная сторона. Запах сигарет «Кэмел», который как-то облагораживал физиономию моего братца, его галстуки (не считавшиеся с трауром), роскошный аромат выдержанных вин, долетавший до меня вместе с брызгами слюны, — все это свидетельствовало о том, что материальная часть трофеев нашла удачное применение «в наших общих интересах». Фред, как всегда трусливый и как всегда виляющий хвостом, утопал в блаженстве и беспечно упускал реальную добычу ради призрачной.
Я остерегался протестовать, требовать свою долю. Я считал вполне законным, что он транжирит деньги Резо. Деньги Резо были мне противны. Для меня лично существует два вида денег: деньги из состояния, доставшегося по наследству, огромный перезрелый плод, плод генеалогического древа, и деньги нажитые, у которых чуть кисловатый вкус, как у дикой вишни. Мой союзник был мне еще противнее, чем деньги. Я уже не мог видеть его кривой нос, его бегающие глазки, его плоские челюсти. Я не сердился на него за то, что он такой, так получалось еще унизительнее для нашего семейства. Я сердился на него за то, что он упускал главное, что во всей этой истории он видел лишь предлог для шантажа, источник грязной выгоды. Особенно же сердился я на него за то, что он как свидетель был бесполезен, был лишь случайным сообщником, полубратом, чуть больше братом, чем тот, третий. Я сердился на него за то, что сердился на самого себя, ибо он в конце концов оставался самим собой, мелочно алчным, до предела трусливым, не способным выстоять один на один в решающем бою, так как немедленно размякал, соблазнившись преходящими усладами. Но я-то, я перестал быть самим собой, я бил отбой при первом же успехе под тем предлогом, что неприятель, мол, недостоин моих ударов.
Одним словом, я переживал кризис приспособления. Если новая ситуация не занимала больше Фреда и оставляла его равнодушным, то для меня она была, может, и не самой существенной, но, во всяком случае, очень волнующей проблемой. На сей раз прошлое стало больше, чем просто прошлое: оно жило жизнью, непохожей на мои воспоминания. Требовалось воскресить, вновь пустить в ход эту бесполезную теперь жизненную силу, которая меня душила.
Вопреки курсу на платину ресурсы Фреда быстро иссякли. В октябре, после долгого отсутствия, он вдруг снова явился к нам. Фред несколько потускнел. Он продал велосипед, «эту мерзкую рухлядь», снова полюбил дешевые сигареты «Капораль». Пришел он к нам ровно в полдень и любезно ждал, что мы пригласим его пообедать. Его энтузиазм поостыл, и он жаловался на какие-то таинственные затруднения, не объясняя, впрочем, какие. В течение недели он аккуратно являлся к обеду в качестве нашего прихлебателя. Наконец он набрался духу и, прибегнув к мудреным и высокопарным ораторским приемам, попросил меня «внести свою долю в кассу защиты нашего общего дела, потому что ему в течение долгого времени приходилось одному нести все расходы». Моя улыбка его не обескуражила; подобно всем неудачливым вымогателям, он заговорил с подкупающей наивностью, пуская слюни:
— Ты пойми, процесс нам будет стоить гораздо дороже, чем мы думали. Нам предстоит бороться с людьми, которые защищаются с помощью тысячных кредиток. Денежки, что мы взяли в «Хвалебном», уже ухнули, и мне приходится оплачивать все расходы из собственного кармана. Надо изыскать средства, чтобы продержаться. А иначе нам останется одно — идти на полюбовную сделку.
Вряд ли стоило допытываться у Фреда, каково действительное положение дел! Он явно считал меня дураком, ведь я не собирался контролировать его деятельность, и как раз это меня бесило, хотя подобное умозаключение, созревшее в таком мозгу, было в известной мере даже утешительным. Я отказал ему в деньгах, сославшись на расходы в связи с близкими родами Моники. Нос Фреда вытянулся. Он вскинул глаза к потолку, совсем как те военные, которым родина-мать отказала в кредитах, необходимых для поддержания чести армии, то бишь чести их мундиров.
— Черт! — хмуро буркнул он. — А я-то думал, что ты более щедр, когда речь идет о твоих собственных интересах. Тем хуже, как-нибудь выкручусь.
Я имел нескромность спросить, как же он выкрутится.
— Выкручусь, — уклончиво повторил Фред, старательно избегая моего взгляда.
Он и на этот раз пообедал, выдул свой литр вина и исчез — чистое совпадение, конечно, — одновременно с кошельком Моники.
— Двести восемьдесят восемь франков, — сказала Моника, — удовольствие отделаться от твоего братца обошлось нам всего в двести восемьдесят восемь франков. Надеюсь, что новый или новая Резо вполне будут стоить этого.
Новый Резо… Я начинал думать о нем все с большим любопытством. Этот зародыш занимал уже немало места в нашей жизни. Даже под широкими складками пальто видно было, как он нагло раздувает живот своей матери, который начинал уже опускаться. Целая полка нашего белого шкафа была отведена под его распашонки, под его пеленки, выкроенные из старых простыней, под его подгузники, на которые тетя Катрин Арбэн пожертвовала две немного поношенные простыни, она прислала их нам вместе с двумя парами белых вязаных башмачков. Я с детства привык сосредоточивать все свое внимание только на живых существах, на том, что видимо, зримо, и теперь дивился этому вторжению невидимого. Столько аксессуаров для того, кто почти не существует! Великолепный символ человеческой природы, которая, еще не начав жить, уже мобилизует все вокруг.
Новый Резо… Каков-то будет он, этот незнакомец, жилы которого отягощает кровь моей матери и которому грозит опасность, выраженная в пословице: «Яблоко от яблони недалеко падает»? Я уже не боялся дать своим детям Психимору. Но вполне возможно было дать Монике Хватай-Глотая. Дитя это, несомненно, отражение. Иногда ложное: я-то это хорошо знал. Ну и пусть! Этот ребенок должен быть прежде всего ребенком, то есть тем, чем не был я. Жанна или Жан, хотя это имя наше фамильное, Жанна или Жан, ибо я теперь предок, а не потомок.
XXXIV
Он рождался, этот первый ребенок. Я ждал в коридоре клиники (ибо я не желал, чтобы моя жена рожала в больнице, в этом современном Вифлееме). Я ждал, весь внутренне сжавшись, меня раздражали эти матовые стекла, эта слишком белая эмаль, эти скромно скользящие сиделки, эта хирургическая непорочность хромированной стали, эти запахи молочного магазина, борющиеся с запахом эфира. С полдюжины рожениц кричали во все горло за стеной, но даже им не удавалось нарушить густой тишины, и хотя радиаторы поддерживали тепло, как в оранжерее, им тоже не удавалось разрушить мое убеждение, что весь дом построен из плиток замороженного молока. Где-то попискивал телефон, а неутомимая уборщица протирала тряпкой линолеум коридора.
Наконец из полуоткрывшейся двери «родильной палаты» № 7 высунулась рука, все еще в резиновой перчатке цвета внутренностей, а за ней показался чей-то нос.
— Мальчик. Для первых родов все прошло прекрасно! — произнесли губы, и мне показалось, что они сделаны из того же материала, что и перчатки. — Можете войти, мсье.
Войдем в палату, вернее, в часовню, выкрашенную масляной краской, с высоким, как витраж, окном. Можете смеяться, меня охватило благоговейное чувство. В углу комнаты как раз тот человек в белом стихаре, отправлявший таинство рождения, моет сейчас руки в кропильнице, то бишь вполне современно поблескивающей раковине. Акушерка стоит в позе монахинь, которые вечно перебирают четки под сенью своих покрывал. Фармацевтический ладан воскурен по всей комнате, но особенно он густ над кроватью, длинной, чудотворной, как катафалк, где уже произошло воскресение из мертвых. Не хватает лишь свечей, но во мне уже запылали их короткие язычки.
— Жан! — произносит Моника вовсе не из последних сил, но, как всегда, экономящая слова или просто решившая слить в одном имени отца и сына.
Человек жесткий, особенно жесткий с самим собой, почему же ты чувствуешь себя таким юным, таким обновленным? В этом доме, где жизнь считается днями, в крайнем случае одним месяцем, некий Жан Резо, имеющий за плечами двести семьдесят месяцев, спешит подойти к комочку мяса, склоняется над неким Жаном Резо, которому от роду всего двести семьдесят секунд. Посторонитесь вы все! Это крошечное существо внезапно становится для меня самым важным из всех существ. Ничто другое, столь крошечное, как вот это, не может заполнить собой все пространство столь ничтожным количеством материи и за столь краткий срок своей жизни. Вдруг понимаешь все значение хрупкости. Еще лиловый, сморщенный, почти плешивый, как маленький старичок, и как бы знающий, что жизнь через другие жизни восходит столь далеко, что любое детство сродни старчеству, с прижженными ляписом веками, с черепом, который кажется почему-то удлиненным в руках акушерки, до чего же он уродлив, этот совенок! И до чего похож! Я думаю о бесчисленном количестве кретинов, которые будут уверять, что нос у него типично арбэновский, лоб как у тети Катрин или глаза как у дедушки… Да посмотрите вы на эти три черных волоска, они, конечно, выпадут, но скоро вырастут новые, еще чернее, еще жестче. Посмотрите на эти большие уши, посмотрите, как смешно заострен этот выступающий подбородок. Сын — понимаете, сын! «Тот, кто не верит в отца моего, не войдет в царствие небесное». Тот, кто не верил в свою мать, тому не следовало бы входить в царство земное. Но в обоих случаях Сын пришел нас спасти. Он открывает беззубый ротик, и он проповедует, и проповедует не в пустыне, он, который уже постиг красноречие нечленораздельной речи, вдыхая воздух как козодой и возвращая нам его в форме крика. Простите меня, доктор, но я слышу только эти крики, и плевать мне на то, сколько весит новое поколение и как вы извлекали этого шуана из чрева уроженки Шампани. Дьявольски живучий, вот это я вижу! Но еще важнее знать, в какой мере он вживется в мою жизнь!
Не беспокойтесь! Ответ уже вырвался из этого горлышка, где трепещет, как виноградина, маленький язычок. Прощай ХГ, сбор винограда закончен! Я поднимаюсь, я оборачиваюсь к Монике, но меня смущает ее веселая улыбка.
— Будь милым…
Напрасное слово, несостоятельное слово! Как можно говорить в подобную минуту такие слащавости! Я вовсе не милый, я непроницаемый или же насквозь пронзенный. Именно так. Пронзенный! Но должно быть, это уже известно, потому что Моника улыбается еще шире и добавляет:
— …скажи мне спасибо.
Прошепчем ей эти два слова на ушко, уткнув лицо в пышные волосы, в то местечко, которое женщины обычно душат духами. Шепнем, чтобы доставить ей удовольствие, хотя с тех пор, как я вошел сюда, я только и делаю, что ее благодарю. К черту этот хриплый голос эмоций! Движение век красноречивее, чем губы, веки не бормочут, не сюсюкают, не пришептывают. Не хочу радоваться просто, пусть моя радость будет задорной. Будем же достойны этого багрового крикуна, этого узелка ручонок и ножонок, которые копошатся уже достаточно энергично.
— Напишем: четырнадцатого ноября тысяча девятьсот тридцать седьмого года, пятнадцать часов пятнадцать минут, — говорит врач, отвинчивая наконечник ручки и подписывая свидетельство о рождении.
— Пятнадцать часов двадцать, доктор, — уточняет акушерка, приближается к крикуну и надевает ему на запястье браслетик из легкой ткани.
Я одобряю эту меру предосторожности, хотя Жана Резо, по-моему, невозможно спутать с другими младенцами и хотя этот браслет, так сказать, предваряет пресловутую бляху будущего призывника. Но, услышав следующую фразу, я поднимаю брови:
— Папаша, не забудьте принести документы, чтобы завтра зарегистрировать ребенка в мэрии.
Папаша! Если какой-нибудь титул меня пугает, то именно этот; папаша в моих воспоминаниях — это что-то донельзя рыхлое и совершенно недостойное этого титула. Забавно! Вот и пришел мой черед восседать на троне своего отцовского авторитета, помавая десницей. Однако если поразмыслить, то ведь этот титул я похитил у предыдущего поколения! А там, далеко, далеко от улыбки засыпающей Моники, чьи веки смежаются, как лепестки вечерних анемонов, далеко, далеко от моего едкого, моего молодого отцовства, очень далеко от нас обоих, живет, вся в морщинах, вдовствующая королева, которая имеет теперь право зваться по традиции «бабуся». Держу пари, что это уменьшительное ей не так-то часто придется слышать ни от этого внука, ни от других, даже рожденных Кропеттом, которому не слишком улыбается, чтобы на долю его отпрысков выпала бабусина разварная фасоль, заплесневевшее варенье и пощечины. Возможно, ей плевать на это, хотя, пожалуй, в отношении нашего «китайского» братца это не совсем так! Близится возмездие, оно лишит ее нелепого счастья тирании. И мы поспособствуем этому, мы, изгнанники, которые имели наглость познать иное счастье, мы, которые считаем, что жизнь исходит не только из чрева, и притом раз навсегда, но и из сосудистой системы, непрестанно омываемой алой кровью.
Спи спокойно, мордашка, под тюлевым пологом, спи рядом со своей матерью! Ты потряс меня, и я в благодарность потрясу твою колыбельку. Ноябрь пригнал из кранских глубин западный ветер, чтобы приветствовать тебя. На улице свежо. Но тепло, которое тебя защищает, очень доброе и очень глупое тепло, оно не собирается иссякнуть. Ты сам зажег его этими крохотными пальчиками, этими спичечками, где ноготки как серые головки. Уймись, невесомый комочек писка, колобок, колобродящий на матрасике, розовый стык ответвлений. Уймись, потому что я ухожу под дождем зарабатывать на твои пеленки и на твои соски, а мне очень хотелось бы видеть, как ты лежишь неподвижно, чуть раздувшись от твоего первого молока и твоего первого сна! Но если ты предпочитаешь вопить о своей слабости, что ж, тем лучше! Надувай легкие! Корчись! Нам эта музыка знакома, мой змееныш!
XXXV
Вечер как вечер. Бледно-желтый ночник, на абажур которого Моника, чтобы смягчить свет, накинула махровое полотенце. Она вышивает уж не знаю который по счету нагрудник, а я строчу. Время от времени Моника подходит к бельевой корзине, превращенной в люльку. Из кухни доносятся всплески — это в специальной кастрюле кипятятся соски, а из горла моей жены то и дело вырывается нежное бульканье междометий.
Материнство Моники, подобно любому материнству, чуточку раздражает: это своего рода религия со своим слащавым ритуалом, гримасками, мягкими жестами. Мне понадобятся месяцы, а может быть, и годы, чтобы привыкнуть к такому жанру ласковости, пусть даже обращенной на моего сына. Я с отвращением внимаю этим инфантильным излияниям, и в моем ухе дыбом встают все волоски, когда оно слышит: «Бозенька мой, мыська моя, бобо на попоцке все есе не плосло!» Конечно, я понимаю: нельзя помешать женщине высюсюкивать свою нежность; но я никогда бы не мог, наподобие моей жены, «тетешкать» этого расфуфыренного, нарядного, распомаженного, мытого и перемытого младенца, который в награду за все эти заботы то мочит свои пеленки, то кусает материнскую грудь.
Поди разгадай тайный смысл отцовского ворчания, которым я разражаюсь каждое утро, когда моим еще не бритым колючим щекам предлагают радость прикосновения к этой персиковой коже. В ворчание это входит немного тщеславия, грубоватое удовлетворение ремесленника удавшейся работой, чуточку ревности, скрытое ликование, желание сохранить свою суровость, дабы не впасть в назидательный тон, и свою естественность, дабы не опуститься до наставлений иного рода, слишком хорошо известных мне в юности и зовущихся отказом.
В сущности, Хватай-Глотай оказался хорошим отцом. Можно быть плохим сыном и хорошим отцом, как можно быть хорошим сыном и плохим отцом. Реакция ли это или просто компенсация, но избалованные дети сплошь и рядом становятся скверными родителями, а несчастные дети редко вымещают свои горести на потомстве. (Тот факт, что моя мать всю свою юность провела в закрытом пансионе, не может служить ей оправданием. Напротив, это отягчающее обстоятельство: она-то знала, чего была лишена.)
За работу! Моника продолжает сновать иглой, поглядывая на будильник. Идут минуты. Время от времени наши взгляды встречаются, сталкиваются и разом опускаются к двум гладким поверхностям: нагрудника и страницы.
— Миленький, — шепчет Моника, — я совсем забыла тебе сказать: сегодня снова приходили из суда. Не мог бы ты уладить это дело? Мне просто невмоготу. Прошу тебя, пощади нас, если уж ты не способен пощадить свою мать.
— Думаю, что теперь уже скоро все кончится.
Откровенно говоря, в душе я придерживался противоположного мнения. Повестки поступали одна за другой. Фред ровно ничего не сделал, и теперь противная сторона напала на нас. Поскольку мы отказались подписать завещание, мадам Резо и Марсель перешли к обычным формальностям. Суд вынесет решение, нас заставят подписать, мы подпишем, подпишем еще раз, мы будем бороться до окончательного постановления суда о приведении в исполнение приговора и перевода в депозит полагающейся нам доли, отягощенной пошлинами. Нашим противникам потребуется два-три года, чтобы добиться успеха, но они люди терпеливые. Надо признать: наша политика по сравнению с их довольно-таки идиотская. Мы объявили войну и вдруг, вместо того чтобы палить, довольствуемся теперь ролью отражающих удары. Эти горы гербовой бумаги пугают Монику, омрачают ее материнство и беспрерывно подогревают ее добрые чувства в отношении моей матери. Да, в отношении матери, ибо, в конце концов, она моя мать, и, раз я обязан ей жизнью, я обязан ей… и так далее, и тому подобное. Знакомая песенка. Сначала Ладуры, потом Поль, а теперь моя жена воскуривает фимиам перед этим мифом с тем большим рвением, что отныне она сама к нему причастна.
Никогда не скажу ей: священна не мать, а ребенок, ведь ребенок не делал заявки на свою жизнь, он получил ее как наследство, от которого нельзя отказаться, и притом без всяких материальных выгод. Я обязан жизнью своей матери? Хорошенькое дело! Жан Резо номер два обязан жизнью Монике Арбэн, которой я лишь немножко подсобил! Не спорю, Моника превосходная мать, она повинуется тому же самому инстинкту, что и морской конек, кобылица или ворона. Но этого еще мало, чтобы мадемуазель Арбэн, ныне мадам Резо, стала святой Моникой. Просто она свято выполняет свои женские обязанности, блюдет свою женскую честь, если хотите, поскольку хорошо выполненный долг не что иное, как дело чести. Все это очень несложно, очень по-мирскому, великолепно несложно и великолепно по-мирскому, как счастье.
Вот и сорвалось с моих губ это слово. Разумеется, любовь, счастье, истина и все прочие абсолюты приписаны к той же конюшне, что и пресловутая кобылица, — это совершенства, которые не существуют. Если хочешь быть понятым, говори вульгарным языком… Мы счастливы, счастливы оба, даже несмотря на то что существуют всякие ссоры и булавочные уколы, о которых я уже говорил и которые продолжают и будут продолжать колоть нас пониже спины по два, по три, если не четыре раза в день. В нашей двухкомнатной квартирке с кухней ровно ничего романтического… Ничего от литературы. Будничная жизнь, равновесие, крепнущее взаимное согласие, совместная мойка посуды и совместная очистка от шелухи докук, расшифровка знаков внимания, общее наше желание не переживать эпилога (в жизни эпилог ни к чему), но и не ограничиться только эпизодом… таково наше определение счастья, скромного счастья в домашнем передничке. Определение довольно точное, если не считать известного сожаления, что наше счастье могло бы быть более блистательным, и легкого стыда за то, что нельзя разделить его со всей Вселенной и можно только содействовать личным примером его всеобщему распространению.
Я уже слышу, как меня одергивают фреды: «Ты обуржуазился, омещанился». Да об этом и речи нет. Принять то, что есть человечного (и только это!) в буржуазных порядках, — еще вовсе не значит обуржуазиться. Любой конформизм покоится на нескольких вполне определенных ценностях, и великая ловкость буржуазии заключается в том, что она аннексировала известную мудрость, известный разумный и продуманный модус поведения, известное количество достоинств (она именует их «добродетелями»), которые ей удалось выдать за свои собственные и которые служат ей в качестве витринной приманки. Следует разоблачать это мошенничество, одновременно с заблуждением бунтарей, которые не желают делать отбор и отбрасывают прочь все разом, не подозревая, что тем самым дают оружие в руки противника, привыкшего стоять на страже именно на территории морали.
Но я слышу и другие голоса (с которыми иной раз сливается и голос моей гордости): «Если ты даже не обуржуазился, ты все равно остепенился. Ты потерян для бунта, мы разочаровались в тебе!» Знаю я этих доморощенных любителей антиконформизма, которые обожают свои шлепанцы и загадочность своих проклятых душ, искусство для искусства и бунт ради бунта (при том условии, конечно, что он не задевает их привилегий и ограничивается посягательством на чужие). Вряд ли стоит им объяснять, что бунт в себе — ничто, ни к чему не ведет, что с его помощью можно лишь переоценивать ценности, ограждая их почтительностью, а почтительность — бич для мысли; и что, с другой стороны, этот бунт должен также ограждать себя от собственной стихийной ярости, судорог и извращений; что в конечном счете не горячие бунты, а бунты остывшие наиболее прозорливы, наиболее действенны.
Нет, я не остепенился. Тем не менее я буду начеку. Нищета, усталость, время и привязанности, которые терпеливо, как медлительные жернова, перемалывают все, — вот что сплошь и рядом утихомиривает бунтарей. Но и успех также, более того — он излюбленное оружие врага, который охотнее поглотит вас, чем вступит с вами в бой, дабы обескуражить тех, кто собирается вам подражать: «К чему все это? Вы же сами видите, он не устоял». Я хочу устоять. И устою. Это беспокойное подергивание бровей, этот ужас перед пошлостью и млением, эта оглядка, с которой я придерживаю свои идеи, свои чувства, свои радости, свои аппетиты, — все это верный признак старения. Хватай-Глотай завещал мне свою требовательность и предостерегал от чрезмерности его эксцессов. Да будет он за это вознагражден почетным изгнанием! Самым разумным обычаем афинян был остракизм в отношении неугодных им лиц. Последний бунт, самый полезный, это тот, который подымаешь против самого себя…
— О чем ты думаешь, милый? — спрашивает Моника, осторожно, как облатку причастия, разламывая круг тишины, залегшей под абажуром.
Я уже говорил вам о булавках! Ненавижу эти вечные «милый», срывающиеся с влажных губ. Ненавижу этот вопрос, этот извечный женский припев. Ответить: «О тебе» — значит сказать глупость или ввести человека в заблуждение. Ответить: «Ни о чем» — обычно фальшь (отсюда и ложь) или, что еще хуже, правда (что не свидетельствует о силе вашего интеллекта). Внутри черепушки у меня не так уж голо, но я не желаю, чтобы моя Далила выведывала и обстригала мои мысли. Впрочем, как раз сейчас я ни о чем не думаю, не мечтаю, я просто «удалился», как некогда, когда я влезал на вершину моего погибшего ныне тиса. И признаться, делаю это с большим трудом и меньшей охотой, чем раньше. Ребенком я мог отделить себя от своей жизни, которая была лишь ненавистным ожиданием. А сейчас эта жизнь, хоть и не удовлетворяет меня полностью, она уже не ожидание, а начало, и я неотделим от нее.
— Подвигается твоя статья, Жан? — продолжает Моника, не испугавшись моей немоты, и между двух взмахов иголки взмахивает ресницами.
Ограничимся кратким «да» и продолжим работу. Речь идет о том, чтобы подвести итог не самому себе, а другим. Такова моя роль, и, в сущности, лучшее средство познать себя — через сравнение. Действительно, моя статья подвигается. Речь идет о большой статье, о первой моей большой статье. Золотая тема! Репортаж о юных правонарушителях, за который я ухватился как за счастливый случай. Я многому научился и могу теперь многим поделиться с другими, и в первую очередь секретом моей относительной удачи. Для того чтобы направить собственные свои претензии по другому руслу и кое в чем их пересмотреть, нет ничего лучше, как более тесное знакомство с более реальными бедами. Как ни странно, но оказывается, самые острые проблемы не те, в которые ты был погружен, а те, поверхности которых ты лишь коснулся. Я уже говорил, что мне надоело быть каким-то исключением, носиться со своим «Я» с большой буквы, как с черной жемчужиной на булавке для галстука. Я всегда ненавидел благотворительность, которая творится во имя справедливости, меня трясет при мысли, что, быть может, в моих проклятиях слышится нищенская нотка: «Не обойдите меня, добрые дамы и господа, вашим негодованием!»
А здесь ничего похожего. По-видимому, защищать других — лучшее средство защитить себя. В течение недели я таскался по различным приютам, переступал десятки негостеприимных порогов. Меня пугают эти дети, но чем я могу им помочь? Время от времени о них говорят все; о них уже сказали все, а не сказали, в сущности, ничего. И моя добрая воля сделает ничуть не больше. Я сам чуть было не оказался среди них… Тише! Мой сын спит всего в трех метрах от меня, и не стоит вспоминать подобные вещи в такой от него близости. Я сам чуть было не стал вроде них, и поэтому я знаю. Помогать им — это еще мало, надо их любить, но давайте договоримся, любить не всех скопом, а одного за другим, ибо в области чувств лишь через единственное число приходишь к множественному.
Я подымаюсь с места, мне жарко, я шагаю по комнате. Мне чудится, что за мной по пятам идет мое маленькое счастье, что оно запыхалось, оно вопрошает меня, так ли уж оно безмятежно, как я утверждаю, раз оно еще позволяет мне принимать к сердцу чужие беды. Моника, уколов палец, тихонько сосет его, чтобы не разбудить ребенка, а мои ботинки даже не скрипнут! Ты право, «мое неповторимое я»! Я уже разучился выть, но никогда я не успокоюсь, не буду доволен собой (это я-то, всегда собой довольный!) вплоть до того дня, пока все, мне подобные, не найдут то, что нашел я в этой маленькой квартирке. Ведь необходимо наконец сказать, что вы принесли мне, вы оба, что вы значите для меня и что я, возможно, заслужил вопреки моим выходкам, ибо никогда не грешил равнодушием. Чувствую, что впадаю в торжественный тон, которого боюсь больше чумы, но на сей раз мне плевать. Жена стала искуплением за мать, и дитя любви — искуплением за дитя ненависти. Он уже где-то далеко, сердитый родительский окрик, упрек «хулителю семьи»! Его семьи, да. Но отнюдь не всякой семьи. Откуда он это взял? В худшем случае «хулитель» в возрасте от пятнадцати до двадцати лет, когда безбородый нигилизм готов все обобщать и все обобщает наспех, я усомнился в целесообразности этого института. Но поскольку живая материя состоит из клеток, с какой стати мне провозглашать, что все семьи, все клетки ненавистны, желая отомстить за одну нашу, пораженную гангреной. Напротив, моя здоровая клетка — это мой реванш… Знаю, знаю! Каким жалким покажется этот реванш тем, кто привержен традиции Атридов[31] и посвящает свое суровое рвение Року. Для них красивое горе — это «благодать», божественная привилегия, с высоты которой можно и должно измерять радости жизни, этой плебейки жизни. Я слышу, о жители подлунного мира, ваши вопли анемичного презрения! Слышу, они доходят до самых сокровенных глубин моего «я», особенно в такие вечера, как сегодня, когда меня захлестывает гордыня. Ах, да заткнитесь вы! Дайте мне жить тем, от чего вы подыхаете с досады! Заткнитесь вы, «разрушители» мира!
— Ты его разбудил! — вдруг протестует жена.
Очевидно, я шагал слишком тяжело или, сам того не заметив, проворчал что-то вслух. Я остановился и от смущения застыл, как цапля, на одной ноге. Однако беда невелика: маленькая стрелка будильника стоит на цифре десять. Малыш не успел даже закричать. Он уже не в своей колыбельке, он уже лежит на руках у матери, прижавшись к ней. Он открывает свой рыбий ротик и хватает кончик материнского соска в трещинках, который не выдает положенного ежедневного децилитра. Эта порция материнского молока, предшествующая соске, входит в ритуал Моники, предусмотрена ее катехизисом по детоводству.
Наши пижамы греются на радиаторе, свернутый чехол с дивана делит кровать пополам. Обычно в этот час серые зрачки моей жены сужаются, становятся не больше простой карандашной точечки между веками. Но нынче вечером глаза открыты слишком широко, а брови слишком насуплены. Пора открыть рот:
— Я кончил статью. Отнесу ее завтра утром, а на обратном пути попытаюсь разыскать Фреда, если он все еще живет в том отеле.
И Моника постепенно, постепенно закрывает глаза, начинает мурлыкать песенку и отбивает такт туфелькой, из которой выскальзывает голая ступня.
XXXVI
Фред читал, скорчившись на кровати. Чтобы проникнуть в его комнату, нужно было только толкнуть полуоткрытую дверь в конце темного коридора, от которого ответвляется второй коридор, куда заглядывают лишь закоренелые обитатели мансард. Было слышно, как по водосточному желобу стучат воробьиные лапки; в старой мыльнице лежали три засохших ломтика колбасы; пожитки моего брата висели прямо на гвоздях, прибитых к филенке двери. Особенно нищенским был запах: если деньги не пахнут, то отсутствие денег пахнет слишком сильно.
Фред вяло повернулся и, даже не моргнув, протянул мне свою лапищу, заросшую волосами чуть ли не до ногтей.
— Сижу на мели, старик. Пришлось перебраться из прежней комнаты в эту мансарду. Впрочем, и за нее тоже не плачено. Ты пришел вовремя, я собрался тебе написать, чтобы ты ко мне заглянул.
Он шмыгнул носом, сел на край кровати и зычно протрубил, видимо желая меня умаслить:
— Надеюсь, мы отхватим изрядный куш.
Углы его губ, отвороты пиджака, пояс, шнурки от ботинок — все сползло, все опустилось, как и он сам. Фердинан Резо, скатившийся на дно. Я не мог удержаться и съязвил:
— В данный момент меня вполне устроили бы двести восемьдесят восемь франков.
— О! — возразил Фред с наигранным простодушием. — И ты мог подумать на меня!
Меня обезоружило это запирательство, столь неуклюжее, что прозвучало оно как прямое признание. Я смотрел на брата с презрительной жалостью, на которую он ничуть не обиделся, ибо, в сущности, и рассчитывал на нее. Этот взгляд исподлобья, этот слегка выставленный локоть напоминали прежнего Рохлю, каким он и остался, мальчишку, непревзойденного мастера увертываться от пощечин, играть на чужих нервах, выклянчивать прощение.
— Знаешь, — продолжал он, — я хочу тебе кое-что сообщить. Я позавчера видел мать…
Другой прием Рохли: отвести от себя внимание, направив его на какое-нибудь другое свинство. Однако Фред виделся с нашей матерью, значит, Фред решил что-то предпринять. Возможно, мы могли бы уладить дело. Конечно, нельзя полагаться на его добросовестность: вот уже много месяцев подряд, как он болтается между двух лагерей. Он видел Вдовицу, значит, пытался договориться с ней, а меня даже не поставил в известность. Но с другой стороны, он хотел со мной повидаться: значит, переговоры не увенчались успехом или требуют моего участия. Иначе Фред, можно в этом не сомневаться, не колеблясь, договорился бы с матерью за моей спиной.
— Она прежде всего начала меня расспрашивать, родился ли у тебя младенец.
— Родился мальчик, — бросил я.
— Ей на это плевать, — продолжал Фред без передышки (доказав тем самым, что ему тоже плевать на это обстоятельство в равной мере, как и нашей матери). — Но ей требуется точная дата рождения и все имена ребенка. «Пусть, говорит, Жан не принадлежит больше к нашей семье, Марсель хочет занести все эти сведения в генеалогические записи вашего отца, которые я ему вручила и которые он намерен вести и впредь». Генеалогическое древо Резо, доверенное Марселю, сыну Марселя… смех да и только!
Я сразу узнал мрачный юмор мадам Резо: «Вы прочли мои письма. Ну и что?» По трезвом размышлении я признал ее отпор просто смешным. Нет ничего более обычного, более характерного, чем подобные узаконения. Один мой приятель, избравший своей профессией генеалогические изыскания, сказал как-то нам: «Мне-то уж вы можете верить, ведь мне платят за то, что я снабжаю клиентов предками; так вот, я еще не встречал в своей практике достоверного родства, если даже деды и прадеды помещены на самых, казалось бы, бесспорных ветвях генеалогического древа. Ведь в некоторых населенных пунктах иной раз больше трети детей — незаконнорожденные. Четверть мужчин, и то я занижаю цифры, — рогоносцы или были таковыми хотя бы однажды. В десятом поколении у вас среди предков заведомо будет один или два незаконнорожденных. Внебрачное рождение, оно торжественно шествует с короной на голове, и плевать ему на хромосомы. Итак, все мы носим узурпированное имя, все мы праправнуки неизвестного предка».
Я улыбнулся, недовольный тем, что доволен… Фред по-прежнему разглагольствовал, поджидая, когда я перестану зевать, чтобы тогда перейти к серьезному разговору. Фраза за фразой он подступал к главному вопросу.
— Помимо всего, насколько я мог понять, в нашем «Хвалебном» не все идет гладко. Кервадек требует, чтобы вопрос с завещанием был улажен до свадьбы его дочки и до передачи замка обратно. Марсель со старухой поэтому торопятся покончить с этим делом.
— То есть?
Мой брат гулко потянул носом, потом вдруг весь изогнулся и заерзал на месте, словно малыш, которому не терпится сбегать кое-куда.
— Надо тебе сказать… Словом, наша мамаша сама сделала первый шаг, сама пришла сюда ко мне, и притом совершенно неожиданно… Наше свидание прошло на высоком уровне. Она ничего не пыталась мне навязать, не устроила мне сцены, не ораторствовала. Услуга за услугу! Вдовица — женщина с головой, куда более степенная и рассудительная, чем прежняя Психимора.
Он, Фред, видите ли, разглядел все это своими подслеповатыми глазками, он, видите ли, полагал то, полагал это… Наконец, желая удовлетворить мое ледяное нетерпение, он выдавил из себя:
— Она предложила сто тысяч франков.
Глаза Фреди блеснули. Он уточнил, вернее, просмаковал:
— Сто тысяч франков каждому из нас.
Мерзкий торг! Но стоит ли мне сетовать? Ведь Фред мог сразу согласиться, прикарманить денежки и бросить меня ни с чем. Его поведение заслуживало пятерки с плюсом.
Названную выше сумму нам дают при двух условиях: мы возвращаем бумаги и ставим свою подпись, чтобы можно было утвердить акт о ликвидации-разделе. Таким образом, со всеми спорами будет покончено раз и навсегда, если даже нам удастся побить еще кое-какие карты противника.
Упорхнула прочь моя иллюзийка! Не видать Фреду пятерки! Фред не мог ничего сделать потому, что не имел права подписать бумагу за меня.
— Тонкая штучка наша старуха! — вздохнул он. — Она, видимо, не знает точного количества писем, но на всякий случай принимает меры предосторожности. Откровенно говоря, я надеялся надуть ее дважды. Ты только пойми! Нам вовсе не обязательно начинать процесс, имея на руках всю эту коллекцию: вполне хватит трех-четырех наиболее компрометирующих писем. Мы могли бы отложить их, а старухе продать весь пакет и, сорвав с нее хорошенький куш, начать с остальными письмами атаку. Это она и заподозрила. Жаль! Сорвалась такая ловкая операция.
Ловкая! Фред от радости пускал слюни. От его слюнявости становилось тошно. Слабость, унаследованная от нашего отца, которая перевесила дух коварства (увы, бесполезный для Фреда), унаследованный от матери, не позволила ему перейти стадию поползновений; он слопал бы свои тридцать сребреников, не отдав ни одного. Однако намерения Фреда полностью выражали его суть: этой жабьей икре не дано познать последующей эволюции, она навсегда так и останется жабьей икрой.
— Ну, что скажешь?
— Дай подумать.
Хотя деньги принадлежали мне по закону, я не мог их спокойно положить в карман: шантаж не имеет ничего общего с законными требованиями. Впрочем, повторяю, все деньги Резо казались мне нечистыми. Ту малость, что мне хотели швырнуть, мою жалкую долю, я уже давно предназначил на покупку чего-нибудь роскошного, более чем излишнего и решительно бесполезного. Принять эти сто тысяч франков и пожертвовать их на какое-нибудь благотворительное дело — это, пожалуй, даже шикарно, но унижение все равно останется, ибо мадам Резо никогда не узнает о моем благородном поступке и решит, что купила меня (а публичного унижения не искупить своей личной гордыней). Существует еще, так сказать, половинчатое решение чисто символического характера: потребовать перстень мсье Резо для себя или бабушкино обручальное кольцо для Моники. Однако будет ли это достойно моей гордыни? Остается помиловать — отдать безвозмездно и полностью все документы, на которые точит зубы алчный Фред. Но красивый жест останется красивым жестом, и справедливость этим не восстановишь: Марсель и его матушка вполне заслуженно понесут убыток в двести тысяч франков, подобная кара вполне соответствует их моральному уровню. С другой стороны, если Фред не откажется от своих прежних намерений, по какому праву я смогу навязать ему свою волю? Самое разумное — пренебречь этой сделкой, предоставив поле действия нашему первенцу, сохранив для себя привилегию чистоты. В качестве личного удовлетворения это меня устроит, тем более что на мою долю достанутся боевые почести. В конце концов, если бы отец в свое время меня попросил, я бы охотно отказался от моей доли наследства — не для того, чтобы сохранить «моральный майорат», а просто для того, чтобы не уподобляться в алчности братцам и чтобы разжечь в себе презрение к ним. Я способен оказать любую услугу даже в ущерб себе, когда речь идет о том, чтобы подчеркнуть свою значимость, и в этом плане я готов оказать услугу самому заклятому своему врагу. Большинство великодушных поступков вдохновляется именно таким кокетством, более или менее явным. Ситуация становилась точно такой, какой ей полагалось быть: отказ вместо грабежа. Пусть королева-мать приплетется в Каноссу выклянчивать королевство для своего ублюдка, и тогда все уладится.
Фред ждал, опустив глаза и распустив губы, он весь как-то сник. Я вдруг хлопнул его по спине:
— Ладно, подпишем. Но возвращаться в Соледо я не желаю. Мы заготовим у любого нотариуса доверенность на имя Марселя, а он пускай расплачивается за роскошь трижды подписать имя Резо. Я требую лишь одного — пусть Марсель и наша мать вежливенько придут за доверенностью ко мне домой. А что касается бумаг, скажи, что я не хочу к ним прикасаться. Можешь добиваться с их помощью всего, что тебе заблагорассудится.
— Как так? — ошалело, но восторженно спросил Фред.
В его орбитах перекатывались два желтоватых шарика, где плавали два грязных зрачка, два кружочка трюфеля в рыбном студне. Нет, не от уважения дрогнули его веки, а из жалости к дураку брату.
— Хорошо, хорошо, — пролаял он, — сейчас я позвоню Марселю.
Потом, перескочив на другую тему с такой же быстротой, с какой курица тащит в безопасное место найденного ею червяка, он снова начал разглагольствовать:
— Кстати, о Марселе, знаешь, он теперь у Плювиньеков царь и бог. Дедушка окончательно впал в маразм, так одряхлел, так болен, что долго не протянет. Марсель ладит с бабушкой, обхаживает ее всячески, устраивает свои собственные делишки, выжимает из нее денежки в счет будущего наследства, украдкой от Вдовицы, которая, видимо, уже считает, что он ей слишком дорого обходится. Наш младший лейтенант приобрел машину.
Я раздраженно стал застегивать пальто. Пора наконец заткнуть ему рот:
— Оставь меня в покое со своим семейством. Пришли мне открытку — предупреди, на какой день и час будет назначена встреча. А когда вся эта канитель кончится, слышать я не желаю больше ни о каких Резо.
Опасаясь, что я передумаю, Фред сразу залебезил, распластался и принялся жалобно поддакивать. Потом, поведя носом и почуяв запах домашнего супа, он вдруг вспомнил, что стал дядей.
— Мне хотелось бы повидать племянника, — решился он.
Любой предлог был хорош, лишь бы не пускать Фреда к нам в дом.
— Извини меня, пожалуйста, но у моей жены грипп, — сухо бросил я.
И ушел, обманув ожидание Фреда.
XXXVII
Придут — не придут? Хотя Фред предупредил нас открыткой, Моника не верила. Она хорошенько прибрала столовую, постаралась скрыть беспорядок, неизбежный при такой тесноте, когда все, к сожалению, на виду. Поставила в вазу букетик чемерицы. Пройдя за ее спиной, я швырнул на стол несколько газет, запрещенных в «Хвалебном». Трогательный знак внимания: надо же чем-то занять мадам Резо и ее сынка, ибо я решил для проформы заставить их подождать по всем правилам. Но при последнем осмотре Моника заменила газеты пятью салфетками и пятью чашками.
— Дать им чай или шоколад?
— Дай им каустику!
Не успел я как следует рассердиться на свою ассистентку, которая позволила себе в самую последнюю минуту внести изменения в сценарий, задуманный режиссером, в передней уже затренькал звонок. Так как Моника не пошевелилась, пришлось идти отпирать мне. В довершение неудачи это оказался не Фред, а круглая шляпа, настоящий подбитый зимней стужей колокол, из-под которого выглядывало бесцветное лицо моей матери.
— Надеюсь, я пришла вовремя? Держу пари, что никто еще не явился.
И тут же добавила менее резким голосом, который прерывался из боязни нарваться на бесполезное унижение:
— Ну ладно! Хоть бы Марсель пришел!
Моя жена поспешила ретироваться и намеренно громко распевала в соседней комнате «агу, агушеньки!» вместо всяких извинений. Я усадил мадам Резо, вдовствующую королеву, на наш лучший стул, напротив букета чемерицы, которая вполне гармонировала с цветом ее лица. Обычная уверенность, казалось, покинула мадам Резо. Она прижимала к груди сумочку с двумя ручками, раздутую тем, чего так ждал Фред, и исподлобья оглядывала комнату. Ее смущение, которое она укрывала броней молчания, проистекало из иного источника, чем мое, но все-таки оно бросалось в глаза. Как исчезает с течением времени сыновняя почтительность! Какой это ужас — иметь дело уже не с детьми, а со взрослыми мужчинами, когда ты сама женщина и когда ты не у себя дома, то есть не под защитой родных стен, традиций, обстановки и даже этого супруга, августейшего искрогасителя для твоих нервов! Она косилась на дверь, стараясь изобразить высокомернейшее спокойствие, она ждала Марселя с той тревогой, какую испытывают великие мира сего, оставшись без своего постоянного секретаря. Есть такие диктаторы, которые утрачивают способность пользоваться повелительным наклонением и выгодно подать себя в отсутствие преданных ушей и глаз.
— А у тебя не жарко! — наконец проговорила она, потирая кончики пальцев об обшлаг рукава.
Сказано это было просто так, лишь бы что-то сказать. Радиатор поддерживал положенные ему пятнадцать градусов, что и подтверждал градусник, на который я небрежно взглянул. «А теперь мы покушаем», — выводила за перегородкой Моника. Неопределенная улыбка подняла уголки губ свекрови: эти молодые женщины непростительно балуют своих младенцев! Потом рот крепко сжался и на несколько минут остался в таком положении, похожий на зажим для белья. Тщетные усилия! Лицо ее уже не приводило на память лик Горгоны: оно все пошло трещинками, обвисло, на шею сползли студенистые складки. Подбородок уже не торчит воинственно вперед, он напоминает башмак, но башмак изношенный, стоптанный, и окружен морщинами, похожими на старые шнурки.
Чувствуя, что ее разглядывают, мадам Резо испытывала неловкость, она избегала смотреть мне в лицо, и только два красноватых пятна как раз посреди каждой скулы, резко выделявшихся на бледном лице, выдавали ее смущение. Ей, должно быть, уже не холодно, теперь она обмахивалась, как веером, правой рукой.
Я по-прежнему смотрел на нее, смотрел с любопытством, смотрел издалека, я уже утратил способность сердиться на эту вяло двигавшуюся руку, которая когда-то не скупилась на пощечины и которая сейчас только перемещалась в пространстве. Я уже раскаивался, что подверг эту старуху маленькой пытке, от которой мы страдали оба, как вдруг вторично затренькал звонок, и я с удовлетворением уловил в глазах мадам Резо медный блеск, который наконец оживил тусклую зелень зрачков.
В комнату быстро вошел Фред, натыкаясь на стены, перепуганный выпавшей на его долю удачей. В ответ на «Здравствуйте, мама!» последовало: «Здравствуй, мой мальчик!» — и Фред уселся в самом дальнем углу, а наша мать еще нежнее прижала к себе сумочку.
— Ну и погодка! — заявил мой старший брат.
Но мне пришлось снова подняться с места. В третий раз протренькал звонок. Это явился Марсель, это он четко и сухо печатал шаг, как и подобало младшему лейтенанту, человеку занятому, главному Резо, выкроившему несколько свободных минут, чтоб присутствовать при теплой семейной встрече. В распахнутом пальто, полы которого били по воздуху, массивный, уверенный в себе, он прошел прямо на середину комнаты, как бы желая проверить, хватит ли ему места. Он козырял по-военному, хотя был в штатском, — удобное решение: можно не выходить из рамок вежливости и избежать братских рукопожатий. Мадам Резо (готов поклясться, что повадки Марселя ее раздражали) заслужила особый знак внимания: ее любезно поцеловали в первый сустав указательного пальца, в ту косточку, на которую при счете месяцев приходится июль. Но так как в эту минуту с вежливой фразой на устах вошла, более чем своевременно, Моника, ей тоже досталось беглое прикосновение губ к среднему пальцу. После чего Марсель, бывший Кропетт, уселся на свои солидные ягодицы, поиграл локтями, вытянул свои ноги профессионального завоевателя, расправил плечи, а тем временем мадам Резо, приободрившись в присутствии младшего сына, сочла уместным начать свою отповедь:
— Надеюсь, нет необходимости говорить вам, как следует расценивать этот шантаж, который…
— Прошу вас, мамочка, — прервал ее Марсель. — Наконец-то мы пришли к соглашению, а это главное.
— Миндального печенья? — предложила Моника, обходя гостей с тарелкой птифуров.
Госпожа матушка прошипела «благодарю», означавшее отказ, который она как-то ухитрилась адресовать мне. Фред взял три штуки; Марсель одним махом разгрыз свое печенье пополам, оставив на обеих половинках великолепный оттиск зубов, и, так как моя жена удалилась на кухню, быстро предложил:
— Давайте уладим это дельце. Все необходимое при вас, мама?
Основная часть программы была разыграна с достохвальной быстротой. Фред протянул левую руку, на которой лежала аккуратно перевязанная пачка писем. При желании ее можно было счесть новогодним подарком.
Правой рукой он жадно схватил пакет, который мать со вздохом извлекла из своей сумочки. Я в свою очередь швырнул на стол доверенность, и Марсель слегка нагнулся над ней, чтобы проверить подписи. Мы услышали, как мадам Резо шепнула, вернее, выплюнула вопрос:
— Хоть правильно она заверена?
Французская армия посмотрела, утвердительно кивнула головой и спрятала в карман гербовую бумагу. Все было кончено. Когда снова вошла Моника, неся в обеих руках кастрюлю с горячим шоколадом, все приняли непринужденный вид, и запах сделки сдался перед ароматом шоколада. Но Марсель уже поднялся со стула.
— Прошу прощения, мадам. Мне удалось вырваться только на четверть часа.
Он взялся за шляпу, натянул перчатки. Он явно не желал себя дольше компрометировать. Сейчас он сядет в свою длинную машину, которая стоит перед каморкой нашей консьержки и вызывает восторги мальчишек с улицы Белье-Дедувр, не привыкших к таким роскошным автомобилям. Завтра, при первой же возможности, он пустит в ход свою доверенность: как-никак документ не особенно надежный — его легко аннулировать. Процедура займет всего два-три дня. В конце концов, он сыграл свою роль, и я подумал даже, что, возможно, он торопится вступить в брак с Соланж. Подумал с какой-то воинственной симпатией. Равнодушный незнакомец, даже не обязательно чудовище (пора отучаться видеть все в черном свете), типичный буржуа XX века, серьезный, цепкий. Плювиньек по характеру, Резо по привычкам, этот молодой лейтенант, с полным правом рассчитывающий на пять нашивок, а то и просто на звездочки, мог бы быть вполне приемлемым сводным братом, если бы только соблаговолил время от времени вспоминать о нас. Думаю, что, если бы у него хватило такта спросить о нашем малыше, я больше сожалел бы о разлуке с ним, чем о потере моих гектаров. Но ни он, ни Фред, который тоже поднялся со стула, даже и не подумали об этом. Не за тем они сюда явились. Им не терпится отрясти на моем половике прах со своих ботинок.
— Давайте я подброшу вас к дедушке, — предложил Марсель, обернувшись к матери.
Удивительное дело, но она даже не пошевелилась. Она маленькими глотками цедила шоколад, который ей подала Моника и от которого она не отказалась.
— Нет, — выдохнула она между двумя глотками.
Мне показалось, что она колеблется. На мгновение чашка, ручку которой она зажала большим и указательным пальцами, нерешительно качнулась на полпути между столом и ее губами.
— Если ты приедешь в «Хвалебное» раньше меня, скажи садовнику…
Но другая рука тут же отрицательно махнула:
— Нет, ничего не говори. Я сама с ним увижусь.
— Как угодно, мама! — небрежно бросил вновь испеченный феодал — благоразумие подсказало ему, что не следует сразу вводить в своем уделе новые законы.
Все стало на свои места. Господа братья ушли, как уходят акционеры, довольные удачной ликвидацией акционерного общества. Ясно, мы никогда больше не увидимся. Станем чужаками, и нас разделит своеобразная ксенофобия, которая недостойна даже зваться ненавистью. Резо разбились на три клана. Клан ублюдка, на долю которого достались земли, деньги и генеалогия, который будет считаться хранителем семейных традиций и — о ирония! — чистоты крови. Мой клан не принадлежит ни к какому определенному классу, он скоро присоединится к бесчисленной когорте людей вне касты, которых множит наш век. А между нами двумя окажется Фред (оставим его для счета), изысканный бродяга, которому до смерти хочется вернуться в лоно буржуазии, но который к этому совершенно не способен, — скорее всего, ему на роду написано «опуститься в низы», как говаривал наш отец (но если Фред и опустится до народа, то будет стыдиться этого, как стыдятся своих посещений борделя). Кто по мягкотелости, кто из любви к бунту, кто из алчности — но все мы трое содействовали исходу, который всегда грозит тем, кого принято называть «великие мира сего». С нами произошло то, что происходит с тюльпанами: разновидности одного и того же семейства (буржуазия представляет собой именно такую разновидность в социальной флоре), как правило, в конце концов вырождаются.
Пускай Фред исчезнет! Пускай Марсель, хотя бы для видимости, пытается продолжить агонизирующий род Резо! Мне выпало на долю вернуться к естественному состоянию, к homo communis.[32] Поступая так, я вовсе не поврежу тебе, о мой сын! Будущее — великое дело маленьких людей. Ты станешь тем, кем захочешь стать. Ты не будешь жертвой того мировоззрения, которое превращает достаток в заслугу, богатство — в достоинство, идеи — в догмы, культуру — в превосходство. У тебя не будет привычки к привилегиям, поэтому ты и не приобретешь к ним вкус. Возможно, ты даже не одобришь своего отца, который стремится уничтожить привилегии не затем, чтобы воздать должное справедливости, а затем, чтобы взять реванш…
— А ты не стал разговорчивее, мой мальчик…
Мадам Резо все еще потягивает шоколад. Она властным движением налила себе вторую чашку. Пожалуй, я догадываюсь, почему она осталась. К ней вернулся апломб, она хочет отплатить мне моей же монетой. То, что сохранилось в ней от Психиморы, не позволяет ей удалиться, не зашипев, не оцарапав. Однако не будем выносить слишком бездоказательных суждений: возможно, мадам Резо хочет в последний раз удовлетворить любопытство, прежде чем уйти в свою старость и равнодушие. Если малыш не спит, можно было бы рискнуть провести опыт. Мне тоже это было бы любопытно.
— Почему вы ждете? Почему до сих пор не показали мне малыша? — вдруг слышится равнодушный голос, отраженный дном пустой чашки.
Опередила! Будем же начеку против этого запоздалого порыва родственной нежности. Мадам Резо сказала: «Почему вы ждете?» Неужели этим «вы» она признала «мидинетку»? Впрочем, ничто на это не указывает, она по-прежнему не обращается к Монике, даже не глядит в ее сторону, а когда Моника подавала ей шоколад, я заметил движение руки, каким дают знать прислуге: довольно. Это рассчитанное на двоих «вы» должно и меня низвести до уровня Моники. Бабушка требует своего внука совсем так, как бы она потребовала, чтобы ей привели очередного младенца какой-нибудь нашей фермерши.
Быстро отворив дверь в смежную комнату, Моника тут же появляется снова, высоко подняв «конверт», откуда выглядывает круглая, заспанная мордашка. Малыш ужасно похож на увеличенный в размерах боб, который запекают в крещенский пирог. Мадам Резо корчит гримасу. Теперь я твердо знаю: бабушка не возьмет внука на руки, не поцелует его (впрочем, оно и лучше: в показных поцелуях всегда есть что-то от иудина лобзания). Она бормочет одновременно любезно и горько:
— Он похож на тебя. Это не самое лучшее, что он мог сделать.
Ничего не попишешь, матушка, ведь мы с вами тоже очень похожи. Лучше походить на своего отца, чем совсем на него не походить. Я вам этого не скажу, чтобы не задеть мою жену, которая чтит паклю, заменяющую вам седины. Но вы догадываетесь сами, хотя мы уже отвыкли понимать друг друга с полувзгляда… Так поспешите же добавить, чтобы охарактеризовать поведение этого малыша, который, увидев вашу шляпу — пугало, а не шляпу, начинает громко вопить:
— И характер у него твой!
Если вы хотели меня уязвить, так знайте же, что вы только порадовали меня. Решительно, вы разучились пускать стрелы в самое уязвимое место (или, возможно, у меня теперь иные уязвимые места). Очевидно, вы и сами это поняли, заметив нашу молчаливую улыбку, недаром вы стараетесь бить ближе к цели:
— Надеюсь, вы сможете дать ему приличное воспитание. Судя по вашей обстановке, зарабатываешь ты немного.
Зеленый взгляд перепархивает от стула к столу и обратно, ощупывает некрашеное дерево, задерживается на люстре, представляющей собой простой стеклянный диск, скользит вдоль стен, оклеенных слишком тоненькими обоями, и под конец упирается в паркет, где моли не посчастливится обнаружить ковер.
— Нам хватает! — шепчет моя жена, уткнув нос в шейку своего сына.
— Успокойтесь, мама, мы счастливы…
Услышав это слово, которое попахивает благополучной развязкой кинобоевика, услышав слово, которое для нее или ничто, или подчеркивает самую ее смертную неудачу, мадам Резо сотрясается в приступе тихого смеха, мадам Резо вновь прибегает к своему презрительному, своему разящему «вы».
— Вы счастливы? Счастливы! А что это значит?
Это значит, что моя мать несчастлива. Для устрицы жемчужина просто стеснительный нарост.
— А ты не изменился, мой мальчик, все еще любишь прихвастнуть. Когда я думаю, кем бы ты мог стать и кем ты стал, я понимаю, что произошло. Счастливы! Ну тогда…
Хриплый стон, вырвавшийся из самой глубины ее глотки и ее досады, пробивается сквозь брешь ее губ — мадам Резо уже не говорит, она лает:
— Ну тогда это конец всему! Значит, лошадка уходилась!
Засим следует совиное уханье — читай: смех. Напрасные старания! Тон явно не тот. Фальшивая, режущая ухо нота: я уже заметил это у нотариуса, и мне начинает казаться, что, будь я более натренирован в юности, я бы еще тогда разгадал этот фальшивый звук. Во всяком случае, язвительность — типичный наемник, он спустя рукава защищает последний оплот — тщеславие.
— Бедный мой друг, как будто мы живем на этой земле для того, чтобы коллекционировать радости…
Мадам Резо теперь уже проповедует. Не будем слушать ее разглагольствований. Лучше коллекционировать радости, чем коллекционировать мух. Эту науку я оставлю себе. Радость — единственная область знания, исследованием которой не занимаются ученые-специалисты; она отдана во власть любителям, смешивающим, как правило, радость и удовольствие. Не помню, кажется, одна из новоиспеченных святых изрекла: «Я весьма сожалею, что нельзя лишить блудниц их титула „девушек для радости“». Я не занимаюсь спасением своей души, мне даже не хочется добиваться личного спасения, мне только удалось чуть приблизиться к небесному пологу, хотя он величиной всего с полог над нашей кроватью. Я не собираюсь хвастаться этой случайной удачей. Еще два-три года назад я считал, что вершина наслаждения — это ускользнуть одному от всеобщей погибели.
С тех пор как появилась Моника, появился мой сын, я не так в этом уверен. Из той доли, что они оставили мне — из лучшей доли, — мне бы хотелось бросить несколько крох льву и шакалу, Марселю и Фреду, чтобы дать им почувствовать вкус счастья. Вы думаете, мама, о том, кем бы я мог стать? Я тоже об этом думаю. Спасибо вам. Вы дали мне случай стать тем, кем бы я никогда не стал, если бы, любя вас, полюбил бы все то, что вы собой представляете. К счастью, я вас не любил!
Я не хочу сказать, что я вас ненавижу: не будем больше злоупотреблять словами, и особенно нашими дарованиями. Я вас не люблю, я вас не ненавижу. Хуже другое: я вас не чувствую, я чувствую себя рожденным от неизвестной мне матери.
Я ничем вам не обязан, кроме жизни, как твердит Моника, однако все, что вы мне дали, и все, в чем вы мне отказали, — уравновешивается. Разумеется, я отнюдь не прощаю вас. Но наши взаимные претензии, наши раздоры кажутся мне теперь ужасно далекими, слишком личными. Чего стоит все это клохтанье в курятнике по сравнению с чудовищным бредом, который грозит потрясти Вселенную? Врожденный порок, порок преимущественно буржуазный, — это способность реагировать лишь на частности.
Монолог монологу рознь! Моя мать по-прежнему кисло-сладко ораторствует. Она без конца тянет литанию афоризмов, позаимствованных из репертуара нашего отца. Впервые я вижу ее столь красноречивой и столь неубедительной в своем красноречии. Она из кожи лезет вон, лишь бы уверить меня в моей нищете, в моей неблагодарности, в моей низости. Неужели ей, которая никогда не находила нужным оправдываться, требуется сейчас самооправдание? Все это похоже на вязкое предвыборное разглагольствование. Может быть, она надеется сразить меня? Если слова — единственное оружие, которым она еще располагает, подобно тому как они были единственным оружием мсье Резо при его жизни, мне остается только улыбнуться: наконец-то мертвый покорил свою вдову. В этой словесной атаке есть что-то безнадежное, что-то глупое — так, очевидно, Сатана искушал Иисуса на горе. Милая старая Психимора! Ты могла бы причинить мне гораздо больше зла. Хотя бы просто дать мне понять, что твой выбор мог быть иным. Неужели ты не знаешь, что я мог бы быть великолепным ублюдком, настоящим Кропеттом вместо этого младшего лейтенанта, который тебя эксплуатирует и который тебя не любит?.. А я, я бы сумел обратить тебя в свою веру, я бы заставил тебя позабыть, что мы, твои дети, принадлежим к двум различным породам — рожденные от нелюбимого мужа и от потерянного возлюбленного; я сумел бы сделать тебя матерью всех нас, матерью, которая не делает различий, — словом, просто матерью! Конечно, я хвастаю. Но разве это хвастовство, мамочка, не лучше брошенной вами заключительной фразы, произнесенной наигранно саркастическим тоном, фразы, которой вам хотелось бы сразить нас, как парфянской стрелой, и которая вернулась к вам, как бумеранг.
— Если это тебе улыбается, ну что ж, будь тем, кем ты, по твоим словам, стал. В конечном счете страшнее всего изменить самому себе.
С этими словами она ушла, изменив самой себе. Ушла с пустой сумочкой, прижатой к пустому сердцу. На пороге она обернулась, крючковатая, вся осевшая, чуть ли не дрожащая как в лихорадке, и впервые она удостоила взглядом женщину, которая одолела ее силой своей молодости и вот этим ребенком, высоко поднятым материнской рукой. Уже ничто не сможет вознести мадам Резо на эту высоту, и особенно то, что поддерживало ее в течение двадцати лет. Не забуду ее взгляда, обнаженного, как нерв, прячущего свою беду под тяжестью век, не забуду этого высшего усилия воли, позволившего ей выскочить на лестницу и злобно хихикнуть за дверью, прежде чем хлопнуть ею изо всех своих сил.
В окно я вижу, как она нерешительно удаляется, по-змеиному извиваясь. Отсюда, сверху, мне кажется, будто она ползет по дну узкой улицы, нескончаемо длинной, такой же длинной, какой будет ее старость. Два черных пера на шляпе чем-то похожи на два отростка на голове рогатой змеи… Но что я такое говорю? Символ давно устарел! «Иди, меня больше не интересует твое не слишком хитроумное племя, милейшая змея!» С меня вполне достаточно одного кольца, которое ничем не обязано вашим. Я крепко держу в руках то, чего у тебя нет. Источник моей силы иной, не она владеет мною, а я ею. Моя сила здесь, здоровая, бесхитростная: мой большой крещенский боб и владычица в передничке, которая пьет мою улыбку с такой жадностью, что хочется крикнуть: «Королева пьет! Королева пьет!»
Я знаю, сила эта не без изъяна, и я предвижу дни отсутствия. Не отсутствия памяти. Отсутствия забвения. В одну из таких минут голос, идущий с этой стороны, шепнет мне: «О чем ты думаешь?» — и я не отвечу. Но если вопреки самому себе я вызываю в памяти тебя, о моя юность, я не буду взывать к тебе больше. Ты не совсем исчезла, но ты очень далеко, как вон та женщина, которая там, в конце улицы, теперь не больше точки, которая борется с порывами ветра и которая как бы уносит с собой зимнюю стужу.
Вильнокс,
декабрь 1949 — август 1950