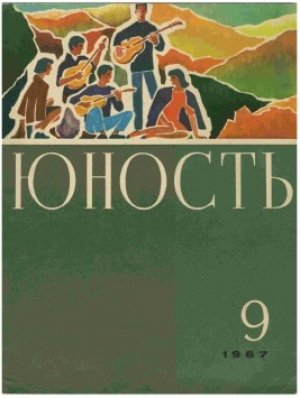
Журнальный вариант (Журнал "Юность" № 9 1967). Полностью повесть под названием "Сувенир из Гибралтара" выходила в издательстве "Молодая гвардия" в 1968 г.
"Гибралтар - единственное место в Европе, где на воле живут обезьяны".
Зоологическая справка.
Заводная обезьяна
Шестнадцатый день рейса
Ночью было так холодно, что даже здесь, на траверзе маяка Кинг-Грейс-Таун, спали под шерстяными одеялами. Траловая команда собиралась утром на корме в ватниках, а ребята из машины ходили веселые: все одесские рассказики о шестидесяти пяти градусах у главного дизеля оказались дешевой травлей.
Такие погоды были неожиданны и удивительны: шел уже май, а маяк Кинг-Грейс-Таун - это как-никак уже Либерия...
Фофочка ежился во сне от холода и сырости, поджимал ноги, но не просыпался. Каюта № 64 с левого борта была самой первой по ходу траулера, и, когда задувало с берега, четверым в этой каюте доставалось больше всех. Нос "Державина" отворачивал на сторону синие пласты воды, ветер подхватывал их белые шипящие верхушки и швырял о борт. Очень редко ему удавалось попасть в открытые иллюминаторы каюты № 64. Но все-таки удавалось, черт побери!
Фофочка спал на верхней койке, Фофочке было хорошо. Юрка - внизу. Когда начинался потоп, первым просыпался Юрка.
На этот раз садануло прилично: не меньше ведра. Еще во сне Юрка облизал губы и, почувствовав горечь океанской воды, проснулся. По полу каюты, обегая три пары самодельных сандалий на толстом пенопласте, взад-вперед ходила маленькая волна. "Качает, зараза", - тоскливо подумал Юрка.
Наверху засопел Фофочка. Юрка не видит его, но знает, как спит Фофочка: свернувшись калачиком и чуть приоткрыв рот. Дитя. Он и бреется через три дня на четвертый. Да и то брить нечего, повозит, повозит "Харьковом" - вот и все бритье. И бритву не вытряхивает; нечего вытряхивать... А провожали его! Юрка помнил, как Фофочку провожали, как на пирсе целовала его мама в габардиновом плаще, и папа в габардиновом плаще, и какая-то тонконогая дева тыкалась носом в букет. Мама кричала:
- Вовочка! Ничего не ешь немытого, там это очень опасно!
Ребята прямо падали со смеху, он сам стоял красный-красный, а она опять:
- Вовочка!..
Так сразу его и прозвали "Фофочкой"... А букет от тонконожки все-таки взял, заявился с ним в каюту. Все эти цветочки-лепесточки завяли на другой день, но выбрасывать их Фофочка не давал. Потом уж Айболит отправил этот букет в иллюминатор... Но это уж за Сицилией...
Сон совсем убежал. Но вставать не хотелось. Да и рано вставать: в иллюминаторах только-только начинало голубеть. Юрка лежал, по горло закутавшись в одеяло, прислушивался к знакомым звукам траулера. Машину он не слышал. Машина и шипение океана за бортом составляли ровный, привычный и уже незаметный для уха фон, который не мешал всем другим звукам. Слышал он сопение Фофочки, ласковое журчание воды на полу, тонкий, едва различимый писк радиорубки, где работал Сашка. Иногда он ловил приглушенные шумы камбуза: голоса, позвякивание кухонного железа, - там готовили завтрак.
Юрка лежал еще долго и, кажется, начал уже дремать, когда вдруг все корабельные звуки разом изменились. Даже у Фофочки смешался ровный строй вдохов и выдохов: "Державин" сбавил ход до малого. "Значит, будут сыпать трал,- подумал Юрка. - Неужели ж опять ничего? Ну хоть бы тонн пять, для затравки". Он услышал, как далеко на корме глухо загрохотали по палубе бобинцы[1]: трал уходил в воду.
Юрка спустил ноги с койки, но, почувствовав пальцами лужу, отдернул их, словно на полу был кипяток. "Витя, идиот, открыл иллюминатор... Дежурный, называется, пускай сам и убирает теперь". Пододвинул ногой свои колодки, встал, оглянулся на Фофочку. Все, как по нотам: свернулся калачиком и открыл рот. Одеяло сползло, оголив чуть полноватые, в гусиной коже ноги Фофочки, Юрка поправил одеяло, Фофочка благодарно почмокал губами.
Вода на полу раздражала: в каюте Юрка любил порядок. Он достал большой жестяной совок и начал подбирать воду. Опрокидывая совок в иллюминатор, шепотом матерился. Потом обтер Витиной майкой мокрые уши вентилятора на столе, отряхнул капли с обложки "Королевы Марго" ("Королеву" читал Фофочка), вывалил в бумажку консервную банку, полную окурков, и отправил кулечек в иллюминатор.
Потом Юрка застелил стол сухой белой бумагой, рулон которой хранился у него в шкафчике, взял мыло, зубную щетку, грязное вафельное полотенце, заскорузлое от горькой океанской воды, и пошел умываться. Возвратясь, он обнаружил, что одеяло опять сползло с Фофочки, укрыл его, надел штаны, робу и, стуча колодками, отправился смотреть трал.
"Державину" не везло. В первое траление, еще под Марокко, они разодрали на кораллах всю мотню[2], залатали, а через два дня снова зацепились и вовсе потеряли трал. Капитан психовал, его понимали и прощали. Первый помощник кричал, что траловая команда проявила политическую близорукость. Никто не понял, при чем тут эта близорукость, но все были здорово расстроены. И дело, конечно, не в трале. Главное - не было рыбы. Поднимали что хочешь, только не сардину, ради которой пришли сюда "под самую Африку". Радировали в Москву, в институт, специалистам. Специалисты запросили сводку погоды, температуру воды, рельеф дна, глубины - ну, просто целую научную работу надо было проводить. Однако им все сделали, послали. Специалисты молчали два дня, потом пришел ответ, что сардину следует искать на прибрежных банках с температурой воды 28-30 градусов. А под Дакаром, где утопили трал, было 24. У "Есенина" и "Вяземского" в Гвинейском заливе дела шли очень неровно: случалось, поднимали по двадцать тонн чистой, без примесей сардины, а случалось, что день-два ходили совсем пустые. Но все-таки кругом тонн по восемь у них набиралось. И температура воды была такая, какую придумали в Москве: плюс 29.
Капитан-директор "Державина" Павел Сергеевич Арбузов после небольшого совещания приказал идти в Гвинейский залив и тралить вместе с "Есениным" и "Вяземским".
"Державин" взял курс на юг. Они должны были встретиться с "Вяземским" и "Есениным" под Такоради. Но сегодня рано утром гидроакустик Валя Кадюков прибежал к капитану и сказал, что эхограф[3] пишет рыбу. И хотя Арбузов не любил путать переходы с ловом, он все-таки решил попробовать и дал команду сыпать трал.
Ночь стремительно превращалась в день. Умирал какой-то совсем не тропический, городской малокровный месяц. Только рожки у него кверху, в России так не бывает... На востоке широко и быстро разливалась лимонная заря. Берег Африки был милях в пяти, и Юрка хорошо видел темный лес, отделенный белой ниткой прибоя от темной воды. Кое-где над стеной леса поднимались верхушки каких-то исполинских деревьев, они уже увидели солнце и ярко горели в его лучах. Ветер, пахнущий мокрой землей, тянул с берега, гнал легкую зыбь. В темно-синей воде, у самого борта траулера, Юрка снова заметил маленькие косые плавники двух акул, акулы шли с ними второй день. Когда Анюта выливала за борт помои, они, как собаки, бросались на хлебные корки. А может, это уже другие акулы...
На корме, несмотря на ранний час, помимо траловой команды, собралось довольно много народа: капитан Арбузов, старпом Басов, стармех Мокиевский, мастер рыбного цеха Калина и другое начальство, большое и помельче, и несколько зевак вроде Зыбина. Не было здесь первого помощника капитана Куприна, заболевшего как раз перед началом рейса и угодившего в госпиталь. Вместо него здесь был временно назначенный сюда из резерва исполняющий обязанности первого помощника Бережной. Все ждали трал и одинаково смотрели на два стальных троса-ваера, бегущих с барабанов лебедки за корму в воду. Ваеры держали трал, и все смотрели на них, словно стараясь угадать в их неслышном звоне, каким будет улов. Ребята из траловой сидели пока, курили. Юрка подсел к Вите Хвату (хотел отругать за потоп), но успел затянуться только один раз, как услышал за спиной голос Бережного:
- Между прочим, Зыбин, есть инструкция, которую вы должны знать: во время траления тут находиться запрещается.
- Так я ж никому не мешаю, - примирительно сказал Юрка, - поглядеть охота...
- Инструкции пишутся не для того, чтобы их нарушали, - ответил Бережной громко, глядя прямо в глаза Юрке. - Идите на верхний мостик и смотрите оттуда, сколько хотите...
Прав Бережной. Кругом прав. Есть такая инструкция. И лишние люди на корме не нужны, это точно. Всякое может случиться. Может "убиться" ваер. А если рвется туго натянутый стальной трос, он может в один миг человека пополам перерубить: страшная в нем сила. Зацепиться можно за что-нибудь, руку сунуть под вытяжной конец на турачке[4],- это значит нет руки, и мало ли что еще придумать можно. Правильные, деваться некуда, какие правильные речи всегда у Бережного, а тоска от них... Вот ведь грубости не сказал, а вроде отругал, называл на вы, а кажется, что оскорбил. Оттого, что слова у него, как морские голыши,- круглые, холодные. Он их не говорит, а кидает в человека. И от каждого - синячок...
Юрка не пошел на мостик. Побрел обратно в каюту: досыпать. "Черт с ним, с Бережным, - успокаивал он себя.- Что, мне больше других надо? Пожалуйста, могу спать. Очень даже прекрасно. Согласно инструкции. Травой порасти эта корма. Ноги моей там не будет. Пускай начальство волнуется. Им за это деньги платят. Все. Финиш!"
Он успокаивал себя, как только умел, а чувство тоскливого одиночества не уходило. В каюте Юрка повалился, не раздеваясь, на койку, закрыл глаза. И в ту же секунду, словно там, в рубке, дожидались, когда он ляжет, из репродуктора внутренней трансляции раздался знакомый голос четвертого штурмана Козырева:
- С добрым утром, товарищи! Сегодня у нас понедельник, 11 мая 1959 года. Всем вставать!
Юрку почему-то раздражало, что Козырев никогда не забывал называть год.
"Та-ак, значит, Зыбин на мостик не пошел", - отметил про себя Бережной. И тралмейстер Губарев, и Кавуненко, и вот эти матросы, забыл фамилии, короче, все, кто сидел рядом и слышал их разговор, тоже видели, что Зыбин не подчинился, не пошел на мостик. Если каждый матрос будет такие демонстрации выделывать, это будет уже не советский траулер, а шаланда или, как там ее... галера пиратская какая-нибудь. Я ему так, а он мне этак. Как это называется? Бунт. Маленький, но бунт. Зря, выходит, одернул? Нет, не зря. Хотя теперь вреда от этого, пожалуй, больше, чем пользы. А как надо было поступить?
Вернуть Зыбина и отправить на мостик в приказном порядке? Но не может же он приказывать матросам смотреть или не смотреть, как вытаскивают этот чертов трал... Не вытаскивают, а поднимают. Надо все время помнить об этом жаргоне. Его уже поправляли. Мокиевский, стармех, объяснял, что корабль- это "единица военно-морского флота", а у них - судно. А когда он спросил однажды в кают-компании: "Когда мы доплывем до Гибралтара?" - все заулыбались, а Мокиевский опять поправил: "Не доплывем, а дойдем". Ужасно глупо, но ничего не поделаешь: надо осваивать. Одно дело улыбочки в кают-компании, там свои, там правильно поймут, другое - на палубе. Если на палубе начнут улыбаться - пиши пропало...
Бережному вдруг очень захотелось показать всем вот этим, с цигарками в зубах, что он свой, рыбак. Да ведь он же и правда рыбацких кровей: отец ведь рыбачил... Он подошел к Губареву, спросил у него папироску, закурил из ладоней, помолчал некоторое время, потом вроде как бы в задумчивости поковырял ногтем краску на люке и спросил громко, чтобы слышали все:
- Надо бы шаровой покрыть, а? Именно покрыть шаровой, а не покрасить серой краской.
- Да надо бы, - нехотя отозвался Губарев, - только его дня два рашкать придется, потом засуричить, а иначе слезет.
"Засуричить - это ясно, - быстро думал Бережной.- А рашкать? Зачищать, наверное..." И он сказал с легким вздохом:
- Эх, Владимир Степанович, дорогой, раз надо,- значит, надо. Кто же будет беречь наше судно, если не мы сами?
И сразу почувствовал: не то. Опять получилось как-то неловко, казенно, назидательно, совсем не так, как он хотел.
Губарев улыбнулся, встал, жадно затянулся напоследок, щелчком отправил за борт окурок, но обратно к люку не пошел, сделал вид, будто его что-то интересует в лебедке. Кавуненко наклонился к Хвату, зашептал ему на ухо. Хват глупо осклабился. Все как-то словно отвернулись от Николая Дмитриевича, не хотели замечать, казалось, все только и ждут, когда он уйдет.
"Вот бывает так, - подумал Бережной,- хочешь ведь как лучше, а оно наоборот... Ну, не раскисать! Не раскисать!.. Ерунда все это..." Он медленно сполз с люка, подошел к трапу, где стояли Арбузов, Басов, Мокиевский, рыбмастер Калина, акустик Кадюков.
- Ну что же, будем поднимать, а? - спросил он нарочито весело, широко улыбаясь и показывая этой улыбкой, что он доволен всем происходящим: чётко и быстро спущенным тралом, коротким и деловым разговором с Губаревым, всей этой созданной и его усилиями здоровой, так сказать, атмосферой коллективного труда. Сейчас все тоже должны были улыбнуться. Он отлично знал этот свой тон, многократно выверенный, оптимистический тон, безотказно высекающий улыбки из самых каменных лиц. И он нравился сам себе, когда разговаривал вот так, бодрым, молодым голосом. Он уже готовился улыбнуться еще приветливее, отвечая на их улыбки, но с удивлением увидел, что напряжение в фигурах и выражение сосредоточенного ожидания в лицах этих людей не исчезли после его слов.
- Пора, пожалуй? - спросил он уже деловито, без удали, на ходу подстраиваясь к общему серьезному настроению.
- Рано еще, - не оборачиваясь, тихо бросил капитан.
И Бережной почувствовал по его тону, что опять сделал что-то невпопад. "Все сегодня как-то не клеится, - подумал он.- А началось с этого Зыбина..."
Николай Дмитриевич за свои пятьдесят шесть лет повидал людей немало, с первого взгляда умел распознать, что за человек перед ним, чем дышит и куда смотрит. Юрка Зыбин не понравился ему сразу, а он очень доверял именно первому впечатлению. Юрка был щуплый, узкий в плечах, подстрижен "под ноль", но голова у него была не круглая, а шишковатая какая-то, плохо выбритая шея казалась издали грязной. У него торчали уши, и нос тоже как-то торчал.
Первый раз Бережной увидел его еще в Черном море. Было довольно холодно. Зыбин бежал по палубе пританцовывая, цокая колодками, весь съежившись, втянув руки в рукава ватника. Ветер облеплял штанами его худые ноги. Уши были голубые и очень торчали. Он был похож на продрогшего беспризорника. При этом Зыбин еще пел на какой-то дергающийся мотивчик:
Африка ужасна, да, да, да,
Африка опасна, да, да, да,
Не ходите, дети, в Африку гулять...
"Этот под блатного работает, - сразу определил тогда Бережной.- Видали мы таких братишек в тельняшках". (Юрка был без тельняшки. Тельняшки у него никогда не было).
Потом Бережной видел Зыбина на уборке в рыбцехе, на корме, когда перетаскивали тару, как-то вечером в столовой, где крутили кино, и всякий раз этот матрос вызывал у Николая Дмитриевича какое-то неприятное, даже чуть-чуть брезгливое чувство своей неопрятностью, шишковатой головой, кургузым ватником, из которого красные худые руки торчали, точно обсосанные клешни, всем своим убогим, бедным видом. Он ловил себя на мысли, что ему хочется остановить Зыбина, сделать какое-нибудь замечание, сказать, чтоб он не ежился, не шмыгал носом, не пританцовывал, а ходил бы, как все ходят. Бережной понимал, что делать так не следует, и подавлял в себе это желание.
Однажды он, правда, указал Зыбину, что ватник ему маловат, но указал по-дружески, по-товарищески.
- Так ведь не сам выбирал, - ответил Зыбин. - Какой дали, такой и ношу. Ателье ушло за горизонт...
Ответил небрежно, с ухмылочкой, словно не первый помощник капитана с ним говорил, а так, Петька какой-нибудь с соседнего двора. И сегодняшнее замечание было совершенно справедливым. Николай Дмитриевич не придирался. Нет, не придирался. "В конце концов я заботился о безопасности человека", - подумал Бережной и успокоился.
Капитан взглянул на часы и что-то тихо сказал тралмейстеру Губареву. Лебедка включилась рывком, визгливо на все лады заскрежетала шестернями. Ваеры дрогнули, поползли. Если не смотреть на барабаны, очень трудно уследить глазами, ползут они или нет. Через каждые пятьдесят метров к ваеру был привязан лоскут-заметина. Только когда он выныривал из воды и медленно приближался к лебедке, было видно, что ваер движется.
Витя Хват стоял на своем месте, у правого вытяжного конца, и считал заметины. Вот пошла восьмая. Значит, за бортом осталось 50 метров. Значит, рыбы в трале нет. Это точно. Кавуненко говорил, что трал с рыбой всплывает. А этого что-то не видно...Так и есть: пустой. В мотне килограммов двести, от силы. Да и те двести - это не рыба, "зверинец"...
Все молчали. Губарев повернулся, зашагал в столовую.
- Где Кадюков? - громко спросил капитан. Гидроакустик, только что стоявший рядом, исчез. "Не хотел бы я сейчас быть на месте Кадюкова, - подумал Хват, - понадергает ему Арбузов перьев из хвоста за его прогнозы..."
Только что поднятый на кормовую палубу трал был из тех, которые на "Державине" называли "зверинцем".
Из мотни на палубу широко и густо выдавилась, затрепетала под солнцем удивительная своей слепящей металлической, пестротой, еще трудно делимая глазом масса живых существ. Она растекалась к ногам людей стремительно и тяжело, как лужа ртути. Природа никогда не смогла бы собрать в пространстве столь малом все это разнообразие живых и мертвых тел. В тесном переплетении их, вырванных из океана, задавленных, брошенных под эту смертельно яркую голубизну земного света, было что-то противоестественное, отталкивающее, зловещее. Некоторые рыбы дробно бились в лихорадочном исступлении, туго выгибаясь и подпрыгивая; другие, дернувшись несколько раз, припадали к горячему мокрому дереву палубы и тихо скользили в слизи и крови, стараясь пробиться к спасительной воде; третьи, уничтоженные блеском дня и ядовитыми глотками жаркого воздуха, были неподвижны и покорны в ожидании гибели, лишь дрожь жабер отличала их от мертвых, с потухшими, подернутыми синей дымкой глазами, смотревшими в бездонную пустоту, сквозь людей, облака и самое небо.
Сашка Косолапое сдал вахту на радиостанции и сразу пошел на корму. Еще с мостика, оценив многоцветье палубы, он понял, что сардины снова нет, и, метнувшись вниз по трапу, подошел к Хвату, разглядывавшему рыбу.
Чего ж тут только не было! Большие морские караси с рубиновыми глазами, вытаращенными в тупом испуге, блестели жарко, как самовары. Из их грубо отвернутых ртов, между белыми собачьими клыками, торчали вороненые хвосты ставриды: так малые рыбы душили в тесноте трала рыб больших. У некоторых рот был забит розовыми от крови дыхательными пузырями: их подняли слишком быстро, и потерянная глубина вывернула изнутри их крепкие, сильные тела. Белобрюхие скаты, растерзанные, измятые, с неживыми шипастыми хвостами, выглядели, наверное, самыми жалкими, и нельзя было поверить, что лишь несколько минут назад они легко и стремительно летели там, в сумраке прохладной глубины, чуть шевеля концами тонких крыльев. Рядом извивалась, дико сверкая зелеными глазами, небольшая акула. Ее пасть то раскрывалась, то сжималась, беззвучно кусая воздух, и в этом немом ритме была такая неистовая, дикая злоба, что смотреть на эту совсем маленькую акулу все равно было страшно.
- Ишь, тварь, - тихо сказал Витя Сашке, - тоже жить хочет.
Он присел на корточки и дернул акулу. Потом сунул ей в зубы ставридку. Акулка полоснула зубами, перерубила рыбу аккуратно, без pванья, словно бритвой.
- Во, молотит! - восхищенно сказал Хват и, пнув сапогом рыбью груду, спросил Сашку:- Гляди, никак осьминог?
Осьминога вытащили впервые. Грязно-оранжевый, с липким, бледным брюхом и розовыми пуговицами присосок, спрут крепко приклеился к палубе шестью своими щупальцами, а двумя свободными легкими, вороватыми движениями быстро ощупывал рыбу вокруг себя. Сашка тронул его рукой. Осьминог цепко оплел запястье, потянул к себе. Сашка почувствовал нежные поцелуи десятков маленьких ртов.
- У-у, сучья лапа, - брезгливо сказал Хват и цыкнул плевком меж зубов.
Сашка легонько тряхнул рукой, но осьминог не отпускал. Сашка дернул сильнее - осьминог не поддавался. Было немного противно, но интересно. Сашка покорно расслабил руку, спрут третьим щупальцем повел выше, к локтю и вдруг разом отпустил,
- Это он волосы учуял, - пояснил Хват. - Непривычно ему... Рыбы-то, они без волос...
- Думаю, что это не так, - очень серьезно сказал Айболит. Корабельный доктор тоже был здесь и с живым любопытством следил за осьминогом. - Думаю, что его смутила высокая температура руки. Ведь теплокровные живые существа ему незнакомы.
- И волосы тоже, - отстаивал Витя свою гипотезу.
- Нечто похожее на волосы, всевозможные жгутики, ворсинки, ему, безусловно, известны. Поэтому они не могли испугать его,- возразил Айболит.
Разгорался спор. Ничего так не любил Айболит, как споры на естественнонаучные темы...
На корме, совсем недавно напряженно молчаливой, сейчас при виде редкостных находок то здесь, то там раздавались возгласы удивления. Невиданных рыб окружали, оценивали, сравнивали, если было возможно, со "своими", черноморскими, смеялись, находя некоторых похожими на кого-нибудь из общих знакомых, дивились невиданным формам и краскам тропиков. Стало шумно и весело.
Вдруг что-то загрохотало, что-то железное заколотилось о палубу. Витя, Сашка, Айболит и все, кто стоял рядом, обернулись и увидели сияющего счастливой улыбкой Сережку Голубя. К хвосту маленького акуленка он привязал консервную банку. Акуленок выгибался колесом, силясь перекусить короткую веревку, не доставал, сатанея от бессильной ярости, бил хвостом, банка грохотала. Голубь был в восторге. Он поднял акуленка за веревку, раскачал и с громким криком: "Эй-я! Гуляй милайя!!" - швырнул за борт.
- Шпана, - тихо, но так, что услышали все, сказал Ваня Кавуненко.
Голубь принял это замечание на счет акуленка.
- Ничего, подрастет! - заорал он.
Кавуненко улыбнулся невесело.
Хват тем временем нашел красивую рогатую ракушку и сразу сообразил, как ее можно использовать.
- Выкурим оттуда этого жмурика, - деловито объяснял он Сашке, тыча пальцем в моллюска, - вычистим и сделаем пепельницу. Все покультурнее консервной банки, скажи?
- О! Эта ракушка называется роговидный мурекс, - вставил Айболит радостно.
Сашка разыскал другую диковинку: толстую колючую рыбу с маленьким ртом и большими круглыми глазами.
- Это рыба-сова, - снова с готовностью прокомментировал Айболит.
Витя осторожно, чтобы не уколоть ногу, разгреб колодкой груду рыбы. Ничего особенно интересного не было: сопливые каракатицы, измазанные чернилами; красные, утыканные ядовитыми иглами морские ерши; несколько маленьких акулят; скользкая, тяжелая, словно налитая металлом, скумбрия; сабля-рыба, ее змеиная, вытянутая вперед голова неаккуратно, наспех приставлена к слабому, плоскому телу. И казалось, что голова эта принадлежит ей по ошибке, не для такого туловища предназначалась голова. "Сабля" у Юрки есть. С проволокой внутри. Гнется, как хочешь...
Витя гребанул дальше и увидел огромный, в ладонь шириной, рачий хвост.
- О це экспонат! - пропел Хват, осторожно поднимая рака.
- Лангуст! - засуетился Айболит. - Вот это чучело будет просто изумительное! Осторожно, не обломите ему усов! Красавец! Красавец!
Усы, действительно, были на диво, сантиметров по шестьдесят каждый.
Рака окружили, щупали, считали ноги, искали клешни.
- Эх, нет на него пива! - искренне вздохнул Кавуненко.
- Это точно,- с готовностью поддакнул Голубь. - С таким в обнимку кружек шесть умнешь. В парке. Под грибком...
Вдруг лангуст, доселе лишь тихо шевеливший усами, сильно и звонко ударил хвостом. Витя от неожиданности выпустил его, рак шлепнулся на палубу, секунду лежал неподвижно, потом повел усами и пошел неожиданно быстро, метя поближе к слипу, к воде.
Витя поспешил за лангустом и уже нагнулся, чтобы взять, но в этот момент чья-то рука, ловко схватив рака за усы, выдернула его из-под самого Витиного носа.
Никто и не заметил, как подошел капитан-директор.
- Кончай базар! - раздраженно сказал Арбузов.- Две корзины на камбуз, остальное - в шнек... - Он повернулся и зашагал к трапу.
Лангуст хлопал хвостом, сам раскачивался под этими ударами, но Арбузов держал его крепко.
- Досадно, - рассеянно сказал Айболит.
- А у капитана теперь своя коллекция будет. В животе! - хихикнул Голубь.
Никто не улыбнулся. Все сразу притихли, стали расходиться с кормы. С камбуза пришла Анюта, и Витя с Сашкой выбирали ей рыбу.
Когда вторая корзина наполнилась рыбой и Анюта нагнулась к ручке, Сашка остановил ее:
- Или мужиков у нас нет? - молодцевато, с наглой улыбкой глядя на нее, спросил он и, обернувшись к Кавуненко, крикнул:
- Эй, Ваня, подсобите девочке!
На берегу Витя Хват был шофером, возил директора стройкомбината. Работа - не бей лежачего. С утра директор торопился в обком или в совнархоз. Это у него называлось "съездить обменяться". Пока он "обменивался", Витя досыпал, а доспав, вылезал из машинной духоты, потягиваясь, пинал сапогами скаты и снова ложился, теперь уже на заднее сиденье - читать газеты. После обеда ездили на объекты. "Надо забежать!" - как всегда, говорил директор. По дороге Витя рассказывал директору, что нынче пишут в газетах: директор очень всем интересовался. На объектах директор застревал надолго, носился по лесам и лаялся с прорабами. Витя курил в тени (после обеда кузов очень накалялся), читал книжки, иногда подбрасывал кого-нибудь неподалеку, если директор просил подбросить. В августе Витя пересаживался на "ЗИЛ-150" и катил на уборку. Там вообще была лафа, кормили: ешь - не хочу, опять же купание, загар, вечерами - в клуб на танцы, а после с девками в стога. Колхозы тут были богатые, "маяк" на "маяке", и в редком колхозе не было у Хвата "невесты".
В рейс на "Державине" сманил его сосед Сережка Голубь. Витя все "соображал" через свой списанную "Победу", все искал случая подколымить. Без этого скопить денег не было никакой возможности. Отец Вити был мужик цепкий, всю зарплату сгребал дочиста. Хорошо, если тридцатку выдаст. А если купить что, - покупал сам. Выбирал долго, все щупал, мял в руках, у материй нитку жег, нюхал... Редкие "левые" рейсы доход давали ерундовый, "невестам" на шоколадки. А тут дело было как будто верное. Голубь ходил в прошлом году на сардину, привез за четыре месяца чистыми семь тысяч, да четыре ковра из Гибралтара, которые загнал за полторы тысячи. Это каждый за полторы! Вот и считай!
Когда Витя решил идти в рейс, он начал директору намеки подавать, но директор и слышать не хотел, уперся - ни в какую. Витя понял, что директора голыми руками не возьмешь. Но и ссориться с ним он очень даже не хотел: ведь от директора зависела "Победа". Подумал - придумал. Пришел в горком комсомола: так, мол, и так, желаю - и баста! По велению сердца! Выписали Вите "комсомольскую путевку" на траулер.
- Ловкач, черт! - кричал директор комбината. Он очень торопился и, не читая, черканул поперек Витиного заявления: "В бух." и еще что-то, что невозможно было разобрать.
На базе Гослова путевка его никакого особенного действия не возымела. Велели, как всем, заполнить анкету, пройти медкомиссию и сфотографироваться без головного убора и желательно в галстуке.
Когда узнали дома, мать, понятно, плакала. Отец ходил черной тучей, но молчал. Витя помянул про "Победу", быстро добавив, что никаких денег он не просит, объяснил, что с машиной в хозяйстве будет большая выгода: кабанчика прихватить из района, мешок-другой картошки, - все дешевле, чем на базаре. А расход какой? Да никакого! Бензина и масла в гараже залейся! А траулер - дело стоящее. Опять же харч бесплатный. И спецовку дадут. Отец прикинул все и одобрил. А когда Витя написал ему доверенность на зарплату, которую во время плавания выдавала семьям база Гослова, прямо растрогался, даже пол-литра купил, что делал редко, только тогда, когда звал в дом нужных людей. Так и порешили: зарплата в дом, а пай с рыбы и шмотки, какие привезет на валюту, - это все на машину.
Недели через три началась погрузка. Витя вперед не лез, но и не "сачковал" - тушевался, приглядывался к народу. А когда отвалили, всех стали распределять по местам. И тут Витя узнал, что он матрос первого класса, записан в траловую команду, в бригаду Ивана Кавуненко. Чудеса!
Работа в траловой Хвату нравилась. Палубная, команда уродовалась целыми днями: тару таскали то в трюм, то снова из трюма, палубу мыли, надстройки разные красили. А траловая была пока в глубоком перекуре. Ну, лебедки проверили, чалили концы, потом, когда порвались, чинили трал. Но это была работенка сидячая, "итээровская". За все время трал спускали от силы раз десять, И хлопот с ним было не много: рыба не шла. Ну, да Витя и не очень огорчался: известное дело, солдат спит, служба идет - база зарплату платит.
Не успел Юрка после завтрака выйти на верхнюю палубу, как по внутренней трансляции объявили команду: "Резнику, Голубю и Зыбину явиться в жиро-мучной цех". Это просто анекдот: сел на корме - "иди на мостик", ляжешь - "всем вставать", пошел на палубу - "явиться в цех". Он снова спустился вниз. В коридоре, рядом с каютой № 64, находился его шкафчик с грязной спецодеждой. (Со шкафчиком ему повезло: внутри проходила какая-то всегда горячая труба, и это очень помогало сушить портянки.) Юрка переоделся в грязное и пошел на вахту.
Когда он спустился в кормовой трюм, где помещался жиро-мучной цех, или попросту мукомолка, дед Резник, его бригадир, был уже на месте. Он сидел на табуретке у пресса и курил трубку. Юрка любил поговорить с дедом, послушать его байки. Правда, дед часто ругал нынешнюю молодежь, но у него это получалось интересно и не зло.
- Где Голубь? - спросил дед, завидев Зыбина.
- Не знаю, - ответил Юрка и сразу понял, что дед злится и никаких баек не будет.
- Хоть пять минут, а урвет, - сказал дед и сплюнул.
Юрка промолчал.
- Сафонов в прошлую смену дал тысячу двести килограммов. Восемь раз пресс заряжали. Это работа! - Дед говорил, не глядя на Юрку.
Юрка опять промолчал.
- Что молчишь?
- А чего говорить? Ну, дали тысячу двести килограммов. Ну и что? В зад их теперь целовать?
Дед снова сплюнул и, придавив желтым пальцем уголек, запыхтел трубкой. Дым тянулся синими языками к решетке вентиляции. Сидели молча.
Дед Резник - самый старый матрос траулера. У него самая вонючая трубка на борту, синяя от наколок грудь и золотая серьга в ухе, право на которую дед получил в одна тысяча девятьсот девятом году за проход пролива Дрейка. Дед дважды прошел Северным морским, раз двенадцать через Суэц, был во Фриско, Веллингтоне, Сингапуре, даже в Вальпараисо был. В тридцать седьмом ходил в Испанию. Ночью под маяком Тедлис итальянский эсминец пустил им торпеду в правый борт, а следом - еще одну. Потом дед Резник валялся в госпитале в Алжире с поломанными ребрами больше месяца. Наконец француженки - молоденькие канареечки из Красного Креста - догадались подарить всем спасенным по костюму и отправили их на "Куин Мэри" в Марсель. Первый раз в жизни Резник шел пассажиром. Это было так дико, что дед не выдержал и спросил разрешения сходить в машину, Машина была что надо. Одно слово - лайнер.
Потом был Марсель, набежали репортеры в кепках, и дед совсем ослеп от магниевых вспышек. В Париж они ехали через Лион и еще какие-то другие города помельче. И везде встречали. Экспресс пришел в Париж ночью. Сколько было тут цветов! Толпа раненых испанцев размахивала белыми культями и зычно не то пела, не то кричала что-то. И Резник кричал и пел. Тогда казалось: Испанию не сломить...
Их поселили в большой гостинице, каждого в отдельном номере. И ванна. Как у капитана. Показывали Париж, башню, картины и стену Коммунаров. Резнику доверили класть венок. В Париже в тот год была всемирная выставка; и было приятно смотреть, как наши "ЗИСы" окружила толпа и какие-то рабочие парни ползали на коленях, заглядывали под машины, щупали их, руки Резнику жали. А Резник думал о том, что, обойдя весь земной шар, он до сих пор не видел ни одной страны no-настоящему... Через три года, когда пал Париж, он все думал, где же эти люди, что с ними.
Никогда, ни вслух, ни про себя, не говорил он о пролетарской солидарности, но чувство близости к тем молоденьким французам затвердело теперь в его сердце. Было у них одно общее трудное дело - гнать немца со своей земли. Никто не спрашивал, почему он остался в Севастополе и откуда у него винтовка... Уже в сентябре он ел кашу во дворе маленького домика на Корабельной стороне, когда началась бомбежка и от первой же бомбы - точно в домик - деда прямо с котелком так засыпало землей, что он решил помирать. Однако погодил... Когда пришли немцы, дед снял золотую серьгу и ушел в горы. После победы плавал, так, ерунда, в малом каботаже[5], а с сорок восьмого обосновался на берегу как будто прочно, "стал в сухой док". Должность имел приличную: механиком на холодильнике. Тут вернулся с китайской границы сын. По всем правилам сыграли свадьбу. Потом Иринка родилась, внучка. ("Грешно говорить, но навряд ли есть где еще такая смышленая девчонка...") Все бы, кажется, хорошо, но вот услышал, что ребята идут под Африку за сардиной, и сорвался.
Был дед Резник уже крепко стар, молчалив и редко рассказывал о своей жизни, все больше случаи, байки. Об Испании и всем прочем Юрка узнал не от него, а от Вани Кавуненко, бригадира траловой, который на берегу был деду сосед.
Голубь слетел по трапу с шиком - на одних руках.
- Кончай перекур! - заорал он.- Америку по дыму, что ли, обгонять будем! Становись!
- Сафонов тысячу двести килограммов дал, - сказал Юрка.
- Плевал я на вашего Сафонова! Дурак, он и есть дурак! Задание знаешь? Пятьдесят тонн. Перевыполнить надо. Дадим сто двадцать процентов. Но не больше, понял? Иначе навесят в, следующий рейс тонн сто пятьдесят. Или пай за муку скосят. И баста! Вот тогда скажем Сафонову спасибо за его рекорды!
"Прав ведь он, черт", - подумал Зыбин.
- Ты считать сюда пришел? Арифметику крутить? - медленно спросил дед Резник.
- А как же не считать?! Социализм - это учет. Ленин сказал.
- А по шее за такой учет не желаешь? - вскипел дед.
- Кончай, дед,- вступился Юрка. - Торжественное заседание объявляю закрытым. Начинается концерт...
Дед что-то бурчал, но гул близкого гребного винта заглушал его слова. Встали по местам.
- Давай! - Зыбин махнул рукой, и Голубь нажал красную кнопку на распределительном щите. Из желоба потекла мука. Запах, к которому вроде бы уже привыкли, остро ударил по глазам.
- Стой! - крикнул дед.
Желтая струя иссякла. Дед разровнял рукой муку в прессе, и в тот же миг Юрка набросил прокладки - металлическую и шерстяную. В пресс входит сразу 150 килограммов муки, и прокладки делят эти 150 килограммов на брикеты. Ну, есть еще такие леденцы: колесико к колесику - леденцовая палочка. Так и тут.
- Давай! - командует Резник.
Потекла мука. Дед чуть-чуть трамбует муку рукой. Голубь уже не смотрит на деда, сам нажимает, когда надо, Юрка кидает прокладки ловко, точно, и сразу без команды мотор: жи...и - пошла! У деда руки рыжие от муки, пальцы бегают, ровняют, а Юрка - шлеп, шлеп прокладки и уже новые готовит. И мотор снова: жи...иы! И снова, и снова, и вдруг - полно! Дед закрыл пресс и - к вентилям насоса. Юрка и Сергей уставились на манометр. Стрелка дергается, капризничает, но тянет вправо: 50, 100, 150 атмосфер, до цифры 200 идет резво, а потом тяжело. Снизу закапало, сильнее, сильнее, и полилось черными густыми струйками: рыбий жир. Из него мыло делают на большой земле, а детям который - то другой, тресковый, светлый. Стрелка приползла к 410, даже, если с дрожью, - к 415. Дед сбрасывает давление, отпирает пресс. Поршень выдавливает брикеты. Они идут сперва плавно, потом вылетают - трах! - как выстрел, а Голубь уже надел брезентовые рукавицы (чтоб руки не пекло), тащит брикеты на весы.
- Обожди, дай прокладку отодрать! - кричит ему вдогонку Юрка.
- Ничего, довесок будет! - скалит зубы Голубь.
- Я те покажу довесок, - уже весело говорит дед Резник,- чтобы без обману у меня!..
- Сто пятьдесят три! - орет Голубь с весов. - Накрылся ваш Сафонов!
- Ты давай нажимай! - кричит Юрка, и Голубь снова у щита, нажал кнопку, пошла мука: новая загрузка.
Все так споро получалось у них, так красиво двигались они в этой бедной и грязной одежде, сами радостно чувствуя свою ловкость и хватку, таким веселым умом светились их глаза, что казалось, будто это совсем другие люди, вовсе не похожие на тех неуклюжих, медлительных, которые равнодушно матерились и лениво курили здесь час назад.
Дверца пресса захлопнулась, и они опять смотрели на стрелку, подталкивали ее глазами. А стрелка дергалась и дрожала, словно ей было невыносимо тяжело, словно это она сама прессует муку... Потом Голубь снова таскал брикеты на весы. Они были такие ладные, горячие и пахли, ей-богу, даже приятно, и дед, когда смотрел на них, улыбался, а Юрке казалось, что это вовсе не брикеты рыбной муки для скота и птицы, а караваи из печи: такие они были горячие и ладные. И, как всегда от горячего хлеба, Юрке захотелось отломить от брикета кусочек и съесть, вкусно и сильно сжевать, чтобы запищало за ушами. И он улыбнулся деду Резнику и хлопнул Голубя по спине: "Нажимай". Теплое чувство неосознанной благодарности к этим людям и даже какой-то влюбленности в них стыдливо искало у Юрки выхода в этих улыбках и шлепках. Он чувствовал: что-то, что выше любых союзов родства и крови, связывало их сейчас.
Сушильные аппараты дышали жаром. Скинули робы, а потом Сергей с Юркой даже майки. На блестящих от пота телах мучная пыль темнела, струилась зеленоватыми подтеками, жгла кожу. Когда включали пресс и была минута передышки, они подходили к бачку и пили солоноватую газировку. О, как это вкусно - газировка у сушильных аппаратов в полдень на траверсе мыса Пальмас, что-то около пяти градусов северной широты!..
После каждой загрузки дед Резник ставил мелом на дверце пресса крестик, а они все грузили и грузили и таскали на весы брикеты, и на дверце все прибавлялись эти крестики, - ну, прямо целое кладбище. Они старались не смотреть на них и не считать, но украдкой считали и грузили, грузили снова и снова, пока вдруг не увидели рядом с прессом бригадира Путинцева и Путинцев сказал, что смене его пора заступать, а им самое время идти обедать.
Дед громко пересчитал заметины. Десять.
- Шабаш, - сказал дед.
- Тысяча шестьсот верных, - закричал Юрка,- то тысяча семьсот!..
- Не лезь в чужое дело, - перебил дед,- Вон у нас мастер считать. - И он улыбнулся Голубю.
Голубь сплюнул, промолчал. Зыбин сказал Путинцеву:
- Ну, Коля, теперь, как в песне: старикам почет, молодым - дорога...
Когда это началось? Пожалуй, с того случая на ТЭЦ, когда провалили подготовленного им парторга... Нет, наверное, еще раньше, когда на силикатном этот чубатый закричал на весь цех: "Это мы в газетах читали, грамотные! А если по существу..." - и понес. Не было такого никогда. Чего-чего, а собраний он повидал! Раньше, бывало, собрание как собрание. Приедешь, поприсутствуешь, поговоришь с народом. А теперь странно как-то. Не поймешь, ты ли с ними говоришь или они с тобой... Ну, в общем-то, он, конечно, понимает: дух времени, так сказать. Да и как можно не понять? Что ж он, против ленинских принципов руководства, коллегиальности или там инициативы масс? Ни боже мой! За все двумя руками готов голосовать. Да и как от жизни может отстать? Не он, что ли, делал сам эту жизнь, вот этими своими руками?! Но одно дело - ленинские принципы, а другое дело - панибратство. Одно дело - инициатива, другое - партизанщина и демагогия. Коллективизм коллективизмом, но ведь такой бывает коллективизм, что на шею сядут. А пережитки? А родимые пятна? Ведь есть же они! Вот Зыбин... Кажется, куда уж, не при царе родился...
Мысли Николая Дмитриевича снова вернулись к траулеру.
Халтуры много. Все норовят тяп-ляп, на соплях. На соплях в коммунизм не въедешь. Трал потеряли - и хоть бы что, как с гуся вода. Твердая нужна рука. Вот ударить бы за трал рублем или этими... как их, фунтами этими, валютой, небось, все кораллы мигом бы со дна исчезли. Знаем мы эти "кораллы", не маленькие! Науку крутят, телеграммы академикам шлют. Наука - вещь, конечно, хорошая, никто не спорит. Но что ж он, не понимает, для чего эти телеграммы? Защитничков себе в Москве ищут...
Бережной тяжело поднялся, встал. Мягко щелкнула дверца холодильника. Достал потную бутылку, налил в стакан феодосийской минеральной. Не успел допить, как покатились со лба крупные капли пота. Душно.
На берегу все рассказы о путине в тропиках были одинаковы: двадцать, тридцать, надо - так и сорок тонн рыбы в сутки. Рейс представлялся Николаю Дмитриевичу многодневным авралом, и он старался предугадать все, что могло помешать этому авралу, сбить его темп. Впрочем, при чем тут тропики, море. Если честно взглянуть фактам в глаза, всякий раз, когда случался прорыв, причина была одна: разболтанность людей. И это все едино, где прорыв: на траулере или на стройке, в тропиках ли, на Севере ли.
Жизненный опыт Николая Дмитриевича - а в трудных случаях он прежде всего обращался к опыту прежних лет - подсказывал, что надо искать и найти как можно быстрее главный, "стержневой" недостаток, нарушение или ошибку, которые мешали делу течь по заранее означенному им, Бережным, руслу. Он понимал, что надо "подкрутить гайки", но не мог отыскать места, где их надо было подкручивать. Одно время ему казалось, что во всем виновата траловая команда. Да и факты: порвали трал, потом вовсе потеряли... Но вот уже неделю траловая работала хорошо... Ну, неплохо - так скажем! - а рыбы не было. Бережной устроил ревизию гидроакустикам, два дня сам не отходил от фишлупы, предложил свою методику поиска. Кадюков терпеливо растолковывал ему все недостатки этой методики. И хотя он здесь вроде первый помощник, он согласился: коллегиальность так коллегиальность, как ни крути, а они специалисты. Конечно, может быть, и они где-то путают, даже наверняка, но, честно говоря, и в их работе не нашел Бережной объяснения неудачам путины. Не было рыбы. Ни разу в цеху рыбообработки не проработали три вахты подряд. Основа успеха - трудовой ритм - нарушалась повсеместно, а если по совести говорить, и вовсе не было никакого ритма. И в кают-компании, по его мнению, относились к этому как-то даже равнодушно. Он попробовал было заговорить со стармехом Мокиевским.
- А кто виноват в землетрясении? - спросил стармех. - Человеческое невежество. Если бы мы могли управлять землетрясениями или, на худой конец, предсказывать их, - все было бы отлично. Рыба - по существу, то же самое...
Радиограммы с "Вяземского" и "Есенина", в которых капитаны жаловались на тощие уловы, казалось, должны были бы несколько успокоить Николая Дмитриевича и возвратить уверенность в себе, но он все равно не мог поверить до конца, что все его хлопоты и усилия бессмысленны и тщетны. Именно поэтому голосовал он за переход в Гвинейский залив. Переход олицетворял для него поиск, дело, активное боевое начало, а дрейф под Дакаром - пассивное ожидание и смирение. Он допускал, что переход этот мог ничего не дать. Но зато будет сохранен наступательный дух коллектива, который был для него дороже зряшно ухлопанного времени и тех тонн солярки, которую пожгут, пока доберутся до Такоради. Про себя он называл этот переход "работой, необходимой в новых условиях". Эти "новые условия" определялись, по его мнению, праздностью и упадком духа, вызванными неудачами путины. Энергия, так умело накопленная им в людях за время перехода к берегам Африки, рассеивалась, обнажая опасную апатию и иждивенческие настроения. Люди представлялись Бережному электрическими аккумуляторами, которые он зарядил и которые сейчас медленно "садились", так и не употребив на пользу свою силу. Срочно была нужна новая подзарядка. Короче, требовался взрыв энтузиазма. И в последние дни Николай Дмитриевич мучился мыслью, как это сделать получше, поумней, все прикидывал и никак не мог изобрести для такого взрыва пороха. И вот наконец случай представился.
За ужином поймал Бережной фразу, невзначай брошенную Мокиевским.
- За муку я спокоен, - говорил стармех. - Сафонов запрессовал за смену 12 центнеров, а дед Резник и того больше, около 16 центнеров... И мука хорошая, такая не загорится, тут я спокоен, мука будет...
Бережной промолчал, но сразу заторопился, отказался от чая и даже чуть не встал из-за стола без разрешения капитана, что считается нарушением морской этики и расценивается как бестактность и дурной тон.
Возвращаясь в свою каюту, Николай Дмитриевич сразу сел за письменный стол. Писал около часа. Потом позвонил четвертому штурману Козыреву, спросил, как имя и отчество деда Резника. Козырев не помнил, но у него хранились судовая роль и картотека личного состава, и вскоре обнаружилось, что деда зовут Василием Харитоновичем. Бережной записал. Потом позвонил на мостик и попросил вахтенного срочно вызвать по внутренней трансляции Резника к нему в каюту.
Команда тем временем уже отужинала, и в столовой крутили "Подвиг разведчика". Дело шло к концу. Разведчик крался к сейфу с важными фашистскими документами. В замке сейфа была такая штучка, которая включала сирену тревоги, как только начнешь отпирать сейф. Дед Резник несколько лет назад видел этот фильм, помнил все наперед, а если бы и не помнил, то мог сообразить, что разведчик наш обязательно останется цел и невредим, и все-таки волновался. "Вот сейчас сунет ключ, и пропал", - мысленно дразнил себя дед, испытывая какую-то сладкую тревогу за разведчика.
- Бригадиру жиро-мучного цеха Резнику срочно явиться в каюту первого помощника, - бесстрастно сказал репродуктор.
Дед чертыхнулся шепотком и, низко пригибаясь, чтобы не попасть головой в луч проектора, стал пробираться к выходу сквозь голубовато мерцающую в прерывистых отсветах толпу рыбаков, стоявших, сидевших и лежавших в столовой.
Подойдя к двери каюты № 24, дед постучал тихо и интеллигентно, костяшкой согнутого пальца.
- Да-да! Прошу, - раздалось в ответ, и Резник вошел в каюту первого помощника. Николай Дмитриевич поднялся из-за стола неожиданно ловко для своей полнеющей уже фигуры, шагнул навстречу.
- Прошу, прошу, Василий Харитонович, - сказал он тем бодрым, молодым голосом, который сам так любил, крепко пожал руку. - Садитесь, располагайтесь,- и широким жестом повел в сторону дивана.
Дед удивился, откуда это Бережной знает его имя и отчество. Обычно он называл всех "товарищ" и по фамилии. А тут... Деду это понравилось. Он оглянулся без робости и сел на стул. Приятно было посидеть на стуле: в каютах матросов стульев не было. Дед чуточку волновался, потому что никак не мог понять, зачем он понадобился первому помощнику. По встрече и обращению он чувствовал, что ругать сильно не будет. "Да ведь и не за что, по правде если..." - подумал Резник и совсем успокоился.
- Закуривайте. - Николай Дмитриевич с улыбкой протянул Резнику коробку "Казбека". Дед бережно, как живое насекомое, вытащил папиросу, не спеша помял в желтых пальцах, сдавил мундштук и принял от Бережного огонь. Закурили.
- Слыхал, слыхал про ваши дела, - вздохнул Бережной со второй затяжкой. - Молодцом! Прямо скажу: молодцом!
Дед не понял, но виду не показал, на всякий случай с достоинством потупился.
- Ну, рассказывайте, как дело-то было. - Николай Дмитриевич придвинулся поближе к Резнику.
Дед понял, что как-то надо исхитриться и все-таки ответить: Бережной припер его к стенке.
- Да, что ж... Дело наше такое, рыбацкое, как говорится... Чего ж тут рассказывать, - все с тем же достойным смирением туманно пояснил дед. - Скромничаем? - улыбнулся Бережной.
- Скромность - это хорошо, но в меру! Побили, значит, Сафонова? Рекорд, а?
"Вон он о чем!"- с облегчением подумал дед. Он никак не ожидал, что речь пойдет о последней вахте в мукомолке, необыкновенное и прекрасное слово "рекорд" показалось ему настолько несоответствующим делу, что Резник сразу решил: Бережной что-то путает.
- Да нет... Какой же рекорд... Ребята, конечно, старались, но рекорд... Какой же это рекорд?
- Шестнадцать центнеров? - быстро переспросил Бережной.
- Шестнадцать...
- А Сафонов?
- Двенадцать...
- Вы шестнадцать, а Сафонов двенадцать. Так?
- Так...
- И, по-вашему, шестнадцать не рекорд?
- Ну, какой же это рекорд?
- Понимаю! Не рекорд в том смысле, что можно и больше дать? - Николай Дмитриевич испытующе заглянул в глаза деда.
- Конечно, можно,- просто ответил дед.
- Отлично! А вот давайте о чем подумаем.- Бережной подвинулся еще ближе к Резнику.- Что, если нам организовать соревнование за звание лучшей бригады жиро-мучного цеха? А? - И, не дожидаясь ответа, продолжал:- Сколько там бригад работает? Три?
- Три, - подтвердил дед,- Сафонова, Путинцева и наша.
- Отлично! Три бригады. Ваша сейчас впереди. У вас рекорд. Две другие отстающие...
- Почему отстающие? - перебил дед. - Какой же Сафонов отстающий, когда он норму чуть не вдвое перекрыл? И Колька тоже...
- От вас отстающие, - улыбнулся Бережной.- Так как? Организуем соревнование, а?
- Дело стоящее, - подумав, ответил Резник. - И ребятам веселее, и польза... А то рыбы нет, и ребята тускнеть начинают...
- Вот именно! - обрадовался Бережной. - Очень хорошо вы сказали, действительно тускнеет народ. А тут мы всех подтянем, а? Решили, значит, - И Николай Дмитриевич припечатал ладонью стол. - Тогда так - выпускаем "Молнию": почин бригадира Резника...
- Какой почин? - не понял дед,
- Ну, как какой? - поморщился Николай Дмитриевич. Приходилось объяснять истины ясные и очевидные. - Почин в том, что вы с бригадой решили давать как можно больше муки. Так?
- Так, - ответил дед и подумал, что, в общем-то, ничего такого с бригадой они не решали.
- Ну? Так, значит, есть почин?
- Какой же это почин? - снова возразил дед. - Какой же это почин, если не мы это выдумали - давать больше муки...
- А кто же это выдумал, по-вашему? - раздраженно спросил Бережной.
- Да никто. Какая же тут выдумка? В чем тут она? Раз пришел работать, так давай за совесть чтобы, старайся... Ну и какой в этом почин? - Несмотря на строгость, заметно уже звучавшую в голосе первого помощника, дед совершенно не испытывал никакой робости. Дело было настолько простым, что он искренне удивлялся, как этого не понимает Бережной.
Николай Дмитриевич в раздражении перед полной бестолковостью старика хотел было перебить его и наставить, но вдруг забыл имя и отчество Резника. Выскочило. Он быстро оглянулся на перекидной календарь, где по старой привычке на такой случай заранее были заготовлены заметки, и сказал спокойно, с усталой ласковостью:
- Василий Харитонович, родной, ну что мы спорим по пустякам? И вы и я, все мы хотим, чтобы муки было больше. Так? Так. А раз так, мы все должны сделать для того, чтобы ее стало больше. Организуем соревнование, выпустим "Молнию"; поднимем людей! И пойдет дело у нас веселее. - Николай Дмитриевич улыбнулся и похлопал очень доверительно деда по коленке. - И еще одна к вам просьба: надо выступить по радио, рассказать народу. Я вот тут набросал... Завтра, с утра, а? - И он, протянул Резнику лист бумаги, убористо исписанный ровным, четким почерком.
- Вот это не мастер я, - искренне смутился дед, принимая бумагу. - Может, ребята скажут? Юрка Зыбин, он грамотный...
- Зыбин в вашей бригаде? - спросил Бережной.
- Ну, конечно! - быстро подтвердил дед, радуясь, что первый помощник заинтересовался предложенной заменой.
- И как он? - Грамотный парень, - закивал дед.
- А работает как?
- С душой. Плохого не скажу.
- А еще кто у вас?
- Голубь еще...
- Это шустрый такой? Все кричит? Знаю, знаю... Интересный у вас народ, - задумчиво протянул Бережной.
Помолчали.
- Так, может, по радио Зыбин скажет? - осторожно напомнил Резник.
- Нет, это не пойдет, - строго сказал Николай Дмитриевич. - Вам надо, Василий Харитонович. Вы бригадир. Так что давайте утром, во время завтрака, и проведем это... - он искал свежее слово, но не нашел, - это мероприятие. - И Николай Дмитриевич решительным жестом припечатал стол теперь уже двумя ладонями.
Дед сразу понял, что жест этот означает конец разговора, и встал. Бережной тоже поднялся, протянул руку:
- У меня - все. Что из дома радируют? Все в порядке? - В конце разговора так спрашивать было полезно.
Неожиданная забота тронула деда.
- Да, спасибо, - сказал он, улыбнувшись тихо и светло, - внучка вот болела маленько...
- Внучке мой приказ выздоравливать. До завтра. Отдыхайте, - пожал руку крепко и еще раз улыбнулся, как надо улыбаться напоследок, чтобы воодушевить.
Дед вышел на кормовую палубу. После светлого тепла каюты здесь было зябко и неуютно. Бриз налетал внезапно и коротко, словно прятался где-то тут же, за лебедкой, и вдруг выскакивал, пугал. Дед повернулся, чтобы идти к себе в каюту, но в этот момент ветер выхватил из его пальцев бумагу с будущей речью. Дед рванулся за ней, но она вертко, как птица, скользнула мимо рук и понеслась низко над палубой, ярким белым пятном в густой синеве сумерек. Дед почему-то очень испугался, словно в бумаге этой было что-то никому еще не известное и необыкновенно важное, от чего зависела судьба близких ему людей. Сердце его колотилось. Скользя по мокрому дереву и чудом не падая, он ловил маленький листок, протянув вперед руки, как слепой. Уже готовый упорхнуть за борт листок этот, к счастью, налетел на бухту стального троса и прилип к густому, забрызганному водой маслу.
В каюте дед обтер речь чистой тряпицей, но кое-где остались все-таки на ней желтые прозрачные пятна, а в одном месте буквы так разлохматились от воды, что трудно было читать.
Быстро, как бывает только в тропиках, наступила ночь. Весь ослепительный свет дня собрала она, сжала в яркие точки звезд, засыпала ими небо. Линия горизонта исчезла, и границу океана можно было лишь угадать там, где звезды вдруг гасли все сразу. Теплая, мягкая тьма казалась почти осязаемой, и Сашка, шагнув из светлого коридора, остановился и протянул руку вперед, как бы пытаясь нащупать кромку ночи. Двинулся осторожно, вспоминая, что где-то рядом кнехт[6], о который он ударился несколько дней назад коленкой. Сделал еще шаг и зажмурился, чтобы глаза скорее привыкли к темноте.
Не открывая глаз, Сашка почувствовал вдруг, что он не один здесь, что где-то поблизости человек, который смотрит на него. Он огляделся. Скудный свет далеких огней - топовых на мачтах, красного справа и зеленого слева - позволил ему скорее угадать, чем увидеть два чугунных пенька кнехтов, несколько звеньев якорной цепи, бегущих в клюз[7], и рядом маленькую фигурку сидящего человека. Черный, почти неразличимый силуэт был приметен только своей живой плавностью, такой непривычной среди сухих и строгих контуров надстроек и механизмов. Фигурка была неподвижна, и Сашке показалось, что человек этот сжался и притаился специально, чтобы следить за ним.
- Это кто тут? - хрипло спросил он.
- Это я.
Сашка сразу узнал голос Анюты.
- Ты чего тут сидишь? - спросил он почему-то шепотом.
- А я всегда тут сижу, - с простой доверчивостью тихо сказала Анюта. - Как поужинают все, перемою посуду и сюда... Тут хорошо, красиво.
- Красиво? - с глупым смешком переспросил Сашка.
- Конечно. Вон на небе что делается... - Она подняла лицо, и Сашка увидел точки звезд в ее глазах.
- Звезды считаешь, значит? - снова хмыкнул Сашка и почувствовал, что он не в силах изменить этот ненавистный ему голос, наглый голос самоуверенного дурака.
- И звезды считаю, - отозвалась Анюта, словно и не заметив усмешки в его вопросе. - Я люблю на звезды смотреть. И на огонь в печке люблю смотреть...
- Это у нас от дикарей, от доисторических людей, - сказал Сашка важно и подумал: "Что же это делается? Что же это я плету, идиот несчастный..."
- И пусть. А что в этом плохого? Вот все говорят: "Дикари, дикари", - а ведь среди них обязательно должны были быть умные, добрые люди. Иначе как же? Откуда же нам взяться?
Помолчали. Но молчание тяготило их обоих, молчать было очень неловко, и для того, чтобы сказать что-нибудь, Анюта спросила:
- А ты что стоишь? Садись. - Она чуть подвинулась, приглашая его сесть рядом.
- Да я вышел поглядеть, как море светится, - быстро ответил он, переминаясь с ноги на ногу, - позавчера чуть-чуть светилось, а вчера уже больше...
- А я не видела,- сказала Анюта.
- Так отсюда и не увидишь. Пошли, покажу.
Она встала и шагнула за ним. Они медленно пробирались на самый нос, спотыкаясь о невидимые в темноте тросы, какие-то чурки, ящики, как акробаты на проволоке, тянули вперед ногу, балансируя на каждом шагу, шаря руками вокруг и натыкаясь на железо, мокрое и липкое от морской соли. Один раз Анюта поскользнулась и, наверное, упала бы, если бы Сашка не поддержал ее. Он тут же поспешно отпустил ее руку и заторопился вперед, испугавшись, что она опять поскользнется и ему опять придется дотрагиваться до нее.
Наконец они добрались до самого носа траулера. Сашка перегнулся через фальшборт:
- Гляди!
Прямо под ними с ровным, низким шипением клубилось светящееся облако пены. Казалось, невидимые фонари подсвечивают воду изнутри и легкие туманные блики, рожденные этим светом, метались на черном, стеклянно блестевшем металле корпуса. Свет, идущий из океана, был такой призрачный, такой неземной, что Анюта подумала сначала, что это ей просто кажется, что на самом деле никакого света вовсе нет. И только потому, что она могла видеть две крутые клокочущие волны, расходящиеся от носа, она поняла, что свет существует. Там, дальше, где волны эти, мощно и круто изгибаясь, с шипением подворачивали свои верхушки, носились в какой-то бешеной пляске яркие пятна мертвого, холодного света. Некоторые совсем маленькие, с монету, другие крупнее, больше ладони, они возникали то тут, то там, нельзя было ни объяснить, ни угадать их появления. Анюта смотрела, не в силах оторвать глаз, не шелохнувшись, боясь спугнуть своим присутствием это чудо.
- Здорово! - восхищенно прошептал Сашка.
Она уже и забыла о нем. Быстро оглянулась на шепот и увидела совсем рядом его зеленоватое лицо, тронутое холодным заревом океана.
- Здорово, а? - спросил Сашка.
Анюта не отвечала и снова смотрела вниз, снова позабыв обо всем. Ей вдруг показалось, что там, внизу, вспыхивают глаза каких-то незримых существ этой черной пучины, разбуженных непонятным им стуком и движением.
Невидимки, большие и малые, но одинаково сердитые, таращили спросонья свои сияющие глаза. Они не успевали разгневаться и понять, что разбудило их, как корабль уже проносился мимо.
И тогда их глаза быстро тускнели, успокаиваясь, они зажмуривались без любопытства, сразу растворяясь в ночи океана. Но просыпались новые, миллионы новых... Уже не корабль, а сама она летела низко над водой, наблюдая этот сокровенный, никому из людей не известный и недоступный мир...
Чтобы смотреть в воду под самым бушпритом, надо было полустоять-полулежать в неудобной позе, прильнув всем телом к холодному железу. Резало грудь и давило колени, было очень неудобно, но они смотрели долго.
Наконец Анюта снова оглянулась на Сашку и снова увидела совсем близко его зеленоватое лицо. Сашка смотрел на нее как-то странно, будто удивляясь, что она тут, будто только увидел ее вот сейчас, а до этого никогда не видел...
- Ты что? - тихо спросила Анюта.
- Ничего. А ты?
Она смутилась неизвестно почему.
Николай Дмитриевич Бережной, довольный и успокоенный разговором с дедом Резником, спать лег не сразу. Курил, думал, про себя еще раз повторил речь, приготовленную для трансляции, и про себя кое-где улучшил ее. Он даже пожалел, что многие удачные находки его не попадут в выступление Резника. Но все-таки он был доволен, потому что главное, "стержневое" туда попало.
Николай Дмитриевич принял пресный душ, покурил, лег, взял было книгу, но задумался и пробегал глазами строчки, не понимая их смысла. В каюте было душновато. Он настежь распахнул иллюминаторы. Выпил воды из холодильника. Снова лег и принялся читать. Захотелось курить. Он встал, натянул легкие брюки и, накинув пиджак, вышел на бак.
- Тебе не холодно? - спросил Сашка.
- Не...
- Африка, а холодно...
- А, может, это и не Африка? - тихо спросила Анюта.
- Это как же?
- Вот учили в школе: Африка! Африка! И вот вдруг я ее вижу. Берег как берег. Ветер как ветер. А ведь там где-то жирафы...
- Ну и что?
- Жирафы!!
- Ну, жирафы.
- Не верится мне, понимаешь... - Сашка засмеялся. Но не нахально уже.
- Видишь ковшик у Большой Медведицы тут кверху дном. А вон Венера, видишь? Прямо фонарь, да? - Сашка говорил и чувствовал, как плечо Анюты касается его руки. И звезды он указывал другой рукой, левой. - А вон созвездие Ориона... Как бабочка. Крылья видишь? А вот Южный Крест. Кривой, видишь?
Анюта молчала.
- В России Креста нельзя увидеть...
Ветер был мягкий и влажный, но после уютно прокуренного тепла каюты он показался Бережному зябким. Николай Дмитриевич не ушел, однако. Ему даже захотелось немножко замёрзнуть, а потом лечь в постель и согреться. Скорее уснешь. Чиркнул спичкой, упрятав огонь глубоко в ладонях, поднес к лицу. И только теперь они увидели его. Маленькое желтое пламя странно высвечивало снизу его нос и брови, оставляя в тени глаза. Но Анюта сразу узнала Бережного.
- Пойдем, - сказала Анюта совсем тихо.
- Куда?
- Спать. Поздно уже...
Они прошли мимо Николая Дмитриевича, чуть не задев его, Анюта впереди, Сашка сзади. Шагнули в светлый, привычный мир коридора. И свет тотчас все поломал; ничего уже нельзя было сказать так, как говорилось там, на баке, в ночи, и они молчали.
- Покеда, приятных снов! - бросил он чужим и резким голосом и заторопился.
Анюта раздевалась и думала о Сашке. Легла и все думала. Ей казалось, что она не заснет, вот так будет всю ночь думать и думать, ей хотелось все обдумать. Но заснула она быстро и покойно.
В каюте № 64 Фофочка во сне чувствовал, что спать осталось недолго, что самое большее через час ему заступать, томился этим сознанием, и, когда Сашка щелкнул замком, он встрепенулся.
- Ш...ш! - как на грудного, зашипел Сашка.
Фофочка покорно зачмокал губами. Сашка включил ночник над подушкой. Зыбин спал лицом к переборке, маленький и неприметный. Хват, широко разбросавшись, чуть слышно похрапывал. Сашка выключил ночник и лег, скрипнув койкой. Вахта начиналась в 2.00. У него было еще час сорок минут отдыха.
"Та...ак, - сказал себе Бережной. - Этого только не хватало. Радист, комсомолец, серьезный вроде паренек... Сорвался-таки!"
Он вернулся в каюту и тяжело улегся, до подбородка затянулся простыней. "Молодость, молодость... - думал он, - но ведь не в загранплавании! Пять миль от берега. Рядом! Ай, радист, радист, до дому не мог дотерпеть..."
Семнадцатый день рейса
С двух часов ночи Сашкина любимая вахта: тихо и работы мало. Можно послушать, как живет земной шар.
Он вошел в маленькую радиорубку. Степаныч, начальник радиостанции, встал и вышел, не сказав слова. Это означало, что ничего интересного на его вахте не было. Степаныч был самым молчаливым человеком, какого Сашка встречал в жизни. Все эти скандинавы из анекдотов по сравнению со Степанычем - краснобаи и балаболки...
Тесно заставленная аппаратурой, радиорубка была наполнена приглушенным, но все равно радостным гомоном радиопозывных. По потолку на фигурных коричневых изоляторах, похожих на какие-то кондитерские штучки, тянулись медные трубки антенн, и казалось, что это насесты, на которых сидят невидимые птицы, издающие все это нестройное и настойчивое разноголосье – от верткого бегущего свиста до низкого, приятного уху пощелкивания.
Сашка привычным жестом накинул на голову наушники, взглянул на часы: 2.00. Слово автоларму: три минуты, как положено, он будет слушать SOS. С этого всегда начинаются вахты.
Все было тихо.
Через три минуты, вращая рукоятку настройки, Сашка прокрался в эфир. И сразу налетел на своих. Какой-то танкер в Северной Атлантике никак не мог достучаться до Москвы. "Rot", "Rot", "Rot", - сыпал танкер позывные столицы, но Москва молчала.
"Заснул, наверно", - отстучал Сашка танкеру.
"Заснул, окаянный", - ответил танкер Сашке.
"Может, он до вахты был в гостях", - всунулся тральщик из-под Ньюфаундленда.
Потом танкер стал трепаться с тральщиком. Сашка не обиделся, понимал: у них там, на севере, свои заботы. Пошел дальше. Запищала какая-то слабенькая африканская служба погоды. Наконец он нащупал далекий блюз. Это был Танжер. Там всегда музыка. "Жутко весело живут", - как сказал бы Витя Хват. Ленивая мелодия, и мягкая от низких вздохов контрабасов и нескончаемо долгая в плавном, нежном голосе скрипок, настроила Сашку на лирический лад.
"Занятная девчонка, - думал он. - В огонь, говорит, люблю смотреть. А я: "Это от дикарей!" Надо же такое сморозить!"
В эвакуацию у них была буржуйка. Маленькая, кругленькая. Труба через всю комнату. Из стыков трубы капала густая бурая сажа, и приходилось подвешивать на проволочках консервные банки. Буржуйка быстро наливалась малиновым жаром, но тепла давала мало, вот только если рядом сидеть... Он сидел и смотрел на огонь. Он тоже любил смотреть на огонь. В огне мерещились ему то лес, то пляски, то пожар Москвы и наполеоновские солдаты... Телевизоров не было тогда... Смотришь - и есть вроде не хочется... "Это от дикарей!" Идиот. А на воду как глядела...
В 2.15 он опять обернулся к красной лампочке автоларма. Но все было спокойно в этой темной ночи. Сашка подошел к окну рубки, отвинтил барашки, толкнул стекло. Свежий ветер надул занавеску. В Танжере хрипатая баба запела мужским голосом, и Сашка убрал Танжер.
"Ни одна девчонка ни в Одессе, ни в Батуми, о Керчи и разговору нет, не скажет тебе вот так: я, мол, люблю звезды считать. Ну, хотя бы эта, последняя, Зойка. Ей что ни скажи - все смеется. Смешно, не смешно - все равно смеется. Дура потому что. Через каждое слово: "Не может быть!" Провожал ее после кино, подошли к дому, ну, стоим, а она сразу: "Убери руки". И в мыслях не было... А мать ее уже орет в окно: "Зойка! Зойка!" Словно козе. Повернулся и пошел. Она: "Ты куда?" "Топиться, - говорю, - тошно мне". Анюта вот не скажет: убери руки. Да и не полезешь к такой..."
Писк позывных не мешал Сашке думать о своем. Ухо его автоматически фильтровало звуки, и пока все многоголосье мира не содержало ничего такого, ради чего стоило бы оставить свои размышления об Анюте.
"Надо с Толиком поговорить", - вдруг вспомнил Сашка.
Толик Архипов плавал радистом на "Вяземском". Сашка никогда его не видел, но они были старые друзья. Толик был парень веселый, работал в темпе, чувствовалось, что может и быстрее, но понимает: это будет уже пижонство, разговор без удовольствия. "Вяземский" отозвался не сразу. "Спим, значит, - отстучал Сашка, -а Родина рыбу ждет. Кто порадует страну полновесным тралом? Пушкин? Прием".
- Пушкина нет. Есть Вяземский - Пушкина первейший друг. И Есенин за компанию. Прием.
- Как рыба? Прием.
- Чего нет, того нет. Вчера - полторы тонны. Много сора. Зря к нам идете. Сами смотрим, куда бы отсюда податься. Прием.
- Кино у вас есть приличное? Встретимся, поменяемся. Прием.
- Кино - зола. Старье. Одна приличная картина - "Верные друзья". Четыре раза смотрели. Не отдадим. Прием.
- Это где на плоту плывут? Прием.
- Она самая. Прием.
- А если махнемся на "Подвиг разведчика"? Прием.
Они трепались, пока не подошла очередная трехминутка сигналов тревоги и бедствия. Красная лампочка, и на этот раз не загорелась, а звонок тревоги и на этот раз молчал.
"Вяземский" - Пушкина друг, - думал Сашка. - Есенин, Державин. Пришло в голову какому-то умнику в министерстве окрестить все БМРТ поэтами и писателями. Есть "Пушкин", и "Лермонтов", и "Жуковский", и "Лев Толстой". А ведь вдуматься - это ж дико: Пушкин ловит окуня, Лев Толстой - селедку, Есенин - сардину. Завтра придумают: Паустовского пошлют на камбалу, а Эренбурга - на раков этих, лангустов... Кто вообще за названия отвечает? "Державин"!.. Висит в кают-компании портрет. Седой, важный старик, весь в золоте, в лентах. Звезда на животе. Оды царице писал. За то и звезда, конечно... В школе учили эти оды. Ничего не помню! Одну строчку помню: "...а я, проспавши до полудня, курю табак и кофий пью". Ну, и при чем тут рыба? Почему большой морозильный рыболовный траулер надо называть "Державин"? За то, что Пушкина в лицее целовал?.."
Пошла сводка погоды с Канарских островов. Сашка записал. Главное - температура воды. Плюс двадцать девять. Это хорошо. Надо утром Губареву сказать. Подумать только, 29 градусов! Вот бы искупаться!
С 2.45 до 2.48 - новая трехминутка для сигналов бедствия. Волна 600 метров - волна беды. И все слушают. Четыре раза каждый час. По три минуты.
Сашка никогда еще не слышал сигнал SOS, но каждый раз ждал его. Он хотел услышать его именно на этой ночной вахте. И сразу сделать что-то для этих людей, которые просили о помощи. Братство и солидарность - затертые слова из словаря газет - становились в эти трехминутки яркими и гордыми: гляди, океан, мы не спим, мы слушаем, мы не дадим в обиду товарищей! Сашка часто думал, как замечательно было бы, если бы и на земле была своя волна тревог и бедствий. И люди в суете земных дел и трудов замолкали бы на три минуты, чтобы узнать о них. SOS! - пацан залез в карман. SOS! - бьют женщину. SOS! - пьяница, SOS! - бюрократ, SOS! - невежда оценивает труд ученого, SOS! - дурак подписывает дурацкий приказ. Оскорбили, обманули, насмеялись - SOS! Боятся, врут, подозревают, клевещут - SOS! И слушали бы все. И шли бы на помощь, оставив ради чужой беды свой курс и свое дело. Шли бы все, кто поблизости, так же, как в море...
Автоларм молчал. Сашка покрутил ручки. Весело залопотал Марсель. "А как в Танжере жизнь,- вспомнил Сашка,- веселятся?" В Танжере все пела низким голосом хрипатая певица. Он взглянул на часы. 3.00. Прошел час Сашкиной вахты.
Уже почти все позавтракали и пили чай, неторопливо прихлебывая из эмалированных, качкой обитых по краям кружек, когда серые коробочки внутренней трансляции заговорили Сашкиным голосом. Все разом умолкли и поставили кружки уже потому, что это был голос Сашки Косолапова, а не вахтенных штурманов, голоса которых знали с полуслова и которые всем уже порядком обрыдли. А говорил Сашка так:
- Товарищи! У нашего микрофона - бригадир жиро-мучного цеха Василий Харитонович Резник. Предоставляем ему слово.
- Во дают! - завопил Сережка Голубь, но на него цыкнули так страшно и дружно, что у Сережки перехватило дыхание. Стало очень тихо. Так тихо, что все ясно услышали, как Сашка сказал шепотом:
- Давай, дед...
Зашуршала бумажка. Дед кашлянул и заговорил не своим, высоким голосом:
- Товарищи! В дни, когда проходит наш рейс, вся наша страна переживает невиданный трудовой подъем. Труженики города и деревни прилагают все усилия, чтобы досрочно выполнить поставленные перед ними грандиозные задачи...
Дед не уточнял, какие конкретно усилия прилагают труженики города и деревни, а ограничивался общими формулировками. Более подробно он остановился лишь на вопросах, связанных с добычей рыбы, зачитав таблицу уловов по годам, взятую Бережным из справочника "СССР в цифрах".
Дед сидел перед маленькой сетчатой головкой микрофона, подавшись вперед и вытянув шею. Он вовсе не был уверен, что его слышит весь траулер, и все-таки микрофон сковывал его до косноязычия и одеревенения всего тела. Дед совершенно не понимал того, что он говорит. Он старался только не упустить глазами строчку, правильно прочитывать и называть слова, большинство из которых его язык выговаривал крайне редко. Не успевал он сказать одно слово, как уже надо было произносить другое, он говорил все быстрее и быстрее, но все равно паузы казались ему длинными, как зимние ночи. Он не понимал, что говорит много глупостей, вроде того, что "жиро-мучная установка должна стать знаменем в выполнении рейсового задания", а через фразу призывал это знамя поднять. Впрочем, никто из слушавших деда в столовой этого не замечал.
Сашка стоял за спиной деда, изредка глядя, на зеленый глазок индикатора громкости. Он уже не переживал за деда и не жалел его, глядя, как темнеет от пота его линялая штапельная ковбойка. Сашке было стыдно. За деда, за себя, за всех, кто слушает, за то, что все они допускают это публичное унижение старого человека. И когда дед, дойдя до фразы: "координируя движение судна, гидроакустики обязаны в кратчайший...", вдруг запнулся на этом идиотском "кратчайший", буквы которого были размыты на бумаге, запнулся так, что и со второго раза не сумел его одолеть, Сашка не выдержал. Он рванулся к деду, яростно, словно давил ядовитое насекомое, выключил тумблер трансляции, выхватил у Резника речь, смял в кулаке и, швырнув бумажный шарик в угол, закричал:
- Дед! Да скажи ты им по-человечески! Можешь ты по-человечески говорить? Отвечай: можешь или нет?!
- Могу. - Дед оторопело моргал. Теперь он уже окончательно растерялся и совсем не знал, что же ему дальше делать. - Господи! Ну говорил же я: не мое это дело, - взмолился он вдруг, но Сашка перебил старика:
- Твое! Это - твое дело. Только скажи просто: так, мол, и так, ребята. Вот что я думаю. Понял?
- Понял... Только обожди...
После того, как выключили трансляцию, столовая, внимавшая речи в мертвом молчании, разумеется, не потому, что кого-нибудь интересовала собственно речь, а потому, что всем казался забавным сам факт выступления деда по радио, разом загомонила на все голоса:
- Зря прервали! Ну, ошибся человек, ну и что? Подумаешь, дело какое! - кричал Сафонов.
- Ну, дает дед! - вопил Голубь.- Артист!
- Давай включай! Сыпь дальше!- кричали, цонькали кружками, даже топали ногами, как в кино, когда пропадал звук. Только Зыбин, казалось, не разделял общего восторга. Отвернувшись с кружкой к иллюминатору, он сказал тихо и зло:
- Цицерон чертов! Научили старого дурака...
А в радиорубке в эти считанные секунды происходила жестокая схватка Сашки Косолапова с дедом Резником.
- Чего ждать, дед? Чего ждать? - кричал Сашка.- Ты что, не варил муку эту?
- Ну, варил...
- Вот и скажи! При чем тут акустики? Что ты в их деле смыслишь? Ты варил муку. Скажи: ребята, давайте попробуем сделать так и так. Можешь сказать? Кого ты боишься? Своих ребят?
"А верно, - подумал дед. - Кого я испугался-то? Сережку-горлопана? Или Ваньку Кавуненко, который без штанов в соплях на огороде моем ползал?"
- Включай, - твердо сказал он.
Сашка включил. Понял: как бы теперь дед ни запнулся, он уже не отступится.
- Значит, так, - сказал дед и замолчал.
В столовой кто-то коротко и громко свистнул и наступила немая тишина. Дед молчал. Но его обстоятельное "значит, так" было таким неожиданным и обещающим, что все поняли: сейчас дед заговорит.
- Значит, так, - повторил дед.- Сафонов вчера в мукомолке восемь раз загрузил пресс и выдал 1 200 килограммов прессованной муки. Это много - спору нет. Но мы с ребятами опосля их загрузили десять прессов. Это 1 550 килограммов или около того... Ребята, правда, на совесть работали, и Зыбин и даже Голубь...
Тут дед улыбнулся, и в столовой все сразу поняли по его голосу, что он улыбается,- действительно: надо же, Голубь, и на совесть работал, - и все тоже засмеялись. Теперь уже всем стало интересно, не только как, но и что еще скажет дед. Он заговорил снова, и те, кто смеялся, зашикали друг на друга.
- Но я так думаю, - продолжал дед спокойно и совсем уже не торопясь, - я думаю, что две тыщи за смену дать можно - и Сафонов и Коля Путинцев, думаю, подтвердят. Так вот что я думаю: пока рыба не пришла, давайте на муку подналягем... Подналяжем. Ведь мука, она дорогая. И заработок, и делу польза... Да и поработать охота. Верно говорю? - спросил Резник и подождал, не придет ли из микрофона ответ.
- Верно, дед! - густо понеслось по столовой, но слышать этого Резник никак не мог.
- А раз так, вот я и думаю: давайте промеж наших бригад устроим соревнование. Поначалу, к примеру, кто первый до двух тыщ дойдет. А там - что ж загадывать, - может, и больше получится. Так что я со своими ребятами, ну, считайте, вызываю бригаду Сафонова и твою, Колька, на соревнование... Вот и все. - И дед вопросительно оглянулся на Сашку.
Щелкнул тумблер.
- Ну, дед, - закричал Сашка, задыхаясь, - ну, молодец! - Сашка обнял деда и прижался лицом к его колючей щеке.- Ты такой молодец, дед! Ты замечательно говорил, понимаешь! Замечательно!
- Да чего там, - дед смущенно улыбался, - что надо было, то и сказал... А чего тянуть? И про международное положение... При чем оно тут? Верно говорю?
- Эх, дед! Вот сразу бы так!
- Ладно. В следующий раз... Главное - дело сделано. - И Резник пошел к двери...
Николай Дмитриевич Бережной слушал деда, сидя на диване в своей каюте. Слушал с большим удовлетворением, узнавал знакомые, родные слова и обороты и радовался выдумке своей и такому быстрому и четкому ее воплощению. Когда Резник запнулся и трансляция умолкла, Николай Дмитриевич сразу бросился к телефону выяснять, в чем дело. Однако дед заговорил снова, и Николай Дмитриевич, успокаиваясь, вновь опустился на диван. Но тут вдруг он понял, что Резник произносит текст совсем другой, ему незнакомый, какой-то невероятно корявый, лохматый, короче - несет отсебятину. Николай Дмитриевич прямо-таки замер. Не грамматика, "ударения там всякие", смущали его. Пугало другое: как бы дед не сморозил чего-нибудь такого... ну, лишнего, не испортил все дело. И хотя ничего "такого" Бережной в дедовой речи не нашел, он, дослушав передачу до конца, все-таки искренне расстроился. Все получилось как-то бескрыло, совершенно не так, как он замыслил. На редкость серый, приземленный докладик. И оценки все путаные, почин как-то не заметен, не акцентировано на нем внимание. Ну, да что теперь говорить! По сути - все верно. Инициатива снизу. Это нынче даже хорошо. Жаль все-таки: он не сказал, что это почин. Слово хорошее. Интересно, как народ воспримет...
Николай Дмитриевич направился в столовую.
В столовой стоял гул. Из жиро-мучного цеха привели Кольку Путинцева, всего в муке, вонючего донельзя, и наперебой втолковывали ему, как дед Резник вызвал его на соревнование. Появление самого деда было встречено дружным ревом, аплодисментами, криками: "Ура!", "Даешь рекорд!" и "Левитан, задери его!". Дед, который не успел позавтракать, сидел со своей миской скромно и достойно, равнодушно принимая все славословия, и деланно сердился, когда кто-нибудь чересчур настырничал. Бережной стоял в дверях. Никто его не замечал или не хотел замечать. Вслушиваясь в оживленный гомон, Николай Дмитриевич с удовлетворением подумал: "Народ все-таки правильно понял... Теперь "Молнией" закрепим - и порядок..."
После завтрака Юрка Зыбин курил на кормовой палубе, когда подошел дед Резник и, оглядевшись как-то воровато, тихо спросил:
- Ты сам-то слушал? Ну, как там... а?
- Орел, - сказал Юрка коротко. Говорить ему с дедом не хотелось.
- Ну, да я ведь так спросил... - Дед словно извинялся.
Юрке стало стыдно, что он обижает старика, и он сказал уже совсем другим тоном, тронув деда за плечо:
- Дед, ты хорошо сказал. Сразу надо было только бумажку бросить, не рассказывать, сколько рыбы ловили в тринадцатом году. Шут с ней, с той рыбой. Съели ее давно. На торжествах в честь трехсотлетия дома Романовых...
Дед сглотнул и убежденно кивнул, будто сам разделял гастрономические утехи их императорского величества, самодержца всероссийского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая...
Разговор с Лазаревым был для Бережного делом простым и коротким. Фофочке поручалось написать "Молнию", посвященную почину деда Резника, и вывесить ее в столовой. "Молния" должна быть "видной", то есть большой по размеру и яркой по исполнению. Кроме того, Фофочке отныне вменялось в обязанность ("Считайте, что это ваше комсомольское поручение") и впредь писать "Молнии", которые должны "оперативно освещать ход соревнования". "Молнии" требовалось обязательно нумеровать, а после вывешивания - досматривать за ними, следить, чтобы их ненароком не сорвали, не употребили на какую-нибудь завертку или другую нужду. При замене старой "Молнии" на новую ни в коем случае эту старую нельзя было выбрасывать, ее следовало непременно сдавать лично Николаю Дмитриевичу. (Бережной собирал овеществленные свидетельства своей политико-воспитательной работы. Еще совсем недавно он работал в обкоме, был там освобожден по причинам, о которых не любил вспоминать, Словом, не сошлись они характерами с новым секретарем, как туманно говорил он. Так вот, на прежней работе где-то в шкафу остался у него большой архив: альбомы с газетными вырезками, пачки копий протоколов различных собраний и конференций, целая поленница рулонов стенных газет и "Молний". В любую минуту можно было положить всю документацию на стол, а там давайте разберемся: есть работа или нет работы. И здесь, на траулере, изменять старым привычкам Николай Дмитриевич не хотел.)
- Все ясно? - спросил Бережной Фофочку и припечатал ладонью стол.
- Ясно, - ответил Фофочка.
- Действуйте!
"Молния" была такая большая, что уместить ее на столе в каюте было невозможно, и Фофочка работал в столовой. Навалившись на стол животом и высовывая в особо ответственные мгновения кончик языка, он сначала тонко и медленно, с оттяжкой выводил контуры буквы, а затем небрежно и быстро заливал их акварелью, отчего буквы словно тучнели, становились солидными и тяжелыми. Увидев Фофочку за необычным занятием, подошла с камбуза Анюта, стала смотреть и, разумеется, сглазила. Вместо "Боритесь за звание" Фофочка вывел "Боритесь за завание". Фофочка принялся обвинять Анюту, хотя не Анюта была тут вовсе виновата. По обыкновению в последнее время Фофочка делал одно, а думал о другом. Дела были разные, мысли одинаковые.
Было Фофочке двадцать два года от роду, и был он влюблен так, как только и можно влюбиться в двадцать два года. И как все влюбленные, Фофочка мог иногда совершенно выключаться из действительности, все окружающее становилось бесцветным, звуки слышались словно издалека. В эти мгновения с трудом удавалось ему сохранить хотя бы зыбкие связи с окружающим миром.
За штурвалом во время своей вахты он не делал ошибок лишь потому, что простота его обязанностей привела за несколько недель к полному автоматизму движений. Мозг совершенно не участвовал в его труде: он вел корабль по заданному курсу. Штурвальным мог быть даже совершенно неграмотный человек, а Фофочка окончил мореходку, Фофочка как-никак штурман. Правда, в этом первом своем рейсе он числился матросом, ну, да что же поделаешь! Почти все так начинают.
Не только эти вахты, но все трудности далекого плавания: печали с харчем, прокисшее вино, экономия пресной воды в умывальнике, несвежее белье, бессмысленность бесконечных перекладываний с места на место грузов в трюмах, два дня качки в Эгейском море, равно как и радости - новая дружба, баня, кино, большая охота на тунцов, ласковость океана, - все, что составляло жизнь людей на "Державине", не задевало Фофочку. Как ангел, летел он над бедами и радостями, без гордыни приемля и прощая всех. Сказать по правде, все, что творилось на траулере, представлялось Фофочке каким-то несерьезным, дела - мелкими и разговоры - глупыми...
После обеда уже, когда "Молния" с двумя синими подтеками - результатом не столько небрежности Фофочки, сколько нетерпения Николая Дмитриевича -висела в столовой и Фофочка лежал на своей койке, тщетно стараясь заинтересовать себя "Королевой Марго", зашел у него с Юркой Зыбиным интересный разговор.
- Юрка! А тебе домой очень хочется? - спросил вдруг Фофочка.
- Хочется. - Зыбин задумался. - Вот пошла бы сардина, как в прошлом году: трал - 25 тонн! И через месяц дома...
Зыбин опять заговорил о рыбе, и от этого Фофочкe стало невыразимо скучно. Завыть просто захотелось.
- Да причем тут сардина?! - с досадой воскликнул Фофочка. - С рыбой, без рыбы, какое это имеет значение?! Дом... Люди ждут нас, понимаешь? Люди! А ты - "сардина".
- Без рыбы я не согласен. Что я без денег на берегу делать буду? Соображай: пацан, жена. Меня и не ждут без рыбы. - Юрка засмеялся.
- А меня ждут, - тихо сказал Фофочка и добавил еще доверительнее:- И без рыбы очень ждут.
Зыбин понял, что Фофочка снова, как говорил Хват, "запел Лазаря". (Хват не знал точно, что означает это выражение, но полагал, что оно точно определяет смысл Фофочкиных разговоров о любви. Был тут и каламбур, которым Хват гордился: Лазарев пел Лазаря.)
- Меня ждут, потому что любят, - продолжал Фофочка тихо и проникновенно. - Раньше я не понимал этого... - Он смотрел сквозь Зыбина и сквозь переборку. - Вот королева Марго...
- При чем тут королева? - мягко перебил Юрка.
- А при том, что любовь во все времена и у всех народов одинакова! - с жаром возразил Фофочка.
- Ничего подобного. Даже Маяковский писал: "битвы революций посерьезнее "Полтавы", а любовь пограндиознее онегинской любви".
- Это глупо! - закричал Фофочка. - И Маяковскому твоему ответил Мопассан! Знаешь, что ответил Мопассан? Он говорил, что любовь всегда одинакова, если она настоящая! Понял?
- Мопассан не мог ответить Маяковскому по причине безвременной кончины после продолжительной и тяжелой болезни, - заметил Юрка.
Он начинал злиться. Он не любил таких разговоров, считал их не мужским занятием. Фофочка раздражал его своей нескрываемой заинтересованностью в этом глупом споре, тем жаром, с которым он возражал ему, и тем откровенным удовольствием, с которым произносил слово "любовь". Юрка всегда считал, что слово это надо произносить очень редко, идет ли речь о женщине, море или Родине. Ему захотелось вдруг побольше обидеть Фофочку, вломить ему, чтобы он разом подавился своей сопливой воркотней: "Я не знал, что такое любовь", "Теперь я узнал, что такое любовь", "У нас большая любовь", "Я чувствую, что наша любовь - настоящая любовь"...
- Вот в старину в Бирме или в Сиаме, точно не помню, - прищурившись, сказал Зыбин,- за измену баб слонами затаптывали, а у нас просто по морде бьют. Вот тебе и одинаково!
- То есть как слонами? - оторопело спросил Фофочка.
- А вот так! - злорадствовал Юрка. - Бешеный элефант топчет прекрасное тело! А ты что забеспокоился? У нас это не привьется. У нас каждый слон на счету, за них валютой плачено! Да и не потянут у нас слоны, умаются! - Он захохотал горловым резким смехом.
- Ты что хочешь сказать? - строго спросил Фофочка.
- Да я так, шутю!
- Люда - честная девушка, - тихо сказал Фофочка.
- Что ты понимаешь под словом "честная"? Не воровка, да? - быстро спросил Зыбин.
- Ну, невинная, - конфузливо потупясь, пояснил Фофочка.
- А для тебя, разумеется, это имеет большое значение?
- А для тебя нет?
- Нет.
- Врешь! Врешь! - Фофочка сел на койке. - Ты в мечтах о своей любви...
- Да при чем здесь мечты? - опять нехорошо захохотал Юрка. - "Мечты"! – Он длинно, замысловато выругался.
- И тебе все равно, любила твоя жена другого мужчину или нет? - кипел Фофочка.
Зыбин не ответил. Он сидел на своей койке, упираясь спиной в переборку и широко расставив руки. Одеяло Хвата нависало над его головой, и Фофочка не видел лица Зыбина. Не видел, как зажмурился Юрка, как разом пропало его недоброе, резкое веселье. Некоторое время он сидел молча, потом заговорил глухо и спокойно:
- Ты, Фофочка, не обижайся, только нам с тобой друг друга не понять... Когда я женился, жена моя не была невинной девушкой... Да и я не мальчик был. Но она для меня честнее всех честных. И нет мне дела, кто там был у нее... И если не то что упрекну, а в мыслях только... подумаю только об этом, какой же я Валерке отец тогда? Пойми ты, если любишь,- так ее же любишь, а не себя...
Фофочка молчал, пораженный не столько словами Зыбина, сколько совершенно незнакомым ему голосом Юрки. Не было в этом голосе обычной для него едкой иронии или равнодушной усталости. Он говорил как-то рассеянно, словно спрашивая о чем-то, словно бы и сомневаясь где-то, но вместе с тем с такой верой в свою правоту, так далеко пуская к себе в сердце, что Фофочка понял: не часто может говорить Зыбин такое.
И за это уже Фофочка был благодарен ему и тронут до щекотки в горле. Ему захотелось как-то показать Зыбину, что он все это понял и оценил. Захотелось обнять, Юрку или пожать ему руку. Сильно. По-мужски. Молча. Он спрыгнул с койки, но Зыбин вдруг резко поднялся, шагнул к двери. Фофочка схватил Юрку за плечо, развернул к себе, глянул прямо в глаза.
- Ты что? - уже обычным своим голосом спросил Зыбин.
- Вернемся домой, - прерывистым от волнения голосом сказал Фофочка, - и все будет хорошо. Я верю: все будет хорошо...
- Ага, - отозвался Юрка. - Полный будет ажур. А слона в зоопарке нанять можно. С деньгами ведь приедем! Хватит на слона! - Он захохотал и шагнул в коридор.
Девятнадцатый день рейса
Это все сказки, что в тропиках жарко: в тропиках мокро, в этом вся штука. Ребята ходили в одних трусах, но пот все разно бесконечными струйками бежал по животу, щекотал спину, и трусы липли к ляжкам.
Стоять на вахте у штурвала в трусах было не положено, и Фофочка жестоко мучился, закисая в рубашке и полотняных брюках. Черный шарик на рукояти штурвала был скользким и гладким на ощупь.
Фофочка первый заметил на непривычно четкой сегодня линии горизонта белую точку какого-то корабля и доложил вахтенному старпому Басову.
Басов взял бинокль и сразу узнал "Есенина". "Есенин" был немецкой постройки и чуть отличался от других больших морозильных траулеров контуром стрел и мостика над слипом. Минут через двадцать показался и "Вяземский".
Капитан Арбузов в радиорубке беседовал по радиотелефону с другими капитанами, договаривался о встрече и в предвкушении этой встречи и выпивки нетерпеливо крутился на винтовом стуле.
Каждый из трех капитанов втайне не хотел принимать гостей, а хотел быть гостем сам. Нет, не жалко ни столичной водки московского розлива, ни созвездий армянского коньяка, "и икры астраханской и прочих яств капитанского резерва, а просто каждому из них хотелось глянуть в новые человеческие лица, побывать в другом, пусть очень похожем мире, но все-таки другом. Наконец договорились съехаться в 13.00 на "Вяземский" к Кисловскому.
К полудню суда подошли совсем близко друг к другу, так что уже можно было различить на носу и верхней палубе отдельные фигурки. Все, даже ребята из машины, высыпали на палубу, махали руками, просто глазели, критиковали облезлую краску на носу "Есенина", грязные подтеки на корме "Вяземского", искали, к чему бы еще придраться, и, не находя, посмеивались над собой и своим "пароходом", тоже уже далеко не парадного вида. За долгие дни плавания они повидали немало разных посудин: турецкие буксиры под Стамбулом, заросшие жирной грязью под самый клотик, длинные гладкие танкеры фирмы "Шелл" с эмблемой-ракушкой на трубе, новенькие американские лесовозы, нахально плавающие под флагом Либерии, серые, юркие, как мыши, тунцеловы японцев и даже сияющий, белый итальянский лайнер, похожий на самолет своими изысканно современными линиями.
Но тут были свои. Свои. С серпом и молотом на трубе. Это большое дело - в Гвинейском заливе, в 200 милях от экватора, встретить своих. Это – очень большое дело...
За разговорами на палубе никто и не заметил, как быстро надвинулись с юга и повисли низко над мачтами плотные, крутые тучи. Вернее, была одна туча, лишь условно делимая страшными переливами сиреневых тонов. Мертвый штиль пал на море, вода сразу стала непрозрачной и казалась на вид липкой, как нефть. Ливень без разгона ударил сразу в полную силу. Океан вскипел миллиардами белых воронок, зашипел, но в следующее мгновение грохот воды, бьющей в траулер, уже заглушил и это шипение, и радиоголос четвертого штурмана, приказывающий задраить иллюминаторы, и все другие звуки.
Над океаном почти во всю его ширь бились молнии. Стена воды в несколько километров толщиной едва пробивалась их светом, ветвистые стволы молний размывались, лохматились и прыгали, преломляясь в неразделимых струях ливня. Гром был где-то далеко. Он глухо бродил по горизонту, казалось, там, на границе неба и океана, по бесконечной чугунной плите, катают огромный чугунный шар.
Капитан Арбузов не успел еще разозлиться на ливень, который задерживал его отъезд, как все разом кончилось: тучи передвинулись с невероятной скоростью, разом пропали, в тот же миг распогодилось. В нашей северной жизни так не бывает никогда.
Выглянуло солнце. Было видно, как над заблестевшими после ливня траулерами потянулись с мокрых потемневших палуб легкие и нежные, как дымок костра, струйки пара.
Отдали команду спускать шлюпку по правому борту, палубная команда засуетилась, забегала. Шлюпка идти не хотела, припадала на корму; блоки, тронутые солью, визжали на разные голоса. Потом шлюпка все-таки пошла, но пошла рывками и опять как-то наперекосяк. Вахтенный штурман кричал и матерился с мостика.
Капитан Арбузов побрился, принял душ, набрав в ладонь одеколона, яростно похлопал себя по шее и щекам, начал одеваться, косясь в зеркало. В зеркале смотрел на него курносый молодой мужик, с курчавой, изрядно, правда, заросшей головой, в свежей белой рубашке апаш и светло-серых, хорошо отутюженных брюках. Он подмигнул ему, взял со столика заботливо завернутый и перевязанный кладовщиком Казаевым пакет с "гостинцем" - две бутылки "Юбилейного", банка черной икры, замороженный лангуст (для такого случая и припасал капитан лангуста) - и вышел из каюты.
Вахтенный дал команду гребцам занять свои места. Потом спустили в шлюпку жестянки с кинофильмами "на обмен". Тут подошел и капитан, такой светленький и чистенький, что казалось, он попал сюда случайно. Капитан окликнул боцмана, сидящего в шлюпке на корме за рулевого, показал ему пакет, потом погрозил кулаком, поясняя меру ответственности за его сохранность. Боцман понимающе закивал, преданно заулыбался и даже путано перекрестился, заверяя, что меру эту он осознал. Арбузов аккуратно бросил пакет прямо на протянутые руки боцмана, спустился сам, осторожно, стараясь не испачкаться о деготь уключин, влез в шлюпку, и только тут обнаружилось, что одного гребца не хватает.
- Хороши у тебя порядки, - не без иронии заметил капитан боцману.
- Кого нет?! - гаркнул боцман, уже сообразив, что нет Зыбина. - Зыбина нет! - Он взглянул наверх, увидел торчащую над фальшбортом голову Сережки Голубя и скомандовал: - Голубь, в шлюпку!
Сережка спустился мигом, и они отчалили. Пару раз ударили веслами невпопад, а Сережка, который и не помнил, когда в последний раз держал в руке весло, от возбуждения и желания показать свое умение сразу "схватил леща", обдав брюки капитана мелкими брызгами.
- Но...о! - строго закричал Арбузов.
Дальше приноровились, пошли как будто ладно, разгонисто. "Не умеют грести,- подумал весело капитан.- Я лучше их гребу..."
Капитану Арбузову было тридцать два года. Парень он был неглупый и знающий, но, кроме того, еще и везучий: дважды попадал он в кампанию "по выдвижению молодежи на руководящие посты".
Была в нем цепкая русская хватка и трезвая ясность, чуждая нерешительности и всяческому мелкому самокопанию. "Поставили капитаном - буду капитаном. Ошибусь - поправлюсь. Не поправлюсь - другие поправят. Выгонят - поделом значит, дурак". Он рассуждал, как рубил топором. Кстати, он любил колоть дрова. При этом громко ухал и крякал. Еще любил играть в городки. Шумно, фыркая и обливая все вокруг, мылся. Охотник был не только выпить, но и поесть, а выпив и поев, танцевать. Спал без снов. Жена Галя родила ему двух сыновей. Он любил кидать их к потолку, хохотал и визжал вместе с ними. Он вообще любил шум. Приемник ставил на полную громкость, так, что все грохотало вокруг. Любил слушать песни советских композиторов и американский джаз с длинными сухими брэками. Двенадцать раз смотрел фильм "Волга-Волга". Его любимым писателем был Зощенко.
Шлюпка шла быстро, но Арбузову казалось, что не очень, потому что "Вяземский", такой близкий, когда он смотрел на него с мостика, приближался медленно. Плавная, совсем почти неприметная волна то легко и мягко поднимала шлюпку, то опускала, словно стараясь спрятать от множества глаз, устремленных на нее. Вскоре Арбузов заметил, как от борта "Есенина" тоже отвалила шлюпка, и, придирчиво косясь, отметил., что его ребята гребут не хуже, чем "есенинцы".
Через четверть часа Арбузов и капитан "Есенина" Иванов уже сидели в идеально прибранной, до блеска надраенной каюте Константина Кирилловича Кисловского - ККК - так называли все знаменитого капитана БМРТ "Вяземский". Стол под ломкой, сахарно искрившейся от крахмала скатертью был тесно уставлен закуской и напитками. "Молодец ККК, - подумал Арбузов, - умеет дело поставить..."
Говорили, разумеется, о рыбе. Кисловский, большой, тучный, с седеющей красивой головой, развалясь в кресле, ругал все и всех: ученых-ихтиологов, погоду, совнархоз, Госплан. Арбузов поддакивал. Иванов слушал молча.
- Я рыбу знаю, - громко говорил Кисловский. - Когда я на рыбе, мне фишлупа не нужна. Я ее и без фишлупы вижу. А тут нет ни черта, и ты,- он ткнул пальцем в грудь Арбузова,- ты зря сюда пришел. Бежать надо отсюда. Бежать к чертовой матери! Или назад беги, за Зеленый мыс, под Дакар, или на юг беги, к Кейптауну. Я на юг пойду. А в общем, как ни кинь, всюду клин.
- Это точно, - сказал Арбузов.
Начали обсуждать план, как искать сардину, прикидывать сроки переходов.
- Ну, ладно, - махнул рукой Кисловский, - хватит разговоры разговаривать. - Он быстро и ловко разлил водку в рюмки, поднял свою: - Со свиданьицем, как говорится...
Чокнулись, выпили и, как это делают мужчины, не глядя друг на друга, захрустели маленькими пупырчатыми огурчиками.
- Нарваться сдуру на косяк, конечно, можно, - продолжал ККК.- Да вот ваш же "Державин" в прошлом году так налетел на рыбу и пошел таскать. Но ведь один год налетишь, а другой и промахнешься. Я нашим в совнархозе сто раз говорил; хотите добывать рыбу в тропиках - изучайте сырьевую базу. Не экономьте на ерунде, дороже обойдется. Им как об стенку горох. Японцы, те как сделали? Насажали в Бразилии своих людей, поисковые суда пригнали, все разведали, все вынюхали, тогда и пришли ловить. А нам? Трал в руки,- давай план! А тут нет ни черта!
- Это как сказать, Кириллыч, - задумчиво возразил Иванов. - Рыба тут есть. И много. Единственно, в чем ты прав: нужны маленькие суда-разведчики. Пока мы знаем только, что два раза сардина собирается в косяки у берегов. Но у каких берегов? Французы, португальцы ловят под Марокко, у Анголы, а еще где она? Этого мы не знаем. Искать, видимо, надо все-таки здесь, на континентальном склоне, до больших глубин...
- Это точно, - сказал Арбузов.
- А сардина туг есть, - повторил Иванов и потянул с тарелки розовый ломоть семги.
- Ни черта мы не знаем, есть или нет! - взревел Кисловский, не прожевав ветчину.
- А ты вот ответь: зачем она собирается в косяки? - спросил Арбузов у Иванова. - Зачем ей это надо?
- Ясно, что не для нагула. - Иванов говорил тихо, не трогая закуску в тарелке. - Зоопланктона здесь мало. Известно, что она собирается в косяки после нереста. Очевидно, ей требуются определенные экологические условия и она находит их в местах концентрации...
- Ну да, - перебил Кисловский. - По-русски говоря, она собирается в косяки потому, что так ей лучше. Ты закусывай давай, академик. - Он захохотал и начал разливать по второй. - Ей лучше собираться в косяки, вот она и собирается. Чувство локтя, так сказать...
Иванов смолчал. Потом заговорил снова:
- Я читал, что чем резче температурный скачок в воде, тем плотнее скопления сардины у дна. То есть там, где нам надо. И чем глубже расположен этот скачок, тем мощнее эти придонные концентрации. И поэтому второе, в чем ты прав, - он обернулся к Кисловскому, - это в том, что сейчас нам отсюда действительно надо уходить. И побыстрее...
Чокнулись.
После второй рюмки Арбузов хмельно пригорюнился. "Лапоть я, лапоть, - думал он. - Лево руля - право руля. С картой и лоцией последний дурак куда хочешь заплывет. Люди по науке рыбу ловят, книги читают... А я? Как пацаном бычков таскал, так и сейчас тралом таскаю..."
- Сколько у тебя в трюмах? - спросил он Иванова.
- Тонн сто. А у тебя?
- Восемнадцать, - совсем тихо ответил Арбузов.
- Эх, вы! Вот нет ни черта, а у меня 144 тонны! - Кисловский потянулся к графинчику.- Давайте еще по одной. За жен. За возвращение. Бери колбасу. Венгерская. Закусываем плохо...
- Авианосец видели вчера американский? - спросил Иванов.- Могучее корыто. Да...
Заговорили о Кубе.
Расставаясь, капитаны уговорились сегодня же разойтись и попробовать взять рыбу на банках милях в пяти - семи от берега. Ближе подходить было нельзя: начинались территориальные воды. Если за три-четыре дня обстановка не изменится, решили уходить из Гвинейского залива: "Вяземский" - на юг, за экватор, "Державин" и "Есенин" - на север, к Дакару.
Прощались капитаны уже совсем друзьями. Кисловский подарил Арбузову и Иванову бледно-розовые ракушки изумительной красоты. У него была целая коллекция совершенно невероятных ракушек. Арбузову отдарить было нечем, лангуста он уже подарил. Он достал фотографию своей жены и сыновей, объяснил, как кого зовут, и подарил фотографию. Расцеловались.
Щурясь от яркости дня, Арбузов вышел на палубу. К трапу зашагал твердо.
- Поехали, ребята! Загостились, - сказал он ясно и весело. Если бы не краснота лица и легкая дымка в глазах, нельзя было бы и подумать, что он крепко выпил.
Матросы с "Вяземского" погрузили жестяные коробки с тремя обменными кинофильмами ("Верных друзей" не отдали, утаили).
Шла мелкая зыбь, весла черкали по ее верхушкам, высекая брызги. Нестерпимо блестел, плясал огнем океан. Арбузов совсем ослеп. Он вертелся на корме, то вытягивая, то поджимая ноги, разгоряченное водкой тело его требовало движений. Хотелось сесть на банку спиной к солнцу, хотелось ощутить в руках теплое, гладкое дерево весла и почувствовать "упругую податливость воды. "Сесть разве что?.. Неудобно, черт побери, капитан все-таки..." Арбузов хлопнул в ладоши и сказал громко:
- Эх, ребята! Показал бы я вам, как грести надо!
Боцман засмеялся. Гребцы заулыбались, косясь на капитана.
Тридцать пятый день рейса
Они узнали тропическое солнце. Маленькое, белое, оно зависало в зените, как не бывает в наших морях, и тень головы катилась прямо под ноги. Было жарко. Никому не хотелось есть, даже Хвату. Липкий зной дня и духота ночи мучили людей. Спали плохо, метались во сне по влажным простыням, казалось, кто-то душит, стонали. Как по расписанию, каждый день, часа в два, тучи закрывали солнце, океан застывал в свинцовых сумерках, словно съеживался под занесенными над ним плетками ливня. Ливень бил сильно и коротко. И вновь зажигалось солнце, траулер окутывался паром, становилось еще хуже, чем до дождя.
Рыбы не было.
Наконец капитан приказал повернуть на север. Они шли к Зеленому мысу, и грозы отставали, лишь краем касаясь их, наплывали ясные, тихие дни, и, хотя свет и жар солнца были так же жестоки, это было уже другое солнце, пусть еще не ласковое, но более расположенное к людям. Север был для них самой дорогой страной света, потому что север был домом. Все понимали, что впереди еще долгие дни работы, но мысль о том, что каждый вздох машины приближает их к дому, не проходила, теплела рядом всегда, не мешая всем другим разным мыслям.
Как никогда, ждали теперь рыбу, ждали работу. Ругательски ругали гидроакустиков - "врагов трудового народа", замеряли без конца температуру воды и митинговали после каждого замера. Тралмейстер Губарев, повеселевший оттого, что бессмысленные поиски в Гвинейском заливе окончились, сидел целыми днями на корме, щурился на море и небо. Сашка сам носил ему на корму метеосводки. Губарев читал долго. Ребята из траловой стояли вокруг ждали. Прочитав сводку, тралмейстер молча возвращал ее Сашке. Далее следовала глубокая пауза.
- Ну как? - спрашивал наконец кто-нибудь из ребят.
- Что? - Губарев вроде бы и не понимал, о чем идет речь.
- Как сводка?
- Нормально.
Эта интермедия повторялась многократно. Губарев знал цену своим словам.
Но однажды, прочитав сводку, он сказал, не ожидая вопроса:
- Завтра-послезавтра начнем брать.
- Эту песню мы слышали, - усмехнулся Голубь. - Старо. Свинку морскую надо было взять. Чтоб билетики таскала.
Губарев не удостоил Сережку даже поворотом головы.
- Голубь, птица моя кроткая, - тихо и ласково сказал Ваня Кавуненко, - я вот все думал: когда тебе по шее дать? И придумал: сейчас самое время.
- Оставь, Ваня, - поморщился Губарев, разглядывая горизонт. - Вон гляди, они лучше нас рыбачат. - Он кивнул в сторону моря.
Вдалеке, у самого горизонта, ясно угадывалось какое-то движение, вода там словно закипала, цвет ее, такой ровный и спокойный везде, менялся, становился резче, ярче, и на этом фоне были хорошо заметны маленькие, как запятые в книжке, черненькие прыгающие тела.
- Дельфин охотится. Значит, есть рыба. Только бы косяки не разогнал... Но я люблю их, - улыбнулся вдруг Губарев, - смышленый народ. Вот, помню, раз...
Пошли байки.
Вечером по всему траулеру разнеслась новость: приборы пишут рыбу. Гидроакустик Валя Кадюков бегал в столовой, размахивая лентой. Полоса густой штриховки, сработанная самописцем, показывала: косяк у самой поверхности, метрах в восьми - десяти. Все понимали, что тралом его зацепить никак невозможно и опять придется поносить акустиков.
- Но ведь он опустится, черт побери! - кричал Кадюков,- Ведь утром он уйдет на дно!
Кадюков провел в рубке у фишлупы всю ночь, все подбадривал черненькое жало самописца, шептал ему:
- Давай, родной, давай... Ну, еще... - Самописец писал рыбу. Он рассказывал Кадюкову, что близится рассвет: черные полоски штриховки поползли вниз. Косяк уходил на дно по мере того, как светлело небо. Кадюков засмеялся странным смехом. Фофочка у штурвала вздрогнул и оглянулся на гидроакустика.
- Ты что? - опросил он.
- Заглубляются! - радостно крикнул Кадюков и шмыгнул носом. - Заглубляются!!!
- Что? - спросил Фофочка.
- На дно идут! Косяк на дно идет!
- А хорошо ли это? - спросил Фофочка первое, что пришло ему в голову, лишь бы не обидеть гидроакустика невниманием к его нервной радости.
- Дура ты! Это значит потащим!
- Ну тогда пускай заглубляются, - разрешил Фофочка.
Кадюков сплюнул и снова жадно взглянул на ленту самописца.
Утром прошли Дакар - бледно-голубые кубики на желтом, забрызганные зеленым. Сбавили ход и подняли на фоке корзину. Корзина на мачте - сигнал всем судам: осторожно, иду с тралом. На корме опять собралось очень много народа, опять - в который уже раз! - все ждали. Кадюков, весь какой-то жеваный и серый лицом от бессонной ночи, что-то говорил на ухо капитану, а капитан отмахивался и кричал, поглядывая быстро по сторонам:
- Не верю я тебе! Слышал эти твои басни сто раз! Потерял ты мое доверие, - кричал оттого, что боялся сглазить.
Кадюков сглотнул, отошел и, навалясь грудью на борт, смотрел в воду, шевеля губами и сплевывая.
Было тихо, хотя без малого весь экипаж собрался тут: плечом к плечу стояли на верхней палубе, и у кормовой рубки, и на трапах, и внизу подле лебедки, и только на самой корме, у блоков, маячили одинокие фигуры: слева - Ваня Кавуненко, справа - Витя Хват.
Наконец дали команду выбирать. Заворчала низко всеми своими шестернями главная лебедка, противно завизжали, перетирая соль и ржавчину, блоки, потекли ваера. И снова, как бывало всякий раз, все смотрели на тронутую пеной зыбь за кормой, на широкий, идущий от винта след, быстро теряющийся в спокойной воде океана. Все знали, что за кормой еще метров триста ваеров, но все равно смотрели, стараясь не упустить самого важного мига: появления трала.
Тралмейстер Губарев сидел на крышке люка, жадно курил и тоже следил за ваерами. Он первый увидел, как две чайки, тянувшие к берегу, круто развернулись и низко, почти цепляя крыльями воду, стали заходить в корму. Потом он увидел, как невесть откуда появились еще две. Это было совсем хорошо.
Губарев обернулся к барабанам лебедки, куда плыли ваера, мгновенно отметил по толщине намотки, на какой глубине идет трал, и понял, что маневр чаек не случаен: они уже видели трал, знали, что это такое, и ждали добычу. "Через минуту-полторы должен всплыть",- прикинул Губарев, щелчком отправив за борт окурок, и потянул из кармана пачку "Беломора": снова хотелось курить. "Неужели опять пустые?.. Ну, тогда не знаю,- вдруг с тоской подумал он. - Тогда я не для этих мест рыбак. Не пойду больше... На Азовское уйду, там меня не обманешь.,."
- Даешь сардину! - раздался высокий мальчишеский голос с верхней палубы, и сразу отовсюду, перебивая друг друга, понеслось ликующее, звенящее:
- Есть! Есть!
- Всплыл!
- Всплыл, ребята!
- Есть рыба!
- Что я говорил?! Нет, что я говорил?! - кричал в исступлении гидроакустик Кадюков, наступая грудью на капитана.
А в кильватерной струе среди шипящих пятен пены качалось что-то большое, блестящее на солнце, непривычное еще и долгожданное - трал с рыбой. Он подтягивался все ближе и ближе, все яснее и яснее белела его наружная крупноячеистая сетка, все четче проступала за ней внутренняя - мелкая и темная, туго-набитая рыбой. Вот уже по слипу загрохотали бобинцы, все сразу заглушив: и лебедку, и винт, и радость.
Губарев взглянул на бобинцы, увидал, как блестят их бока, надраенные кораллами и песком, и рассеянно отметил про себя: "Порядок, значит, трал шел прямо по дну..."
- По дну шел! - крикнул он, не глядя, тронув за руку соседа. Это был Айболит. - По дну шел,- повторил, стараясь перекричать грохот, тралмейстер и улыбнулся доктору такой счастливой детской улыбкой, что Иван Иванович даже растерялся.
- Поздравляю вас, поверьте... я... поздравляю от всей души,- волнуясь, сказал Айболит, но Губарев не услышал его.
А трал уже подтягивали на стропах, уже тяжело и медленно, с тяжелым шорохом вползала по слипу его тугая, щедро сочившаяся водой туша. Гремел голос вахтенного, гнавшего всех с кормовой палубы, тарахтели моторы подъемных стрел, фыркали, поперхнувшись первой водой, пожарные рукава, готовясь вымывать из трала рыбу. Все пришло в возбужденное движение. "А торопиться некуда,- счастливо подумал Губарев. - Вот она! Никуда она теперь от нас не уйдет... Тонн восемнадцать верных..."
Ваня Кавуненко двумя ударами ножа распорол завязку мотни, и рыба - что-то густое, плотное и ярко блестевшее - выдавилась из трала, как серебряная краска из тюбика.
- Чистая! Чистая, Пал Сергеич! - кричал мастер рыбцеха Калина, протягивая капитану две горсти рыбешек. Сардина хрустела под его сапогами, как снег в морозный день.
Загремели крышки люков, рыбу сгребали к ним лопатами, и шла она очень легко, ребята скользили по густой слизи, хохотали, а Витя Хват чуть сам не угодил в люк. Палубники, на вахту которых пришелся долгожданный трал, побежали одеваться без всяких команд и распоряжений.
Юрка Зыбин прыгал в коридоре у своего шкафчика на одной ноге, все не мог попасть в штанину. Фофочка ждал его, уже одетый: штаны "БУ", новые кирзовые сапоги, новый клеенчатый фартук прямо на голом теле и белые нитяные перчатки, -
Как я? А? - игриво спросил Фофочка и покрутил над головой рукой в перчатке.
- Д'Артаньян, - весело ответил Юрка и попал наконец в штанину. -
Надо обязательно так сфотографироваться, - уже серьезно и озабоченно сказал Фофочка.
- Обязательно, - поддержал Зыбин. - С акулой, которой ты раздираешь пасть. Да зачем фотографироваться? Отлейся в бронзе... Пошли...
Он не стал надевать сапоги. Сапоги ему достались худые, а в худых сапогах стоять в воде даже хуже, чем без сапог.
Направляясь вместе с Фофочкой в рыбцех, Зыбин неторопливо думал, где поставит его мастер, что предстоит ему делать, и прикидывал, куда встать самому, если случится выбор.
Юрка плавал на больших морозильных траулерах и знал, что всякая работа в рыбцехе тяжела. Приходилось ему работать "на ванне", таскать в ванну лед и черпать из нее корзиною рыбу. Там очень зябнут руки. А если рыба перележит в ванне и "завоняется", надо ее оттуда выгребать в шнек на муку или выбрасывать за борт. Это одна из самых неприятных в мире работенок - суетиться в ванне по колено в тухлой рыбе. Куда приятнее быть "мотоциклистом" - так называли ребят, которые возили в холодильные камеры вагонетки с противнями. В противни укладывали, или, выражаясь на лексиконе траулера "Державин", улаживали, сардину. Надо было именно улаживать рыбок плотненько, голова к голове, тогда входило в противень килограммов десять-одиннадцать. А если так, сгрести и накидать, - от силы семь. Ну так вот, "мотоциклисты" возили эти противни в холодильные камеры. У них и делов-то всех - снимать с конвейера противни с рыбой и грузить на вагонетку. Как загрузишь, включай пневмопривод и вези. Привод этот (интересно, кто только придумал такой!) звук издает совершенно неописуемый и ни с чем не сравнимый. Так могли бы ржать железные жеребцы, если бы они были на свете. Работа у "Мотоциклиста" нетрудная, но в цеху тридцать градусов жары, а в камерах тридцать градусов мороза. И от этого у "мотоциклистов" часто случаются чирьи. Но все-таки, наверное, самое неприятное стоять на глазировке, где замороженную рыбу окунают в воду, чтобы вытащить брикет из противня. Очень там не сладко: ледяная вода брызгает из ванны на фартук и стекает прямехонько в сапоги - самая подходящая подготовочка для того, кто задумал подцепить ревматизм. Другое дело - "гробовщик". Там работа сухая. "Гробовщик" упаковывает брикеты в картонные коробки. За смену надо перекидать тонн восемь, и руки после даже во сне гудят, как камертоны. Редкий "гробовщик" наутро делает зарядку. Случалось Зыбину быть и "полярником" - часами торчать в трюмах, где мороз - 16, а когда уж совсем посинеешь, лазать на палубу прямо в полушубке и валенках, а на палубе механики, у которых в машине глаза от жарищи лопаются, смеются над тобой, как над идиотом последним. Вот так и получается: одни греются, другие остывают - комедия, да и только...
И немало трудных дней пройдет и бессонных ночей, пока "полярники" забьют носовой трюм, а за ним средний, самый большой, а за ним кормовой, а потом перепашут винтом несколько тысяч миль штилей, зыбей и штормов и выгрузят все эти коробки из всех этих трюмов, разморозят рыбок и набьют в жестянки - вот тогда конец. Тогда иди, покупай ставь на стол и закусывай. Называется "сардины в масле". Наливай и закусывай. Но если никого знакомых у тебя в море нет, а сам ты был в море однажды, шел из Алушты в Ялту на "Изумруде" - шикарной эмалированной посудинке, с шикарными девочками и буфетом, где торгуют коньяком, не чокайся, пожалуйста, "за тех, кто в море". Не надо.
Когда Юрка Зыбин вместе с Фофочкой вошел в рыбцех, он показался им очень веселым. В гулком железном его пространстве билось эхо голосов суетившихся повсюду людей, звенели противни, хрустел и шуршал под ногами лед. Из распахнутых иллюминаторов лился чистый солнечный свет, голубые зайчики прыгали на подволоке, все вокруг было мокрое, блестящее, словно умытое к празднику. Работа уже началась, но было еще много глупой суеты, неразберихи, неизбежной при начале всякого дела, в котором занято много разных людей.
Николай Дмитриевич Бережной, который прямо с кормы спустился в цех, понимал это, и отсутствие четкого рабочего ритма пока не смущало его: все образуется, главное - начать.
- Опаздываем, Зыбин, опаздываем! - закричал он, завидев Юрку и Фофочку, закричал, впрочем, скорее подзадоривая, чем сердясь.
Подбежавший мастер Калина, самый главный, теперь человек, приказал:
- Зыбин - на упаковку. Запакуешь, пиши дату. Вот тебе карандаш. Какая сегодня дата, знаешь? Вот ее и пиши. Так. С тобой - все. Теперь ты, - он обернулся к Фофочке, - как твоя фамилия? (Фофочка как рулевой не числился в палубной команде, и Калина имени его не знал.)
- Лазарев. Первая подвахта. - Лазарев, первая подвахта. Хорошо. Вот тебе, Лазарев, корзина. Бери корзину, носи рыбу вон из левой ванны, понял? Из правой пока не носи. Так. С тобой все.
Над головой страшно загрохотало, словно там, по палубе, шел поезд. Это снова спускали трал. "Вот бы еще тонн пятнадцать,- подумал Юрка,- а там гляди, и пойдет и поедет..." Он сунул карандаш за ухо и подошел к столу укладчиков, присматриваясь, где бы ему встать.
- Вас, Зыбин, мастер куда поставил? - вдруг услышал он за спиной.
Юрка обернулся и увидел Бережного.
- На упаковку. - А вы куда встали?
- Так нечего пока упаковывать... Когда она еще заморозится...
- Ну, хорошо... Только смотрите, чтобы с упаковкой не было перебоев, - Николай Дмитриевич понял, что замечание свое сделал ни к чему. Опять невпопад получилось. И за этим сопляком опять верх.
"Что он все цепляется ко мне, - думал Зыбин, укладывая в противень сардину, - чего ему от меня нужно?"
- Р-рыбы! - раскатисто звучало то здесь, то там, и Фофочка еле поспевал таскать корзины. Немногие, подобно Зыбину, работали молча. Чисто механический процесс укладки рыбок не мешал разговорам, снова, уже, наверное, по третьему кругу, пошли анекдоты, посыпались байки, словом, мелкий местный фольклор.
Анюта стояла за длинным столом укладчиков рядом с Сашкой. Сашка пришел на подвахту раньше. Это она сама стала рядом с ним. Подошла и сказала: "Ну-ка, подвинься чуточку, я тоже здесь устроюсь". Так и сказала. Сама.
Ах, как паршиво было Сашке! Как муторно! Жарко. И весь он как-то закостенел. Руки, ноги, голова - ничего не поворачивалось и не крутилось. Он косился по сторонам и, поймав чей-нибудь взгляд, снова утыкался в противень. На Анюту он не глядел и боялся даже случайно прикоснуться к ней. Все время ему казалось: на него кивают исподтишка, с улыбочками тычут пальцами и вот сейчас начнут подмигивать: "Давай не робей", - смотрят, смотрят со всех сторон, и он еще ниже склонился над склизлыми досками стола.
- Ты что, заболел? - тихо спросила Анюта.
О, как громко она это спросила! Она прокричала на весь цех!
- С чего это ты взяла? - ответил Сашка с той нехорошей ухмылкой, которую она так не любила. Он всегда ухмылялся ей так на людях, становясь от застенчивости наглым и грубым.
- Да все молчишь. И красный какой-то, - очень просто сказала Анюта.
"Действительно, - подумал Сашка, - а почему я молчу? Я молчу, и это, наверное, сразу бросается в глаза". И он заговорил громко, торопливо поглядывая по сторонам и совершенно не понимая, о чем же он, собственно, говорит, заботясь только о том, чтобы в голосе его ясно звучало уверенное равнодушие:
- Да, кончилась ваша райская жизнь на камбузе, теперь узнаешь, какова она, рыбацкая жизнь, это тебе не камбуз, теперь не то, чтобы в кино, теперь умыться некогда будет, теперь все на рыбе, два человека только имеют теперь право на рыбе не стоять: капитан и стармех, теперь нам надо пищу особенно калорийную варить и мяса побольше варить...
Он молол и молол, голос его заглушался иногда другими голосами, лязгом и звоном противней, зычными воплями "р-рыбы!" и диким ржанием вагонеток. А он все говорил и говорил, и ничего не слышал вокруг, и себя слышал словно издалека. Руки его быстро-быстро укладывали сардину: головка к головке, а ряд сверх - "валетом": хвостик к хвостику, он смотрел, что делают руки, и не видел рук, все старался не взглядывать на Анюту и видел Анюту.
Она слушала его, склонив набок голову, и смотрела на него, чуть улыбаясь, совсем чуть-чуть, изредка отводя запястьем, не испачканным в слизи и чешуе, прядь волос со лба, а ему казалось, что говорит он совсем другое:
"Какая ты красивая, Анюта. Ты даже не представляешь, какая ты красивая! Тоненькая, светлая, ни на кого не похожая девочка. Как ты улыбаешься мне, всегда вот так мне улыбайся. Дай я поправлю твои волосы, они пахнут ветром и еще чем-то земным, родным, чего нет тут, в тропиках. Я помню, как они пахнут, я почувствовал запах твоих волос тогда ночью, когда светился океан. Я все помню, помню твои пальцы, которые спрятались сейчас в эти уродливые перчатки... Вот приедем в Гибралтар, и я куплю тебе перчатки из самой тонкой кожи, самые лучшие перчатки в Гибралтаре. Честное слово, я куплю тебе самые лучшие перчатки в мире! Слышишь, Анюта?"
Было тихо-тихо. Даже не гудел главный дизель. Не звенели противни. Не было людских голосов. И людей тоже никаких не было. Стояла одна Анюта и слушала его, улыбаясь и чуть склонив к плечу голову.
А он все говорил:
- Работа физическая мяса требует. Рыба что? В рыбе фосфор, рыба - это для тех, кто умственным трудом занимается, им фосфор нужен и сахар. В Америке один чудак опыт ставил, решил целый год одним сахаром питаться, говорят, трех дней не дожил...
- Вот обидно, - отозвалась Анюта. - Что же ты так смотришь на меня, - сказала она,- ну нельзя же так смотреть, Сашка! И не красней и не косись на ребят, все я понимаю, Сашка...
"А радист-то опять с этой блондиночкой, которая на кухне работает. На камбузе", - мимоходом отметил про себя Николай Дмитриевич, оглядывая рыбцех.
Вахта рыбообработчиков не прерывалась круглые сутки: четыре часа работы, четыре - отдыха. Систему эту называли "четыре через четыре". Это тяжело. В первую ночь Зыбину досталась, конечно, самая трудная вахта: с двух ночи до шести утра.
Разговоры умолкли. Монотонность и однообразие движений, ровный низкий шум близкой машины укачивали, баюкали. Глаза Зыбина были открыты, он запаковывал коробку за коробкой, не глядя, ловил бечевку, на которой был привязан карандаш, одним росчерком ставил дату, бросал коробку на транспортер, делал все быстро и ловко, но он спал. Спал тяжелым, тупым, душным сном. Когда открывали морозильные камеры и ледяной туман стлался густой белой пеленой над железным полом, хватая за ноги, Юрка просыпался. Его начинало знобить. "Только бы не заболеть,- думал он,- а может, оттого знобит, что спать хочется..."
Часам к пяти сон начал улетучиваться. А в шесть, когда пришла новая вахта, и вовсе не хотелось спать. Он принял душ. (Вода была, конечно, морская. Пресный душ устраивали один раз в две-три недели. Это уже называлось не душ, а баня. Это был большой праздник.) С удовольствием подставил усталое тело тонким и крепким, как проволока, струям горькой едкой воды. Вода выжигала глаза. После душа у всех красные глаза. Но все равно, душ - это отлично! Капитан говорил, что и полезно очень. А может, и врал, чтобы пресную воду не клянчили.
Потом Зыбин пошел в столовую, взял миску макарон и несколько больших кусков жареной макрели. Королевская макрель - вполне подходящая еда для "гробовщика". Ел не торопясь. Он любил после вахты есть не торопясь. Зажав в ладонях кружку, медленно цедил приторно сладкое какао. Выпив одну кружку, он налил вторую и уже почти выпил эту вторую, когда прибежал Сашка и закричал:
- Кончай чаи гонять! Давай на палубу волчьим наметом! Такое делается! - Они выскочили на палубу.
- Смотри, - сказал Сашка восхищенно. Юрка взглянул и обомлел.
До самого горизонта шли дельфины. Тысячи дельфинов. Это был великий парад океана, невиданная демонстрация могучей его жизни. Все вокруг кипело от беспрестанного движения животных. Каждую секунду несколько сотен дельфинов выскакивало из воды, блестя на солнце глянцевитыми черными спинами. Тяжело поднявшись, они снова уходили в воду плавно, без брызг, а на смену им поднимались все новые и новые. Иногда они двигались группами, косым строем, один на полкорпуса впереди другого, а когда выпрыгивали,- в воздухе надолго зависала черная арка из живых тел. Маленькие тянулись за матерями, но ныряли они еще плохо, смешно шлепались животами.
Юрка кинулся к фальшборту и, перегнувшись, увидел четырех крупных дельфинов, легко скользящих в воде рядом с траулером. "Державин" шел достаточно быстро - около 14 узлов, но дельфины не отставали, и это удавалось им безо всякого видимого усилия. Юрка хорошо различал их гладкие сильные тела и маленькое отверстие дыхала на голове. Ему показалось, что и дельфины приметили его. Один из них, самый крупный и плывущий впереди, несколько раз легонько выпрыгивал из воды, косясь, как почудилось Зыбину, в его сторону. Поднятые кверху уголки пасти сообщали морде дельфина веселое и чуть лукавое выражение. Юрке показалось, что он услышал, как этот большой дельфин тихо и ласково свистнул соседу, и оба сразу выпрыгнули из воды.
- Здорово, ребята! - весело крикнул Юрка и помахал им рукой.- Здорово! Счастливой охоты!
В этот момент откуда-то с бака негромко, но очень отчетливо хлопнул выстрел. Еще. И еще один. Юрка оглянулся. Сашка стоял, вытянув шею, слушал.
- Айда! - крикнул Юрка и кинулся первый в коридор правого борта, понесся мимо каюты стармеха и камбуза, мимо кают акустиков, и кают-компании с портретом Державина, и каюты первого помощника № 24 на бак. Чуть не поломав ноги о высокий комингс[8], он выскочил на носовую палубу, задыхаясь и быстро оглядываясь по сторонам. Несколько человек стояли, перегнувшись через фальшборт, несколько одинаковых спин и одинаковых макушек. А за макушками все шли и шли дельфины, все прыгали и прыгали, спокойные и гордые своим неистребимым множеством. И вдруг опять хлопнул выстрел. Совсем близко, метрах в тридцати от траулера, один восставший из воды дельфин дернулся в воздухе и тяжело упал в воду, упал и лихорадочно засуетился, видимо, стараясь нырнуть поглубже, спрятаться.
Юрка обернулся и увидел стрелка.
Сережка Голубь прильнул к малокалиберке всем телом, слился с ней – лицо резкое, сам весь крепкий, твердый, как приклад, голые загорелые руки, с крутыми мускулами, не оторвать от ложа - и вот повел всем телом, повел ствол чуть левее и выше и коротко - бах! - совсем не громко.
И снова как будто наткнулся на что-то в воздухе прыгающий дельфин, срезался, и ясная, чистая вода помутилась, словно упал он в илистую яму. Юрка почувствовал знакомый, но забытый уже сладковатый запах пороха. А Голубь с пьяными от радости глазами рвал затвор, не отводя жадного взгляда от океана, вкладывал новый патрон. Зыбин бросился к нему и с силой, которой не знал в себе схватил Голубя за шиворот. Голова Сережки дернулась, он оторопело обернулся и прежде чем понял, что происходит, Зыбин, скрипнув зубами, ударил его в лицо, в его радостные глаза. Ружье загрохотало о палубу. Голубь упал, но тут же вскочил, пригнувшись, опустив окровавленное лицо, шагнул к Зыбину и ловко, сильно ударил его снизу в подбородок. В глазах у Юрки потемнело. "Не упасть!" - приказал он себе и отступил на два шага, выигрывая те миги, в которые спадала с него дурнота. Голубь надвигался и шипел:
- Убью, подлюка! Убью, как собаку!
Вдруг быстро метнулся назад, к винтовке. Навалились на обоих, тяжело, гроздьями. Руки назад и в разные стороны. Голубь матерился, деланно вырывался. Юрка стоял спокойно, но когда Ваня Кавуненко спросил его: "Ты что, сдурел?" - вдруг закричал не своим, пронзительным криком, так, что даже вахтенный в рубке услышал его.
- Бандит! Фашист! Зверь! Зверь! - кричал Юрка. С ним приключилось что-то вроде припадка.
Девяносто седьмой день рейса
Теперь жизнь каюты № 64 стала совсем иной. Уже не было больше долгих бесед "за политику", редко кто брал в руки книжку, Юрка отговорил морские байки, и даже Фофочка поунялся и уже не рассказывал о своей любви. Сашка здорово похудел, ходил какой-то взвинченный, будто чуть-чуть пьяный. Витя Хват являлся с вахты злой, мокрый, следил сапогами, ругался, когда Зыбин выгонял его в коридор разуваться, потом, скинув мокрое, карабкался к себе наверх, с тихими, блаженными матюгами вытягивался на койке.
"Молнии" шли теперь косяком. Рекорды в "Молниях" и призывы "равняться на..." мало кого занимали, но у доски, где проставлялись цифры: "Общий улов... Заморожено... Упаковано... Мука..."- народ толпился каждое утро.
Рыба шла хорошо, просто удивительно, что совсем недавно здесь нельзя было поймать ни одной сардинки. За сутки морозили по 20-25 тонн, а 30 июня все запомнили: "Молния" была в тот день с простыню - заморозили 32 тонны.
Вахта за вахтой, один день цеплял другой, крутилась неделя за неделей, как колесики в будильнике. Забили носовой трюм и приканчивали средний. Когда поднимали богатый трал, уже не тревожились: "А ну, как последний" - и если вытаскивали иной раз мешок пустым, не расстраивались: дело случая. Ну пошла рыба на вскид, а может, разогнали косяк дельфины или макрели.
Потеплели радиограммы с базы Гослова, уверенность Арбузова в успехе рейса передалась сначала маленькому начальству, а от него большому - совнархозу, Киеву, Москве.
К середине июля забили наконец средний бездонный твиндек, и все сходились на том, что если и дальше так пойдут дела, то через неделю можно будет поворачивать на север, август встретить в Гибралтаре, а еще через неделю швартоваться к родной стенке. Уж сколько раз, словно наяву, ощущали они этот мягкий толчок о причальные кранцы - старые покрышки, вытертые до корда,- сколько раз их видели во сне...
Однако вдруг опять пошли перебои с рыбой, акустики потеряли косяки, находили маленькие, пуганые, зацепить их было трудно, и сардина попадалась сорная, перемешанная со скумбрией и ставридой. Морозили и скумбрию и ставриду, но все равно, по здешним понятиям, получалось мало: семь-восемь тонн в сутки.
Перебои с рыбой дали людям небольшой отдых. Два дня отсыпались напропалую, а потом опять потянулись к книжкам, шахматам, разумеется, забивали "козла", по вечерам в столовой снова начали крутить кино, а ночью на корме под прожектором удили королевскую макрель. И вот тут-то и вспомнил Витя Хват, что через три дня стукнет ему ровно двадцать пять - четверть века, дата серьезная, требующая к себе уважения.
Каюта № 64 заволновалась. Зыбин стал во главе оргкомитета по проведению торжеств. Он потребовал у Хвата список гостей.
Очень нелегко было Хвату составить этот список. Сначала он думал пригласить Ваню Кавуненко, своего бригадира, и Сережку Голубя - как-никак кореш. Но Сашка шепнул ему, что, если явится Голубь, Юрка уйдет обязательно и он, Сашка, тоже уйдет. Драка на баке обсуждалась два дня, и почти все были на стороне Зыбина. Гидроакустику Кадюкову, который дал Голубю ружье, сделали внушение, а с Голубем имел разговор Ваня Кавуненко. Что он ему сказал, никто не знает. Тралмейстер Губарев сообщил, что "беседа прошла в обстановке взаимопонимания", то есть Ваня Сережку не бил. Это точно. После "беседы" Сережка, выражаясь словами деда Резника, "весь ушел в ракушку и втянул рога". Так что и с Ваней Сережке навряд ли будет приятно снова встретиться. Прикинув все это, Хват понял, что Голубя, видно, лучше не звать, хотя и кореш.
- Я так думаю, - сказал он Зыбину, - значит, нас четверо и Ваня...
- И давай Анюту позовем, - предложил Юрка, - для женского общества, а? Все веселей, а?
- Правильно, - сказал Хват, - она жратвы притащит.
Юрка побежал на камбуз к Анюте.
- Значит, так, - сказал тихо, на ухо, - в 18.00. Каюта № 64. День рождения Витьки. Просим не опаздывать.
- Да как же я... - потупилась Анюта.
- Значит, точно в 18.00. Сашка ничего не знает. - Юрка сказал это так доверительно и дружески, что Анюта удивленно вскинула на него глаза.
Из камбуза Юрка прошел в столовую и увидел Фофочку. Наваливаясь животом на липкую клеенку, Фофочка трудился: рождалась очередная "Молния".
- Надо ввести в судовую роль всех БМРТ должность Зевса-громовержца, - весело сказал Юрка и ткнул Фофочку в бок, - и вменить ему в обязанности метать "Молнии" в личный состав.
- Отстань, испорчу! - закричал Фофочка.
- Когда Шаляпин приходил к Репину, Репин вот так на него не орал, - наставительно сказал Юрка, - а рисовал, между прочим, не хуже тебя. - Он обнял Фофочку и взглянул через плечо на "Молнию". Это была не "Молния".
"Объявление, - прочел Юрка, - завтра, 1 августа, в 19.00 в столовой состоится общее собрание экипажа. На повестке дня: 1. Итоги промысла. Докладчик: капитан-директор БМРТ "Державин" П. С. Арбузов. 2. Принятие новых соцобязательств. 3. Разное".
- Красота! - сказал весело Зыбин.- Подумать только, лишь сутки отделяют нас от того часа, когда в столовой соберутся посланцы со всех концов нашего необъятного траулера. Как говорится, радостная весть облетела корабль... Ну, ладно, ты давай закругляйся с этой фреской - и айда в каюту. А то гости придут, а хозяев дома нету...
К 18.00 в каюте № 64 был полный ажур.
Все блестело, такая немыслимая была чистота. Барашки иллюминаторов были надраены так, что на них прямо смотреть было больно. На столе, покрытом белой бумагой, стояли шесть тарелок. Для закусок тарелок раздобыть не удалось, и закуски лежали прямо на бумаге, но не навалом, а аккуратно, этакими декоративными кучками: колбаса копченая (из чемодана Фофочки), сыр голландский, жареная макрель и порезанный дольками кусок холодной говядины (Хват принес от Казаева), две луковицы, тоже порезанные кружочками, как лимон, масло (Анюта), хлеб и даже коробка шпрот (Фофочка). Стаканы и вино Зыбин предусмотрительно держал пока в своем шкафчике: всякое могло случиться, набредет начальство, поднимет крик насчет пьянок и аморалок, несовместимых с высоким званием советского моряка. А кому это нужно?
На стенах каюты висели писанные Фофочкой плакаты: "Да здравствует славное 25-летие!", "Быть передовым- это значит быть, как Витя" - и цитата, слегка переиначенная Зыбиным, из Лермонтова:
Полковник наш рожден был Хватом.
Слуга - царю, отец - солдатам.
Сам Хват в чистой салатового цвета шелковой рубашке сидел пока один за столом, придирчиво оглядывая все это великолепие и щурясь от удовольствия. Он был доволен достатком на столе, доволен подарками: огромной ракушкой от Зыбина, ножиком о восьми предметах от Фофочки и флаконом "Шипра" от Сашки. Он уже радовался будущей выпивке, - предвкушал богатый и неторопливый ужин, так не похожий на ужины в столовой, когда ты еще чая не допил, а уж гасят свет, уж кричат "пригнись мозгами!" и начинают крутить кино, которое видели сто раз. И плакаты ему нравились, и даже почему-то не раздражало надоевшее покачивание каюты, казалось, будто траулер тихо и задумчиво, вальсировал в океане.
Вокруг стола суетился Зыбин, раскладывал вилки, ножи, резал хлеб. Потом убежал мыться, вернулся розовым и энергичным пуще прежнего, надел свою парадную рубашку, купленную в Рио два года назад, и начал кричать, что все опаздывают и что с такими людьми лучше ничего и не затевать. А Вите было приятно, что Юрка вот так волнуется и принимает все так близко к сердцу.
Наконец явился Фофочка и сказал, что Сашка запоздает, и просил начинать без него. Следом за Фофочкой пришел Ваня Кавуненко, тоже в чистой рубашке и старательно причесанный. Он подарил Вите оранжевую ветку коралла, почти нигде не обломанную, такую невероятно причудливую, что у Зыбина, большого охотника до морских диковинок, слюни потекли. Витя коралл по кругу не пустил, разрешил смотреть только из своих рук. Еще Ваня принес продолговатый сверток, а когда развернул, снова все ахнули: в бумаге оказалась бутылка "Московской особой", сорок градусов, под серебряной шапочкой, со льда, вся запотелая, леший ее задери, - и откуда только такое чудо!
- Аж неудобно, - смущенно сказал Витя, принимая поллитровку, и потупился, будто Ваня преподнес ему перстень с бриллиантом.
Все сели к столу, не из-за нетерпения, а потому, что просто некуда больше было сесть, если не на койки Зыбина и Сашки. Тут в дверь постучали.
Зыбин метнулся к водке, и бутылка исчезла у него в руках, как у фокусника.
- Да, да, - сказал Ваня.- Входите...
Вошла Анюта. Все знали Анюту в белом халатике, даже не думали, что она может быть одета во что-то другое, и теперь, когда увидели ее в голубом платье и без белой косынки, волосы, как лен, как-то кверху зачесаны, так, что видна вся шейка и ушки розовые, такую стройную и ладненькую, тоненькую - загляденье! - ну, просто рты все поразевали, и молчат, и не знают, что и говорить.
- Ну, вот я и пришла, - сказала Анюта и улыбнулась Зыбину.
А Юрка все глядел на нее и чуть не поставил "Московскую" мимо стола. "Эх, хороша девка..." - подумал он и стал дальше про это думать, но остановил себя.
- Молодец! - сказал Ваня.- Садись скорей!
- Садись, - сказал Хват. - Гляди, чего у нас есть, - и показал глазами на поллитровку.
Анюта засмеялась - такой непосредственной была радость Витьки - и села между Фофочкой и Юркой.
- А подарок я принесу через полчаса, - сказала Анюта, - подарок в духовке пока.
Юрка запер дверь на ключ (не от начальства, а от своих: учуют, что выпивка, и наползут) и сказал решительно:
- Сашку ждать не будем. Прошу к столу, - хотя все уже сидели за столом.
Он открыл шкафчик, достал две бутылки "Матрассинского", стаканы изамер, не спуская глаз с Вити, который цепко тянул "Московскую" за серебряное ушко.
- Я вино пить буду, - сказала Анюта.
- Правильно, пей вино, - сразу поддержал Хват, которому жаль было расходовать на Анюту водку.
Разлили водку по стаканам, граммов по пятьдесят, прикидывая, чтобы осталось на второй круг с учетом Сашкиной доли.
Юрка налил Анюте вина, поднялся:
- Товарищи! Дамы и господа! В дни, когда, по словам деда Резника, вся наша страна переживает невиданный трудовой подъем, мы собрались здесь, чтобы отметить двадцатипятилетие известного, нет, прошу прощения, выдающегося русского советского рыбака Виктора Хвата. Вся жизнь товарища Хвата - пример самоотверженного служения...
- Кончай, - взмолился Витя, который от нетерпения сучил под столом ногами, - закругляйся!
- Ура, товарищи! - закричал Юрка.
Клацнули стаканы, чокнулись, разом выпили, морща носы, разом потянулись за закусью.
- Пошла, - доверительно сообщил Хват Ване.
- И у меня пошла, - поддакнул Фофочка, который, по правде сказать, и не знал толком, что значит "пошла", а что - "не пошла". Он молниеносно, прямо на глазах пьянел.
Заговорили. Ваня с Витей о разноглубинном трале, Юрка с Анютой о близком уже доме, Фофочка вставлялся то к тем, то к другим, потом потребовал у Хвата, чтобы разливали по второй. Витя охотно согласился. Фофочка встал.
- Я предлагаю тост за девушек, - очень значительно сказал он.
- Ура! - закричал Юрка.- Все пьют за Анюту! - Не за Анюту, - строго поправил Фофочка, - а за всех девушек. И Анюта на меня не обидится. Правильно, Анюта?
- Правильно,- сказала Анюта.
- За всех, так за всех! - быстро согласился Хват
- Давайте за всех,- весело сказал Юрка. - Белых, желтых и черных. Ура!
- Ура! - прогудел Ваня и первый чокнулся с Анютой.
- Ура! - подхватил Хват, радуясь, что тост не затянулся.
Выпили по второй.
В запертой двери задергалась ручка. Все оглянулись на дверь. Ручка дергаться перестала. Тихонько; тук, тук, тук-тук-тук, тук - условный стук.
- Сашка, - успокоенно выдохнул Хват.
Юрка отпер дверь. Вошел Сашка. Увидал Анюту очень смутился, спешно забормотал что-то дурацкое:
- Значит, вся компания в сборе? Ну, примите в компанию! А то, может, не примете? Все съели-выпили без меня, а? Я уж и так торопился, все, думаю, без меня съедят...
На людях в присутствии Анюты Сашка глупел катастрофически. Юрка встал, уступил Сашке место подле Анюты. Сашка замычал что-то, протестуя, Юрка зашикал на него:
- Я с краю должен... У меня вино в шкафчике, садись, садись...
- Штрафной ему! - заголосил Фофочка. Хват налил Сашке остатки водки, законную его долю.
- Ну расти большой и будь здоров! - Сашка чокнулся с Хватом, с ребятами, с Анютой напоследок, она улыбнулась ему, он совсем смешался, спасаясь от ее глаз, махнул в рот водку, поперхнулся, закашлялся, начал закусывать чем попало, только бы побыстрее.
- Не пошла! - прокомментировал Фофочка.
Юрка постучал Сашку по спине. Все развеселились еще больше. Витя с сожалением повертел в руках пустую поллитровку и бросил ее в иллюминатор. Она беззвучно исчезла.
- Кончен бал, погасли свечи, - сказал Юрка.
- Будем пить родное тропическое! - закричал Фофочка.
Витя стал разливать вино.
Сашка, вконец подавленный близостью Анюты, удивленный донельзя тем, что это она, Анюта, невероятно, до слез, красивая в этом голубом платье, вот здесь так запросто, в его каюте, рядом с его ребятами, ест, пьет вино помаленьку, разговаривает то с Фофочкой, то с Юркой, то с Ваней Кавуненко, сидел столбом, трезвый, - хмель не влезал в его мятущиеся мозги, - не знал, что делать, что говорить.
- Быстро вы собрание провернули, - сказал наконец Сашка Зыбину для того, чтобы хоть что-нибудь сказать.
- Какое собрание? - рассеянно спросил Юрка, кусая ломоть холодной говядины. - Витька, ешь мясо. Мясо - первый сорт...
- Ну как какое? С обязательствами...
- Завтра будет собрание, - вставился Фофочка, - завтра в 19.00. - Витя, не наливай ему больше. Он уже хорош,- сказал Сашка.
- Это ты хорош! - пьяно обиделся Фофочка. - Завтра в 19.00.
- Точно, - весело сказал Юрка, - сам мешал ему писать... Так что, Витя, наливай ему, я разрешаю.
- И я видела, - сказала Анюта, - объявление в столовой висит.
- Что я, псих, что ли! - упорствовал Сашка. - Как оно может быть завтра, если я сейчас только передавал обязательства?
- Это какие еще обязательства? - насторожился Хват. Он не любил обязательств.
- В честь пленума, - сказал Сашка растерянно.
- Как в честь пленума? - спросил Ваня.- Как же так...
- Пленум завтра открывается… Ты радио слушаешь? - спросил Сашка.
Витя снова начал разливать.
- Погоди, - остановил его Ваня, - поставь посуду. Не пойму я что-то...
- А что тут понимать? - удивился Сашка.- К открытию пленума БМРТ "Державин" заморозил 500 тонн рыбы и берет обязательство заморозить еще 100 тонн. Принято единогласно на общем собрании...
- Да ты понимаешь, что не было никакого собрания! - взвился Юрка.
Все смотрели на Сашку.
- И какие 500 тонн, если с утра было 465? Ну, пускай ошиблись, просчитались, тунцов приплюсуй, пускай 470, но ведь не 500! Как же ты передаешь "500"?! -наскакивал Зыбин.
- Да я-то при чем? - Сашка начинал злиться.- Собрание постановило, а я...
- Опять собрание! - Зыбин воздел руки. - Не было собрания, понимаешь? Не-бы-ло!
- Но я передал...
- "Липу" ты передал! "Ли-пу". Фальшивку, понял? Которую завтра в 19.00 будут проводить задним числом, понял?
- Но ведь подписи...- робко возразил Сашка.
- Чьи подписи? - Арбузов, Бережной, Митрохин.
- Арбузов, Бережной... - повторил Юрка. - Ладно, пусть Арбузов и Бережной, бог им судья. Но Митрохин! Пашка Митрохин, лучший механик, краса и гордость, комсорг! Выбрали на свою голову... Где Пашка?! - Он подскочил вдруг, как на пружине, будто чертик из табакерки. - Где Пашка? Давай его сюда! Я его спрошу, в каких это трюмах он 500 тонн нашел! И про обязательства мои, и твои, и твои, - он тыкал пальцем в грудь Вити, Фофочки, Вани, - спрошу у него.
- Полез в канистру, - добродушно сказал Хват. - Из-за чего крик? 500 или 470. Завтра собрание или сегодня. Какая разница? Пока трюма не набьем, домой не пойдем. Тебе не один хрен, когда ты за эти трюма будешь голосовать? Тебе что, завтра тяжелее руку подымать будет? Просто смех: начальство в Москву шлет радиограмму, а матрос Юра за нее психует.
- А 500 тонн - это, я думаю, просто для круглого счета,- глупо сказал Фофочка. - 500 или 470, разница всего 30 тонн. Это же пустяки...
- Это два дня работы, а не пустяки, - сказал Ваня.
- Бережному виднее, сколько у нас тонн, - улыбнулся Хват и поднял стакан. - Давайте выпьем за...
- "Бережному виднее"?! - закричал Зыбин. - Ему всегда виднее! Почему же ему виднее, Витя? - Он вскочил из-за стола. Некрасивое лицо его раскраснелось от вина, только странно белели оттопыренные уши. Все тело напряглось и вздрагивало, словно в ожидании решительного бега. - Я вот все думаю, думаю и никак придумать не могу. А может быть, все-таки нам с тобой виднее, а? Братцы, что же такое, братцы, - он говорил уже тихо. - Ваня, объясни мне, ты же правильный человек... Объясни мне, Ваня, почему же Бережному всегда виднее. Все ему виднее: чей лангуст в трале сидит, виднее; как деду Резнику про мукомолку рассказывать, - опять виднее. И сейчас, оказывается, виднее ему, сколько я вот этими руками рыбы перекидал и сколько еще перекидать думаю... Тогда объясни мне, Ваня, кто я такой. Советский я человек на советском пароходе или пешка черная непроходная? Почему тебе не стыдно спросить меня, если чего не знаешь, почему вот Фофочку - штурмана – я могу морю учить, почему же я у Бережного только пень дубовый, дурью кантованный, ничего сам не понимаю: ни как работать мне, ни как о работе своей сказать, ни как штаны в гальюне снимать, прости господи! А?
- Ну при чем тут это... - примирительно вставился Фофочка.
- Ты молчи! - перебил Юрка. - Для круглого счета, говоришь, 500 тонн придумали? Почему же не 400 или не 450? Тоже круглый счет. Вот скажи мне, Фофочка, грамотный ты человек, почему не придумали 700 или .1 000 тонн? A?
- Семьсот не влезут. А 500 - это близко... Вполне реальная цифра...
- Реальная! Реальная, говоришь! Значит, врать можно, надо только, чтобы похоже было на правду. Так?
- Не так, - сказала вдруг Анюта. - Или врать, или не врать, а сколько врать - это уже все равно.
- Во! - Юрка снова обернулся к Фофочке. - Слышишь? Вот она понимает это, а ты, с дипломом своим, ни черта не понимаешь! И кому врать? Зачем? Ну давай наврем, что заморозили тыщу тонн сардины, что амбары у нас трещат, хлеба нам некуда девать, что ракет атомных у нас десять миллионов или десять миллиардов и все на "товсь" стоят. Мы что, сильнее станем? Я так думаю - наоборот. Никогда от вранья сильнее не станешь. Так зачем тогда 500 тонн? Кому это выгодно?
- Начальству,- сказал Хват,- кому ж еще...
- Теперь давай разбираться потихоньку, - сказал Ваня.- Значит, начальству. Начнем с капитана. Парню тридцать два года. А ему доверили посуду на 4700 тонн и 106 душ. Первый в жизни рейс капитаном. Это ты должен понимать? И какие у тебя к нему претензии? Сходили зазря в Гвинейский залив? Ну, ошиблись. Пусть. А еще? Ну, что молчишь? Возьми стармеха Петра Анатольевича.
- При чем здесь "дед"[9]? - перебил Юрка.
- Как при чем? Мы же о начальстве говорим, а "дед", поди, второй человек тут... Ну, так вот Петр Анатольевич... Тебя машина хоть раз подвела? А ведь уже накрутили на винты восемь тысяч миль и еще тысяч пять накрутим. Не шутка, брат, по глобусу мерить можно. Ступай к Пашке Митрохину, спроси у него за стармеха. Пускай Пашка тебе расскажет, как из него, жлоба одесского, пьяни портовой, стармех человека слепил.
- Оно и видно, "человека", - перебил Зыбин. - На собраниях шибко идейный, а сводки "липовые" подмахивать ему идеи его не мешают...
- Откуда эта подпись, разобраться надо, - спокойно сказал Ваня. - Так кто же это начальство? Давай в открытую: Бережной, да? Согласен, случайный на море человек...
- А на суше не случайный, а вообще в партии не случайный? - бросил Зыбин.
- Дикая вещь, - продолжал Ваня, - вас послушаешь - и получается так: рыбу заморозили мы, целину распахали мы, спутник пустили тоже мы. Все правильно. Ну, а если что плохо, тогда кто? Если плохо: совнархоз, Госплан, министры в Москве, только не мы. Так получается? Почему так? Я об этом много думал. Не знаю, прав я или нет, но думаю так: перестали люди чувствовать себя хозяевами, ответственными за все... Только-только начинаем мы снова силу в руках... Нет, не в руках, в голове набирать. Место самому себе во всех делах находить. Юрка кипятится, но в главном он прав: надо точно запомнить - мы не пешки, нам до всего дело есть...
Привычный уху шум воды за бортом изменился: "Державин" сбавил ход до малого.
- Сыпать будут, - сказал Хват.
- Выпьем, что ли? - спросил Фофочка.
- Правильно,- сказал Хват, - надо выпить.
- Ой, мамочка! - вдруг в ужасе закричала Анюта, вскочила, бросилась к двери, повернула ключ и бегом понеслась по коридору.
Все переглянулись.
- Понял,- сказал Юрка. - Накрылся ваш подарок, мистер Хват.
Анюта вернулась с тарелкой, на которой лежало что-то круглое, цвета кофе по-турецки.
- Подгорел, - убитым голосом сказала Анюта. - Но цифры все-таки видны...
Неожиданно (было уже темно) подняли большой трал, а следом - еще один, больше прежнего. Работали всю ночь. Когда на собрании вечером следующего дня Бережной сказал, что экипаж траулера встретил пленум хорошим трудовым подарком: заморожено 500 тонн сардины,- из задних рядов кто-то поправил:
- Не пятьсот, а пятьсот две... Обязательства приняли единогласно, как и сообщалось накануне в радиограмме.
Сто восьмой день рейса
Через неделю взяли полный груз, вбили в трюмы что-то около 592 тонн (больше не влезало), не считая тунцов, двух морских черепах и гигантской акулы-молота, которых везли для музея. Акулу, чтобы не занимала много места, привязали к трапу холодильного трюма. Она заиндевела, глаза белые, а если пальцем тронешь плавники, тонкий такой звон...
Убрали трал, закрепили стрелы на корме по-походному, вымыли рыбцех. Капитан поздравил команду, выдали по стакану вина сверх нормы, объявили День отдыха, из последних остатков пресной воды устроили баню и отсыпались всласть, чистые на чистом белье. А утром не сразу как-то и поняли, что все. Все! Что путь теперь один - домой. Сидели в столовой тихие, растерянные какие-то. Все хорошо, только вот харч был не праздничный. Мясо перемерзло, картошка кончилась, рыба, рыба, макароны, макароны... Подумать только: в Гибралтаре купят 200 килограммов редиски!
Потом устроили грандиозную приборку, мыли, скребли, драили, красили. Работа была веселая, на воздухе. Это вам не рыбцех, не мукомолка вонючая, это курорт самый настоящий!
Африка растаяла на востоке, зато с левого борта совсем близко плыли Канары - цепочки гор острова Фуэртовентура, такая зеленая, прекрасная земля и название удивительное, как у волшебной птицы: Фуэртовентура. Зелень земли заливала океан, из ярко-синей вода стала бутылочной, не поймешь, что и красивее. Айболит рассказывал, что на Канарах лучший в мире климат, зимой и летом 25 градусов, дождей сколько надо, а остальное - солнце.
Зыбин красил на корме трап, слушал Айболита и думал о том, что справедливо было бы понастроить на Фуэртовентура Артеков, возить сюда ребятишек со всего света, садок от акул им отгородить, апельсинов пароходика два в месяц пригонять из Марокко, вот это был бы порядок... Он тосковал о сыне больше, чем о жене.
Прошли Канары, и океан снова стал синим, вспыхивал ярко-белыми гребешками, катился во все стороны неоглядно широко. Все теперь ждали Гибралтара, только и говорили о Гибралтаре, прикидывали и "соображали".
Юрка не раз бывал в Гибралтаре, знал этот маленький городок вдоль и поперек и эти разговоры знал, так и должно быть, всегда прикидывает матросня, как будет она обарахляться, что почем, точно все рассчитают до последнего шиллинга, а на деле все получается по-другому, это уж обязательно.
Больше всех тревожился Витя Хват. Сам факт первой в жизни встречи с чужестранной землей совершенно не волновал его. Он все старался уточнить прейскурант гибралтарских розничных цен на промышленные товары и соразмерить его со своими возможностями. Вместе с Сережкой Голубем сидели они на верхней палубе, карандаш, бумажка,- прикидывали.
Витя решил танцевать от печки.
- Так,- сказал он Голубю, - давай по порядку. Почем у них хлеб?
Сколько стоил хлеб в Гибралтаре, Голубь не знал.
- При чем тут хлеб?! - горячился он. - Каперту можно найти за два фунта. Первым делом бери "Мишек", "Тарантеллу", а если нет, "Мадам Коробчи". "Мишки" в Донбассе "на ура" идут...
Капертами назывались ковры из искусственной пряжи, которые делали не то в Неаполе, не то в Барселоне и свозили в Гибралтар специально для русских моряков, потому что больше никто их не брал. Учитывая это, на капертах яркими ядовитыми красками изображались картины, которые, по мнению их изготовителей, не могли не тронуть загадочную славянскую душу: "Утро в сосновом лесу" Шишкина - эта каперта называлась в обиходе "Мишки", а также "Три богатыря" и "Аленушка" Васнецова. Для экзотики делали "Тарантеллу" - чернокудрая красавица в вихре юбок, разумеется, с кастаньетами в руках, и "Мадам Коробчи", душераздирающая сцена: всадник в белом бурнусе, перед ним поперек седла перекинута пышная блондинка с развевающимися на ветру волосами, а сзади - погоня на арабских скакунах. Была еще одна картина: бедуины и верблюды подле великих пирамид,- но шла она плохо, и названия ей не придумали.
В Одессе, Херсоне, Ялте и Керчи комиссионки давали за каперту ровно 1004 рубля, цену эту знали наизусть все китобойцы и танкеры, все перегонщики, траулеры и рефрижераторы, цена, как говорится, твердая, а хочешь больших прибылей - кати в Донбасс или в Ташкент. Поэтому каперта была вроде самостоятельного гибралтарского денежного знака со своим валютным курсом. Считалось, что, если уж и покупать что в Гибралтаре, так самый резон эти вот каперты. Хват решил во что бы то ни стало добыть шесть каперт.
Фофочка не думал о капертах. Он никогда не был в Гибралтаре, как, впрочем, в любом другом иностранном порту, и ждал его с нетерпеливым любопытством. Если для Хвата Гибралтар был универмагом, то для Фофочки - скорее цирком.
Сашку будущая стоянка манила потому, что он надеялся хоть несколько часов побыть с Анютой, если не наедине, то хотя бы среди людей незнакомых, равнодушных к их близости.
Гибралтар для Юрки Зыбина был прежде всего землей, твердью, которая не качается и не дрожит, по которой можно идти так долго, что с непривычки заболят ноги, и можно даже пробежаться, на которой растут деревья с зелеными листьями и зеленая трава, и бегут ручьи и речки, и вода в ручьях и речках не пахнет железом. Ему хотелось съесть апельсин, один большой тонкокожий испанский апельсин, впиться в него зубами и почувствовать, как сок бежит по подбородку. Один апельсин, а после он снова согласен на макароны и рыбу. И еще хотелось ему увидеть новые, незнакомые человеческие лица и увидеть детей. Такие всегда причесанные мальчишки в Гибралтаре...
Дед Резник мечтал, как он купит себе крепкого табаку, самого крепкого, какой только найдется в этой лавчонке у казарм, слева, если идти из порта в город.
Доктору Ивану Ивановичу не терпелось осмотреть достопримечательности. Стармех Мокиевский рассказал ему, что в Гибралтаре есть музей, а в парке прямо на свободе гуляют обезьяны, и ему очень захотелось сфотографировать обезьян на свободе.
Сам Мокиевский, думая о стоянке, представлял себе, как они с ребятами, не торопясь, разберут по винтику этот злосчастный насос забортной воды и узнают наконец, что же с ним стряслось. Мокиевский был в Гибралтаре, наверное, раз сорок.
Старпом Басов прикидывал, успеют ли они покрасить нос и где, черт побери, будет он искать эти японские батарейки. Иногда даже снился сон: вплотную придвинув к нему лицо, сын спрашивал зловещим шепотом: "Ты купил мне японские батарейки?"
Капитана Арбузова занимали более всего хлопоты, связанные с любым заходом в иностранный порт: работа с лоцманом, визит карантинного врача, торговля с шипшандлерами[10] - того и гляди надуют, всучат какую-нибудь гадость, тухлятину, начнутся всякие фокусы с валютой, - да мало ли мороки в порту...
Но более всех тревожил заход в Гибралтар Бережного. Николай Дмитриевич очень боялся, что в Гибралтаре кто-нибудь убежит. "Убежит" - в смысле попросит политического убежища. Ведь были случаи! Были! Имели место! И, наверное, тогда тоже казалось: некому вроде решиться на такое, а нашелся подлец!
В который раз уже перечитывал Николай Дмитриевич судовую роль, одну фамилию за другой. Большинство фамилий связывалось в сознании Бережного с живыми человеческими лицами, а если он не мог вспомнить лица (все-таки 106 человек), то смотрел фотографию 4 х 5 на анкете и тогда уже вспоминал. Читал снова и снова, крутил так и этак, и все получалось, что вроде бы некому бежать,- все люди как будто надежные.
Сначала он особенно бдительно присматривался к тем, кто впервые попал в загранплавание и никогда не был в иностранных портах. Но потом подумал вдруг, что убежать может и не новичок: один раз сходил, поглядел, понравилось. На другой и задаст стрекача...
За эти несколько дней узнал он из анкет очень много интересного: кто женат, а кто нет, у кого дети, у кого живы родители, а у кого умерли. Сперва он испытывал невольную симпатию к семейным, особенно многодетным. Но много детей - тоже не очень хорошо. От другой семьи не захочешь - убежишь. И алиментов платить не надо, не взыщут... И хотя ни в одной из сотни анкет не видел он, казалось бы, ничего подозрительного и заслуживающего недоверия, все-таки было страшно: "Вдруг!" Скажут: "Ты куда же глядел?"
Что делать? Кое-что можно сделать, конечно. Разбить всех на пятерки. Еще лучше на тройки. Пускай идут в город тройками. Одного ответственным назначить: чуть что, есть с кого спросить. Ну и по сменам, конечно, с умом распределить: кто с утра пойдет на берег, а кто после обеда. Например, радиста с судомойкой, ясное дело, в одну смену нельзя пускать. Тут и двух мнений быть не может. Но одними тройками задачи не решишь. Удрать и из тройки можно. "А ну как всей тройкой сговорятся?.. Ну как же я им всем в душу влезу?"- с тоской подумал Николай Дмитриевич и начал читать список: Алисов, Арбузов, Бабкин, Бережной, Бражник,- пока не уперся глазами в одну фамилию: Зыбин. Дерзкий этот Зыбин. Упрямый. Ну и что? Ну упрямый. Это еще ни о чем не говорит... Вот и жена у него, сын Валерий пяти лет. Это хорошо. Плавает с загранпаспортом уже давно. За китами ходил. Это хорошо. Везде вроде хорошо, а спокойствия нет. Взгляд у него какой-то не такой...
Николай Дмитриевич пополз глазами дальше, по списку, нигде не задержался, а когда дошел до конца, вновь вспомнил Зыбина и тут же отметил про себя: "Вот ведь ни о ком не думаю, а о нем думаю... Почему? Интуиция?.." Он решил пристроить Зыбина в надежную тройку, но сколько ни подбирал ему попутчиков, все ему казалось: не те. "Хоть с собой его бери, - подумал Бережной.- А что? Может быть, это - самое лучшее..."
Мысль создать тройку под собственным командованием сразу как-то увлекла Бережного. Итак, он с Зыбиным. А третий? Третьим хорошо бы человечка с языком. Он быстро перелистал анкеты и остановился на анкете Айболита: Хижняк Иван Иванович, 1911 года рождения, украинец, из служащих, член КПСС, не состоял, образование высшее, окончил Львовский медицинский институт... английский (читаю, пишу), немецкий (читаю)... в плену и окружении не был... не имеет... "Отечественной войны" II степени, "За боевые заслуги", "За победу над Германией",- все в порядке.
Бережной успокоился. "Убежит! Убежит!.. - почти весело подумал он. - Никто никуда не убежит..."
На следующий день было короткое собрание, выступал капитан, сказал, чтобы все было пристойно по части выпивки, напомнил о драках и вообще о поведении в зарубежном порту, сказал, чтоб не забывали, короче, кто они есть.
Потом выступил Бережной, объяснил, что Гибралтар - колония Великобритании, крупнейшая крепость и оплот милитаризма, играющий важную роль в планах НАТО. И потому надо быть особенно бдительным и не поддаваться на провокации.
- А провокации возможны, - добавил он негромко и значительно.
Все притихли. Когда капитан поинтересовался, есть ли вопросы, Фофочка вдруг поднял руку и спросил, какие возможны провокации. Кто-то засмеялся. Бережной насупился, помолчал, потом ответил, что возможны самые различные провокации. Например, будут бесплатно предлагать выпивку. Дед Резник подумал про себя, что за сорок пять лет скитаний по белу свету нигде от Архангельска до Веллингтона ни разу не посчастливилось ему нарваться на такую провокацию. Однако промолчал: теперь все может быть, теперь времена другие...
Потом Айболит выступил с короткой исторической справкой, рассказал о маврах, испанцах и англичанах, кто кого когда побеждал.
Потом объявили, кому ехать с утра в город, а кому с утра красить нос и кто поедет в город в 14.00 и кто в 14.00 заступит красить нос. Тут Сашка узнал, что ему ехать утром, а Анюте вечером, и ужасно расстроился. Так расстроился, что решился идти к капитану просить отправить его тоже утром.
Пошел. Аргументов по работе у него не было никаких: радиостанция в порту не работала. Капитан и слушать не стал его лепет, замахал руками и сказал, чтоб он не морочил ему голову, а шел бы лучше к Бережному; вникать он, капитан, в это дело не будет, не надейся. "И не все ли равно, черт вас всех задери, когда ехать?!"
Когда Сашка пришел к Бережному, Николай Дмитриевич встретил его приветливо, но в ответ на просьбу перевести его в другую группу сказал, что расписание утверждено капитаном-директором БМРТ и ломать его никому, даже ему, Бережному, не позволено, иначе не надо было бы составлять и утверждать никакого расписания и что, если капитан-директор издаст приказ, отменяющий это расписание, составит и утвердит новое, то у него, Бережного, никаких возражений не будет.
Сашка скис. Зыбин застал его в каюте лежащим на койке прямо в резиновых тапочках - сроду не было, чтобы Сашка в обуви на койку завалился, - и сразу все понял.
- Не разрешает? - спросил Юрка.
- Ну не все ли ему равно, паразиту?! - Сашка встрепенулся. - Любой приказ обязан иметь смысл. Какой тут смысл, объясни! Объясни мне, и я заткнусь, но ты мне объясни! - Он ударил кулаком по подушке.
Юрка молчал.
- Молчишь? - зло спросил Сашка. - Под банкой ты много говоришь, прямо оратор, борец за справедливость, а сейчас вот что-то не слышно тебя!
"Ведь он прав, - вдруг подумал Юрка. - Почему мы все смелые только на словах? Вообще-то мы такие смелые, такие честные, так рубим правду-матку. А как до дела доходит - в кусты. Если только нам самим хвост не прижмет, все норовим отмолчаться..."
Бережной сидел за столом над списками, когда в дверь каюты постучали.
- Да-да, - отозвался он.
Зыбин стоял на пороге, аккуратный, подтянутый, почти по стойке "смирно".
- Разрешите...
- Прошу, прошу... Садитесь...
- Николай Дмитриевич, у меня к вам одна личная небольшая просьба, - сказал Юрка совершенно спокойно и как-то очень достойно.
- Пожалуйста... Всем, чем могу... - Бережной еще не знал, о чем будет говорить Зыбин, но был уверен, что просьба его как-то связана с Гибралтаром.
- Не разрешите ли вы мне во время стоянки съехать на берег во вторую смену - вместо Сергеевой? А она поедет в первую?
- Это зачем же? - спокойно спросил Бережной и подумал: "Ну-ка, что ты, интересно, ответишь? Что ты придумал на такой случай?"
- Я объясню. Дело в том, что Анюта Сергеева с камбуза и Саша Косолапое любят друг друга и хотели бы вместе съехать на берег. Погулять, посмотреть город...
Всего ожидал Бережной, но только не этого. Всякого ловкого обмана, всякой хитроумной лжи, но не правды.
- Понимаю, понимаю, - Бережной взглянул прямо в зрачки Зыбина, - хотя и не одобряю, прямо скажу. Любовь - дело хорошее. Но всему свое время. Приплывем домой - пожалуйста! Люби сколько хочешь. А тут - загранплавание. Пять миль до берега. И берега, сам знаешь, какие это берега... Не наши с тобой берега. - Николай Дмитриевич успокоился, обычная уверенность уже вернулась к нему. - Так что давайте-ка попридержим нашу любовь. - Он припечатал ладонью стол. - Приказ капитана-директора из-за любви ломать не будем. Ясно?
- Ясно, - ответил Зыбин.
- Ну вот и отлично...
- Ясно, что вы поступаете неправильно.
Бережной резко обернулся.
- А об этом не вам судить, товарищ Зыбин!
- Я высказываю свое мнение, - твердо сказал Юрка.
- А меня не интересует ваше мнение! Ясно?!
- Вот теперь ясно окончательно. - Зыбин повернулся и вышел.
Он возвратился в свою каюту, когда Сашка уже ушел обедать. Это хорошо: хотелось побыть одному. Лег на койку. "Вот так. Вот так теперь всегда. Это сначала трудно, а потом уже невозможно будет иначе. Надо привыкнуть быть человеком. Как хорошо! Словно умылся чистой холодной водой..."
Он закрыл глаза.
Когда Сашке после обеда пил в столовой компот, а Анюта вытирала столы, он рассказал ей о том, что ходил к капитану и к первому помощнику и что ничего не вышло, вместе на берег им сойти не удастся. Анюта улыбнулась ему в ответ. Так она еще не улыбалась ему и сказала просто:
- Потерпи немного. Ведь совсем скоро дома будем...
После этих слов Сашка не мог пить компот и убежал. А потом, когда она уже ушла на камбуз, ворвался туда, как сумасшедший, с листком белой бумаги и карандашом. Бросил листок на стол, заставил Анюту приложить ладонь к листку и начал обводить ладонь карандашом. Было щекотно, когда карандаш полз между пальцами, Анюта смеялась и все спрашивала: - Зачем это тебе? Слышишь, зачем?
А он схватил листок и умчался.
Сто девятый день рейса
Поднялись рано, сами, без побудки. Мылись, брились, чистились. У Фофочки обнаружился гуталин, набежали, вымазали банку в пять минут. За утюгом стояла очередь. К Коле Путинцеву, который на корме ровнял машинкой виски, тоже стояла очередь.
Не успели позавтракать, как из-за волнореза выскочила красно-белая моторка, понеслась к траулеру. Это был шипшандлер, но уже другой, не тот, что приезжал вчера. Этот из банка, деньги привез. На носу моторки и на спасательных кругах значилось "Tatiana",- шипшандлер работал с русскими. Молодой, улыбчивый парень в дождевике. Помахал рукой.
- Добрый день! - сказал совсем без акцента. Прошел к капитану.
Город, огни которого видели ночью, утром оказался совсем другим - куда меньше вчерашнего. На вершине скалы, кроме радиомачт, виден был теперь ровный строй светлых домиков, похожих на казармы или бараки. Ниже их проглядывалась в зелени дорога. Внизу город распался на отдельные кубики домов, больших, желтых, этажей в шесть, и совсем маленьких, сливающихся за пакгаузами порта в плоскую пеструю мозаику. Слева далеко выдвинулось в бухту насыпное поле аэродрома. На краю его чернели ангары и ярко блестели маленькие крестики самолетов. А вокруг был порт. Ветер носил чаек, как обрывки газет. Горы угля, юрты нефтехранилищ, краны, похожие на скелеты доисторических ящеров, тех, которые ходили на двух ногах...
По радио объявили: всем идти в столовую получать деньги и пропуска в город. Хват получил одним из первых и. отойдя в сторонку, изучал теперь свои капиталы, слушая объяснения Голубя.
- Зеленые, во, видишь, водяной знак, баба в шлеме - это фунты. Коричневая - десять шиллингов. Ну, полфунта. Вот эта монетка - ту шиллинг - это значит два шиллинга, а это поменьше - один, понял?
Витя с интересом рассматривал деньги, разглядывал молоденькую, совсем девочку, Елизавету, образцово причесанного Георга шестого, а на некоторых, изрядно потертых - Георга пятого, очень похожего на нашего Николашку.
Потом подали моторный бот, и все, кто съезжал на берег в первую очередь, собрались на корме у слипа. Сразу взять всех бот не мог, и Николай Дмитриевич со своей тройкой решил подождать второго рейса.
Вскоре бот вернулся и тут уже забрал всех. Город, так хорошо видимый с высокого борта траулера, сразу спрятался за пакгаузы и склады порта. Затрещал, завонял мотор, и они помчались, рассекая носом зеленую, тронутую нефтяными радугами воду, в которой носились щепки, обрывки бумаги, яркие апельсиновые корки. Бот пришвартовался к грязному каменному пирсу, все вылезли, прошли немного мимо крепких серых складов под гофрированным крашеным железом и очутились у ворот порта. Здесь они сдали свои пропуска полицейскому и получили взамен маленькие картонные бирочки - все, больше никаких документов.
Передавая бирочку, один из полицейских спросил о чем-то Зыбина по-английски, Зыбин улыбнулся, пошарил в карманах и передал полицейскому спичечный коробок.
"Английский понимает", - отметил Бережной. Как олько они миновали ворота, он взял Зыбина руку и совсем тихо спросил:
- Что вы передали полицейскому?
- Коробок спичечный. Он коробки собирает, - лениво ответил Юрка.
- А в коробке что? - еще тише спросил Бережной.
Юрка внимательно посмотрел в глаза Николаю Дмитриевичу: "Неужели хохмит? Нет..."
- А в коробке соответственно спички. А вот под спичками уже - ампула с нашим ракетным топливом.
- Ты мне шутки свои кончай, - строгим шепотом приказал Бережной. "Со спичками я перегнул" - подумал он. - Знаешь сам, где находишься...
- Знаю, - шепотом ответил Юрка. - Я здесь седьмой раз. Все знаю.
Николаю Дмитриевичу совсем не надо было разбивать весь экипаж на тройки или пятерки заранее. Люди, которые впервые попали в этот чужой и незнакомый город и не знали языка его жителей, совершенно естественно стремились не отстать, не затеряться, сами держались друг за друга и стихийно собирались в небольшие группы, объединенные не столько волей первого помощника, сколько просто личными симпатиями. И во главе их опять-таки стихийно оказывался не назначенный Николаем Дмитриевичем ответственный, а человек, побывавший раньше в этом городе или знавший несколько английских слов.
Оставив позади порт, рыбаки двинулись вверх по узкой улочке к центру городка и скоро вышли на небольшую площадь, ограниченную добротными казармами старинной постройки.
- "Здесь находится Первый батальон Его Высочества принца Уэльсского полка", - прочел вслух Айболит на фасаде одной из казарм.
Перед казармой маршировали десятка три солдат с автоматическими ружьями, одетые в рубашки с короткими рукавами и шорты. В сторонке, привлеченные их четкими перестроениями, горланя, носилась на велосипедах стайка мальчишек, видно, немалых озорников, но очень причесанных. Доктор решил сфотографировать этих солдат и мальчишек. Он уже снял колпачок с объектива, когда подошел Бережной.
- Не стоит, Иван Иванович, - чуть слышно сказал он. - Военная часть. Объект.- Он покосился на две надраенные медные мортиры начала XIX века величиной с табуретку, стоящие у входа в казарму. - Могут придраться, пленку засветить. - Рядом с мортирами сидел медный лев, а над ним на стойке висел медный гонг, яркий, как маленькое солнце. - Не стоит, право, Иван Иванович...
Рыбаки потянулись к лавчонкам, табачной и кондитерской, приютившимся тут же на площади, дед Резник купил себе большую пачку табаку и тут же набил трубку, в кондитерскую не заходили, поглазели на витрину и пошли дальше.
Все гибралтарские лавочники еще со вчерашнего вечера знали, что пришел советский "шип", знали, что на нем 106 человек команды, знали, сколько денег отвез им сегодня шипшандлер из "Royal bank of Gibraltar"[11]. Все это им было известно, и они понимали, что эти деньги русские с собой не возьмут, оставят здесь, и весь вопрос теперь, у кого оставят. Юрка представлял, как сейчас начнут цепляться к ним лавочники и как нелегко будет от них отбиваться. Ему не хотелось шляться по магазинам. До сих пор не мог он решить, что же ему, собственно, надо купить, и понял: значит, ему просто ничего особенного не надо. Нет, надо. Игрушку какую-нибудь надо Валерке привезти...
Юрка шел, с улыбкой поглядывая иногда на Николая Дмитриевича, натянутого, как струна (взгляд Бережного настороженно перебегал с дома на дом, словно он ждал, что из любой подворотни в него начнут стрелять), и на Ивана Ивановича, которого интересовало все: афиша американского боевика "Ночь в Сингапуре", старик, продающий лотерейные билеты, две монашки, утиным шажком пересекавшие улицу, балконы и ставни домов, - "помните, помните "Испанок" Коровина?" Никто не помнил "Испанок".
- Мы правильно идем? - глухо, как он никогда не говорил на траулере, спросил Бережной Зыбина.
- Точно, - ответил Юрка. - Сейчас выйдем на Мейн-стрит. Там все магазины... "Нашел себе гида", - подумал он с обычной своей неприязнью к первому помощнику.
Они вышли на узкую Мейн-стрит - главную улицу Гибралтара, по обе стороны которой шли лавки и бары. Лавки начинались еще на тротуаре. В лотках и коробках, прямо под ногами прохожих или на подставках у входа пестрели куклы, платки, носки, маленькие штуки тканей, над головами прохожих качались костюмы и кофточки, и свитеры, и пледы, и ковры, и еще невесть какая яркая галиматья, отчего вся улица представлялась празднично украшенной и казалась веселой, хотя никакого веселья нигде не было.
Айболит застрял в первой же лавке сувениров, хозяин которой напустил на бедного Ивана Ивановича стада деревянных слонов, легионы тореадоров и толпы карменсит. Он щелкал перед носом доктора кастаньетами, совал в руки зажигалки, открытки и колоды карт, навешивал на него вымпелы, косынки и бархатные куртки, на груди которых ярким шелком были вышиты морды тигров, а на спине - гибралтарская скала. Айболит оторопел. Потом начал интеллигентно отказываться, пытаясь объяснить лавочнику, что вряд ли он сможет все это купить, что его, собственно, интересует маленький бычок на витрине, в загривке которого качались бандерильи, и тореадор рядом, - хозяин бычка и слушать этого не хотел.
Юрка от души смеялся вначале, но, когда заметил, что потный Айболит сломлен и уже тянется в карман за бумажником, поспешил на выручку.
- Финиш, - строго сказал Юрка лавочнику. - Этот господин пошутил. Он желает иметь этого, ну... (забыл, как "бык" по-английски), ну, корову-мужчину за 6 шиллингов... Во-во, именно этого... - и добавил по-русски: - Доктор, тут вам не Херсон, тут вам не скажут: не хотите - не берите. Капитализм, доктор, кровожадная борьба за рынки сбыта.
Потом зашли в ювелирный магазин: Николай Дмитриевич решил купить дамские часы, вделанные в браслет. Юрке часы не понравились. Продавец просил за них восемь фунтов - цену нелепую и смешную, Бережной мялся-отдувался. Призванный им на помощь Айболит не понимал, что нужно торговаться, и все просил показать другие часы, и снова другие, и еще... Продавец догадался, что это совершенно неопытные русские, он несколько тяготился их необычным поведением и тем, что они не торгуются, но втайне он все-таки ликовал, надеясь продать часы если не за восемь фунтов, то хотя бы за пять. Наконец Зыбину надоела вся эта возня. Он подошел к прилавку, отобрал у Бережного браслетку, покрутил в руках и, бросив небрежно: "Уан паунд", - отодвинул от себя часы. Продавец сделал оскорбленное лицо, залопотал с мнимым возмущением, и Юрка сразу понял, что за три фунта он часы отдаст.
- Не давайте ему больше трех, - посоветовал Юрка ошарашенному его смелостью Айболиту.
Сам Зыбин торговаться не хотел. Тем более торговаться за часы Бережного. Отошел к другому прилавку, стал рассматривать брошки, серьги, бусы и кольца, соображая, не купить ли что жене, но ничего ему не понравилось, все казалось вычурным и безвкусным. Юрка вышел на улицу и, увидев в витрине напротив пистолеты, подумал, что тут наверняка можно найти что-нибудь интересное для Валерки.
Однако это были не игрушки. В витрине лежали настоящие пистолеты разных калибров - от тяжелых вороненых "Вальтеров" (а может, не "Вальтеров") до блестящих, веселеньких браунингов. Рядом шеренгами, как солдаты на параде, стояли патроны.
Кто-то схватил Юрку за рукав, он быстро обернулся и увидел бледное лицо Бережного.
- Ты куда же это от нас убежал? - переводя дыхание, спросил Николай Дмитриевич.
"Испугался, - весело подумал Юрка. - То-то. Без меня вам в первой же лавке карманы повыворачивают..."
- Тут я, - улыбнулся он. - Не беспокойтесь. Со мной все в порядке будет...
Пошли дальше. Один усатый испанец с помощью двух очаровательных дочек заставил-таки Айболита купить лохматый нейлоновый плед.
Потом Айболита дурачили чучелом неизвестного науке морского монстра, и Айболит снова пополз рукой в карман, но тут опять подоспел Зыбин и сказал, что это обыкновенный скат, из которого выкроили лапы, загнули их самым фантастическим манером, засушили. Потом тихо добавил, что он, Зыбин, сделает доктору такого (а может, еще получше) за пузыречек неразбавленного спирта.
- А вы что же себе ничего не покупаете? - спросил Бережной Зыбина.
- Деньги берегу, - лениво ответил Юрка.
- Давайте покупать, - наставительно сказал Бережной.
Николаю Дмитриевичу не нравилось, что Зыбин так свободно и легко держит себя в зарубежном, в капиталистическом порту, что он небрежничает с продавцами и словно на равных разговаривает с ним и с доктором. Очень взволновался Николай Дмитриевич у ювелира, когда, оглянувшись, не увидел рядом Зыбина и нашел его у оружейного магазина. Наконец, то, что Зыбин вроде бы даже тяготится хождением из магазина в магазин и ничего себе не покупает, тоже показалось Бережному подозрительным. И когда Айболит отошел к полисмену узнать, как пройти к музею, а Николай Дмитриевич, рассматривавший в витрине обувь, обернулся вдруг и вновь не увидел Зыбина рядом, он почувствовал нехорошую дрожь какую-то, почувствовал, как ударило его в жар. Он влетел в один магазин - пусто! Выскочил на улицу и снова в магазин, в другой - пусто!
Что-то сжалось внутри Бережного туго, как пружина. "Спокойно, - приказал он себе. - Прежде всего спокойно". Быстро дошел до угла, повернул в боковую улочку, узенькую, залитую, солнцем. Пустынная щербатая лестница бежала вниз. Он бросился напротив - лестница бежала вверх - и увидел Зыбина.
Юрка сидел на корточках и чесал за ухом у кошки. Кошка, пушистая, трехцветная, развалилась на теплом камне в сладкой неге.
- Ты что?! - не помня уже себя от ярости и страха, зашипел Бережной. - Ты что?! Деньги бережешь, да? Ты что задумал?!
Юрка, не подымаясь, смотрел на него снизу вверх, только взял на руки кошку и все чесал ей за ухом. В самый первый миг волнение Бережного передалось и ему, и в эту минуту, еще до слов Николая Дмитриевича, он старался успеть понять причину такого волнения. "О чем он говорит?" - пронеслось в его голове. Потом он понял и встал. Он стоял, низко опустив голову, в пустом ущелье каменной солнечной улочки, бегущей в гору, и все чесал у кошки за ухом. Набат гудел в его голове, как на пожар. Он понял, что бросится сейчас на Бережного и будет бить его мордой об эти солнечные камни. И тогда он закинул голову, вздохнул глубоко и, круто повернувшись, помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, крепко прижав к себе кошку, ничего не видя впереди, не слыша крика за спиной. Он бежал все вверх и вверх, мимо молчаливых каменных домиков с решетчатыми ставнями, мимо редких людей и маленьких автомобилей у обочин, мимо высоких каменных заборов с карнизами из колючей проволоки и битого стекла и опять мимо домов и людей, все вверх и вверх, крепко прижав к себе кошку, словно в кошке было теперь все спасение.
Дома кончились. Он выскочил на шоссе, пересек его и бежал редким лесом. Солнце катилось за ним, прыгая из-за деревьев и каждым прыжком ослепляя его. Лучи били по стволам, как палка мальчишки по жердям забора, и, избитый ими, оглушенный нестерпимой трескотней тени и света, он упал вниз лицом в колючую и пыльную траву.
Капитан тщетно пробовал успокоить первого помощника.
- Ну, хорошо, допустим, вы правы, - горячо возражал Бережной, - тогда зачем он уходил незаметно из магазинов? Почему не тратил деньги? Почему? А когда я раскусил его, он понял, что попался, и бросился бежать!
- А с чем он попался? - спросил Арбузов.
- Ну, как же... Я же рассказывал... Я вижу - нет его, туда-сюда, заглянул в переулок, вижу - сидит, притаился, кошку гладит...
- Ну, а попался-то он с чем? С кошкой? - перебил Арбузов, и в голосе его уловил Бережной нотки раздражения.
"Ах, вот оно что! Все, значит, на меня валишь, Павел Сергеевич, - подумал Бережной. - Чистым остаться хочешь. Понимаю!.."
- Хорошо. - Ладонь Николая Дмитриевича припечатала стол. - Факт есть факт. А факты - упрямая вещь. Все вернулись из города. Так? Так. Зыбин не вернулся...
- И доктор не вернулся, - перебил Арбузов.
- Как? - опешил Бережной.
- Вот так! Где доктор?
- Он был со мной... все время... Но после этого, ну, с Зыбиным... Мы потерялись как-то. - Пот выступил на лбу Николая Дмитриевича, подступала какая-то дурнота: "Выходит, и доктор..." - Но доктор вел себя совершенно нормально...
- А Зыбин ненормально?
- Доктор покупал разные вещи... Быка купил...
- Какого быка? - Ну, игрушку...
- Значит, если ты купил какую-нибудь дребедень, ты честный человек, а если не купил - подлец? Так, выходит?..
- Павел Сергеевич, - тихо сказал Бережной. - Мы с вами не маленькие дети и прекрасно все понимаем. Так давайте же подумаем сообща, как нам дальше действовать...
- Действовать буду я, - резко оборвал его капитан.
"Эх, капитан, капитан... Я считал, ты умней... И на-ка! "Действовать буду я!" Ну, действуй. С тебя и спрос теперь... Даже жалко парня", - думал Бережной, закуривая в своей каюте.
Весть о том, что Иван Иванович и Юрка не вернулись из города и что Бережной считает, будто Юрка убежал вообще, облетела траулер с быстротой необъяснимой. В каютах и на палубе только об этом и говорили, но спорили мало: никто не верил, что Юрка мог убежать. Только Сережка Голубь, толкаясь среди рыбаков, ожидавших на корме, когда подойдет мотобот, выкрикивал злорадно:
- Слыхали? Наш общий друг, дельфиний защитничек, мотанул - и будь здоров! Всем товарищам пламенный привет...
Подошел Ваня Кавуненко.
- На тебе совсем новые брюки, Голубь, - сказал Ваня, - надо беречь хорошие вещи, не пачкать их. Ты меня понял?
В каюте № 64 настроение было унылое.
"Конечно, он резок в некоторых своих высказываниях, но ведь он наш человек, - размышлял Фофочка. - А как он тогда о жене говорил... Не могу поверить..."
- Абсолютная чепуха, - говорил Сашка. - Допускаю, заблудился...
- Где заблудился? Весь город - пять квадратных километров, - возразил Фофочка.
- А скорее всего подрался. Ходит с битой мордой. Может, и в участок попал, - вслух рассуждал Хват. - А может, просто перебрал. Косому совестно возвращаться... Спит где-нибудь под кустом ракитовым...
- А в Гибралтаре есть змеи? - ни к селу ни к городу спросил вдруг Фофочка. - Может, его укусила змея? И он в больнице?
- Да замолчите наконец! - закричал Сашка.
Дед Резник твердо верил, что Зыбин вот-вот обнаружится. Он знал, что чужой порт - штука не простая, всякое может тут с человеком приключиться. Деда самого в Копенгагене в 1912 году раздели и по шее надавали. Если бы пырнули ножом и попал бы в больницу, сразу бы сообщили капитану, англичане - аккуратисты в таких делах. А раз не сообщают - придет. Может и до вечера проплутать, но ничего тут страшного нет, и нечего шум подымать.
- К вечеру объявится, помяните меня, - говорил Дед.
Более других волновался за Юрку Ваня Кавуненко. И волновался потому, что на берегу Юрка был вместе с Бережным. Помня Юркин пыл на недавнем дне рождения Хвата, Ваня чувствовал, что между ним и первым помощником могло произойти некое столкновение, объясняющее отсутствие Зыбина, столкновение, о котором Бережной умалчивает. Но тогда почему до сих пор не вернулся доктор?
Расспросив во всех деталях полицейского о том, как пройти к музею, Иван Иванович вернулся к витрине, около которой он оставил Бережного с Зыбиным, и никого не нашел. Он постоял немного, заглянул в ближайшие лавки, - нигде нет.
- Ничего не понимаю, - вслух сказал Айболит.
Он постоял еще некоторое время у витрины обувного магазина. Вдруг стеклянные двери распахнулись, вышла девушка, удивительно тоненькая, с ямочками на щеках, заулыбалась и жестами начала приглашать Ивана Ивановича войти в магазин. Иван Иванович вспомнил лавку сувениров и решил, что без Зыбина он в магазине пропадет.
"Надо уходить отсюда,- подумал он.- Что же, я так и буду тут стоять? Пойду в музей. Они знают, что я в музей собирался. Захотят - найдут".
Отворив двери музея, доктор поднялся по лестнице и подле маленького камина у входа в первый зал увидел старушку, которая сидела в кресле и вязала на спицах. Она смотрела на Ивана Ивановича с таким удивлением, как будто он вылез из каминной трубы. Потом поспешно вытащила из маленькой сумочки слуховой аппарат, вставила в ухо и спросила очень громко:
- Мистер хочет осмотреть музей?
- Да, - ответил Иван Иванович, - хотелось бы... - "Не совершаю ли я какую-то бестактность", - подумал он. - Впрочем, может быть, я не вовремя, - продолжал он робко, но старушка перебила его:
- Пожалуйста, пожалуйста! - Она проворно встала, положила вязанье на кресло. - Мистер, вероятно, путешественник?
- Да, - сказал Айболит, - в некотором роде...
- Говорите, пожалуйста, погромче, я плохо слышу! - крикнула старушка. - Да, я первый день в вашем городе! - громко повторил доктор.
- Мистер приехал из Танжера? - Нет... Не совсем... - Мистер путешествует один?
- Нет, нас много... Видите ли, я врач. Работаю на советском рыболовном судне...
- О, вы из России?! - воскликнула старушка. - Не может быть!
- Уверяю вас, - улыбнулся Айболит.
- Я буду все показывать вам сама! - решительно крикнула старушка и направилась в зал.
В музее было все, что положено иметь всякому уважающему себя музею: черепа пращуров, заржавленные ядра, змеи в формалине, деревянные раскрашенные куклы в ветхих мундирах, местами сильно побитых молью, картины морских сражений с аккуратно и красиво горящими фрегатами.
Старушка, которую, как выяснилось, звали миссис Чароуз, громкими криками объясняла Ивану Ивановичу каждый экспонат.
Время пролетело незаметно, пора было уходить, возвращаться в порт, но миссис Чароуз и слушать об этом не хотела. Едва доктор робко начинал произносить слова благодарности, миссис Чароуз демонстративно вытаскивала из уха слуховой аппарат и решительно кричала:
- Вы никуда не пойдете! Я обязана вам все показать!
Иван Иванович, потупясь, заметил, что время, к сожалению, на исходе, и ему пора возвращаться, но миссис Чароуз закричала, будто всему Гибралтару известно, что советский пароход отойдет поздно ночью, а сейчас нет и трех, и она решительно заявляет, что не отпустит доктора, такого милого собеседника, и не стоит больше об этом говорить. Иван Иванович осмотрел оружие и картины, изумляя миссис Чароуз глубиною своих познаний в истории Гибралтара. Затем миссис Чароуз заговорщически подмигнула доктору и, взяв его за руку, подвела к стенду с изрядной нумизматической коллекцией, отыскала советские монеты и долго объясняла, где какая монета, называя гривенник грайвэником, а Иван Иванович слушал и кивал...
Солнце начало припадать к земле, когда Айболит вышел из музея. Разумеется, он быстро заблудился, то и дело упирался в какие-то склады, обходил их, карабкался по узким улочкам-лестницам в гору и снова упирался именно там, где вроде бы должен находиться пароход. Наконец, доктор пробился к воде и попал на рыбный рынок. Торговцы громко, даже громче, чем миссис Чароуз, выкрикивали неизвестные Ивану Ивановичу названия сардин, красных головастых ершей и еще каких-то больших рыб, которых продавали кусками. Розовели горы креветок, один прилавок был залит чернилом каракатиц, в корзине рядом скрипели усами лангусты. Иван Иванович даже обрадовался, что ему удалось так интересно заблудиться. С живым любопытством рассматривал он прилавки, но не подходил близко, оберегая себя от настойчивых приглашений рыбаков купить их добычу. Наконец он выбрался из лабиринта рынка, и снова зашагал к порту, и снова попал куда-то не туда, улицы были совершенно ему незнакомы. Доктор торопился, понимая, что его опоздание может взволновать всех на траулере, и решил наконец самым подробным образом расспросить первого попавшегося прохожего, как пройти в порт, но теперь исчезли прохожие. Иван Иванович оглянулся на скалу и увидел Зыбина.
Зыбин лежал долго. Кошка ушла. Потом он сел, отряхнул с колен пыль и начал думать, что делать дальше. Ему было как-то пусто и легко. Только голова гудела. Голова была тяжелая, а тело, руки, ноги - легкие и как будто немного не его. Словно он все отлежал. Он очень хотел думать, что ему дальше делать, но ничего у него не получалось. Потом он почувствовал, что хочет есть, и вспомнил о деньгах. Тронул карман - в кармане хрустнуло. "Пойду поем", - подумал Юрка и встал.
Он вышел на шоссе. Шел и все старался начать думать, что ему дальше делать, но тут почувствовал, как через тонкую подошву полуботинок жжет асфальт, и начал думать, какая жара, однако,- больше ни о чем.
В придорожных кустах зашуршало, громко завозилось что-то маленькое, живое, мелькнула серая шерстка. "Кошка моя", - подумал Юрка,
- Кис, кис, кис, - поманил он кошку, и на его зов из кустов мягко выпрыгнула обезьяна.
- Ну, здравствуй, - сказал Юрка по-русски.
- Здравствуй,- взглядом ответила обезьяна.
- Как живешь? - спросил Юрка.
- Спасибо. Так себе. А ты как?
- Я очень плохо, - ответил Юрка.
- Неприятности, да?
- Да, большие неприятности, - подтвердил Юрка. - Понимаешь, он подумал, что я собираюсь удрать. Представляешь, каков подлец?
- Да, неприятно, - отозвалась обезьяна.
- Он подумал, что я и каперты поэтому не покупаю, деньги берегу, - продолжал Юрка, - а я искал сыну игрушку...
- Что теперь делать будешь?
- Не знаю,- ответил Юрка.
- Иди на траулер...
- Мне очень, понимаешь, очень не хочется его видеть, - сказал Юрка.
- Чего же ты хочешь?
- Я хочу есть, - сказал Юрка. - А ты хочешь есть? - Обезьяна молчала. Она сидела у обочины шоссе, тихо перебирая пепельно-розовыми пальчиками, и внимательно смотрела на Зыбина ласковыми и грустными глазами, только глаза и жили на ее острой старушечьей мордочке.
- Ну, прощай, - сказал Юрка и пошел дальше по шоссе. Он прошел метров тридцать и оглянулся. Обезьяна все сидела у обочины, склонив набок голову, и смотрела ему вслед.
- Прощай! Спасибо тебе! - крикнул Юрка. Она ничего не ответила, только смотрела на него ласково и грустно, Юрка прошел еще несколько шагов и снова обернулся. Она все сидела и смотрела на него, хотела знать, куда он идет. Юрка почувствовал, что надо идти к морю, чтобы успокоить обезьяну, и он свернул в узкую улочку, бегущую вниз, к порту.
На этой улочке он увидел маленький, совсем пустой трактирчик, вошел и сел за столик. После яркого солнца трактирчик казался мрачноватым. Но тут было прохладно. Мрамор столика холодил руки. "Хорошо бы прижаться к столику лицом". Стулья старые, скрипят. Стойка. Обычная стойка, конечно, с зеркалом и пыльными бутылками -наверху. Рядом со стойкой дверь. Вдруг дверь скрипнула, и что-то маленькое, лохматое протиснулось в узкую щель. "Обезьяна!" - подумал Юрка. Вошла кошка. "Может быть, это моя кошка?" - подумал Юрка. Он не мог вспомнить, совсем забыл, какой была его кошка... Потом дверь раскрылась совсем, и вошел хозяин, пожилой смуглый испанец.
- Что желает сеньор? - спросил хозяин по-испански.
- У вас есть сосиски? - спросил Юрка по-английски. - Сосиски с хлебом и много горчицы.
- Один момент, - сказал хозяин по-английски, но с непривычным уху Зыбина акцентом и вышел.
- Твой хозяин испанец? - спросил Юрка у кошки. Кошка пристально посмотрела на него, отвернулась и вышла следом за хозяином.
Через минуту или через час хозяин возвратился с тарелкой, на которой лежали три красные сосиски, длинные, тонкие и красные, совсем не такие, как у нас. А на краю - горчица. Много, наверное, полная столовая ложка. Юрка не удивился, он знал, что горчица сладкая, тоже совсем не такая, как у нас. И еще хозяин принес бумажную тарелочку, на которой лежал маленький кусочек хлеба, такой тоненький, что он наверняка светился бы, если смотреть через него на улицу.
- Спасибо, - сказал Юрка.
- Сеньор желает пива? У меня есть шотландское пиво. Очень хорошее и недорого... - предложил хозяин.
- Да. Дайте мне пива, - сказал Юрка, подумав.
Хозяин нырнул под стойку, вытащил оттуда бутылку, ловко открыл ее с таким звуком, будто поцеловал кого-то, опрокинул в высокий стакан, поставил его на стол рядом с бутылкой.
"Sweet stout. Edinburgh"[12],-прочел Юрка на этикетке, где был нарисован самодовольный розовый старик со стаканом пива в руке. Белый цилиндр, красный жилет, трость, очки, седая борода. "Какие они разные, эти старики!" - подумал Юрка и взглянул на хозяина. Хозяин перетирал за стойкой рюмки.
Юрка налил пива в стакан, отхлебнул и начал есть сосиски, тыча их в горчицу. Сосиски были безвкусные, как бумага, совсем не такие, как у нас, а пиво хорошее. Только бутылочка очень маленькая...
- Дайте мне еще хлеба, - попросил Юрка, когда съел одну сосиску.
Хозяин принёс тарелочку с хлебом - один прозрачный кусочек.
- Это мало, - сказал Юрка и вдруг улыбнулся. Хозяин тоже улыбнулся и принес еще одну тарелочку с тремя кусками.
- Сеньор, наверное, русский? - спросил хозяин и опять улыбнулся.
- Да, я русский, - сказал Юрка.
- Да? - весело воскликнул хозяин. - Вы с того корабля, который пришел ночью?
- Да,- ответил Юрка, начиная третью сосиску. Хозяин подошел к двери и закричал:
- Паоло! Паоло! - и еще что-то по-испански. Вошел Паоло, мальчик лет двенадцати, худенький, в выгоревшей рубашонке и коротких штанишках. Хозяин что-то быстро сказал ему на своем языке, Юрка уловил только слово "совьетико". Паоло разглядывал Юрку огромными черными глазами, такими черными и огромными, что лицо его казалось синеватым.
"Он совсем другой, но он чем-то похож на Валерку, - думал Юрка. – Валерка так же вот смотрит".
- Это мой внук, - сказал хозяин, - Он собирает спичечные коробки. Может быть, у сеньора есть спичечный коробок из России?
- У меня был коробок, - сказал Юрка. - Но отдал полицейскому в порту. Он тоже собирает коробки...
- Фернандо, - быстро обернувшись, сказал хозяин мальчику, и глаза Паоло стали маленькими и злыми.
- Это Фернандо, наш сосед, - объяснил хозяин Юрке. - Он и Паоло - двое во всем Гибралтаре собирают спичечные коробки. Паоло и Фернандо - большие враги. - Хозяин улыбнулся.
- Я не знал, - сказал Юрка и улыбнулся хозяину и тут же вспомнил, что Фофочка, который накупил перед отходом кучу значков, раздавал их в каюте Сашке, Вите и ему тоже "для подарков в качестве сувениров". Где же они? Он пошарил в кармане и укололся.
- Вот тебе значок на память, - сказал Юрка и протянул Паоло маленький красный квадратик с медным барельефом.
- Спасибо, сеньор, - сказал хозяин.
- Ты знаешь, кто это на значке? - спросил Юрка у Паоло.
- Нет, - тихо ответил мальчик. - Это Ленин. Ты знаешь, кто такой Ленин? - спросил Юрка.
- Нет, - тихо ответил мальчик.
- Ленин? - переспросил хозяин и взял из рук Паоло значок.
- Ленин,- повторил он, долго и пристально рассматривая маленький барельеф.
Потом обернулся к мальчику и заговорил по-испански, выбрасывая вперед руку со значком, зажатым в кулаке. Иногда мелькало: "Россия", "Революция", "Мадрид", "Ленин". Юрка смотрел на мальчика, смотрел на его лицо, которое стало вдруг очень серьезным, даже скорбным.
Когда хозяин кончил, Паоло что-то сказал ему отрывисто, и старик вернул ему значок. Мальчик медленно вышел. Хозяин стал за стойку и начал перетирать рюмки. Потом бросил полотенце и подошел к Юрке.
- Выпьете еще пива? - спросил хозяин.- Это - настоящее шотландское пиво. Я угощаю. - Он улыбнулся.
- Пожалуй, - согласился Юрка. - Пиво хорошее. - И подумал: "А ведь он был прав: вот уже начинаются провокации..."
Вдруг стало совсем легко и даже весело.
В этот магазин моряки заходили редко: здесь нельзя было торговаться. А потом магазин был такой большой - два этажа, стеклянная стенка и целая куча девочек в белых блузочках, - такой просторный и безлюдный, что даже как-то неловко было туда заходить. Но именно этот магазин позарез был нужен Сашке Косолапову.
- Идите, я догоню, - сказал Сашка Коле Путинцеву и мастеру Калине - своим компаньонам по тройке. - Идите, я сейчас, мигом. - Он вошел в магазин.
Ближайшая девочка бросилась к нему - вся улыбка,- залопотала по-английски. Он тоже улыбнулся и пошел к прилавку, который увидел еще с улицы, через витрину. И тут же откуда-то, непонятно откуда, выскочил круглый черненький человечек с усиками и, быстро окинув Сашку взглядом, всплеснул руками:
- О! Рашен сейлор! Одесса - мама, Ростов - папа, да? - Он заливисто и очень заразительно засмеялся. Девочки дружно поддержали.
- Мне нужны перчатки, - сказал Сашка.
- Что? - Брови черненького полезли на лоб. У него было удивительно подвижное и выразительное лицо прирожденного мима.
- Перчатки, - повторил Сашка.
- Перчатки?! - переспросил черненький, все еще не веря.
Но лишь секунду оставалось на его лице выражение крайней степени удивления.
- О, ля-ля! - закричал он, захлопал в ладоши, затрещал с присвистом на каком-то птичьем языке, и все пришло в движение, посыпались какие-то коробки, пакеты, черненький схватил Сашкину руку и стал прикладывать к ней то одну, то другую перчатку, стремясь определить размер.
Сашка отдернул руку.
- Нет, нет, мне нужны женские перчатки...
- Вашей женщине, да? - спросил черненький. - Как это? - Он насупилброви. - Вашей жене, да?
- Да, - сказал Сашка и густо покраснел. - Вот. - Он протянул листок бумаги с контуром Анютиной ладошки.
- О, ля-ля! - снова запел черненький, и девочки бросились в новую атаку.
Перчатки прозрачные, дырчатые, непрозрачные и отчасти дырчатые, голубые, белые и черные, и с пуговичками и без, и черт те знает какие легли на прилавок.
- А кожаные есть? - строго спросил Сашка.
- О, это есть дорого! - Черненький горестно всплеснул руками, брови встали домиком, и все лицо его выразило неизъяснимую скорбь.
- Давайте, - приказал Сашка.
Навалили груду. Синие, желтые, белые, красные, для автомобиля, для верховой езды, для...
- И почем вот эти? - спросил Сашка, выбирая пару отличных кремовых перчаток.
- Фор паунд, - загрустил черненький, - четыре фунта.
- А получше ничего нет? - спросил Сашка.
- Что? - переспросил черненький скорее с испугом, чем с удивлением.
- Подороже ничего нет?
Черненький понял, что нарвался на какого-то психа.
- О, есть! Есть! - закричал он. - Но это уже не есть кожа. Это... Какэто? Не знаю по-русски... Chamois[13]... Я буду показать...
Швырять и валить на стол перестали. Из длинных коробок вынимали осторожно, держали на весу. Это были замшевые перчатки. Таких Сашка никогда не видел, не мог даже разобрать: то ли синтетика опять, то ли какая кожа искусственная, то ли просто байка особой выделки.
В одной коробке лежали перчатки цвета табачного дыма, узкие и длинные, по локоть.
- Для баль-карнаваль. Производство Швеция, - с готовностью пояснил черненький.
- Это я сам вижу, что для баль-карнаваль, - сказал Сашка равнодушно, вытащил перчатки из коробки, прикинул по своему рисунку - вроде подходят – и спросил между делом:
- Сколько просите?
- О, ля-ля, - вздохнул черненький. - Рашен сейлор не хватит валюта.
- А все-таки?
- Десять фунтов.
Если бы кто-нибудь мог видеть в этот момент Сашкино лицо! Ему открылось нечто, доступное лишь величайшим актерам мира, когда, погасив в глазах искры радости (у него было десять с половиной фунтов!), он небрежно бросил перчатки в коробку, лениво обернулся к черненькому, укоризненно покачал головой, как бы говоря: "А еще коммерсант... Я ведь не шутки сюда пришел шутить, а вы: десять фунтов! О таких пустяках речь, право, даже за вас неудобно..." - покачал так головой и сказал устало, с легонькой улыбкой:
- Заворачивайте, заворачивайте...
Когда коробку завернули в плотную бумагу, и заклеили скотчем, и вручили чек, и всем магазином проводили Сашку до дверей, он тронул черненького за плечо и сказал доверительно:
- Ведь перчатки, между нами, так себе. Вижу, что дрянь, а беру... Вот такой человек...
У черненького отвалилась челюсть.
Юрка рассказал хозяину трактирчика, что хочет привезти сыну хорошую игрушку, и хозяин объяснил ему, как пройти к магазину, где продают самые лучшие игрушки.
В магазине Юрка молча разглядывал полки, а девушка за прилавком все заводила маленьким ключиком бычков, тореадоров, танцовщиц, акробатов, "фиаты", бульдозеры и торпедные катера, трещала из автомата и палила из базуки. В магазине стоял шум, как в цеху.
И вот тут Юрка увидел обезьянку. Это была обезьянка с умными глазками и пепельно-розовыми ладошками, одетая в клетчатую рубашку и джинсы. Она была мягкая, очень ласковая на ощупь. Обезьянка стояла, на задних лапах, а в одной из передних держала трубку. Когда девушка завела ее ключиком, раздалось чуть слышно ее гудение и обезьянка пошла, медленно и аккуратно переставляя лапы. Иногда она подносила ко рту трубку (в это время в трубке вспыхивал красный "уголек") и, "затянувшись", выпускала из ноздрей колечко дыма. Отличная была игрушка! А идет, шельма, как важно! И трубка! А джинсы эти! Умора! И дым! Юрка засмеялся. Девочка тоже с готовностью расхохоталась.
Потом она показала ему запасную батарейку для "уголька", какие-то серые стерженьки "для дыма", рассказала, куда их надо вставлять, и уложила обезьянку в роскошную коробку.
Только тут Юрка сообразил, что у него на всю эту потеху может не хватить денег, но оказалось, что обезьянка стоит 8 фунтов, вдвое дороже, правда, чем в Дакаре стоит живая обезьянка, но надо же, как ему повезло!
Рядом с магазином Юрка опять увидел афишу кинофильма "Ночь в Сингапуре" и на оставшиеся деньги решил сходить в кино.
Сеанс в "Реальто Синема" уже начался, девушка с фонариком провела его в зал, усадила. Поймав в темноте ее руку, он сунул ей последний шестипенсовик и принялся смотреть.
Без разгона, с первых кадров бандиты начали ловить героя на предмет его убийства. Герой оказался тертым калачом: одного бандита он пристрелил через спинку дивана, другого спихнул со скалы в море. Бедняга летел минуты полторы. Что-то очень похожее Юрка видел в 57-м году в Рио. Название только было другое... "А зачем я тут? - вдруг подумал Юрка.- Что я тут сижу, как идиот?"
Он огляделся. Зал был почти пустой. Неподалеку развалились в креслах солдаты. Курили. Дым кружился в светлом конусе проектора.
"Бережной, поди, все бегает, ловит меня... А если он не бегает, а приехал и раззвонил всем?! И все, Ваня, Сашка, дед Резник..." Блондинка с визгом катилась по лестнице вниз, в темный сад, а там уже автомобиль наготове... "И наверняка все расспрашивают Айболита, а ведь Айболит ничего не видел! Айболит не может сказать правду! А Бережной..." Трах! Трах! Крупно браунинг в женской руке, ноготки с маникюром... "Ведь они ждут меня!" Трах! Ба-бах! Пули прошли через лобовое стекло прямо в лоб шоферу, и "шевроле" заметался, зарыскал перед тем, как влететь в витрину. "Ждут! А меня нет! Меня нет, а он там! И, выходит, он прав! Все же видят, что меня нет. Значит, прав он! В самом главном прав он!"
Юрке страшно стало, будто он, Юрка, знал, что сейчас все рухнет, стены, потолок, через секунду - катастрофа! Вот сейчас сам он, простреленный и окровавленный, врежется в это холодное и острое стекло. И, опережая миг неумолимой гибели, кресло, как катапульта, выбросило его в темный проход, сквозь дверь, сквозь банановую зелень крохотного садика на улицу, сквозь дома... Очнулся, когда услышал где-то рядом:
- Юра! Юра! Зыбин!
Он остановился и увидел Айболита.
- Вы меня ищете, да? - спросил Юрка, переводя дух.
- Вас? Я думал, что вы меня ищете, - засмеялся доктор. - Я, знаете, совсем заплутал... Как вы думаете, где порт? Да, постойте, а куда же Николай Дмитриевич девался?
- Разве он не с вами?
- Со мной? Вы куда-то исчезли оба. Я искал, искал... Думаю, нам с вами все-таки попадет от капитана... Ужасно все глупо получилось...
Айболит сказал это так просто, что все нервное напряжение Зыбина вдруг разом исчезло, ему стало снова хорошо и покойно, как тогда, в трактирчике у испанца, и он засмеялся, сам не. зная чему, и сказал:
- Попадет, обязательно попадет.
Потом вдруг взял доктора за плечи и, прямо глядя ему в глаза, спросил: - Иван Иваныч, я честный человек?
- Не понимаю,- сказал рассеянно Айболит.
- Вы меня считаете порядочным человеком?
- А какие, собственно, у меня есть основания думать иначе?
- Давайте сядем. Это очень важно. Понимаете это очень важно... '
Они вошли в небольшой скверик у веранды летнего ресторана и сели на скамейку под пальмой. Ствол у пальмы был толстый и лохматый, как нога мамонта. Юрка погладил ствол, сказал тихо, задумчиво:
- Вот, Иван Иваныч, какая случилась со мной беда...
Он рассказывал медленно, подробно: о кошке, об испанце, о Паоло, о заводной обезьянке, о пустом зале в кино и о своем страхе. Когда Зыбин кончил, доктор тронул его за руку и сказал:
- Вы знаете, я бы дал ему по физиономии. Вы ушли... Может быть, это даже лучше... Но так оставлять этого дела нельзя! Как хотите, нельзя!
- Все так говорят: "Не оставим!" А потом...
- Да вы пессимист. - А вы оптимист?
- Да! А почему нет?
- Ну, поздравляю. А ведь разница-то невелика: пессимист - это просто хорошо информированный оптимист. Нет, доктор, Бережной - это сила.
- Если поверить вам, да, сила.
- А если вам?
- Сейчас нет. Бережные сейчас не в моде.
- Вы его перевоспитаете, да? И он 'Исправится, да? Поймите, доктор, горбатого могила исправит!
- Эту поговорку придумали бездарные, злые и нетерпеливые люди. Лечить гораздо труднее, чем хоронить, поверьте мне, я врач...
- Пока вы его вылечите, он из вас самого горбатого сделает,- зло сказал Зыбин.
- А это, дорогой мой, зависит от крепости костей.
- Кости костями, а пока прямо по курсу крупный скандал, - вздохнул Юрка. - Ведь формально он прав: я убежал, это факт. Я от него убежал - раз.. На траулер вовремя не вернулся - два.
- Как можно рассуждать формально! Важна суть...
- Да плевал он на суть! Вы думаете, он понимает, что оскорбил меня? Да ничего подобного!
- Тут вы, пожалуй, правы, - грустно сказал доктор.
- В этом вся морская соль... Послушайте, послушайте. - Юрка взял доктора за руку. - Хорошо, что мы встретились... Я придумал, но вы должны мне помочь...
- Только врать я не буду, - сказал Айболит.
- Вам не надо врать! Врать буду я...
Бережной уже заканчивал свою подробную "Объяснительную записку", когда в каюту постучали.
- Прошу...
Арбузов заглянул в дверь.
- Встречайте ваших беглецов, - сказал капитан и усмехнулся. Нехорошо так усмехнулся.
Что-то оборвалось внутри Бережного: "Вернулись! Вернулись! Сто шесть взял, сто шесть сдал! Чист!"
Николай Дмитриевич поднялся на мостик и в синих сумерках увидел подходивший бот. "Доктор его поймал, - тотчас сообразил Бережной. - Ну, погоди, голубчик..."
Зыбин не успел даже занести к себе коробку с заводной обезьянкой, как его затребовали в каюту капитан-директора. "Начинается, - подумал Зыбин. – Все как по расписанию".
Арбузов ходил взад-вперед, мерил ковер, иногда искоса посматривая на Юрку. Бережной сидел на диване, за полированным столиком, нога на ногу, курил.
- Ну, ну, Вы расскажите, расскажите капитан-директору о вашем поведении, о том, как вы убежали в загранпорту, расскажите, - ласково говорил Николай Дмитриевич.
- Не понимаю? - спросил Юрка. Весь очень внимательный. Голову склонил чуть набок.
- Чего же вы не понимаете? - нараспев, сердечно спросил Бережной. - Это мы вот с капитан-директором не понимаем, как мог советский моряк убежать в загранпорту.
- Как убежать? - спросил Юрка.
- Вы кончайте прикидываться! - вдруг крикнул Бережной. - Кончайте дурака из себя строить!
- Ш-ш, давайте тише, - сказал Арбузов, продолжая шагать по комнате. И Юрка внезапно понял: Арбузов не верил, что он убежал.
- Когда его приперли к стенке, он наутек припустился, - продолжал Бережной, - а здесь сразу все забыл, видите ли!
- Ничего не понимаю, - растерянно сказал Юрка и обернулся к капитану. - Пал Сергеич, я, конечно, очень виноват, что задержался на берегу... Опоздал... Но ведь Николай Дмитриевич сам говорил, чтобы держаться тройками, и, когда он исчез...
- Кто исчез? - взревел Бережной и вскочил с дивана.
- Вы, Николай Дмитриевич. Кто же еще?..
- Я? Я исчез? - Бережной задыхался.- А... А с кошкой кто помчался? Тоже я?!
- С какой кошкой? - спросил Юрка.- Чего не было, того не было. Кошки я у вас не видел.
- Да что я, сумасшедший? Наглец! Ну, наглец! - ревел Бережной. - Получается, что я от него убежал, а! Ну, наглец!
- Я не говорю, что вы убежали, - спокойно поправил Юрка. - Просто я оглянулся - вас нет... Туда-сюда, в один магазин, в другой - нет. А вы ведь говорили, чтобы тройками держаться. И доктор вас искал...
- Меня?! - взвился Бережной.
- Ну, конечно,- сказал Юрка. - Человек вы в городе новый, языка не знаете... Как-никак загранпорт...
Бережной подскочил к телефону, закричал в трубку вахтенному:
- Доктора в каюту капитана!
Едва вошел доктор, Бережной сразу набросился на него:
- Вы искали меня?!
- Вы знаете, довольно долго искал, Николай Дмитриевич, - доверчиво улыбнулся Айболит. - И вместе с Юрой... Даже опоздали... Очень просим извинить... Но ведь вы сами говорили...
Бережной рухнул на диван.
- Я, конечно, виноват, - заныл Зыбин, - опоздание есть опоздание...
- А деньги почему не тратил? - с надеждой спросил Бережной..
- Как не тратил? - изумился Юрка.- Вот чек, смотрите.- Он открыл коробку, достал обезьянку, сунул ключ под хвост и поставил ее на столик перед Николаем Дмитриевичем. Обезьянка степенно зашагала, пуская кольца дыма в лицо Бережного. Бережной смотрел на нее внимательно, не отрываясь, в каком-то оцепенении.
Капитан улыбнулся игрушке, тряхнул головой: - Ни черта не понимаю. Чепуха какая-то.
"А, собственно, зачем я буду доказывать, что Зыбин убежал? - подумал, успокоившись в своей каюте, Николай Дмитриевич. - Ну, накажут его. Это ерунда все. Ведь говорить будут не о нём. "У Бережного, - скажут, - в Гибралтаре матрос убежал". И пойдет, и поедет, и уже не докажешь никому, что не убежал, вернулся. И на веки вечные останется слух: "Что-то было у Бережного в Гибралтаре". А зачем, спрашивается, мне это надо? Зыбин-то, ей-ей, не дурак. Разминулись, и все. С кем не бывает... Не дурак Зыбин... Надо подумать еще, все прикинуть, а потом вызвать его, поговорить, чтоб зря не болтал".
Десять раз пришлось Зыбину заводить матросне обезьяну и десять раз рассказывать, как блуждали они с Айболитом по Гибралтару, искали первого помощника. И когда Юрка вернулся в каюту № 64, уже совсем стемнело. В каюте никого не было. Фофочка мечтал на верхней палубе. Сашка с Анютой смотрели в столовой "Подвиг разведчика".
Юрка лежал на своей койке, отвернувшись к переборке. Вспоминал лицо Бережного, когда обезьяна пускала ему дым в глаза...
Пришел Фофочка, подумал, что он спит, лег, повозился немного и ровно засопел.
На носу забегали, что-то, чего нельзя было разобрать, кричал вахтенный штурман, потом завыл брашпиль, загрохотала якорная цепь. "Снимаемся", - подумал Юрка.
Чуть слышно пришла в движение вода за бортом, зашептала громче, громче. Потом опять тише: "Это лоцман сходит" - и опять громче, громче...
Все эти звуки, знакомые и понятные Юрке, не мешали вспоминать и думать.
Он лежал долго. "Державин" уже шел полным. Все спали. Юрка встал. Дверь закрыл осторожно, без щелчка. Поднялся на верхнюю палубу. Вокруг была ясная, теплая ночь. Юрка постоял немного, плюнул в воду, пошел.
Только на секунду остановился уже у самой двери, вздохнул и постучал:
- Разрешите?
- Да, да...
Капитан лежал на диване в белой шелковой майке, читал. Приподнялся, когда вошел Юрка, отложил книгу.
- Вот какое дело, Павел Сергеевич... Я здесь все наврал. Не так все было... .