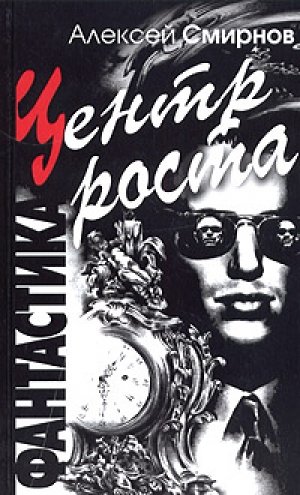
© Алексей Константинович Смирнов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Дуративное время
Фантастическая повесть
…интенсивный дуратив может иметь значение «слишком/очень долго».
В. А. Плунгян. «Классификация элементарных глагольных значений, используемых в БД „Verbum“»
Выйди на улицу, посмотри на лица – вот тебе и тема.
О. Памук. «Черная книга».
Совпадения с реальными людьми и событиями случайны.
Пролог
Старик сидел на скамеечке. Он выставил клюку и был похож на погибающий марсианский треножник. И даже валенки не казались лишними. При известном воображении можно было решить, что местные мародеры, напротив, разули пришельца, надругались над лишней ногой летательного аппарата. Во многом прочем мертвая клюка не отличалась от живых конечностей, таких же тонких и одеревенелых. Скамеечка устроилась под дубом, к которому дед привалился бочкообразным туловищем. Шеи не было, хотя от нее росли руки; из-под ушанки смотрели маленькие прозрачные глазки.
Балансиров ненатурально откашлялся. Внимательно присмотревшись к ввалившемуся, плотно сомкнутому рту, он сел и ослабил узел галстука. Колючая кожа дрогнула, старик пожевал.
– Уважаемый! – позвал Балансиров и тронул деда за рукав. – Я из столицы приехал, статью писать буду про ваше село. Вопрос позволите?
– Задавайте, – прохрипел тот, ухитряясь сочетать удивление с безучастием. Безучастия было побольше, а удивление вызывалось не городским происхождением Балансирова и не статьей; оно возбуждалось ежесекундно по поводу самых обычных событий. Заговорили с тобой – вот и причина задуматься. Старик, однако, удивлялся не столько явлениям бытия, сколько своей способности на них отзываться.
– Говорят, у вас тут пошаливают, – Балансиров уважительно понизил тон.
– А как же без этого, – рассудил дед.
– Летающие тарелки, – уточнил гость.
– Ну, – старик не спорил.
Балансиров подумал, что и его самого старожил-собеседник, намекни ему кто, равнодушно признал бы посланцем далеких звезд.
– Энэло, – Балансиров сверлил деда любознательным взглядом. Его глаза были похожи на высохшие оливки.
Тот непонятно вздохнул. Поскольку слов не последовало, газетчик продолжил допрос:
– Расскажите мне, пожалуйста, какой он был, этот энэло?
– Не знаю я, какой-такой энэло, летит себе, пропеллером круть-круть-круть…
Балансиров какое-то время наблюдал за стариком, потом решительно ударил себя по коленям. Дедушка дословно повторил описание, которое сам же и дал в телепередаче, увидевшей свет полугодом раньше. И тогда Балансиров, отродясь не работавший ни в какой газете, немедленно взял старика на заметку. А заодно и нанес на секретную карту очередной кружок.
– Пьете, дедушка? – неожиданно спросил он, делаясь все фамильярнее и наглее.
Старик неопределенно мыкнул. И сразу пояснил с осторожной надеждой:
– Что же не выпить, когда для дела.
– Понятно, понятно, – кивнул Балансиров. Вспомнив вдруг, что ему следует изображать из себя журналиста, он вытащил стерильно чистый блокнот. Занеся ручку, осведомился: – А вас самого, дедушка, не навещали?
– Что меня навещать, – сумрачно ответил дедушка.
– И чего это мы все без имен? – опомнился приезжий. – Иванов, – он протянул деду руку. – Как прикажете величать?
– Блошкины мы, – старик нехотя дал ему вялую в движении, но твердую на ощупь ладонь.
– Нет ли в селе городских? – допытывался Балансиров. – А? Гос… товарищ Блошкин? Никто тут в последнее время не появлялся?
– Не мое это дело, – бесстрастно проскрежетали Блошкины. – Стоят какие-то на краю села. Не местные.
– Давно приехали?
– Да кто их знает. Вроде, недавно.
– Угу. Вы мне очень помогли. Ну, а когда же вы в последний раз видели энэло?
– Круть-круть-круть, – дед рефлекторно завел прежнюю песню.
– Да-да, круть-круть, – подбодрил его Балансиров.
– Третьего дня летал, – убежденно сказал тот.
– Не путаете?
– Да пока в своем уме.
– Может быть, он приземлился где? Может, из него кто выходил?
– Может, кто и выходил. Мое дело сторона.
– Думаете, вернется?
– Чего ж не вернуться. Каждые три дня отмечается.
Балансиров, не зная, о чем еще спросить, задумчиво пригладил редкие волосы. Поднажать? Припугнуть? Он подосадовал на себя и отказался от этой мысли. Ведь спрашивать не о чем, все известно. Он просто страхуется, боится упустить верную добычу, дует на воду. Непростительная слабость, чреватая срывом дорогой операции. Старик начнет болтать, спугнет неприятеля, и пятая колонна рассредоточится.
Балансиров был штатным сотрудником особого силового подразделения, специально созданного спецслужбой для налаживания недружественных контактов с иными мирами. Какая это была спецслужба, уже никто и не знал, потому что, во-первых, спецслужб образовалось очень много, а во-вторых, она несколько раз меняла название. На пятой или шестой смене служба-родительница внезапно отреклась от своего детища, повинуясь засекреченному иррациональному соображению. Ходили слухи, что весь отряд перешел в подчинение к новой структуре, которая, претерпев очередное переименование, в действительности была все той же спецслужбой; так это было или нет, не могли сказать даже самые отпетые разведчики. Этого не знал даже глава подразделения, неясного корня Медор Медовик, состоявший в чине майора; этот чин, однако, неофициально приравнивался к генеральскому в общевойсковом понимании. Балансиров не однажды был свидетелем тому, как перед Медором заискивал не только заурядный генералитет, но и руководители мелких республик. И крупных, как случалось ему заподозрить в минуты особенного наития.
Сейчас Балансиров ощущал себя рядовым лазутчиком в стане врага. Он был один; все основные силы сосредоточились вокруг села, окружив его. Огромный капкан сформировался и поджидал добычу; боевые орудия нового, еще не родившегося поколения, обманчиво шелестели маскировочной листвой. Медор Медовик, лично засевший в свежем окопчике, ждал донесений Балансирова.
– Сколько же там городских, на краю села? – небрежно спросил Балансиров, искусно – как ему мнилось – меняя тему.
Дедушка Блошкин ответил уклончивым сквернословием. Это прозвучало неожиданно и пресно: должно быть, именно так старый Блошкин – по извинительной, многократной случайности – терял стариковский кал.
Но Балансиров догадался, что дед не жалует незваных гостей; что он, нисколько не разбираясь в происходящем, улавливает их чуждую натуру природным чутьем, и это примечательно, это говорит о живости и сохранности в нем здорового общенародного начала. А значит, подтверждает правильность генеральной линии, которую Балансиров, давая волю воображению, сравнивал с красной нитью лазерного целеуказателя. Предатели, доверившись неземному и войдя с ним в сговор, лишили себя основы, и дед это чувствует замечательно.
Между тем ему надоело расспрашивать бестолкового патриарха. Балансиров радушно попрощался с Блошкиным, и тот ему тоже вымученно хрюкнул, рассматривая солнышко. Балансиров покинул лавочку, пошел по деревне. Он заглядывал во дворы, с достоинством шарахался от собак, вступал в переговоры с местными жителями. Его, подобно палому листу, несло по кривеньким улочкам; казалось, он метет дорожную пыль полами своего агентурного плаща. Ничего нового Балансиров не узнал. Он и не стремился к этому, все зная заранее; ему было нужно ознакомиться с окрестными настроениями, лично понюхать предгрозовую атмосферу, сгустившуюся над селом. Никто, кроме него, не ощущал многообещающей духоты, никто не ждал грома и молний. Отлично. Балансиров не стал заходить на окраину, опасаясь спугнуть контактеров.
Обход уже заканчивался, когда в его голове раздался голос Медора Медовика:
– Докладывайте, не молчите.
Балансиров машинально лизнул зубную шестерку со встроенным микрочипом.
– Ничего тревожного. Население огородничает.
– Визит подтверждается?
– Местные ждут.
– Хорошо, возвращайтесь.
Балансиров подумал, до чего же нелепо он выглядит здесь, в навозной глубинке, одетым в цивилизованный плащ, при галстуке, с бессмысленной шляпой в руке. Эта мысль ничего не меняла. Не думая о жаре, он демонстративно надел душную шляпу и пошел, срезая углы, на главную улицу. Посвистал там дурную собаку и вообще старался держаться беспечно.
Спустя какое-то время он превратился в шахматную фигурку, бредущую по безбрежному лугу в сторону леса, которого не видать. Шагая, фигурка бесстрашно пересекла огромную кольцеобразную плешь, оставленную двигателями внеземного летательного устройства.
…Ночью инопланетный аппарат был сбит прицельными залпами лазерных пушек. Пилоты попали в плен, остальные члены экипажа успели слиться в пирамидальный светящийся конгломерат и взорвались, распространяя вокруг тугую ударную волну. Приезжих контактеров, явившихся на очередные переговоры, поразили в правах и вертолетом доставили в область, где окончательно арестовали для дальнейшей отправки в главный центр пресечения полетов.
Часть первая
Глава 1
Петр Клутыч родился под знаком Гриба в год Таракана.
Он устал стоять в очереди, потому что занимал ее уже трижды.
В третий раз он вел себя благоразумнее: подцепил лежавшую возле окошечка «Памятку для посетителя сберкассы» и на ее обороте записал все, что кричали ему из окошечка.
– Образец! – негодовали за пуленепробиваемым стеклом. – Лежит же образец! Заполняйте, как в образце!
– Об… ра… зец… – послушно вывел Петр Клутыч на памятке и побрел обратно к столику с образцами.
Там он сел, ненароком перевернул памятку лицевой стороной и страдальчески прочитал полезные советы:
«1. Надень очки.
2. Пристегни слуховой аппарат.
3. Вставь зубы.
4. Похмелись.
5. Заткнись.»
Петр Клутыч перевернул бумажку и убедился, что там его собственным почерком написано «Образец». В душе всколыхнулось неприятное чувство: так бывает, когда все сделал правильно, однако задним умом догадываешься, что не все, не правильно и не сделал.
Он старательно списал с какого-то сложного бланка нули, пересыпанные другими цифрами; скопировал и буквы. В очереди ждать не захотел и полез вперед, думая, что заработал себе привилегию.
Поднялся скандал, так как все, кто знал Петра Клутыча, уже оплатили свои квитанции и ушли. Он занял очередь в четвертый раз, надеясь на чудо сердцем: и сердце не подвело, ибо веровало в чудеса искренне. Квитанцию приняли.
В конце расчетов голова Петра Клутыча заключилась будто бы в шлем: шарообразную электрическую ауру, образованную телепатическими сообщениями, полными ненависти. Воздух отяжелел и готов был воспламениться, проведи кто пальцем или почеши за ухом. Звериные взоры товарно-денежных людей следили, как Петр Клутыч, отзываясь на просьбу поискать десять копеек, услужливо расстегивает первую одежку, вторую; залезает в кармашек, вынимает старенький кошелек, копается в нем неумелыми пальцами, с великим трудом ухватывает монетку.
Потом лезет лапой в скользкое корытце, выгребает из ямки денежку, роняет, ловит, огорченно отдувается.
– Олень, – прошелестело справа от Петра Клутыча.
– Где? – удивленно отвлекся тот.
Ему не ответили.
Два глаза смотрели в упор.
Петр Клутыч сразу замедлился во всех своих проявлениях: в мыслях, сборе мелочи и даже дыхании.
Не далее, как нынешней ночью, на Петра Клутыча посмотрели еще страшнее. И взгляд, излетевший из очереди, сразу напомнил ему об этом случае.
По простоте своей Петр Клутыч и думать не мог, что дело происходило никак не во сне, хотя в самый момент разглядывания смертельно перепугался и не различил, где сон, а где явь. Предутренний герой выдвинулся на середину комнаты и молча стоял, глядя на просыпающегося Петра Клутыча. Тот даже не разобрал, с чем имеет дело – с живым существом или с вещью. И дела-то, по правде сказать, не имел никакого: лежал неподвижно, наполовину задохнувшийся, таращась в ответ на несказанно гадкое, противоестественное новообразование.
Ужаснее всего было то, что народившаяся фигура смотрела вовсе не на него, а, судя по задранному подбородку и повернутой голове, куда-то вверх и в сторону. Но ухитрялась рассматривать Петра Клутыча. Того, ни разу не замеченного в ксенофобии, едва не вырвало; раньше Петр Клутыч, когда смотрел иностранные фильмы, всегда удивлялся: почему их героев постоянно рвет, стоит им соприкоснуться с каким-нибудь пусть неприятным, но вовсе не тошнотворным явлением. Узнает человек, что кто-то умер – и мигом блевать. Петра Клутыча сильно и странно тошнило, хотя все были живы, а в этом как раз и есть почтенный повод для тошноты, но ему все равно было странно.
Фигура была настолько чуждой, что против ее присутствия возражали все внутренние органы, в которых Петр Клутыч мало смыслил: ему представлялось, что внутри у него находится большой мешок с двумя дырками, на который сверху положено сердце и что-то еще – может быть, легкие. Он слышал, что бывают еще кишечник, печень, почки и мочевой пузырь, для которых не было места в продуманной композиции умозрительной картины.
Днем, когда солнце, наше сознание – птица. Птица стремится ввысь, обжигая крылья. Ночью, когда луна, наше сознание – крот. Оно углубляется в недра и натыкается на живучую гниль.
Петр Клутыч не сумел бы так выразиться. Однако он не был лишен той доли практической сметки, что необходима для выживания. А потому не сомневался: пришелец ему приснился. Тем больше не сомневался, чем лучше понимал сердцем, что это не так.
Ибо снятся, как правило, вещи пускай ужасные, но так или иначе укладывающиеся в систему привычных вещей, хотя бы и перемешанных до абсурдности. А эта фигура выглядела… ну, скажем, если представить себе обычную дверь, лишившуюся по какой-то причине прямых углов… и, тем не менее, плотно затворяющуюся. Или собственную тень, без видимой причины растягивающуюся на десятки метров. Или песню, льющуюся из рукомойника.
При одном воспоминании о мерзком видении, которое скрылось при звуке полицейских сирен, Петра Клутыча перекореживало, как от стекольного скрежета. Полицейские сирены звучали в ночном кино, под которое Петр Клутыч заснул без особого сожаления: фильм заканчивался, и машины уже съехались к горящему домику, набитому трупами. Улыбающегося поджигателя везли на каталке.
Ударенный взглядом ненавистника, Петр Клутыч задремал наяву.
И проснулся уже на ходу, при выходе из сберкассы: тяжелый взгляд чуть отпустил его и плелся следом; тот свернул за угол, но взгляд, казалось, по-прежнему стлался за ним, от него не спасали ни подворотни, ни проходные дворы. В состоянии бодрствования Петр Клутыч не особенно отличался от спящего Петра Клутыча; он редко замечал переход от первого ко второму. Сейчас он ощутил его в несомненном ослабевании жути. В конце концов он запутался – спит ли, не спит.
Сонно перебирая события в сберкассе, Петр Клутыч подосадовал на свою сберегательно-накопительную нескладность и тут же, с привычным легкомыслием, позабыл о ней.
На скромных подступах к незатейливому дому он усмотрел милицейский автомобиль – полицейский, как он ошибочно возомнил. Ему почудилось, что эта машина приехала из позднего фильма. Она опоздала к руинам – патрульные остановились перекусить, напихались гамбургерами и кофе, а когда добрались до места пожара, на пепелище струились ликующие титры.
Петр Клутыч немного встревожился, хотя и не знал за собой никакой вины. И не зря, потому что его немедленно потревожили. Из машины высунулся человек в форме.
– Уважаемый! – настороженно позвал сержант. Учтивость давалась ему с трудом, и он немного не добирал до печально популярного телевизионного идеала. – Вы здесь живете?
Когда-то, совсем молодым, Петр Клутыч мечтал и хотел устроиться на службу в милицию. Да не вышел статью. Солидности в нем не было совершенно, и ростом он вырос не тем, что дает основания задерживать и карать.
Берут и таких, конечно, но его отговорили недоброжелатели.
– Да, – с готовностью молвил Петр Клутыч. Ноги, которые при виде милиции сразу отрекаются от корпуса и делаются чужими, понесли его к машине. Как будто корпус что-то натворил, и они идут доносить. Или сами запинали кого-то, покуда корпус отвлекался: тогда они шлепают сознаваться.
– В двенадцатой квартире кого знаете?
Естественно, он знал, ибо жил в одиннадцатой. В двенадцатой поселился Кашель.
– Давно соседа видели?
Петр Клутыч задумался.
Его мысли, обычно не простиравшиеся дальше больших и малых потребительских корзин, оглушительно напряглись.
– Да порядком, – озабоченно признал Петр Клутыч. И не удержался: – А что?
– Да нет, ничего, – сказал милиционер натянутым голосом. – Пропал он куда-то.
Новость огорчила Петра Клутыча. Кашель был добрый; они, бывало, даже дружили, а понимали друг друга вообще с полукашля, благо это дело было несложное.
– Порядком – это когда? – не отставала милиция.
– Дня четыре, – взволнованно рассказал Петр Клутыч. И не вытерпел: – Он мертвый?
– Почему – мертвый? – ужаснулся сержант.
– Так нет же его…
– И что с того?
Петр Клутыч переминался с ноги на ногу. Он не смел уйти, но боялся и говорить. Из парадного вышел стремительный человек, похожий на ворона: черная шляпа, черное пальто, гнутый нос, по-боксерски свернутый на сторону.
– Кто у тебя тут?
– Вот, рядом живет, – милиционер указал на Петра Клутыча. – Четыре дня, как не видел.
– Это не точно, – пролепетал тот.
Ворон Воронович, словно выпорхнувший из детской сказки, скосил на него цепкий глаз. Ему хватило секунды, чтобы разобраться если не во всем, то во многом.
– Проходите, куда шли, – проскрежетал он. – И ждите повестки.
– А он еще говорит… – вмешался милиционер.
– Что он может сказать? Ты посмотри на него! – Черный, не глядя больше на Петра Клутыча, полез в машину, вынимая на ходу спички. Сигарета уже торчала во рту. Никто не видел, как ее доставали из пачки: она, не иначе, выскочила из глотки, переделанной под сигаретницу.
Петр Клутыч покорно затрусил к лестнице. Он машинально провел по лицу ладонью, соображая, что же такое особенное в нем побудило Ворона отказаться от дальнейшего допроса.
На площадке он со страхом рассматривал опечатанную дверь Кашля.
Потом отомкнул свою, вошел и долго стоял перед зеркалом, изучая себя. Низкий лоб, аккуратные височки, маленький шелушащийся нос, подковообразная челюсть. При легкой асимметрии похоже на разбитый витраж, выполненный и нарочно погубленный авангардистом. Ничего особенного. Все, как всегда.
Глава 2
Вниз.
Адское окружение в ассортименте, на любой вкус.
Первой следует шахта: пусть не такая настоящая, где плавает агрессивная пыль и рвется метан; пускай без чумазых забойщиков. Зато – ледяной бронированный ствол, механическая мертвечина; лифт, разгоняющийся до невесомости ездоков.
Далее, вниз.
Метрополитен египетского величия. Вишневый гранит, полировка. Стерильные и теплые туннели, короткие поезда. Эскалаторы, предваряемые системой тройной проверки: сетчатка, папиллярные узоры, голосовой резонанс.
Ниже, ниже.
Коридоры и переборки, овальные люки задраены наглухо. Они выдерживают десять мегатонн. Слепые внутренности многокилометровой субмарины, новая шахта: вниз.
Инфекционные боксы, камеры, противочумные скафандры, стальные манипуляторы.
В совокупности – полный комплект; пейзажная нежить во всех ее заслуженных проявлениях, могильный ландшафт. Холодный жар, обеззараженный тлен, очарование секционного зала.
Медор Медовик, бритый и ласковый, встретил Балансирова у входа в карантинный бункер. На Медоре был халат, небрежно наброшенный: так набрасывают халаты на президентов, когда у тех возникает желание ознакомиться с машинным доением. Белый чепчик, напоминавший пилотку, кокетливо съехал на медвежье ушко.
– Угощайтесь, – Медовик распахнул именной портсигар.
Балансиров, от никотина землистый лицом, догадался: шеф показывает ему, что вовсе и не думал кого-то встречать. Он просто вышел перекурить.
– Там все равно заключительная дезинфекция, – Медор угадал его мысли, кивнул на литую дверь. – Еще минут пять.
Балансиров прихватил папиросу.
– Близкие контакты третьей степени, – сказал он скорбно. – Где вы, радужные фантасты?
– Кто с мечом к нам придет… – хохотнул Медовик, затягиваясь так глубоко, что дым поразил структуры малого таза. – С клыками, с хоботами, с когтями… Тот обязательно от них же погибнет.
– Боюсь, они наплетут небылиц, – поделился сомнениями Балансиров. – Терять им нечего. Знают, что распотрошат.
– Знают, – согласился тот. – Ну и что? Весь вопрос – как распотрошат. Есть о чем поторговаться.
Над дверью вспыхнула зеленая лампа. Медор Медовик выплюнул папиросу на сверкающий, без единой соринки, пол. Балансиров потушил свою об ладонь и спрятал в карман. Его халат, в отличие от карнавальной одежки Медовика, был аккуратно застегнут, а колпак сидел ровно по центру длинной головы.
– Сейчас все выясним, – пробормотал шеф.
Он, как и был, остался пряником, но вдруг зачерствел. Медовик снял очки; приложил к двери ладонь, прижался глазным яблоком, глухо и деловито сосчитал до трех. Щелкнуло сверху; щелкнуло снизу; дверная панель поехала вбок. Майор шагнул внутрь. Балансиров терпеливо ждал у порога. Когда панель вернулась на место, скрыв Медовика, он повторил процедуру, и вход открылся вторично.
Внутри было темно. Тянулся длинный лабораторный стол, за которым уже восседал Медор, просунувший руки в отверстия так, что те оказались по другую сторону непробиваемого стекла. За стеклом они попадали в бухгалтерские нарукавники, которые заканчивались не дыркой, но сверкающими клешнями. Насколько темно было в самом помещении, настолько слепящим казался свет, заливавший опытную площадку. Медор Медовик пощелкал пальцами правого манипулятора, затем состроил кукиш левым. Клешни работали исправно. По первому требованию они выпускали то ножницы, то нож, а также бритвы, крючья, стволы, шприцы, да еще нечто вроде прикуривателя. Площадка пустовала. Балансиров устроился рядом с начальником, но в рукава не полез: Медор Медовик не любил, когда ему мешали допрашивать. В светлом боксе побывали многие, в том числе – самые обычные, земные экземпляры, общение с которыми не всегда требовало инфекционной предосторожности. Но шеф считал, что такая камера оказывает замечательное психологическое воздействие. Балансиров присмотрелся: что-то новенькое! Его острый взгляд различил на указательном пальце правого манипулятора следы от зубов.
– Мы зря отказались от скафандров, – поежился Балансиров. – Откуда вы знаете, на что они способны?
Медовик махнул манипулятором:
– Семь смертям не бывать, а одной не миновать…
– Оно конечно, – начал тот.
– И они это уже поняли.
Балансиров сообразил, что Медовик не принимает пословицу на свой счет.
– Сейчас увидите, что это за мразь, – сказал Медор. – Вся спесь улетучилась, как рукой сняло. Не знают, собаки, с кем связались… Проверьте, пожалуйста, звук, у меня руки заняты.
Балансиров пощелкал тумблером.
– Раз, два, три, – попробовал он.
Невидимые динамики разразились гадким кваканьем и урчанием.
– Слышишь, какой у них язык? – Медовик покачал головой. – Животные, честное слово.
– Да, не соловьи, – согласился Балансиров.
Он невольно восхитился достижением секретной мысли: все-то у них уже есть – механические переводчики с инопланетного, антиматерия, лучи смерти. В подземном ангаре спрятан целый звездолет – к сожалению, недостроенный. А этих, наверху, ничто не волнует, кроме курса валюты.
– Приглашайте, – распорядился майор.
Балансиров, немного нервничая, взял микрофон, шнур от которого уползал и терялся в темноте. Он позавидовал напряжению Медора, так как знал, что оно вызвано не контактом с тамбовским волком по разуму, но предвкушением. Медор не сомневался в успехе; ему, вообще говоря, было все равно, кого допрашивать; он допросил бы и табуретку, если бы она что-нибудь натворила.
– Можно завозить, – сказал Балансиров.
Через несколько секунд половые плиты разъехались. Оказалось, что лабораторный этаж не предел, есть помещения, которые располагаются еще глубже. Из них-то и поднялась платформа с умышленно деревянным стулом: для унижения. К стулу было примотано гадкое существо, в юридическом смысле – подозреваемое. Но вся загадочность осталась в прошлом. Теперь вместо зеленого человечка с ужасным третьим глазом во лбу, который в ночные часы наводил страх на мирных граждан, сидела какая-то одноглазая перепуганная жаба, каких много в любом пруду, разве побольше ростом. Других глаз уже не осталось, так что залетная жаба полностью разобралась в своем незавидном положении. Она горько пожалела, что связалась с гордым и славным биологическим видом, который не жалует незваных гостей.
Пленный пилот затравленно смотрел на мучителей. Яркий свет слепил ему глаз, и он различал только сгорбленные силуэты.
– Вы все осознали? – строго осведомился Медор Медовик.
Переводное устройство расхрюкалось еще строже.
– Нам передали, что вы готовы кое-что рассказать.
Устройство коротко молвило:
– Дураки и пьяницы.
Медовик на секунду смешался. Балансиров озадаченно полез под колпак чесаться.
– Это крайне неосмотрительно с вашей стороны, – Медор взял себя в руки. – Оскорбление сделало вашу участь совершенно плачевной.
Манипулятор поиграл когтями, от чего инопланетянин вздрогнул и торопливо заклокотал.
– Я вовсе не про вас, – устройство было настолько сложным, что умело моделировать извиняющиеся нотки. – Я хотел сказать, что все дело в дураках и пьяницах.
– Это мы знаем, – иронически кивнул Медор. – Чтобы вызнать такой секрет, не надо прилетать и следить годами. Вынюхивать тут. Достаточно одного визита.
– Вы снова не поняли, – защищался пришелец. – Нас не интересуют ваши внутренние проблемы. Я только хотел объяснить, что нам нужны дураки и пьяницы. Мы забираем их к себе. Мы, если вдуматься, оказываем вам услугу. А вы сбиваете наши корабли, пытаете наших летчиков…
– Я пока ничего не понял, – сказал майор. – Ясно только одно: дураки ли, пьяницы – они наши граждане и даже имеют право голоса. И мы не дадим их в обиду.
Устройство заволновалось:
– Конечно, конечно, мы должны были спросить вашего позволения. Я понимаю. Я глубоко раскаиваюсь. И запишите, пожалуйста, еще, что я не знаю никакого Лондона и никогда не бывал в ваших горах. Я понятия не имею, кто такой этот ваш деятель… я не помню, как его зовут… пожалуйста, пусть меня больше про него не спрашивают.
– Забудем об этом, – вмешался Балансиров. – К Лондону мы вернемся потом. Говорите по существу дела – про дураков и пьяниц.
– Хорошо, – быстро согласился инопланетянин.
Не сводя глаза с манипуляторов, он начал рассказывать. На второй минуте его признаний Медор Медовик забыл про манипуляторы и скрестил шприцы и ножи на манер живых пальцев. Балансиров снял колпак и промокнул высокий, но узкий лоб, покрывшийся испариной. Он бросил взгляд на стрелки, которые радостно прыгали, показывая, что показания записываются.
…Часом позже Медор и Балансиров снова стояли перед запертой дверью, но уже отвернувшись от нее. Из-за двери неслось отчаянное, смертное бульканье, издававшееся переговорным устройством. Уходя, Медовик отключил переводчика и перевел манипуляторы в автономный режим.
Балансиров держал в руках листы с распечатанными показаниями.
Майор посмотрел под ноги, увидел там свой окурок. Снял со стены телефонную трубку:
– Выясните, кто прибирает в следственном отсеке. Мерзавец пойдет под суд, но для начала отправьте его в кадры.
Глава 3
Петр Клутыч прилег на диван и приложился ухом к стене. Действительно: он не услышал привычного Кашля.
Кашель все время бывал чем-то занят: играл на баяне, слушал телевизор, гремел посудой, булькал под душем. Выпивши – случалось, кричал. Иногда на рассвете он будил Петра Клутыча пронзительным воплем, бессознательно подражая сельскому петуху.
Дважды получалось, что Петр Клутыч выбегал, в чем был, на лестницу, стучался в дверь. Кашель отворял ему; маячил в проеме, держась за грудь и щурясь на бессердечный свет.
Теперь наступила тишина. О прежнем Кашле напоминала лишь змеистая трещина, бежавшая по стене от потолка до плинтуса. Между запоями Кашель делался деловитым и домовитым: ладил полочки, прочищал трубы. Петр Клутыч сдерживал себя и прощал ему встречное алкогольное бурение.
И вот Кашель сгинул. При мысли об этом Петр Клутыч не то что простил ему трещину, но даже – неожиданно для себя – дал течь. На глаза навернулись грустные слезы. Он никак не предполагал, что Кашель занимал в его жизни такое важное место. Он рассматривал трещину с собачьей тоской, далекой от сытой и подлой сентиментальности.
Петр Клутыч был нескладный, одинокий, молодой еще человек сорока девяти лет. Он разгуливал в либерально-демократическом картузе; его только что уволили из метро. Он и в сберкассу пошел, думая там подкормиться скудными сбережениями. Его уволили за то, что месяц назад, выпив пива с ныне исчезнувшим Кашлем, он сел в кабину машинистом, замечтался и прозевал светофор.
Поэтому Петр Клутыч остался без работы, а теперь и без товарища, совсем один.
Заняться ему было нечем.
– Ты, Петр Клутыч, дурак, – нарочно говорили ему недавние сослуживцы, соединяя в словах унижение с юмористическим возвышением.
Ему же казалось, что это, пожалуй, правда, и не хватает малости, чтобы ее осознать. Он и грамоте обучался, читая по складам бранное слово из трех букв, нацарапанное гвоздиком на его двери.
Петр Клутыч миролюбиво улыбался в ответ, пожимал плечами, не спорил.
И когда выгоняли, тоже не возражал. Разве только проехался по знакомым станциям. На одной развернулся косметический ремонт: каменный Пушкин, за которым выстроились строительные козлы, был похож на прораба, присевшего перекурить. На другой Петр Клутыч вздохнул, любуясь скульптурной группой: толпа людей славила труд, а сзади, нехотя соблюдая правило перспективы, стоял, как скромный павлин, небольшой Ленин. Он утешился мыслью, что сумеет и дальше любоваться славным трудом, будучи простым пассажиром. Ездить ему было некуда, но Петр Клутыч не загадывал дальше хода вперед. Он и хода-то не загадывал.
Его мысли, похожие на разрозненные печальные аккорды, вернулись к соседу. Надо поговорить с другими жильцами, решил Петр Клутыч. У них, наверное, уже побывала милиция. И они с удовольствием поговорят если не о Кашле, то хотя бы о милиционерах.
Он вышел из квартиры прямо в тапочках, мельком взглянул на опечатанную дверь Кашля и подошел к тринадцатой. Позвонил, долго ждал, но никто не ответил. Тогда Петр Клутыч позвонил в четырнадцатую квартиру, и вышел Висюн в майке. Грузный Висюн что-то жевал – вероятно, яичницу. Глаза у Висюна были круглые и выпуклые.
– Насчет соседа? – сразу догадался Висюн. – Это я ментов вызвал.
– Почему? – машинально спросил Петр Клутыч. Но мог бы и не спрашивать, потому что вопрос не подкрепился мыслью. Ему не пришло в голову, что четырех дней отсутствия слишком мало для Кашля, который, как сказала бы любая милиция, обязательно вернется. Поспит у кого-нибудь, погостит еще и придет домой.
– Я сказал, что пахнет трупом, – сказал Висюн, удовлетворенно перетаптываясь. – Так и тянет из-под дверей.
Петр Клутыч понимающе закивал, вернулся к двенадцатой квартире, принюхался.
– Пахнет, как всегда, – пожал он плечами.
– Ну да, это до меня только потом дошло, – согласился Висюн. – Мы-то привычные. А менты сразу стали ломать. У них появились подозрения.
Петр Клутыч кивнул опять, на сей раз – сочувственно.
– Они, понятно, обозлились, когда никого не нашли, – доверительно признался Висюн. – Ну, а мое дело – сторона.
Новый вопрос вертелся и никак не складывался в голове Петра Клутыча. Наконец, сложился: удивительно, но это был тот же самый вопрос, только чуть иначе сформулированный:
– Зачем же ты их вызвал?
Висюн сделал деловое лицо:
– Он мне полтинник должен. Пусть, думаю, хоть поищут, а то дождешься его.
– Ловко! – Петр Клутыч даже улыбнулся, завидуя чужому уму.
– Я, вообще-то, по-настоящему решил, что пахнет плохо, – признался Висюн. – Про полтинник я только сейчас догадался.
– Ты же сам говоришь, что привычный…
– Мало ли… Вышел спросонок, постоял, подышал… Эге, думаю!
– Короче, ты ничего не знаешь, – подытожил Петр Клутыч.
Висюн и вправду не знал, но поговорить хотелось.
– Хороший был человек, – сказал он похоронным голосом. – Жизнелюб. Джентльмен, – он скроил гримасу мученика. – Подавал женщине не только руку, но и хер, и стакан.
Тут же, припомнив осмотр квартиры следствием, Висюн горестно скривился:
– Фигуру смотрели. Что это такое, спрашивают. Кого это здесь убили?
Петр Клутыч сперва не понял, о чем тот говорит, но потом догадался. Кашель постоянно жаловался на домового. Петр Клутыч посоветовал ему нарисовать какую-нибудь магическую фигуру. И Кашель, вооружившись мелком от тараканов, изобразил на полу самого домового, как он себе его представлял. Силуэт. Его рукой водило подсознание, где прочно засели кадры из фильмов про убийства, где после выноса тела на полу остается печальный следственный контур.
Теперь стало ясно, почему человек в черном держался так неприветливо. Магический контур показался ему насмешкой.
Вдруг под окно приехало что-то страшное и занялось делом. Лестничная площадка наполнилась адским грохотом, и продолжение разговора стало невозможным. Соседи разошлись по своим скучным норам; Петр Клутыч лег полежать. Однако не лежалось: в голову лезли куцые мысли. С улицы несся шум, разлагавшийся на канонаду отбойного молотка, рев компрессора и чавканье говнососки. Петр Клутыч застегнулся в куртку и отправился погулять.
У ворот, приглашавших проследовать в парк отдыха и гуляний, работало платное караоке.
Аттракцион собрал длинную очередь. Желающие выстраивались в мрачную цепь и ждали с ненавистью к тому, кто уже дорвался до караоке и пел. Они мечтали, чтобы у поющего что-нибудь испортилось, сломалось, заело; чтобы он подавился и провалился, чтобы он спел поскорее, чтобы не задерживал других намеревающихся петь. Певец же, получив микрофон, забывал о своем недавнем недовольстве и самозабвенно хрипел популярное; если умел, то и пританцовывал популярное.
Петр Клутыч, которому до микрофона было еще долго ждать, желал поющим смерти.
Массовик отмахивал ритм и натужно улыбался. Но кроме него никто не веселился. Всем хотелось побыстрее исполнить песню.
– Сколько же идиотов, – заметил какой-то прохожий.
Его проводили слабым ропотом. Чей-то голос из очереди назидательно заметил:
– Без уда не вытянешь рыбку никуда.
Петр Клутыч, чтобы отвлечься, начал решать философский вопрос: приносит ли слепня ветром или уносит его? Потом огорченно припомнил, как сослуживцы отстригли его от коллективной фотографии и наорали.
Когда, наконец, подошла его очередь петь, Петр Клутыч осведомился:
– У вас нету песни «На пыльных тропинках далеких планет?»
– К сожалению, нет! – бодро крикнул массовик, веселясь из последних сил.
– А этой… «Мы, дети галактики»?
– И этой нет!
Петра Клутыча почему-то тянуло на космический репертуар. Но ничего из песен, которые ему срочно захотелось исполнить, не нашлось. Не было даже «Земли в иллюминаторе».
Поэтому Петру Клутычу пришлось довольствоваться современностью.
Он тяжело заплясал и принялся кричать в микрофон:
– Я буду вместо! вместо! вместо неё!…. Твоя невеста! Честно! Честное ё!….
Лицо его нисколько не оживилось. Угрюмая очередь изнемогала от нетерпения. Ей тоже хотелось спеть про невесту, а Петр Клутыч занимал время и место.
Машины летели, люди шли; никто не обращал внимания на старания Петра Клутыча.
– Твоя невеста! Честно! Честное ё!….
Глава 4
Могло показаться, что помещение для допроса предателей человечества, пятой колонны, совершенно не отличается от следственного изолятора для звездоплавателей.
После внимательного осмотра впечатление сохранялось.
И все же здесь было гадостнее.
Совсем необязательные царапины на лабораторном столе. Слабый запах табака, гуталина и ружейной смазки. Эхо проклятий на родном языке, впечатавшееся в стерильные стены. Слабое, но отчетливое жужжание продолговатых ламп.
Балансиров распорядился выключить освещение, чтобы вместе с Медовиком погрузиться во тьму. Помещение за стеклом, как и на первом допросе, заливал ослепительный свет. Медор Медовик сидел, положа руку на пухлую папку; надковыривал картон, пробирался внутрь, трещал листами.
– Давайте сюда этого декабриста, – сказал он нетерпеливо.
Балансиров потянулся к микрофону – точно такому, как в первом боксе. Он снова чувствовал себя неуютно, хотя допрашивать предстояло своего, двуногого и двуглазого. У него не могло быть неизвестных науке микробов, требующих усиленной защиты. Зато могли быть микробы известные, требовавшие защиты еще более усиленной. Медор Медовик не раз прибегал к биологическому воздействию на упрямцев. Подземные микробиологи работали без выходных, а герметичные двери и толстые стекла защищали не только от космических спор.
В полу разверзлась дыра; бокс принял очередной стул, но сидевший на нем не был, в отличие от незваного пилота, прикручен к сиденью и спинке. Рыхлому, изнеженному мужчине, одетому в больничную пижаму, хватило древних кандалов, каких давно не выпускают. Но ему недоставало колодок и рваных ноздрей.
Балансиров замечтался, вспоминая, как они брали этого предателя. Ночь! Переполненная луна придвигается все ближе, ибо интересуется космическими делами; космические дела вот-вот развернутся на Бежином лугу. Но луг осквернен, он пылает посадочными сигнальными кострами. Делегация отщепенцев размахивает факелами; нынешний пленник Балансирова прочищает горло, готовясь к сепаратным переговорам с нечистой силой. Нечистая сила летает над родиной, над ее просторными полями, чтобы, по завершении переговоров, топтать. Черные крылья отодвинулись в прошлое: над лугом зависает серебристое брюхо. И вдруг: лязг! грохот! Урчание моторов! Из окрестных лесов выдвигаются боевые машины. Брюхо взмывает в небо, но поздно: залп! еще один залп! Небо расчерчивается лазерной паутиной. На перетрусившую делегацию падает обычная, позорная сеть. К орущему клубку спешат, размахивая хоботами, грозные силы химического реагирования…
– Ну что же, Эренвейн, – голос Медора Медовика пробудил Балансирова. Реконструкция героизма пресеклась. – Рассказывайте, как вы крали людей. Похищали граждан. Договаривались с врагами человечества.
Ответа не было.
Медор потянулся и зевнул, показывая, что абсолютно спокоен и уверен в успехе.
– Вы знаете, Эренвейн, сколько людей пропадает без вести ежегодно? Десятки тысяч.
– И всех я похитил, – попытался съязвить Эренвейн. Балансиров удивленно присмотрелся: нет, все в порядке, его трясет, только очень мелко и сразу не разобрать.
– Будет вам паясничать, – укоризненно молвил майор. – Мы же понимаем, что не всех. Достаточно одного. Слезинки ребенка. Вы читали у Достоевского о слезинке ребенка? – зазвенел Медовик.
– Мы не трогали детей, – сказал Эренвейн.
– Не придуривайтесь. Вы отбирали у них мам и пап.
– Это и без нас делали. Тех мам и пап, о которых вы печетесь, отбирали по решению суда. И дети радовались. Это были пьяницы.
– С чужого голоса поете, – Балансиров сделал Эренвейну замечание.
– Вы забрали много непьющих, – напомнил Медор Медовик. – Якобы дураков. У них тоже были дети.
– Их тоже заберут, когда вырастут. Раз такие родители. И что в этом плохого, если разобраться? Вы же автоматы, вы не рассуждаете. А французы, например, открыли, что человеческий глаз воспринимает всего один процент материальной вселенной. Один! – Эренвейн сострадательно и нахально поднял палец, сочувствуя глазам Балансирова и Медовика. – Между тем, космос на 73 процента заполнен пока неразъясненной черной энергией, которую как раз и не видно, а в ней самая суть. Но вам же до этого нет дела, вам бы только вязать свободную мысль.
Балансиров с Медовиком переглянулись.
– Что тут скажешь? – притворно удивился Балансиров. – Вот если, допустим, человек увидит не один, а два процента – что будет? Он мигом слетит с катушек. В белой горячке, небось, добавляются какие-то сотые доли, и ничего хорошего.
– А если явится Божья Матерь или Неопалимая Купина – это сколько еще получится? с учетом неизменности остального ландшафта? – Медор, подыгрывая, театрально взялся за сердце.
Эренвейн презрительно и негодующе отвернулся.
– А знаете, что мы сделаем? – улыбнулся Медор, снял очки и начал протирать их чепчиком, который тоже снял. – Мы оставим вас без коры. Есть хорошие лекарства, электричество… И отдадим вашим космическим друзьям.
С Эренвейна слетела наглость. Она и прежде давалась ему не без труда.
– Партия потребует думского расследования, – предупредил он.
– Пусть требует. С какой-нибудь звезды. Ваша продажная партия, ненавидящая народ и страну, отправится следом за вами.
– Вам не позволят, – всем своим подлым сердцем Эренвейн надеялся, что его берут на испуг.
– Думайте, как хотите, – отозвался Медовик, легко прочитавший эти простенькие мысли. – Мы не спросим позволения. Мы организуем проверку вашей финансовой деятельности. Там, собственно, и проверять нечего: приходи, да забирай в кутузку. Народ одобрит. Он сыт по горло вашей импортной демократией.
– Хорошо, – изнеженный мужчина опустил голову. – Чего вы хотите от меня? Я выполнял партийное поручение. Я рядовой функционер. Мне приказали встретить гостей и передать им пакет…
– Пакет давно у нас, – махнул рукой Медовик. – В нем списки. Ни в чем не повинных граждан, которых вы причислили к дуракам и пьяницам. Они совпадают с нашими, только короче. Вам известно, что все дураки у нас переписаны?
– Тогда чего вы от меня хотите?
– Вы слишком бодро изъясняетесь, – недовольно поморщился Балансиров. – Товарищ майор, разрешите наложить взыскание на службу предварительной подготовки? Смотрите: он ерепенится, чего-то квакает, поминает всуе государственные структуры… А должен был рыдать и молить о прощении.
– Наложите взыскание, – согласился Медор. – Итак, – обратился он к Эренвейну, – нам нужны имена других предателей. Партийных соратников можете не называть. На них давно заведены уголовные дела. Рядовые граждане? Деятели искусства, науки? Иностранные подданные?
С этими словами Медовик, будто спохватившись, сунул руки в нарукавники. Манипуляторы коротко взвыли и растопырили пальцы.
– Не бойтесь, – подбодрил он задержанного. – Мы защитим вас от гнева ваших заоблачных хозяев. Не такие они грозные. Раскалываются, как все разумные существа. – Он кивнул на папку с листами. – У меня здесь распечатка показаний одного из пилотов. Вся философия, вся идеология, цели и задачи. Нам не хватает технических подробностей.
Эренвейн, видный оппозиционер, чье сытое лицо не сходило с телеэкрана, болезненно глотнул, завороженно следя за червеобразными движениями металлических пальцев.
– Ну же, – нетерпеливо повторил Медовик. – Мы ждем. У вас есть осведомители, наводчики. Есть агентура среди сатириков, журналистов, врачей.
– Я не помню поименно, – хрипло сказал Эренвейн.
– Еще бы вам помнить такую ораву, – участливо отозвался тот. – Скажите, где у вас хранится подобная информация – и дело в шляпе.
Эренвейн раскрыл было рот, но запнулся.
– Я хотел уточнить, – выдавил он упавшим голосом. – Ваши угрозы… про звезду… нет, в лекарства и электричество я верю, но про звезду… это своеобразная шутка, правда?
– Шутка, – кивнул Медовик.
– Звезды необитаемы, – наставительно пояснил Балансиров. – Мы имели в виду планету.
Он придвинулся к Медовику и прошептал ему на ухо:
– Все-таки либералы – публика вежливая и сдержанная. Вот когда кому-то из наших прищемят почвенные Корни резными воротами, так сразу выходят тридцать три богатыря, вращая глазами….
Глава 5
Посреди ночи Петр Клутыч открыл глаза.
На часах было три.
В комнату кто-то пришел. Теперь Петр Клутыч был совершенно убежден, что не спит. Прекраснодушные игрища с полуснами и полуявью закончились, действительность победила. Он проснулся настолько, что даже сумел подумать, не Кашель ли здесь. За последние несколько дней ему не однажды казалось, что еще немного – и сосед постучится, а странное, зловещее дело перестанет существовать.
Может быть, Кашель все время прятался рядом, в квартире Петра Клутыча. Может быть, ему досадили черти, и он каким-то бесом просочился под диван или в кладовку. И спал там, набираясь сил, несколько суток.
Но Кашель не появился.
Вместо него перед Петром Клутычем возник расплывчатый силуэт. У него не было ничего общего с прежним гостем, но Петр Клутыч странным образом сообразил, что он из той же компании. И еще он понимал, что этому чудищу нельзя ничего, ничегошеньки сделать. В кухне у Петра Клутыча лежал хлебный нож, да только он знал откуда-то, что ножом его не убить. И застрелить невозможно, и забить кулаком не удастся. Потому что, как чувствовал Петр Клутыч нутром землянина, самого существа в комнате нет. Есть, грубо говоря, его образ, но это вовсе не значило, что опасность настолько же призрачна. Образ явился откуда-то, и Петр Клутыч запросто может отправиться куда-то.
Более того: он знал теперь, что именно этого и хочет существо.
Чтобы он пошел с ним.
Образ сгущался и наливался зеленью. Уже различались расширенные, невыразительные глаза, числом три штуки. Худые четырехпалые конечности. Округлый маленький рот трубочкой. Рахитичная грудь, скользкие болотные ребра, перепончатые ступни.
«Хоть бы петух запел», – в отчаянии подумал Петр Клутыч.
Существо приняло знакомую позу: голова повернута, смотрит в угол, да не в напольный, а в потолочный. Но только двумя глазами, а третий внимательно изучает Петра Клутыча. В запомнившуюся ночь тот просто не заметил этого третьего глаза, или тот не проявился, или не распахнулся – вот откуда взялось ощущение пристального, но неестественного, взгляда. Или нет: Петр Клутыч вцепился в простыни. Глаз плавал. Он путешествовал вкруг черепа, напоминавшего формой примитивное сердечко, которому не хватало любовной стрелы – ах, как бы такая стрела пригодилась, как бы она была к месту…
«Что тебе, брат, до этого места?» – в черепе Петра Клутыча заскрипел бесцветный вопрос. Тот выпустил простыни и взялся за голову. Руки натолкнулись на непривычно гладкую кожу: Петр Клутыч, хоть и был достаточно молод, носил паричок, который снимал на ночь.
Сейчас паричок лежал на стуле, подле постели.
Без паричка Петр Клутыч был абсолютно лыс, не считая височков. Лет десять назад, когда ему отказала в ответном чувстве любимая женщина, у него выпали все волосы.
Пришлось купить мышиного цвета паричок.
«Ступай за мной, брат, к другим братьям, – настаивал голос. Глазастое существо предпочитало не говорить, как говорят нормальные и цивилизованные субъекты. Для усиления эффекта оно пользовалось телепатической волной. – Твои братья у нас».
– У меня нет братьев, – твердо сказал Петр Клутыч.
«У тебя много братьев», – возразил пришелец.
– Я был один в семье, – настаивал тот. Очевидное заблуждение гостя вселило в него некоторую уверенность.
Существо на секунду притормозило и прикрыло неугомонное око.
«Дорогой мой человек», – сказало существо. Петр Клутыч очень не любил такого обращения. Оно звучало неестественно, и за ним, по его опыту, всегда следовала какая-то подлость. Достаточно услышать и выждать: глядишь – перед тобой, оказывается, и в самом деле не то инопланетянин, не то свинья.
«Такие, как ты, нужны твоим братьям, – заявил пришелец, подумав. – Они уже начали строить новую жизнь. Они ни от кого не зависят и все решают своим… – Пришелец снова помедлил, собравшись было сказать „умом“, но в последний момент заменил это слово на „рассудок“. – Рассудком. Они частно предпринимают и вынимают барыш».
Петр Клутыч вспомнил недавнее караоке. И человека в цветастой рубахе, певшего песню «Не нужен нам берег турецкий», которая очень нравилась Петру Клутычу. Спеть ее самостоятельно, прямо сейчас, он не отважился.
«У твоих братьев равные возможности, – втолковывал голос. – Они трудятся честным трудом и будут счастливы. Сейчас мы отправимся к ним».
Петр Клутыч вдруг похолодел, догадавшись, что Кашель – у братьев.
Эта мысль положила диспуту конец.
Во-первых, если эти палачи справились с Кашлем, то сопротивляться бесполезно. Кашля, бывало, вязали сразу две медицинские бригады – и ничего. Во-вторых, Кашлю будет, как-никак, веселее, когда с ним рядом обозначится земеля и даже сверх земели: сосед.
Петр Клутыч, борясь с ужасом, покорно сел в постели, взял паричок и надел его.
«Кто ты такой?» – проскрипело в голове.
– Петр, – растерянно объяснил Петр Клутыч.
«Где дурак?» – инопланетянин, не двигаясь, задал следующий вопрос.
Тут бы Петру Клутычу и догадаться, что он имеет дело не просто с образом, спроецированным в его конуру, но с образом робота, который не в состоянии переварить мгновенное изменение внешности. Он не догадался, но действовал правильно.
– Дураков нет, – он, отвечая, не вдавался в смысл ответа: просто ляпнул готовую, заученную конструкцию.
Образ, не видя более никакого сходства с заданным объектом, начал расползаться. Там, где он стоял, возникла неприятная вертикальная щель с неровными краями. По сознанию Петра Клутыча прогулялись смутные анатомические ассоциации.
«Туда тебе и дорога», – подумал Петр Клутыч, клацая зубами.
Существо бесшумно втянулось в щель, служившую, как ему позднее растолковали, коридором между мирами.
Тогда он спрыгнул на пол и босиком побежал к выключателю. Комнату озарил домашний свет.
О довершении сна не могло быть и речи. Петр Клутыч решил, что остаток ночи он просидит, забившись в угол и закрывшись руками. Одеяло над головой его чем-то не устраивало. Но он не сумел высидеть и минуты. Хотя ему было очень страшно выходить на улицу, он пересилил себя, наспех оделся и вышел. И там, снаружи, предпринял действия, которые, вернись ночной гость, преобразили бы Петра Клутыча в еще более лакомую приманку.
Петр Клутыч купил себе выпить, выпил, но ему не особенно полегчало.
Очень быстро, несмотря на ранний – или поздний, как угодно – час, нашлись какие-то сопровождающие доброжелатели. Они доставили Петра Клутыча в реанимационное отделение ближайшего ресторана.
Таким образом, он окопался в круглосуточном ресторане «Государь» и постепенно, в мыслях, с тяжелым возбуждением, отождествлялся с прототипом вывески.
Через час, когда сделалось почти хорошо, его вышвырнули за дверь; содрали предварительно паричок и, торжествуя, выпинали эту вещь следом. За несдержанность и развязное поведение в зале.
Он и пукнуть-то хотел для завершения чувства внутренней гармонии, для полной в ней уверенности: так все складывалось ладно, один к одному, что машинальное устранение несовершенства, мелкой потребности, явилось бы скромной точкой в акте сотворения мирного микрокосмоса. Но вышло громко, и микрокосмос взорвался, рождая неуправляемые, как кометы, последствия.
– Что у вас тут? – лениво спросил какой-то милиционер. Уже было утро. Он спешил на работу, шел пешком, да остановился посмотреть на расправу.
– А! – дернул плечом пожилой охранник, нарядившийся в специальное назначение. – Пьяница и дурак.
Милиционер проводил испытующим взглядом Петра Клутыча, который шатаясь и придерживая пыльный паричок, озабоченно ковылял домой.
Глава 6
– Ну, и как тебе эта история? С пьяницами и с дураками?
Балансиров придвинул к себе бумаги, будто желал ими вооружиться, заглянуть в них, найти достойный ответ. Но это было ненужное действие, листать протоколы было ни к чему. И сам вопрос был ни к чему, и отвечать на него по-военному четко – тоже необязательно.
Они с Медором давно сработались, и каждый отлично знал, что на уме у другого.
– Будем выводить из-под удара, – пожал плечами Балансиров.
Аналитическая записка, лежавшая в папке первым листом, содержала в себе резюмированные выводы по результатам допроса инопланетян и земных коллаборационистов, осмотра инопланетного корабля, изучения инопланетной и земной документации, а также медицинского вскрытия всех заинтересованных лиц. Для изложения сути дела хватило страницы; суть излагалась под единственно возможным заголовком, в котором учитывалась эта самая суть, само дело, давалась его косвенная оценка в виде частного определения, намечалась стратегия действий, отражался кругозор и направленность воображения составителей. Он звучал так: «Протоколы звездных мудрецов».
В этой записке Медор Медовик обвел самое главное красным карандашом. Внимание карандаша привлекли следующие строки:
«…По собственному признанию бортинженера, вторжение происходит из параллельного космоса, существующего в состоянии неуправляемого хаоса. Главной задачей агрессоров является расширение жизненного пространства путем наведения беспорядка в нашей материальной вселенной. Согласно религиозной идеологии, принятой на вооружение в хаотическом космосе, сила, известная нам под названием „бог“, не принимает участия в управлении параллельным миром пришельцев. На вопрос, как такое возможно, бортинженер ответил, что бог, если он абсолютен и может все, способен и вовсе не существовать; кроме того, он сразу же выполняет, что может, и поэтому перестал контролировать так называемый хаотический космос. Расширение жизненного пространства требует, чтобы известная, родная для человека вселенная тоже была выведена из-под божественного контроля. Отдавая себе отчет в том, что в нашем мире все прочно взаимосвязано и пропитано высшей волей, захватчики приняли решение изымать важнейшие иррациональные узлы, на которых держится система управления. По их расчету, добровольный (последнее слово было выделено маркером) переход физических лиц, которые служат этими узлами, в независимую область хаоса, приведет к необратимым изменениям. Создатель не станет противодействовать их свободной воле и последующему хаосу. Наши миры, между которыми на сегодняшний день существуют лишь отдельные щели, сольются и станут одним неконтролируемым метафизическим образованием. Специфика происходящего зависит от качественных и количественных характеристик узлов. Как заметил подследственный, можно изъять целую страну или даже планету, однако в силу того, что „божьим промыслом“ в нашей вселенной пронизано и взаимосвязано все, от звезд до кашля, образовавшаяся пустота сразу затянется. Поэтому неприятель сделал ставку на покровительство, которое высшая сила оказывает элементам, определяемым здесь как пьяницы и дураки, каковой случай отражен в народном фольклоре. Народная молва гласит, что они охраняются богом. Он их не любит, но хранит, из чего вытекает, что и те, и другие ему нужны. Пришельцы из хаоса искушают и похищают означенных лиц не только на Земле, но и в других планетных системах. Пленный бортинженер цинично заявил следующее: „Вам, землянам, было бы любопытно взглянуть на некоторые формы жизни, которые мало того что диковинны для вашего глаза, но еще и поражены идиотизмом“. Кроме того, повсюду, где планируется вторжение, неприятель, ища содействия своим планам, вступает в контакт с анархическими элементами, соблазняя их освобождением из-под высшего гнета. Вражеская пропаганда обещает так называемым демократическим силам поголовный выход из-под божественного контроля, переход в новое измерение и существование в виде разрозненных конгломератов цивилизованного бытия. По словам агрессоров, наш мир в этом случае перестанет зависеть от коммунальных сбоев, случившихся в соседней галактике, и от капризной воли единого центра…»
Медор Медовик всыпал в чашечку с кофе добрую порцию сахара.
– Меня совершенно не устраивает мистический компонент, – проворчал он. – Я военный и привык подчиняться законам вселенной.
– Так и должно быть, – Балансиров дернул себя за нос. – Наше дело – защитить эти законы, когда на них замахиваются. Меня-то не очень смущает мистика. У нас ведь, благодаря таким законам, ее и нет. И не будет, если возьмемся за дело с толком. Потому что речь идет об абсурде. Но абсурд совершенно реален и жестко задан, хотя бы в своих нестыкующихся составляющих. Выживание в абсурде – абсурдно, а потому неизбежно. И дело наше – правое…
– Ну да, разумеется. Но все равно – эти ссылки на высший контроль… якобы можно уйти из-под него…
– А я на вашем месте подумал бы, – возразил Балансиров. – Мы с вами, понятно, останемся здесь… а там – может быть, там удастся развернуть что-нибудь вроде наших оффшоров… деньги перевести, детей отправить учиться? Не смотрели на проблему с этой точки зрения?
– Не смотрел, – насупился Медовик. – Куда учиться? К этим? Ты сам-то отправишь своих?
– Кто знает… – задумчиво сказал Балансиров.
– Ну, подумаем, – решительно хлопнул по столу Медор. – А пока придется объединять подзащитных. Помнишь, была такая песня? «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке». Для дураков. Они ее сами и пели.
Балансиров поерзал в государственном кресле.
– Не загонять же их в лагеря?
– Кого? Дураков и пьяниц? Зачем же сразу в лагеря – ты опять за свое…
– А как их иначе объединить? Где они возьмутся за руки? Школу открыть для них? Приют?
– И лагерей не хватит, – не слушал его майор. – И времена не те.
– Те времена, – шепнул Балансиров. – Те самые, товарищ майор.
– Опять ты меня не понял. Зачем нам столько рабов? Заводы поднимать? Каналы копать? Это уже нерентабельно, поезд ушел. Надо браться за тонкие технологии, а тут понадобятся другие методы…
– Заводы подправить тоже не грех…
Медор Медовик вылез из-за стола совещаний, прошелся вокруг. Он глядел себе под ноги, стараясь заглянуть за полный живот – что там, за ним? или под ним? в общем, дальше и ниже? Правая рука рывками бросалась вперед, как будто Медовик кого-то бил. Но он всего лишь поддался личному караоке, заработавшему в мозгу: «Пока мы… едины… мы непобедимы. Пока мы… едины… мы непобедимы».
– Надо связаться с медицинскими технологами, – сказал он, очнувшись от эманаций Фиделя и Че Гевары. – Помнишь, они докладывали насчет машинки?
– Познавательной? – сообразил Балансиров.
– Ее самой. Массы не станут объединяться, если мы не повысим их сознательность.
Врачебно-эксплуатационный отдел недавно похвалялся новым устройством, которое давало возможность ненадолго расстаться с собственным телом и посмотреть на себя со стороны. Это происходило не буквально, но в составе гипнотехнического выверта.
Балансиров хрустнул пальцами.
– А если они поумнеют после самопознания? Дураки и пьяницы нам самим пригодятся.
– Никогда ты не будешь майором, капитан, – жалостливо пообещал Медор Медовик.
– Что-то вас нынче на бардов тянет.
– Знаешь, сколько я их переслушал? И перевидал вживую? И вмертвую?
Балансиров уважительно засопел.
– Не поумнеют, – Медовик, наминая себе густые бока, становился на цыпочки и опускался на пятки. Со стены таращился голодный портрет железной выдержки. – Нельзя переделать дурака в умного. Наоборот – пожалуйста, вообще без машинок. Зато уже стало возможно заставить дурака понять, что он – дурак.
– Из чего он сделает дурацкие выводы, – подхватил Балансиров, и майор закивал:
– Сделает, но мы ему не позволим. Мы сами подскажем выводы.
– Не понимаю, – сказал тот. – Зачем нам их понимание? Это опасно.
– Ничего подобного. Я же специально подчеркнул: «добровольный переход физических лиц». Добровольный! Как ты думаешь, кто пойдет добровольно, если будет знать, что набирают одних дураков? Даже дурак пошлет их к черту. И будет прав. Пришельцы сулят дуракам хорошее, но тем везде придется плохо. Сила агрессора в том, что дураки не признаются себе в глупости. Это, они думают, не про меня. Это, наверное, других дураков забирают, но я-то умный. Мы это исправим, и они будут думать как надо. Правильно оценивать ситуацию.
– Теперь понимаю. А вы не боитесь, что дурак озлится?
– Да, он озлится. Да, он расстроится. Но мы вмешаемся, и друзья возьмутся за руки. Мы объединим их в общественную силу с единым сознанием. Мы напомним им, что они тоже граждане, что у них есть права. Например, право выбирать и быть избранными. Да они и без того избранные, самим богом. Куда уж больше! Им позволено отстаивать свои интересы на самом высоком уровне. Вот этим они – наполнившись самосознанием, сплотившиеся, – Медовик тяжело уперся ладонями в сукно, – этим они и начнут заниматься. Иначе их растаскают поштучно.
Медовик почесал в затылке.
– Я ведь соврал пилоту, когда сказал, что все дураки у нас переписаны, – сказал он доверительно. – Многие, но не все. Ты, капитан, создашь оперативную группу по их активному выявлению и взятию на учет. Работай многими бригадами, а бригады набирай из уже обработанных дураков. Пирамида, смекаешь? Своих ресурсов нам не хватит. Фиксируй сначала самых отъявленных. Работа предстоит неимоверная, но глаза страшатся, а руки делают. И ноги делают.
Балансирову пришла в голову блестящая мысль:
– Может быть, под флагом диспансеризации? Явятся прямиком в кабинет! А там уже машинка жужжит.
Медор отступил и смерил его оценивающим взглядом:
– Все-таки ты не зря получаешь жалованье. Скоро и дырочку вертеть! Мне, – уточнил он. – Конечно! Кто же у нас еще потянется на диспансеризацию? Самый контингент и потянется!…
– Вот только что мы им скажем после машинки? Про бога?
– Найдем, что сказать, – сурово сказал Медовик. – И про бога. И про остальное. Кино покажем! Документальное. Как их, баранов, ведут строем в тарелку! Как в щели утягивают! Дадим послушать, какие вопли оттуда потом несутся, после обещанной сладкой жизни – все, все записано! И как тарелка горела – записано! И как инопланетянин горел! И как этот Эренвейн горел!
Быть очевидцем столь впечатляющих и драматических событий нелегко даже майору, и Балансиров не стал указывать на разницу в причинах, по которым вопили похищенные и горел Эренвейн.
Медор Медовик присел. Он промокнул ярость платком и начал медленно превращаться в прежнего, доброго толстяка, отца и дядю неустановленных лиц.
– Значит, оперативные группы, – подытожил он уже спокойнее. – Направишь людей в поликлиники, школы, вузы, на собрания. Фиксируй всех, кто ходит на юмористические концерты, на массовые сеансы к колдунам. Пусть твои соколы покатаются в транспорте. Они там очень многих возьмут на карандаш.
Балансиров ничего не записывал, такие записи запрещались. Он запоминал.
– Это колоссальная работа, – предупредил он озабоченно.
– Ничего. Для начала обработаем тех, кто уже значится в списках, а там и твои подтянутся. Начинаем с тоненькой струйки. На первых порах нам вполне хватит одного кабинета. В первом потоке назначим лидера. Потом развернемся, организуем повсюду первичные ячейки… Объясним опасность, понесем ее в массы… Возникнут дружины, домовые комитеты…
– А может быть, не нужно их объединять? Поводим машинкой – и гуляй под подписку о невылете. Осведомлен и предупрежден. Вроде прививки.
– Во-первых, это жестоко, – заметил Медор. – Живет себе человек, и вдруг узнает про себя такие вещи. Во-вторых, у тебя нет чувства перспективы. Настанет время, когда их научатся умыкать силком. А они – уже целая партия. Или армия. Ну-ка, подступись? Исчезновение целой, скажем, фракции – это не шутка! А нашим гостям шумиха ни к чему. Это только нам можно. И потом: они могут как-нибудь перестроить свои параметры на умных. Умных начнут хватать.
– А умные-то им зачем? И богу их не жалко. Не вижу смысла.
– Умный человек тоже нигде не будет лишним. Распробуют и войдут во вкус. Но мы их переиграем на ход вперед. Понадобится общественная сила для понижения в обществе накала ума… В целом, понимаешь? Опять же и перед богом отличимся. Укрепим свои позиции. Изольется любовь или не знаю там, что; явится кто-нибудь… на небе или в церкве…
– Ну, ясно, – Балансиров не стал продолжать.
– Ясно, что ничего не ясно, – строго поправил его Медор. – Не надо передо мной темнить. Мне самому не все понятно. Кроме одного: не сидеть на месте и заниматься своим делом. Вот что главное. Каждый должен не сидеть на месте и заниматься своим делом. Или, в крайнем случае, сидеть на месте и заниматься делом чужим.
Глава 7
Балансиров довольно легко вышел на Петра Клутыча. Ведь тот работал в метро. А метро и все, что с ним связано, всегда находилось под особым контролем у службы, в которой участвовал Балансиров. И если кто-то в это не верит, он может не ждать приглашения и попроситься к Балансирову в список людей, рискующих быть обманутыми и похищенными. Итак, Балансиров, памятуя о том, что из всех искусств для него самое главное – метро, назначил список его работников приоритетным. Он ознакомился с личными делами и мгновенно узнал, за что и при каких обстоятельствах уволили Петра Клутыча
Тот доедал яичницу, когда зазвонил телефон.
Он ел яичницу не потому, что так уж остро желал съесть именно ее, а просто вспомнил Висюна, и Висюн, не допрыгивая до высших слоев сознания, слился с людьми вообще, которые питаются яичницей, и он, Петр Клутыч, не хуже других; он будет есть, как люди едят.
– Слушаю вас, – сказал Петр Клутыч почтительным тоном.
– Это из поликлиники звонят, – раздраженно и властно сказала женщина. Она была агентом Балансирова и очень искусно притворялась регистратурой. – Вам нужно явиться на диспансеризацию. В четыреста десятый кабинет. С полотенцем.
– Хорошо, – сразу согласился Петр Клутыч.
Регистратура отключилась.
Он нисколько не усомнился в диспансеризации: если надо, то он пойдет, хотя ничем значительным не болеет. Петр Клутыч всегда приходил, куда его звали: в поликлинику, жилконтору, милицию.
Он даже не подозревал, до чего это вовремя, потому что внеземные силы твердо постановили соблазнить его в ближайшую ночь, украсть и приложить к остальным. Механизированный образ и подобие, смутившийся паричком, был демонтирован, после чего восстановлен и соответствующим образом искажен. В программу ввели требование плевать на парички. Но было поздно.
Петр Клутыч оделся и, немного волнуясь, вышел. Он считал – руководясь, правда, иными причинами – что идет по важному делу.
Висюн, завершивший прогулку с собачкой, пытался отпереть дверь. Он похмелился, и у него это понемногу получалось. В утреннем порыве он прочувствованно и тихо поделился своим якобы негодованием, в тот момент вполне искренним:
– Тяжело быть во дворе… вчера из обоих домов, изо всех окон только и раздавалось: «Убью тебя, блять! убью тебя, блять!»
– Это кино шло, – успокоил его Петр Клутыч.
– Нет! изо всех окон, живые! «Убью, убью тебя, блять!»
На самого Висюна в его квартире никто не кричал, что он блять и что его убьют. Потому что он, в общем-то, был мирный и безобидный. Ему это говорили на ухо или за чаем.
Печальная седая собачка, тертый калач, стояла и кивала.
Петр Клутыч заспешил вниз по лестнице, прислушиваясь. Он решил, что Висюн наговаривает на людей, везде было тихо. На улице стоял некий шум, но не бранного свойства, хотя откуда нам знать, о чем поют птицы? Петр Клутыч, держа под мышкой кулек с полотенцем, деловито свернул к автобусной остановке. Автобус хотел ехать, но посочувствовал бегущему Петру Клутычу и притормозил.
– Успел! – сообщил о своем достижении счастливый и виноватый Петр Клутыч. Салон промолчал.
По дороге Петру Клутычу пришла в голову приятная мысль: должно быть, водитель признал в нем коллегу, бывшего машиниста. Мысль побродила по пустынному пыльному коридору, задерживаться не стала и вылетела со сквозняком.
Автобус тряхнуло.
– Вы меня на людей толкаете, на преступление почти что! – закричала кондукторша.
Петр Клутыч свалился в неохотно и тяжко освободившееся место. Он кротко повел глазами, готовясь солидно и благонравно убить время. Одновременно он прислушивался к зашевелившимся пищевым фантазиям.
…В квадратную поликлинику, напротив которой остановился автобус, стекался народ, просачиваясь обратно редкими каплями.
Петр Клутыч, как в бане, перекинул полотенце через плечо, чтобы обозначить свою готовность к диспансеризации. Он прогулялся по коридору третьего этажа и, наконец, присел возле кабинета. Время тянулось ужасно медленно. Петра Клутыча не приглашали; он несколько раз заглянул в кабинет через щелочку. С посетительницей, которая там застряла, творились метаморфозы. С каждым разом она, добиваясь своего, разбухала сильнее и сильнее, становясь розовой, потом – алой, багровой. При этом она раздувалась в целлулоидный шар. Напруженной жилой бился хоботок, доктор же усыхал и сморщивался.
«Будете пить феколезин, – бормотал он, из последних сил царапая что-то в рецепте и вяло потирая место, где присосалось щупальце. – Полный курс омолаживания кишечника.»
– У меня были ягодичные роды, – предупредил шар, и доктор лопнул.
– Что такое ягодичные роды? – завизжал он. – Вы когда-нибудь рожали? Может быть, хотя бы рожали вас?…
Прием катился к концу. Петр Клутыч сообразил, что ошибся дверью.
Он-то, по старой привычке, возвысился до круга, в котором обитали участковые терапевты. А надо было подняться выше, на четвертый этаж. Но что же там, на четвертом этаже? Этого Петр Клутыч не знал. Он помнил только, что там стоит рентгеновский аппарат – и все.
– Заблудились? – услышал Петр Клутыч.
Некто высокий, в изумительном заграничном халате на кнопках, заинтересовался его раздумьями. Это был Балансиров, подоспевший в поликлинику руководить. После секретного совещания у Медора он деятельно порхал по городу, отмечаясь то там, то здесь; повсюду успевал; забывал про сон и еду.
«Какой халат справил», – завистливо подумал Петр Клутыч. И ответил:
– Да, малость перепутал. Мне нужно на диспансеризацию, – и он показал полотенце.
Балансиров испытующе посмотрел собеседнику в глаза. Он узнал Петра Клутыча, потому что видел его фотографию в личном деле, и тот ему моментально понравился.
– Это у вас паричок? – осведомился он.
– Паричок, – с достоинством согласился Петр Клутыч.
– А полотенце зачем, знаете?
– Я не врач, – Петр Клутыч развел руками, и полотенце шлепнулось на пол.
– Там вырвать может, – сказал Балансиров, подобрал полотенце, сунул его собеседнику. – Пойдемте, я вас провожу. Мне туда же.
Он пропустил Петра Клутыча вперед и, когда тот потянулся вызвать лифт, деликатно взял за плечи и развернул лицом к лестнице.
– Всего-то этаж, – напомнил он укоризненно.
Глядя в спину Петра Клутыча, пока тот поднимался, Балансиров решил обвести его красным кружком. Он вел себя подобно нетерпеливому покупателю, который хватает первое, что попадается под руку, и не думает, что через пару шагов ему обязательно подвернется товар получше. Подумав об этом, Балансиров решил оправдаться нехваткой времени. Дурак он и есть дурак, и Петр Клутыч казался ничем не хуже других претендентов на роль ключевой фигуры. «Условно ключевой, разумеется», – поправился в мыслях Балансиров.
– А что там будут смотреть? – с любопытством спросил Петр Клутыч, оборачиваясь. – Живот или горло?
– А вам не все равно?
– Да я чего-то поел, живот немного крутит.
– Значит, посмотрят и живот, и горло, и печень.
– Вон как! – протянул Петр Клутыч и покачал головой.
– А вы что думали. Давайте, шагайте.
На четвертом этаже Петр Клутыч растерялся. Коридор был необычный, поделенный на два крыла. Петра Клутыча потянуло направо, где сидели похожие на него люди. Они ждали, когда их пригласят в рентгеновский кабинет, и держали в руках какие-то картонки с номерами. Один уже начал понемногу раздеваться: снял пиджак, выдернул из штанов рубашку.
– Нам налево, – возразил Балансиров.
Слева были построены воротца, за которыми виднелось пустое крыло. Двери в этом крыле казались роскошными, потому что были покрашены в бессмертный цвет, под живое дерево. Это был мозг поликлиники, административная часть. Самая массивная дверь, обитая кожей, доканчивала ряд, словно жирная точка. И Петр Клутыч понял, что за ней скрывался главврач. «Неужели к нему?» – поразился он.
Оказалось, однако, что нет, но почти. Балансиров поставил его к стене, велел обождать и по-хозяйски вошел в соседний кабинет. Через две минуты высунулся, схватил Петра Клутыча за осевшее вдруг плечо и затянул внутрь.
Там, в кабинете, склонились над телевизором два доктора, постарше и помоложе.
Глава 8
Первым, что смущало за порогом, была абстрактная картина, выдержанная в металлических тонах. Изображенное на ней напоминало сопли робота.
Вторым был плакат: «Выводите все в подсознание! Вас удивит результат».
До появления Балансирова младший доктор, помощник старшего, ковырялся в телевизоре и самоуверенно разглагольствовал по поводу эдипова комплекса и машины времени:
– Вылечат мигом. Сел и поехал в прошлое делать себя в обход папы. Селф-мейд-мен.
Старший доктор, классический старичок по фамилии Протокопов и с клиновидной бородкой, сидел перед экраном на корточках и терпеливо выслушивал заблуждения юности.
Протокопов работал давно и слыл опасным идеалистом. Он пережил многих начальников, и власть на его веку менялась не раз, но Протокопов оказывался непотопляемым. Большого секрета тут не было: он многих лечил и знал такие страшные вещи, что его решили не трогать. Некоторые страшные вещи он знал потому, что сам же их и вколачивал в головы своих высокопоставленных пациентов.
К тому же его выручала верность корням. Главы разведок и тайных полицейских подразделений всякий раз, когда их перо уже зависало над приказом о ликвидации Протокопова, опускали руки, стоило им пробежать глазами заглавие его очередного научного труда.
Доктор Протокопов был автором книг «Опыт психоанализа в русском фольклоре. Истерическая нижняя параплегия у Ильи Муромца: случай мгновенного исцеления», «Емеля: случай наружной проекции алкогольного психоза» и «Троичность русского богатырства как латентная гомосексуальная альтернатива божественной троичности».
– Дурачка привели? – приветливо сказал Протокопов, не сводя глаз с экрана, который шуршал и вспыхивал молнией после очередного тыка отверткой.
– Круглого, – закивал Балансиров, чьи хозяйские замашки, едва он притворил за собой дверь, мгновенно улетучились.
Телевизор ожил и показал военный парад.
– Какая это беспощадная вещь – история, – вздохнул Протокопов. – Не вмешайся она в процесс… А так спились все, нахватавшись поганых генов…
– Простите? – не разобрал Балансиров.
– А, забудьте, – тот махнул рукой. – Готово? – обратился он к молодому коллеге.
– Порядок, – небрежно бросил коллега, вгрызаясь отверткой в заднюю панель. Протокопов, отечески глядя на него с пола, улыбнулся. Придерживая себя за поясницу, он с некоторым трудом встал, прогнулся, хрустнул реликтовым хребтом.
– Тогда заводите, – вздохнул Протокопов. – Просвещать будем, как обычно?
Балансиров задумался.
– Нет, – сказал он решительно. – Не только просвещать. Мне он понравился. Я думаю вывести его в лидеры. Хорошо бы нагрузить ориентирами.
– Как скажете, – не стал возражать доктор.
– Мне кажется, наш проект не вызывает у вас большого энтузиазма, – осторожно заметил Балансиров.
– Нет, – согласился Протокопов. – Не вызывает. Потому что мне все равно. Меня-то пришельцы не украдут. Или вы считаете иначе?
– Боже упаси, – почтительно улыбнулся капитан.
– Ну, с чего ему меня упасти. У меня голова варит. Какая разница, кто тебя украдет – боженька или они? Никакой абсолютно. Поройся, голубчик, в ящике, – велел он ассистенту. – Что у нас там есть из архетипов?
Помощник подошел к стальному шкафчику и выдвинул ящик. Балансиров встал рядом и начал заглядывать через плечо. Протокопов готовил кресло: мягкое, удобное, с подушечкой для головы, со скамеечкой для ног. На сиденье лежали наушники, скрещенные с очками, которые напоминали прибор кошачьего видения.
– Давайте сюда вашего лидера, – жизнерадостно пригласил Протокопов.
Балансиров, как уже было сказано, нащупал за дверью Петра Клутыча, и тот замер, едва переступив порог. Почему-то он оробел, снял паричок и мял его в руках, будто кепку.
– Славно, – похвалил Протокопов. – Садитесь, милый!
Он взял Петра Клутыча под руку, подвел к телевизору и усадил в кресло, смиренно вздохнувшее.
– Вы дурак, – сказал доктор, глядя пациенту в глаза. – Вам это известно?
Петр Клутыч непонимающе кивнул. Ему не дали возможности возмутиться, потому что доктор сразу загипнотизировал его уверенным и доброжелательным взглядом. Негоже перечить родному отцу.
– Ничего вам не известно, – сам себе возразил Протокопов. – Полотенце постелите на колени. Вы знаете, что это такое? – он указал на телевизор. И, не дожидаясь ответа, растолковал: – Это двадцать пятый кадр. Вы будете смотреть передачу и медленно проникаться мыслью о вашей неизлечимой глупости. Вам повезло. Дурак не видит себя со стороны. Но мы вам посодействуем.
– Зачем? – вырвалось у Петра Клутыча.
– Ради вашей безопасности. Это уж вам ответственный товарищ объяснит, – Протокопов кивнул на Балансирова, который тоже кивнул – в общем, все они втянулись в кивание, в том числе – молодой ассистент, который кивал двум видеокассетам, не зная, какая лучше.
– И подкуем, – добавил Балансиров. – В отношении гражданской позиции.
– Совершенно верно, – доктор дернул себя за маленький, усохший нос. – Модернизируем архетип. Вы меня не слушайте, это вам ни к чему. Кого бы тебе подселить в башку? – он перестал обращаться к Петру Клутычу и рассуждал сам с собой.
– Вот эти два, по-моему, сгодятся, – напомнил о себе ассистент.
– Дайте-ка взглянуть. Хороший выбор. Похвально. Только лазерное шоу при дворе Анны Иоанновны не пойдет. Это будет слишком поверхностный образ, на грани прорыва в сознание. Надо копать глубже! Вот второй мне нравится больше, корневая картина. Илья Муромец с ядерным щитом. На свинцовой кобыле. Такого надолго хватит, как вы считаете? – Протокопов обернулся к Балансирову.
Капитан уважительно выставил палец.
– Так я и думал, – вздохнул Протокопов. – Надевай, дружок, наушники. И очечки надвинь, чтобы по сторонам не глазеть.
Петру Клутычу стало не по себе.
– А уколов не будет? – пролепетал он, надеясь шуткой увериться в общей доброжелательности.
– Будет, – доктор махнул ассистенту, который уже растягивал жгут, будто удавку.
– Какая же это диспансеризация, – сообразил, наконец, Петр Клутыч.
– Никакая, – согласился тот и с неожиданной силой придержал его за плечи.
– Кулачком поработайте, – велел ассистент.
Петр Клутыч сжал кулак и попробовал замахнуться.
– Да не так, что вы делаете! Сжимайте и разжимайте. Любите подраться?
– Не люблю, – обреченно сказал Петр Клутыч.
– Напрасно, – пожурил его Балансиров, следя за иголкой, которая торкалась в пупырчатую кожу. – Драться придется. Вас ожидают жестокие бои.
– Почему? – успел спросить пленник прежде, чем его небогатые мысли свелись в подобие тонкого лучика, который быстро забегал по мерцавшему экрану, сканируя бессмысленный «снег».
– За право остаться собой, – Балансиров бросил это на ходу, направляясь к чайнику. Клиент пошел в работу. Балансиров налил себе кипятку, добавил заварки, высыпал в кружку с нарисованным зайчиком три ложки сахара с горкой.
Протокопов подсел к нему и взял печенье. Усмехнулся:
– Как настоящие доктора. Сейчас начнут ломиться, стучать, мешать, – он кивнул на дверь. Сразу и застучали; ассистент выглянул в коридор и сердито закричал на кого-то.
– Дурачки подтягиваются, – Протокопов ревматически вздохнул.
Из кресла захрипел невидимый от чайного столика Петр Клутыч.
– Илья Муромец пошел, – предположил Балансиров и отхлебнул от сладкого зайчика.
– Пока еще не пошел. Это его личное «я» откололось. И знакомится со скорбным положением дел.
– Не помрет? – на всякий случай спросил капитан.
– Да господь с вами, – Протокопов тоже налил себе чаю, отхлебнул. – Во всяком случае, не сейчас. Будет жить, если не повесится со стыда.
А Петр Клутыч смотрел передачу и впитывал информацию, от которой у него перехватывало дыхание. Сначала ему показалось, что кто-то содрал его лицо, как будто это был паричок: совершенно не больно; лицо снялось и скомкалось, словно зеленоватая маска из толстой резины. Потом невидимый распорядитель подсунул пальцы под затылочный бугор, неощутимо подвел их к орбитам и мягко вытолкнул глаза. Петр Клутыч вылетел из тела, как из демисезонного пальто, и раздвоился. Одна часть страдала, другая бесстрастно следила. Этой другой части было глубоко наплевать на все на свете и на себя – в первую очередь. Ей ничто не угрожало. Телекартинки сменяли друг друга: с одной стороны, это было похоже на стремительный калейдоскоп; с другой, если принять во внимание эффект, который мельтешение оказывало на пассивную и страдательную часть Петра Клутыча, процедура напоминала пулеметный обстрел. Скорость не позволяла запомнить увиденное, и все нарастала, пока абстрактные рисунки не слились и не сделались вспышками. Петр Клутыч не умел объяснить, как такое возможно, но с каждым всполохом его следящая составляющая кивала и равнодушно соглашалась, находя убедительными доказательства глупости Петра Клутыча, которые множились, множились и затопляли изнемогающую душу. Он не понимал, какая из двух частей – душа. Логично было решить, что душа – это наблюдатель. Однако Петр Клутыч не мог поверить, что его душе, феномену мятущемуся и животрепещущему, до фонаря та безжалостная истина, которая разворачивалась по мере мучений и просвещения рассудочной половины.
В полусне он отмечал странные события, происходившие не на экране, а в разных других местах – например, на коленях, куда вдруг впрыгнул маленький узкий цилиндр, похожий на карандаш, и тут же пропал.
Цветное мельтешение достигла пика.
«Дурак! Дурак! Дурак!» – взрывалось в мозгу Петра Клутыча.
И мозг отвечал печальным пониманием.
Но вскоре откуда-то всунулась лошадиная морда, и стало полегче.
Часть вторая
Глава 1
Очень обидно.
До слез.
Ужасная, жестокая правда. От которой не скроешься, даже если прибавится мозгов. Все равно припечатали: дурак! Ты родился дураком, гражданин хороший. Ты заблуждался, глядя по сторонам и читая чужие мысли. Ты читал их неправильно.
Над тобой потешались, тобою брезговали. Тебе не давали покоя: пинали, унижали, увольняли. У тебя нет братьев по разуму, потому что у тебя нет разума. Когда ты остался один, тебя не оставили в покое, захотели украсть и отправить в ад. Эти страшные планы вынашивали чужие. Потом ты попал к своим. Тебя, доверчивого, заманили к врачу и там надругались.
Вроде кто-то лежал или летел, он видел точно – но где? Когда? Куда? В связи с чем? Точно не в связи с фильмом. Откуда взялся этот маленький цилиндр?
…В первый день сознательного существования Петр Клутыч выбросил паричок в урну. В сердцах, под влиянием настроения, но потом пожалел паричка, вернулся, достал, отряхнул, надел обратно.
Умом он знал, что братья по разуму у него есть, и они весьма многочисленны.
Но в сердце зияла рана. Ум был слаб, а разум – сомнителен.
Одно успокаивало: твердая почва под ногами, невыразимая определенность. Нечто вроде сокрытых и мощных корней, ветвящихся и переплетающихся с другими, родственными, корнями. Лошадь? Лошадь с богатырем? Какая-то лошадь с богатырем лезет в голову. Откуда она прискакала – неизвестно. Это очень надежная, верная, лошадь, в ее компании становится хорошо и спокойно. Жаль, что она не задерживается и быстро пропадает. Еще какие-то образы, цветные картинки – неразборчивые, будто позавчерашние сны. Но это общая лошадь, общие картинки. Основа существования. У нее широкая спина. Он, Петр Клутыч, сидит верхом на лошади и держит в руках букварь.
Пешком наяву и верхом в умозрении Петр Клутыч вошел в здание штаба.
На входе стояла вертушка; охранник почтительно улыбнулся Петру Клутычу, но все равно подождал, пока тот нароет за пазухой малиновый пропуск и покажет ему; потом пропустил.
– Вы молодец, – признал Петр Клутыч, уже стоя по ту сторону вертушки. Его потустороннее стояние расслабило охранника, перевело ситуацию в категорию бытовых. Страж просиял.
– Вы мне напомнили часового у входа в Смольный, – малиновая книжечка упала в карман. – Вам известна эта история?
– Не припомню, – услужливо подхватил охранник, хотя нечто смутное всколыхнулось в его памяти.
– Часовой не пропустил Ленина, потому что тот не показал ему документ. Ленин начал рыться в карманах, а тут выскочил какой-то человек и стал орать и требовать, чтобы Ленину дали пройти. Но часовой сказал, что не даст, пока не увидит документа, потому что порядок для всех один. И Ленин его похвалил. Показал документ и прошел на общем основании.
– Надо же. Да, да, – охранник уже стоял, машинально вытягиваясь во фрунт.
Петр Клутыч помялся, не зная, о чем говорить. Мысль закончилась.
– Ну, я пойду? – спросил он робко.
– Конечно, Петр Клутыч, вас дела ждут.
Услышав про дела, тот решил держаться надменнее.
– Увидимся, – холодно сказал Петр Клутыч.
– Обязательно, – согласился охранник, доподлинно зная, что они увидятся, потому что Петру Клутычу когда-нибудь придется выходить.
Мимо деловито пробежал какой-то молодой человек с кожаной папкой в руке. «А у меня и папки нет, – подосадовал Петр Клутыч, направляясь к лифту. – Это никуда не годится. Мне положена папка. Мне мало блокнота. Правда, с этой папкой будет одна морока. С ней много не назондируешь. В массах папка может зацепиться, раскрыться, рассыпаться…»
Он шагнул в лифт и заказал четвертый этаж.
Лифт качнулся и доставил его на место прежде, чем пассажир успел вынуть носовой платок и прочистить нос. Петр Клутыч высморкался уже на ходу; навстречу шли люди, которые здоровались с ним, и он раскланивался, не отнимая платка. Перед нужной дверью он помедлил, рассматривая надпись, возникшую за ночь: «УМКА».
«Что бы это значило – УМКА?» – он встревожился. Может быть, штаб переехал? Или движение, неровен час, вообще ликвидировалось?
Петр Клутыч, предвидя новые каверзы пришельцев, распахнул дверь и облегченно вздохнул: Балансиров сидел за столом, откуда внимательно слушал болтливого Барахтелова, очень расторопного и смышленого партийца, члена партии с четвертого числа сего года.
У того с утра пораньше была наготове новая инициатива, созревшая за ночь.
– Троллейбус был номер 20, а на табличке приписано: «скорый». Глупость, правда? Я записал его номер.
– Номер машины? – уточнил Балансиров, водивший карандашом по листу, уже исчерченному абстракцией.
Барахтелов запнулся.
– Троллейбуса, – повторил он. – Номер 20, я же говорю.
– Ага, – сказал Балансиров. – Ну, давай дальше.
– Дальше я подумал, что народ устал от безликости, от пронумерованной анонимности. Метрошные ветки и те пронумеровали. Вот хорошо бы давать автобусам, троллейбусам и трамваям имена, как пароходам: «Смелый», «Неукротимый», «Озорной», «Академик Келдыш». Народ с удовольствием знает, что если утром не протиснется в Келдыша, то поедет на Озорном. Надо обратиться в какой-нибудь рельсовый комитет.
– Это отличное начинание, – согласился Балансиров и жестом пригласил Петра Клутыча сесть. – Но я не думаю, что стоит включать его в предвыборную программу. И рельсовый комитет не ищи.
– Почему?
– Потому что они пришлют специалистов по транспортным переименованиям. И те приедут в белой машине с красным крестом.
– А-а, – нахмурился Барахтелов. Он задумчиво сгреб в кулак полукартофельный нос, но сразу отпустил и протер невыспавшиеся глазки-бусинки.
– Зачем у нас «УМКА» написано? – спросил Петр Клутыч, осваиваясь за столом.
Балансиров довольно улыбнулся, встал и начал прохаживаться по штабу, напоминая сороку в поисках сверкающего предмета.
– Это все нашего идеолога старания, – он похлопал Барахтелова по плечу. – Придумал для партии хорошее название.
– «Умеренно Мыслящий Кипучий Актив», – пояснил Барахтелов. – Нравится?
– Очень нравится, – сказал Петр Клутыч. – Только, по-моему, трудновато запомнить.
– Это не беда, – возразил Балансиров. – Никто и не будет расшифровывать. Проглотят целиком. Надо будет кому-нибудь поручить нарисовать эмблему: медвежонка на льдине, с мороженым или со штыком… Должно получиться что-то домашнее, родное, из детства, из мультфильма. Чтобы избирателю захотелось проголосовать без всяких программ и деклараций.
Петр Клутыч одобрил этот план, невольно любуясь собственным портретом, который висел под квадратными часами. «Часы истории», – припомнилось Петру Клутычу. Ему стало тревожно, и он засмущался.
– А лозунг-то! – он ударил себя по лбу, гоня неловкость.
– В литературном отделе уже подобрали, – Балансиров раскрыл записную книжку. – Удивительно простой, доходчивый и красивый. Из учебника грамматики Смирновского.
Дверь отворилась, и вошел, шаркая валенками, старик Блошкин.
– А, товарищ Блошкин! – воскликнул Балансиров. – Присаживайтесь, вы очень кстати. Мы тут с товарищами обсуждаем предвыборный лозунг. Очень интересно ваше мнение как официального старейшины.
Блошкин, приехавший с первой дальней электричкой, присел рядом с Петром Клутычем. Балансиров завербовал его лично, и дед, почувствовав себя нужным и важным, ожил: помолодел, расправил плечи. С недавних пор он даже клюкой пользовался не без пижонистой элегантности, в качестве трости.
– «Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна». Каково? – обратился Балансиров к собравшимся. – Просто, доступно! И Россия есть, и отечество!
– Вот это… про смерть убери, – прохрипел Блошкин.
– Да, про смерть надо выкинуть, – согласился Петр Клутыч.
– Там у вас диверсия, снаружи, – продолжил Блошкин. – Вот, посмотрите.
Он протянул однопартийцам сорванный с двери лист. «УМКА» подрос и вытянулся в длину, обогатившись приставкой «недо».
Глава 2
– Дорогой мой человек, – обратился инопланетянин к Медору Медовику.
Медор, разбуженный пришельцем, поудобнее устроился в подушках и продул папиросу.
«Действительно, за умных взялись, – удивленно подумал он. – Ну-ну, послушаем с интересом».
– Фобка Дурак! – закричал дрессированный попугай Медора.
Но тут Медору показалось, что это вовсе не инопланетянин, а сам Сатана, который принялся его искушать: дескать, я тебе послужу здесь, а ТАМ ты пойдешь со мной.
– Нет уж, – слукавил Медор, пуская кольца. – Давай лучше наоборот: это я тебе послужу здесь, зато ТАМ мне будет хорошо. Договорились?
Сатана почесал в затылке:
– Это тебе постараться придется!
– Так ясен пень…
Медор, когда разговаривал со всякой сволочью, бывал очень прост в общении.
Сатана понуро стоял и переливался зеленым в предутреннем свете.
– Ну, что же ты? – приободрил его Медовик. – Ошибся дверью? Кадровый кризис? Дураков не осталось?
– Дорогой мой человек, – Сатана безнадежным голосом затянул сначала. Рога растаяли. Хвост обратился в дым, оставив после себя туманный росчерк.
Медор испытал раздражение.
– Говори скорее, – посоветовал он. – Тебя уже пеленгуют, ты это знаешь? Истребитель улегся на боевой курс. Сейчас он тебя расстреляет, настоящего.
…Визит оставил в Медоре неприятный осадок. Когда посрамленный призрак, напуганный обнаружением и уничтожением, удалился, майор натянул солдатское одеяло до подбородка и мрачно задумался над причинами посещения. Наиболее правдоподобную догадку он гнал от себя, не допуская в мысли.
Заснуть не удалось, и он связался за Балансировым.
– Не спишь, капитан? – спросил он участливо. – Подъезжай ко мне. Будем разговаривать, выпьем…
– Есть разговаривать и выпить, – отчеканил Балансиров без энтузиазма. Ему не хотелось выпивать и разговаривать в четыре часа утра. Но стиль неусыпной круглосуточной деятельности, давно перебравшийся в хромосомный набор, не позволил перечить. Когда Балансиров приехал, Медор Медовик стремительно отворил ему дверь и метнулся обратно, под одеяло, пока капитан вытирал ноги. Балансиров вошел в комнату и почтительно присел у постели Медора, а тот, пока шла беседа, так и лежал с одеялом, натянутым до самого рта.
К приходу капитана Медовик окончательно пришел в мечтательно-досадливое настроение.
– Окаянные времена, – пробурчал он, глядя, как Балансиров достает из портфеля закуску: круг колбасы и полбуханки черного хлеба. – В кого на допросе ни ткни – все хотят жить в девятнадцатом веке. Непременно в нем! Не в восемнадцатом, скажем, и не в двадцать девятом, а подавай девятнадцатый. И жить там, конечно, не петухами и чушкарями, и даже не мужиками, а держать высшую масть. Пускай захудалое, но дворянство. На каждом допросе только и слышишь – хочу, мол, туда, хочу…
Балансиров с фальшивым сочувствием вздохнул и протянул ему стопку. Медовик ненадолго оставил одеяло в покое и выпил небрежно, без вдумчивости.
– Я и сам бы хотел жить в девятнадцатом веке, – признался он после паузы, прожевывая колбасу. – Потому что это, пожалуй, самый спокойный век за всю нашу историю. После 12-го года все было ничего – ну, севастопольские рассказы, бог с ними. Ну, балканский вопрос, да достоевские соборные галлюцинации о Царьграде – и ладно. И сам 12-й год, в общем-то, ерунда, потому что Бородино не Сталинград и не кавказские горы. Так и видишь себя мелким помещиком в тертом халате. Погреб с рыжиками, наливочка, перепела. С мужичками – по-доброму, без лютости. Ключница-экономка с утиной походкой, но только чтоб не особенно воровала. Глаша с косой под боком. Неразрезанные «Отечественные записки». А заскучал – заложил кибиточку, к соседу в имение, что за пять верст, а он уж стоит на крыльце, тоже скучает. Трюх-трюх-трюх по кочкам, как думал себе Иудушка Головлев. А? Капитан? Вот был бы ты у меня в соседях – мы бы и ездили друг к другу. Чем не жизнь? Чего не хватает? Время пролетит – глядишь, и бал какой-нибудь будет уездный, с тургеневской асей. Туманы, роса, снова коса, сиреневое платье. Дальше – зимние вечера, сидишь и пишешь при свече свое ироничное и скорбное жизнеописание.
Балансиров проглотил стопку и занюхал хлебом.
– Я бы там с тоски подох, – сказал он угрюмо. – Совсем устарелая матрица.
Уловив возражение, проснулся попугай:
– Фобка Дурак!!…
– Возьми платок, накрой его, – попросил Медовик. – Ты, капитан, правильно рассуждаешь, здраво. Мечтаешь, небось, о тридцать девятом веке… Так и должно быть. Устремленность должна присутствовать… ты, часом, не пишешь, что я тут говорю?
Балансиров слабо улыбнулся.
– Ну, пиши-пиши. Грезы закончились, – Медор сменил тон. – Докладывай, как продвигается дело.
Капитан взял папку, которую до того отложил; распахнул, перебрал листы.
– Создание партийной верхушки завершено, – прогнусавил он, теребя нос. – Уже создано десять мобильных бригад для формирования опорного слоя. Харизматичность лидера соответствует.
– Чему, чему она соответствует?
– Лозунгу, – нашелся Балансиров.
Он прочитал лозунг.
– Хороший, – одобрил Медовик.
– Уже выходим в массы поточным методом, – капитан, докладывая, неожиданно сорвался на фальцет, почти взвизгнул. – В процессе диспансеризации выявлены кадры, выдвинутые на ключевые посты. Для наглядной эстафеты поколений позиционирован сельский житель преклонных лет. Сформирован и усилен руководящим звеном идеологический сектор. Методом активного поиска разыскивается руководитель службы безопасности. Начиная с завтрашнего дня, товарищ майор, бригады будут систематически выходить в народ, решая задачу дальнейшего активного выявления…
– Неприятель? – осведомился Медор.
– Неприятель глумится в печати. Довольно вяло, так как не понимает серьезности и масштаба задуманного.
– Я не про наймитов спрашиваю. С ними все ясно. Основной неприятель?
– Посещения прекратились. Во всяком случае, активисты больше не жалуются.
– А вот ко мне приходил, – печально признался майор.
– Возмутительно, – Балансиров захлопнул папку и наполнил рюмки. – Чего он хотел?
– Он сам не знал. Маячил, как старинное привидение, и что-то мямлил.
– Может быть, вам в поликлинику сходить? – осторожно спросил Балансиров. – Протокопов хвастался, что у него и для умных машинка есть.
– Не надо, капитан, – отказался Медор. – Брось. Нет у него такой машинки.
– Но позвольте…
– Пришелец ошибся, – уверенно рассмеялся тот, забавляясь мучениями капитана, который никак не мог обосновать острую надобность в том, чтобы Медор посетил Протокопова. – У них начались сбои.
Медор оглушительно зевнул. Сон, который спугнул инопланетянин, возвращался, осторожно подкрадываясь. Исполнительный капитан успокоил Медовика. Устроившись поуютнее, майор полуприкрыл глаза и начал вызывать привычный и приятный образ Петра Клутыча, а рядом – себя самого, в качестве закулисной направляющей силы.
К мечтам примешивалось досадное чувство: что-то не было учтено, какая-то бяка осталась непредусмотренной.
И вот еще незадача: все казалось ненастоящим. Милиционеры, доктора, партии, мирные инициативы. Интеллигенция, казалось бы, ого-го, мозг нации, а присмотришься – не мозг, а говно. И все государство: государственные признаки есть, а поднимешь крышку – и только пар валит. Что там, в остатке? Загадочная душа? Но это она для других загадка, а нам-то самим все ясно, только не сформулировать никак.
Балансиров, давно уже переставший докладывать, послушно следил за майором и не мешал ему засыпать. Под платком ворочался сонный попугай.
Глава 3
1
Назвавшись представителем РОНО с неограниченными полномочиями, Балансиров сидел в кабинете директора одной из школ и внимательно изучал школьные сочинения. Сочинения были написаны на иностранном языке, но капитан немного знал этот язык, так что ничто ему не мешало. Некоторые тетрадки он откладывал в сторону, когда находил, что юные авторы – достойные кандидаты в молодежное крыло партии УМКА.
«Картошка, – читал он заглавие. – Картошка – это продукты, которые выращиваются в земле людьми. Это универсальный продукт: почти во всех блюдах его можно встретить. Картошка дешевая и используется всеми. В деревнях это основная еда. В России используют много картошки, потому что Россия это сельскохозяйственная страна, у которой большие поля для выращивания картошки».
Балансиров отложил эту тетрадь.
«Картошка, – прочел он в следующем сочинении. – Картошка – это овощ, который находится в земле, этот овощ потребляет почти всех, потому что это стоит не слишком дорого. Его можно есть по торжественным случаям, или можно его использовать, чтобы поесть каждый день, или можно его пожарить».
«У меня у самого в кастрюле образовалось чуть ли не знамение, – это уже не было школьной работой, это размышлял сам капитан, захваченный картофельной темой. – Обычная кастрюля, небольшая. Картошка так себе, величиной с глупую голову, а потому порубленная. Желтоватая такая и вообще подозрительная, – Балансиров откинулся в кресле и закурил, попирая школьные правила. – Да, я решил сварить ее не сразу, а потом. Залил водой и поставил на холодную плиту. Вот она так постояла часа четыре – и что же? Вся вода – багровая! Как будто в ту самую голову случилось кровоизлияние».