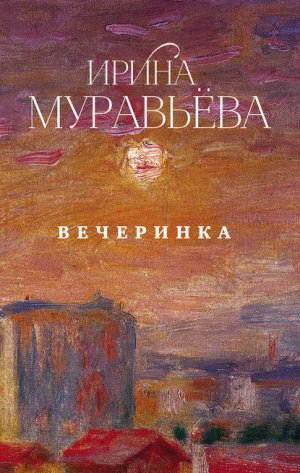
Вечеринка
В воскресенье, двадцать четвертого мая, Комаров выпал из окна. Природа сияла, и даже стаканы в руках алкашей сияли, как звезды на небе. Комаров выпал из окна случайно. Внизу собирались жарить шашлык. Это было замечательное время. Каждые выходные собирались у Комаровых мужчины и женщины, и начиналось веселье. У всех были машины, ракетки для игры в бадминтон, надувные матрацы. У некоторых даже сумки-холодильники. Многие носили шорты, а женщины перехватывали распущенные волосы пластмассовыми коричневыми обручами. Конец шестидесятых, шашлыки, надувные матрацы, «Три плюс два», Давид Ойстрах, Миронова и Менакер. Июль проводили, как водится, в Пярну, зимой – две недели – на лыжном курорте. В Чечне все спокойно, в горах ледники, цветут эдельвейсы. Повстанцы, бандиты и боевики еще мирно спят в колыбелях, а многие пока даже не родились на земле.
Комаров перегнулся через подоконник. Он хотел, чтобы шашлык сбрызнули водой – сочнее намного, – и вдруг его полное теплое тело сползло, как тяжелое тесто. Сползло и упало, подмяв своей тяжестью цветущую пену лиловых кустов. Оно растеклось по траве и вдруг стало мясистого, красного цвета.
К нему с криками бросились со всех сторон. Он был жив и успел прохрипеть, что все нормально, хотя чувствовал, как голова нетерпеливо, с тянущей болью, отрывается от тела и уходит, спотыкаясь на беззвучных ногах. Он помнил, что баранину нужно сбрызнуть водой, иначе она сгорит, и поэтому попытался подцепить голову ладонью, как новорожденного в корыте, но голова выскользнула. Наступила темнота, в которой оглушительно застрял визг «Скорой помощи» и не успокоился, пока кто-то с неба, услышав его, задул этот крик, как ненужную свечку.
В Институте Склифосовского Марине сказали, что муж ее выпал очень удачно и, наверное, выживет. Но Комаров умер. Ночью, когда на столицу обрушился ливень, в его задремавшее сердце попал сгусток крови.
Без Комарова жизнь почернела и принялась разлагаться. Тошнотворный запах людского равнодушия, безденежья и непроходящей усталости поднимался из ее глубины. Однако нельзя было просто так сдаться. У них были дети. Две тощие девочки: Оля и Лена.
В самом конце августа внезапно выпал снег и не растаял даже к полудню. Тридцать первого, в теплых куртках поверх летних платьев, бледные и серьезные, Марина и девочки купили лохматые красные астры. На астры налипла земля. Смывая ее, она вспомнила, что он сейчас тоже в земле, и заплакала.
Девочки заметили, что за три летних месяца мама плакала так много, что на ее щеках появились длинные морщины, словно слезы размыли кожу, образовав специальные борозды, по которым им было удобнее и быстрее стекать.
Папин костюм, сшитый в ателье по заказу из очень хорошей «английской», как говорила мама, шерсти, купил дядя Игорь, живший в первом подъезде. Папины ботинки ему не подошли. Велики. Когда папа был жив, он возвышался надо всеми кудрявой, лысеющей головой, как дерево, случайно оказавшееся среди молодых неуверенных саженцев. Дядя Игорь, купивший папин костюм, как назло, все время попадался им на глаза именно в нем, и возникало иногда чувство, что это папа садится в машину дяди Игоря и уезжает на работу, даже не взглянув на них.
Мама вдруг стала такой забывчивой, что уже не заглядывала к ним в комнату перед сном и не говорила «Спокойной ночи». Девочки простили ее. Бабушка Зоя, мамина мама, иногда приезжала из Калуги и жила у них по две-три недели. Варя им компот или штопая кофточку, она говорила, что нужно терпеть, тогда все пройдет. Один раз они спросили, что это значит, потому что в глубине души надеялись, что папа воскреснет, и именно это она сейчас скажет. Но бабушка вдруг объяснила, что все станет лучше, когда будут деньги. Про деньги они понимали одно: прекрасно, когда их «хватает». У папы всегда их «хватало». Ведущий фотограф в «Советском экране», он был нарасхват. Его приглашали и брали повсюду, включая Италию и Будапешт. У них была вкусная еда (не очень полезная, правда, но в те времена любили все то, что отнюдь не полезно, зато очень вкусно), и мама подавала к завтраку тоненько нарезанный сервелат, сыр «Виолу» с оскаленной блондинкой на этикетке, красную икру и печенье «Мария». А папа пил кофе, чернее, чем деготь. Иногда у них в доме появлялись известные артистки, вроде Немоляевой и Мордюковой, и мама кормила артисток обедом, хотя они вечно куда-то спешили и ели салат оливье в зимних шапках. От Мордюковой так сильно пахло духами, что часа полтора после ее ухода квартира продолжала благоухать, и запах этот уходил медленно и неохотно, как будто ему хорошо было с ними, он втерся, пригрелся и хочет остаться.
Но папа упал из окна. Папа умер. Соседи шептали, что папа: «погиб». Костюм из английской шерсти носил дядя Игорь, а мама продолжала плакать. Ее зарплаты младшего редактора АПН не хватало на жизнь. На прежнюю жизнь. Все папины вещи: ветровка, дубленка, мохеровый шарф, ушанки, перчатки поплыли из дома, как рыбы. Их переловили друзья и знакомые. Потом кинокамера, магнитофон, часы, зонтик, купленный в Риме на рынке, и даже (смешно сказать!) желтые плавки ушли вслед за всем остальным. Он не торопился покинуть свой дом. Он медлил, как запах духов Мордюковой. Поэтому много осталось в шкафу. Еще можно было продать его шляпу, очки от палящего южного солнца, всю обувь, два свитера, бриджи из замши. Она не притронулась к этим вещам.
В АПН знали, что Марина овдовела. Все знали. Последняя уборщица с потускневшими от пьянства бегающими зрачками теперь не плевала ей вслед, как всегда, заметив еще одну новую курточку, еще одни новые белые брючки, а вежливо кланялась и бормотала: «Ну, дай тебе Бог!» И все потому, что Марина, вдова, вдруг стала: своей. Чужое несчастье всегда вызывает здоровое чувство родства.
Подруги с такой интонацией, будто пытаются быть еще лучше, добрее, вздыхали: «Мариночка, не раскисай!» Но только прошел первый шок похорон, поминок, сочувствия, недоуменья, нырнули обратно к себе, в свои норы, где пахло мужьями, детьми и любовниками, которые все порывались уйти в чужую, где пахнет острее, нору.
Но тут наступила зима. Загудели ветра в проводах, засверкали сосульки. Какие теперь шашлыки? Спасибо, что есть у людей хоть дома, а те, у кого нет домов, есть вокзалы. А те, у кого нет вокзалов, – подъезды. Короче: раз ты человек на земле, ты должен на ней выживать. На то тебе Богом дан разум. А звери? Бежит, вон, собака за легкой поземкой, торопится, словно ее заждались. Но это неправда. Кому ее ждать? Одной шавкой больше, одной шавкой меньше.
Марина чувствовала, что каждый новый день качается под ее ногами, как палуба. Та внезапность, с которой ушел он, притаилась за спиной и ждала только того, чтобы захватить ее врасплох. Просыпаясь по утрам, она не сразу открывала глаза, а несколько минут лежала тихо, со страхом прислушиваясь к знакомым звукам своего дома и убеждаясь, что все по-прежнему.
Валя жила на втором этаже с дочерью Лерой. Летом она носила пестрые косынки, которые завязывала надо лбом большими бантами, зимой набрасывала ажурный вязаный платок поверх меховой шапки. У нее был хищный рот и маленький, нечетко прорисованный профиль. Все знали, что она никогда не была замужем, поэтому, когда Валя принималась фантазировать, что муж ее погиб на неведомых «испытаниях», слушать это было неловко. Марина не только не дружила с этой еле заметной в мире Валей, но чувствовала к ней легкую неприязнь, хотя Валя несколько раз предлагала посидеть с девочками вечером, когда Комаровым нужно было уйти в гости или на очередную премьеру в Дом кино или Дом актера.
– Да я с удовольствием! – хрипловато уговаривала Валя. – По-соседски!
И каждый раз, не желая сближений, Марина говорила, что ничего не нужно. Теперь Валя с непонятно откуда взявшейся развязанностью останавливала Марину то на улице, то в магазине, то просто звонила ей в дверь: поболтать.
– Ох, вдовы мы, вдовы! – Валя крепко хватала Марину за локоть, а глаза ее при этом затуманивались, как будто воспоминания, подобно мелкой ряби на воде, мешали ей смотреть Марине в лицо. – Осталась я с девкой, а ты – с двумя девками. Красивые обе и с образованием, но ведь мужикам-то не этого надо!
В одну из серебряных, очень холодных, пустынных ночей со среды на четверг Марина во сне вдруг увидела Валю. Валя ждала ее на самом краю обрыва, который Марина сразу узнала: когда-то в детстве они снимали дачу неподалеку. Женщина, в которой Марина сразу разглядела Валю, на самом деле нисколько не походила на нее, – она была высокой и черноволосой, но Марина со страхом поняла, что это и есть настоящая Валя, которая скрылась внутри этой женщины, как люди скрываются, скажем, за ширмой.
– Зачем ты ребенка себе завела? – спросила высокая Валя и сдула со лба ярко-черную прядь. – Он целую книгу тебе перепортил. Купила ему акварельные краски, так он тебе все там и разрисовал.
Она показала Марине страницу, замазанную ярко-желтым и красным.
– А это китайская книга, чужая! – сказала ей Валя. – Давай я его унесу. Ну его!
– Куда ты его унесешь?
Они обсуждали ребенка, который испортил китайскую книгу.
– А можно и бритвой, – сказала вдруг Валя. – Ведь он там в пакете. Разрежем, и все.
Валя предлагала открыть верхний ящик комода, потому что ребенок находился именно там и был завернут в пакет.
– Ты можешь поранить его, – усомнилась Марина.
– Да нет, ни за что, – объяснила ей Валя. – Уж скольких я так доставала, подумай!
И вынула лезвие.
Сон был настолько страшен, что, проснувшись, Марина с головой накрылась одеялом и там, в темноте, слушала, как дико и гулко стучит ее сердце. Потом захотелось пить, и, превозмогая себя, она нашарила босыми ногами тапочки, пошла на кухню, где долго пила воду прямо из чайника.
Вечером, возвращаясь домой, Марина увидела в лестничном пролете рядом с почтовыми ящиками Валю, закутанную в пуховый платок.
– А я к тебе, – простуженно сказала Валя. – Завтра гостей собираю. Двое разведенных будет. Неплохие мужики, хотя, конечно, на любителя. Приходи.
Марина начала лихорадочно искать ключ и не ответила.
– Писем ждешь? – усмехнулась Валя. – Напрасно. Придешь завтра?
– Лена у меня болеет, – сказала Марина. – Я вряд ли приду.
– Сейчас все болеют, – ответила Валя. – Я температуру нарочно не меряю. Купи тогда тортик. Не важно, какой. Из нашего дома зову только лыжника. Конечно, с женой. Но она не пойдет.
Марина широко открыла глаза. «Лыжник», тренер олимпийской сборной, жил на пятом этаже. Он был суховатым, спортивным, всегда загорелым. Стремительный шаг и улыбка такая, что можно ослепнуть. Жену свою Машу привез из Белграда, она говорила по-русски с акцентом, хотя прожила в Москве лет восемнадцать.
– Ты знаешь: у Маши отрезали грудь, – сказала Марина. – Ты знаешь, что Маша больна?
– Я знаю, – ответила Валя. – Наверное, он не придет. Я для интереса, попробовать только.
У жены лыжника обнаружили рак груди и недавно сделали операцию. Несмотря на то что приехавшая ей помочь черноглазая мать совсем не говорила по-русски, а лыжник продолжал ослепительно улыбаться, сталкиваясь с соседями, подробности неизлечимого заболевания быстро просочились, и теперь, встречая стройную Машу в длинной югославской дубленке, совершенно спокойную, хотя всем казалось, что за этим покоем ее должен прятаться ужас, жильцы начинали фальшиво шутить, словно не догадываясь, что Машу мучают бесполезной уже химиотерапией, и эти блестящие черные волосы – не волосы вовсе, а финский парик.
– Они не придут, – повторила Марина. – Чего там «попробовать»?
– А я вот не знаю! – и Валя закашляла в теплый платок. – Она не жилица, ты видишь сама. Его все равно кто-нибудь подберет.
– Не стыдно тебе? – задохнулась Марина.
– Я их пригласила обоих! – отрезала Валя и снова закашлялась. – Я, может, помочь им хочу. Пускай хоть развеются.
Марина махнула рукой и, обогнув Валю, начала подниматься по лестнице.
– Ты только святую не строй! – сказала вслед Валя. – А вдруг он возьмет да захочет тебя? Ты что, его выгонишь?
Слова эти были глупы и бесстыдны. Но как вот, бывает, идешь по траве, не чувствуя шага, и вдруг натыкаешься на что-то, что кажется дико горячим, и не понимаешь еще до конца, что ты наступил на осколок бутылки, а это горячее есть твоя кровь, и ты застываешь – нелепо, растерянно, – вот так и Марина вдруг остановилась на мокрой от липкого снега ступеньке. Она уже мысленно приноровилась, что с этим покончено. Есть одиночество, пустая постель и две дочки-сиротки. Промозгло, темно и густой валит снег. Кого она может хотеть и зачем? И кто вдруг захочет ее? Однако, минуя рассудок, из самой ее глубины, изнутри напрягшегося живота, поднялось столь жгучее воспоминание жизни – столь жгучее и столь внезапное, – что, желая убить, уничтожить его, залить, как огонь заливают водою, она обернулась и прямо в лицо бессмысленной Вале сказала:
– Посмотрим, на месте решу.
– Ну, то-то! – и Валя пошла к себе вниз. – Так, значит, к семи. И про торт не забудь.
Девочки лежали на ковре, уставившись в телевизор. Уроки они не сделали, кружевные воротнички и манжеты не выстирали. Они оттопырили локти, подобно тому, как птенцы, не умея летать, боясь высоты, широко раздвигают костлявые крылья, поросшие пухом, и шеи их были такими же хрупкими, как шеи птенцов.
На Валиной вечеринке было шумно, бестолково и накурено, хотя везде открыли форточки, и снежной, ночной синевой неслось в этих форточках небо, принявшее облик чего-то подобного людскому житью и людскому характеру.
– Соседка пришла! – закричала вишневая, потная Валя. – Знакомьтесь, знакомьтесь! Сейчас я гуся принесу!
Упала, в ажурных чулках, на колени, открыла духовку. Марина увидела черную спину зажаренного гуся.
– Ах ты, негодяй! – и Валя всплеснула руками. – Сгорел негодяй!
– Да что там: сгорел! – зашумели вокруг. – Его поскрести, будет даже вкуснее!
Гуся поскребли. Он стал темно-коричневым. И тут в коридоре Марина увидела лыжника. Лицо его было такого же цвета, как кожа гуся. Улыбка сверкала на этом лице. Он был мускулист, разговорчив и весел. Жены рядом не было.
– Марина! – сказал он растерянным басом. – Какими судьбами?
– Такими же, как остальные. Как ты, например.
– Мы разве на «ты»? – просиял он, смеясь. – Ну, так даже лучше!
– Ой, Юра, простите! – сказала она. – Да нет, мы на «вы»!
– А зачем нам на «вы»? Давайте-ка на брудершафт. А, Марина?
Они выпили, и она совсем близко увидела его глаза. Они были мокрыми и беспокойными.
Гуся съели быстро. На блюде осталась кашица из яблок, коричневая с черно-красным, и кости. Мужчины – без галстуков, без пиджаков – темнели подмышками. Марина заметила несколько взглядов в разрезе своей белой кофточки с люрексом.
– Ты торт принесла? – прокричала ей Валя сквозь дым и качнулась. – Где торт-то, Марина?
– Я дома забыла, – сказала Марина. – Сейчас принесу.
– Валентина, постой! – сказал громкий бас за спиной у Марины. – Его ставить некуда, торт. Ставить некуда.
– Нет, я принесу, – повторила Марина. – Ведь я же купила.
– Да мы вам все верим, Мариночка, верим! Такой милой девушке – и не поверить?
Он взял ее под руку. Крепкий, широкий, с бульдожьим лицом и большими зубами.
– Пойдем потанцуем, – шепнул он Марине. – Забудь ты про торт. Все и так нажрались.
Во второй, маленькой, комнате потушили свет. При тусклых вспышках уличных фонарей топталось несколько пар.
– Я— Глеб, – сказал он, обхватив ее талию.
Притиснул к себе и вдавил все лицо ее в короткую и волосатую шею, которая сильно вспотела под галстуком и стала лосниться. Марина отпрянула, но он ее не отпустил. Они и не двигались, просто стояли, и он стал губами искать ее губы.
– Поедем ко мне, а, Марина?
– Отстаньте! Вы что, ненормальный? Отстаньте!
– Поедем! Мне Валька шепнула, что ты овдовела. А я разведенный. Поедем, Маришка!
– Отстань от меня! Убери свои лапы!
– Вот это напрасно! Машину поймаем…
Тогда она вырвалась.
– Марин! Ты куда? – проорала вслед Валя. – Марин, ты за тортом?
– За тортом!
Села на ступеньку. Обхватила себя руками за плечи. На лестнице было холодно. Все эти семь месяцев она помнила, что «овдовела», но когда ей вот так прямо сказали, что теперь можно сразу тащить ее в постель, раз она все равно одна и никому нет никакого дела, с кем и куда она поедет пьяным и снежным вечером, – в душе ее грубо и больно разорвалось что-то. Это была не та острая боль, которую она заглушала ежедневными заботами и страхом за девочек и которая сразу же напоминала о себе, как только она натыкалась на его вещи или вспоминала, как они любили друг друга по ночам, не та боль, которая всякий раз кровоточила заново, когда подходили праздники, и нужно было проводить их без него, но новая боль пустоты и начала какой-то разнузданной жизни, в которую ее попытались втолкнуть так, как будто ей самое место внутри.
Над ее головой послышались шаги. Кто-то спускался, и шаги были знакомыми. Так ходил ее муж: быстро и тяжело, сопровождая каждое движение отрывистым и громким дыханием. Нелепая, жуткая мысль, что это и есть он, ее обожгла, в глазах потемнело. Она обернулась.
Маша, жена лыжника, в длинном халате и валенках, без парика, что – как ни странно – не только не уродовало ее, но делало похожей на обритого новобранца, потому что глянцевая ярко-белая кожа открытого, красиво вылепленного черепа делала намного моложе ее худое и красивое лицо с ярко-черными, без ресниц, глазами. Она спускалась с пятого этажа, тяжело наступая большими разношенными валенками, нелепо смотрящимися вместе с ее бледно-голубым, отделанным кружевами халатом.
– Вы что здесь сидите, Марина?
Голос ее тоже стал моложе и как-то ломался, подобно тому, как ломается мальчишеский голос в четырнадцать лет. Села рядом с Мариной на ступеньку и ухватилась за перила прозрачной, с выступившими жилами, рукой.
– Вас выгнали, что ли, оттуда?
Она засмеялась невесело. Марина не видела ее месяца полтора-два, и сейчас ей стало не по себе от того, насколько сильно изменила болезнь эту уверенную в себе, полную сил женщину.
– Не выгнали. Сама ушла.
– Мой там?
– Юра? Кажется. Позвать его?
Маша пожала острыми под халатом плечами.
– Да я и без вас позову. Я пришла, потому что минут через двадцать начнет так болеть, – она сделала неопределенный жест ладонью от горла до начала живота, – так болеть, что нужно выпить лекарство. А Юра его от меня вечно прячет. Наверное, страхуется. Мало ли что…
Марина не нашлась, что сказать: кровь бросилась в голову от этой простоты, с которой Маша объяснила ей, зачем она спустилась сейчас – в валенках и без парика – со своего пятого этажа на первый, где за обитой дермантином дверью то и дело взрывались пьяным смехом и что-то кричали друг другу здоровые потные люди.
Они помолчали немного.
– Я умираю, – кратко объяснила Маша. – Теперь уже ничего не осталось. Все, что могли, попробовали. Только наркотики. Но их чаще, чем два раза в день, нельзя принимать. Вот он и прячет.
Марина подумала, что, услышь она эти слова семь месяцев назад, когда муж был жив, она бы растерялась, начала утешать, теперь это все ни к чему: смерть стала близка, как сугроб за окном. Дотронешься, и обожжет своим холодом.
– Я его сама погнала к этой дуре, – сказала Маша. – К Вальке. Она к нам пришла в понедельник, меня только из больницы выписали. «Я, может, не вовремя. Вы, Машенька, как?» А я и ответить-то ей не могу: тошнит, еле-еле терплю. Но Юра ведь вежливый! «У нас все в порядке». А я бегу в ванную. И мне тяжело, что он все это видит. Я мамы совсем не стесняюсь, а Юры…
– Вы Юру жалеете? – спросила Марина.
– Я? Юру? – и Маша, как будто услышала страшную глупость, наморщила голые белые складки, где прежде росли ее брови. – Я? Юру? Нет, я не жалею. Он женится. Может, детей заведет. У нас как-то с этим ведь не получилось. Наверное, поплачет… Потом успокоится.
– А вдруг вы не правы? Вдруг не успокоится? Марине нужно было добиться подтверждения, что потерю любимого человека пережить нельзя, и так это быть и должно, так и было, и будет всегда, а Маша напрасно сейчас усмехается… Ее перестало удивлять, что они сидят рядом на ступеньках и обсуждают Машину смерть как что-то обычное, поскольку внимание ее целиком переключилось на то, что, принижая, как это показалось Марине, своего лыжника, Маша принижает и ее, раздавливая в душе самое главное: то горе, с которым за все эти месяцы Марина сроднилась, срослась с ним и им дорожила, как чем-то таким, что принадлежало одной ей по праву и было бесценно и неприкасаемо.
– А я, представляете? – голосом, влажным от сдавленных слез, прошептала она. – Я не успокоилась. И не хочу! И не успокоюсь!
Но тут Маша вдруг полоснула ее своим голым, пылающим глазом.
– Ваше счастье, Марина, что вы ничего не знали.
– Чего я не знала? – спросила Марина.
– Ну, все, началось! – Маша приподнялась. – Сейчас разойдется. Пора пить таблетки.
– Какие таблетки! Чего я не знала? – Марина схватила ее за плечо.
– Марина, вы руку мне так оторвете!
– Скажите, чего я не знала? Чего?
– Да глупости все это! Мне нужен Юра.
– Сейчас позову я вам вашего Юру! Но вы мне скажите, чего я не знала?
Странное выражение сверкнуло на истощенном Машином лице. В нем была и жалость, и пересиливающая все жестокая радость, напоминающая радость обозленного ребенка, который не может удержаться от того, чтобы не ударить животное.
– Прошлой зимой я случайно увидела вашего мужа в ГУМе, в ювелирном отделе. С девушкой. Похожей то ли на киргизку, то ли на узбечку. Они стояли над прилавком, он обнимал ее. Продавщица им что-то показывала.
– Ты врешь, – прошептала Марина. – С узбечкой?
– С узбечкой. А может, с киргизкой. Хорошенькой.
И Маша нажала на кнопку звонка. Выскочила пьяная и растрепанная Валя в наполовину расстегнутой блузке.
– Во, девки пришли! У нас уже танцы вовсю!
За ее спиной вырос лыжник и, не говоря ни слова, перешагнул порог, взял Машу под руку.
– Обопрись на меня, – глухо сказал он. – А я собирался домой. Опять разболелось?
Она вся прижалась к нему и молча кивнула.
– Пойдем потихонечку. Не напрягайся. Сейчас станет легче. Ты примешь лекарство, я чай тебе сделаю с медом, с лимончиком…
Валя растерянно проводила их глазами и хотела было втащить Марину в квартиру, где из-за дыма ничего не было видно, а от людей остались одни расплывчатые и громоздкие силуэты, но Марина оторвала от себя ее пальцы и, толкнув подъездную дверь, выскочила на улицу. Ее обдало волной холодного воздуха вперемежку со снегом, но она не почувствовала холода: тело болезненно горело.
– Ты что, изменял мне? Ты мне изменял? – вскрикивала она и шла вперед, не разбирая дороги, то и дело проваливаясь в снег.
Когда его хоронили, был жаркий и светлый день. На кладбище все цвело, все пахло: листья молоденькой сирени, листья акации, трава, земля. Марина прижимала к себе Олю и Лену, дрожащих и плачущих так сильно, что когда она опоминалась на секунду и слышала, как они плачут, ей становилось страшно. Она не замечала никого вокруг, хотя народу было очень много, и все подходили к ней, заглядывали в ее лицо под черным кружевным шарфом, трясли руку, целовали и обнимали ее. Она прижимала к себе девочек, чувствовала их огненно-горячие голые плечики, их мокрые от слез щеки, их потные волосы, но даже девочек она не видела: перед глазами висела какая-то дымовая завеса. Потом стали подходить прощаться, и дымовая завеса упала, все стало отчетливым: Володя – настолько чужой, непонятный, что, может быть, это был кто-то другой, а он, настоящий, ушел тогда, ночью, когда сгусток крови попал прямо в сердце, цветы, ярко-красное море цветов, знакомые лица. Вот мама, вот брат, а вот знаменитая эта артистка, три родинки наискосок от виска… Не помню фамилию. Да и зачем? Лица опять начали расползаться, как мокрая газетная страница, но одно лицо она напоследок разглядела так отчетливо, как будто оно высунулось из окна быстро набирающего скорость поезда, и его ярко осветило солнцем. Лицо было совсем молодым, воспаленным от слез, с узкими черными глазами. Киргизка, а может, узбечка, рыдала, но звука рыданья Марина не слышала.
Она провалилась в сугроб обеими ногами и сообразила, что добрела до пустыря, за которым была узенькая замерзшая речка. Метель утихла, и на небе показался бледно-золотой полумесяц, который прежде закрывали морщинистые тучи, но, в конце концов, они отступили, и снежная, белая, словно фарфоровая, настала глубокая зимняя ночь. Марина опустилась на корточки в снег и сжалась в комочек. Ни идти, ни даже просто стоять не было сил. Ей хотелось одного: исчезнуть. Причем как можно тише, незаметнее, не оставить после себя даже тела. Исчезнуть, и все.
Пустырь был безлюден. На той стороне узкой речки чернела деревня, по-зимнему мертвая.
Вдруг все осветило машинными фарами. Знакомая серая «Волга» подъехала к сугробу и остановилась.
– Нашел! – сказал голос лыжника. – Вот она. Здесь.
– Марина! – Его перебил голос Маши.
Они вышли из машины, и лыжник сильными руками вытащил Марину из снега. Теперь они стояли втроем, в темноте. Фары почему-то погасли, а золотой полумесяц был слишком слаб, чтобы хоть слегка осветить далекую землю. Марина была мокрой, белой от снега, а у Маши из-под накинутой поверх голубого халата шубы уродливо чернели разношенные валенки, напоминая лапы какого-то фантастического зверя. На лысой ее голове был платок.
– Я вам наврала, – прошептала она. – Я все наврала вам. Придумала все это.
– А как же узбечка? – спросила Марина. – Узбечка была. Я сама ее видела.
– Я тоже. На кладбище. Ну, что с того? Узбечка была. Остальное – вранье.
Лыжник открыл дверь, все трое сели в машину. Марина чувствовала, что ее обманули. Что тогда, на лестнице, Маша сказала чистую правду, но сейчас это уже не имело значения.
История про то, как люди победили вошь
В Израиле не было вшей. Никогда. Вокруг все чесались: то Сирия вместе с Египтом, то Африка. Уж про Эмираты и не говорим. А по Тель-Авиву гуляли ребята – в сандалиях на босу ногу, с оружием – и им хоть бы что. Свободно гуляли, смеялись, шутили. Поскольку – хоть в лупу смотри – нету вшей. Никто посторонний их не беспокоил. И это бы долго еще продолжалось, когда бы не мощные волны истории. Опасное и безрассудное дело – все эти несносные волны. Вот люди спокойно живут в Эфиопии. Подоят козу, соберут урожай, потом потанцуют вокруг огонька. И вдруг их срывает с насиженных мест. И люди, себя забывая, несутся в далекий Израиль. К своей белокожей еврейской родне. Они, разумеется, не понимают, что все это – лишь материал для истории, и думают, что их там все заждались. А как же: ведь тоже евреи. Шолом!
Представьте себе удивление местных. Народ понаехал – совсем удивительный. Черны, как безлунная ночь. Все пытаются костры развести в своих новых квартирах, жертвоприношения втайне справляют. Ну, нечего делать: привыкнут, конечно. Одно поколение минет, другое. Спешить вроде некуда. Не их ведь вина, что пришлось перепрыгнуть из первобытно-общинного строя, уютного, в какой-то немыслимый гвалт достижений то разных наук, то совсем разных техник.
К тому же обратно везти в Эфиопию (с узлами их пестрыми да со старухами!) – совсем неподъемное дело. Намного труднее, чем в жаркой пустыне еще один город построить. Намного!
Взялись за детей. Ведь в них, в детях, вся жизнь. Хоть в белых, хоть в черных, хоть в ярко-оранжевых. Рванули в просторные школы, сверкая своим громким смехом, детишки приезжих. Сначала и здесь было очень непросто: куски черной шерсти валялись под партами, обломки зубов, сгустки крови, слезинки… Однако же: справились, и постепенно наладилась жизнь под большим общим солнцем.
И вдруг… Нет на свете противнее слова, чем это вот быстрое, юркое «вдруг»! Народ стал чесаться…
Такая, к примеру, картинка: входит в свой чистый и белый кабинет молодой зубной доктор. Пружинистой входит походкой. Кивает помощнице и секретарше. Секретарша, в свою очередь, кивает пациенту, не такому молодому, как доктор, но все же не старому. Тот живо хватает себя за скулу, давая понять, чего он натерпелся с проклятым клыком. Кому этот клык, кстати, нужен? Конечно, когда люди ели в пещерах еще не остывших от бега животных, – он был просто необходим. Но теперь? Да рвать его к черту как можно скорее!
Улыбчивый доктор такого же мнения. Берет инструменты: зажимчик, щипцы, еще что-то легкое и серебристое. Сейчас вот уколем, а вы не заметите! Вдруг… Вдруг, переменившись в лице, бросает с размаху свой легкий подносик, щипцами скребет шевелюру и грязно – о, грязно! – ругается.
Так грязно, что белые стены краснеют.
Еще две истории. Не сочиненные, а чистая, горькая, грустная правда. Шла пышная свадьба. Невеста с глазами газели, вся в газовом. Жених чисто выбрит, подтянут, высок, но волосы – длинные, ибо художник. На круглом мохнатом затылке кипа. Вокруг суета: три фотографа, гости, родители с разных сторон, разговоры… Кто плачет негромко, кто громко смеется. Красивая свадьба. И море вдали синеет в предчувствии острого счастья. Раввин открывает торжественно Тору. Невеста бледнеет. Все гости смолкают, а море из синего становится светлым, почти золотистым. И снова проклятое, подлое «вдруг»! Жених залезает рукой под кипу и чешет затылок с такой злобной страстью, что даже раввин слегка отодвигается. А что говорить о невесте?
– Адам! – бормочет она. – Что с тобою, Адам?
– А то! – отвечает он. – Ева! То самое! Чесотка замучила!
Вторая история случилась на заседании кнессета. Сначала, как вспоминали свидетели, все было тихо-мирно: разобрали военный вопрос, разобрали экономический, коснулись каких-то жилищных проблем, а как пришло время уже расходиться, так страсти-то и взорвались. Сцепились два бывших советских: Жиранский, известный ученый, и Вздоров, пилот самолета. Жиранский, совсем полысевший за годы, с лицом весьма умным, не шибко красивым, смотрел, ненавидя, задрав кверху голову на мощного Вздорова, который всю юность парил в небесах.
А спор шел, как водится, о репатриантах. Играя плечами, заносчивый Вздоров кричал, что сперва нужно наших впустить. Впустить, дать жилье, накормить и обуть. А после уже эфиопов. Которые, кстати, ничуть не евреи, а дикое племя чужих африканцев. Дай волю: наденут и бусы, и перья, костры разведут и забьют в барабаны.
– Ах, вы предлагаете ваших впустить? – Напирая на слово «ваших» и делая вид, что не только не читал поэмы «Кому на Руси жить хорошо», но и в мавзолее Ильича не был ни разу, издевался маленький лысый Жиранский. – Вот ваших всех впустим, а честным потомкам царя Соломона возьмем да откажем?
– А вы что, хотите, чтоб эти потомки страну разнесли? – И Вздоров отерся несвежим платком. – Они даже воду спускать не умеют!
– Зачем же им воду спускать, извиняюсь? – вмешался еще один бывший советский, пытаясь закончить тяжелую сцену. – Какая же, я извиняюсь, вода? Они в туалеты почти не заходят.
Вздоров гордо оскалился на это меткое замечание, чувствуя, что заносчивый Жиранский явно ему проигрывает, но что-то его отвлекло. И так отвлекло, что он чуть не завыл. Вцепившись руками в когда-то густые и русые волосы, он начал их рвать, как чужие, и драть их, и рвать их, и драть – он их драл, он их рвал, – и кровь леденела у тех, кто присутствовал при том, как красивый, плечистый, речистый, к тому же член кнессета (тоже не шуточки!), напористый Вздоров снимает с себя самого потный скальп.
В конце концов, тайна открылась.
В самую обычную, на окраине Тель-Авива, парикмахерскую, принадлежащую бывшей одесситке, пришел стричься мальчик. Не то Моисей, а не то Рафаэль. Устроился мальчик на кресле, зажмурился. А мама его, голоногая, тонкая, давай поскорей перелистывать книжку. Свободное время: никто не мешает. Прошло ровно восемь минут. И вдруг одесситка осела, как тесто:
– Вы шо, захотели морозить мне бизнес?
И сдергивает с Моисея салфетку. Прижав Рафаэля к себе, голоногая мамаша в истерику:
– Что происходит?
– А то происходит, шо вши у него! Все темя во вшах!
Израиль не знал про их существованье. Он озеленял свои жаркие пустоши, боролся с арабами и укреплял границы страны. А вошь где-то ползала, жалкая, мелкая. Она родилась паразитом и, стало быть, должна была и умереть паразитом. Про грудь ее в справочнике говорится, что – «маленькая», голова – «еще меньше», а брюхо – «большое». И следом за брюхом такая вот фраза: «наличие крыльев практически стерто. Они редуцированы эволюцией». Однако же именно это мне хочется особенно выделить: стало быть, вошь, уже не нуждаясь в свободном полете, в конце концов, даже и крылья утратила! Остались огромное брюхо, головка с одною заботой внутри – где пожрать? – и жуткий, устроенный, впрочем, затейливо, «сосущий и колющий рот». Прочтешь про него, и мороз продирает: «Ротовой колюще-сосущий аппарат представлен двумя острыми иглами, которые заключены в мягкую, выворачивающуюся наружу трубку с венцом заякоривающихся крючков для укрепления на коже хозяина».
Вечером по всем телевизионным каналам демонстрировали телосложение вши и особенности ее поведения. Прилипнув к экранам, страна замирала, когда паразитка, разжав свои челюсти, впивалась в покорную кожу. Кого? А ей наплевать: человека, животного. Была бы лишь кровь пожирней да послаще! А впившись, чудовище смачно плевало в почти незаметную ранку. Ученые, отдавшие жизнь изученью вопроса, заметили, что в этой самой слюне содержится некий фермент, от которого кровь больше уже никогда не свернется. Открыв, так сказать, судьбоносную жилу, вошь, чавкая, хлюпая от возбуждения, никем не замеченная, безнаказанно сосала чужую невинную кровь.
Раз двадцать показывали крупным планом, как вошь прижимается к ранке всей мордой и словно целует несчастную жертву, а заднюю часть свою приподнимает, бесстыдно и мерзко ворочая ею.
В ту ночь не заснул ни один человек. Уже и луна осветила холмы и белые камни Иерусалима, уже задохнулись во мраке смоковницы, и море, плескаясь тяжелыми волнами, пыталось отвлечь мерным шумом людей от тягостных мыслей. Но люди метались. Возникло тоскливое непониманье. Еще не укушенные избегали общенья с родными. Глаза отводили и спали отдельно в резиновых шапках, какие обычно используют лишь чемпионы по плаванью. Страдала, как видно, и психика тоже.
Тянулись, тянулись часы ожидания. В восемь часов вечера по телевизору объявили, что завтра закроются все магазины, не будет ни транспорта, ни дискотеки. Приказано было успеть подготовиться. Семья получала большой кусок мыла, дегтярного, черного, и две бутылки. В большой синеватая жидкость: настойка воды черемичной. И в маленькой – та же настойка.
Настало и завтра. В простых рубашонках, босые, а кое-кто в шлепанцах, граждане уперлись глазами в экраны. Под громкую музыку «Хавы нагилы», не очень уместной для данного случая, но все же поднявшей слегка настроение, пошло обучение новой науке. Ведущие – женщина с жесткой улыбкой и полный мужчина с тревожным лицом, – ничуть не стесняясь, намылили головы и принялись перебирать свои волосы, как будто ища в них кого-то чужого. Нашедши, они освещались улыбками и вновь продолжали искать. Стало страшно. Проклятая вошь не хотела сдаваться, кусала дегтярное мыло зубами, плевалась настойкой и не умирала.
– Отчаиваться не поможет, – спокойно учила жестокая женщина. – Вошь чувствует слабость. Сама не уйдет. У вас нету выбора. Вы меня поняли? А ну, веселее! А ну, энергичнее!
– Хава! Нагила хава! – пел, пенясь, мужчина и мылился снова. – Нагила, ухнем! Эх, хава, ухнем!
И люди послушались. Испытывая небывалый подъем, они за какие-то пару часов освоили трудное знание. Из всей вошьей массы спаслось паразита четыре. Ну, шесть. Но не больше.
Рассвет наступил. Исцеленная, мокрая, земля отдыхала. Опять потянулись друг к другу тела. Опять шаловливые женские пальцы накручивали на свои ноготки кудряшки размягших мужчин, а мужчины, уже не боясь – ничего не боясь, – ласкали губами проборы подруг, слегка еще пахнущие черемицей.
Но… Тут мне становится не по себе. В какой-то из школ, то ли Хайфы, а то ли Иерусалима, опять зачесались! Двух дней не прошло! (Или трех, я не помню.) Директор велел тут же вызвать родителей. Последней пришла Эфиопия. Яркая, в парадных тюрбанах, в тяжелых браслетах. Директор взглянул ей в глаза и все понял.
– Вы вымыли головы детям?
– Не вымыли, – ответили гордые и закачали тюрбанами. – Даже не думай, начальник, что вымыли. Нет, мы не вымыли.
– Но все остальные ведь вымыли! Вымыли! И вшей на них нет! Вы меня что, не слышите?
– Мы слышим тебя. Не глухие, начальник, – сказали родители. – Что раскричался? Мы смерти боимся. А ты не боишься. Поэтому вошь на тебе не живет. Зачем ей дохляк? Ты, начальник, не знаешь: она тоже умная, вошь. Она гордая. Живет на живом, а от мертвых бежит. Вот мы и не моемся мылом твоим. Раз вошь не ушла, значит, все мы живые. А ты-то какой получился, начальник?
Американская Нина
Всю ночь, до самого рассвета, они проговорили. Нина рыдала. Потом обессилела, отупела от слез. Получалось, что иначе нельзя. Задолжали, кому можно, и кому нельзя, тоже задолжали. Больше всего она боялась, что Коля запьет с отчаяния. Старшего сына его, от первого брака, от Ядвиги, говорят, уже дважды вынимали из петли. Белая горячка, а сам только из армии вернулся. Красивый хлопец. Глаза похожи на облака, слегка голубые от близкого неба. Все время немного как будто плывут. Коля с ней никогда не обсуждал ни детей своих, ни Ядвигу. Но она верила, что там все кончено. С Ядвигой все кончено. Колины сыновья жили за двадцать верст, в Миролюбовке, а они с Колей в Тетеревке, и хоть небольшое это расстояние, но отца они избегали. Зато денег просили постоянно. Денег не было ни у кого, работы тоже. Коля, с образованием человек, зоотехник, научился делать массажи. Даже тибетский, не говоря уж о тайском. И новый совсем, еще мало известный – горячими крышками от консервных банок. Руки у него сильные, но легкие. Ездил на курсы, получил бумагу. Господи, как она любила его руки! Всего его любила. Лицом зарывалась в его твердый живот, сильно пахнущий потом, не могла надышаться. Дочка сказала: «Ты, мамка, лишилась мозгов». Вот так и сказала. Массажами в Украине заработаешь немного. Он было подался в Киев, думал в какой-нибудь салон наняться. А там свои китайцы вкалывают, киевские, городские. Из маленьких желтых ртов чесноком пахнет. Теперь, говорят, в Киеве все чеснок жуют, очень помогает от разных болезней. И запах считается даже приятным. Вернулся убитый. Она заняла денег, много заняла, и на Рождество купила в дом телевизор, самый большой, современный. Он только усмехнулся.
– Отдавать-то чем?
– Может, премию…
– А жить на что?
Тогда она задумалась. Про агентство ей в больнице сказали. Анна Яновна послушала, как она плачет в ординаторской, и сказала:
– Езжай ты отсюда. В Америку езжай. Или в Европу. Там заработаешь.
Нина сперва опешила. А Коля-то как же? Во-первых, запьет, а во-вторых, бабы ведь кругом. Одинокие, как рыбы под водой. Пока за мужиком присмотр, они лежат тихо, про них и не знают. А если уедет она? Сразу ведь вынырнут. Пускай он без денег, пускай без работы. Мужик! С ним ведь жить еще можно. Согреться с ним можно. Но Коле слова Анны Яновны передала. Думала, он ее на смех поднимет. Главное ведь – вместе. Или как? Он глаза отвел:
– А что? Неплохая идея. Езжай. Со мной все равно пропадешь.
Нина только обвилась вокруг него, прижалась так, что не продохнуть, слезами всего залила. Он засмеялся:
– Если ты насчет женского полу, так забудь свои глупости. Я с этим давно завязал. Такую, как ты, разве встречу?
Тогда она позвонила в агентство. Велели прислать четыре фотографии и заполнить анкету.
– Вы на что нацелились?
Так и сказали «нацелились».
Она растерялась.
– Долги у меня.
– Нас не долги ваши интересуют, – сказали в агентстве. – Нацелились вы на какую страну?
Будто она воевать собралась! Лежит под кустом, в незнакомую страну целится.
– Да мне все равно, лишь бы что заработать.
– Ну так присылайте свои фотографии.
Она послала. Видно, понравилась. Потому что теперь они ей сами позвонили, прямо в больницу. Она как раз в лабораторию поднос с анализами несла.
– Нина Тарасовна, у вас есть шансы. Мы вам советуем не в Европу, а в Америку целиться.
– А как я туда попаду?
– Для того чтобы получить визу, вам нужно побывать три раза за границей и вернуться оттуда. Тогда мы вам устроим американскую туристическую.
– Я без мужа никуда не поеду!
– А вы замужем разве? В анкете же написали: «разведенная».
– Это я с первым разведенная. А с Колей мы не записаны, но дом у нас общий, живем мы с ним вместе.
– Тогда вам совет: не записывайтесь.
– Почему? – Она испугалась. В глубине души надеялась, что весной они с Колей свадьбу сыграют.
– Потом объясним. Это разговор не телефонный, не для чужих ушей.
Сплошные секреты. Рассказала Коле. Он быстро сообразил, что к чему.
– Америкосы тебе визу не дадут, если не увидят, что ты каждый раз из чужой страны обратно домой возвращаешься.
– Почему не дадут?
– Потому что им нахлебники тоже не нужны. А вдруг ты остаться захочешь? В Чикаго каком-нибудь?
– Останусь в Америке?!
– А что? Ну, останемся. Чем с голоду дохнуть… Он так и сказал: «останемся». Значит, вместе. А ей больше ничего не надо. Хоть на Чукотке, хоть в пустыне, лишь бы вместе. Еще денег заняли, купили билеты в Германию. Четырехдневная поездка на автобусе. Два билета – полгода жизни. А нужно три раза съездить, иначе америкосы подумают, что она хочет в Чикаго остаться. Они съездили. В Румынию и опять в Германию, только теперь в южную. Посмотрели из окошка, как люди живут. Пьяных нет. Сортиров на улице тоже. И куры гуляют: красивые, пышные.
– Эх, были бы бабки! – сказал тогда Коля. – В Голландию можно махнуть!
Понравилось ему, видно, по заграницам кататься. А у нее одно на уме: заработать. Долги очень мучили. Вон привезли к ним в больницу женщину, она и скончалась прямо в приемном покое: соседки напали за долг в пятьсот гривен, избили и бросили в сугробе. Ночь пролежала без сознания, обморожение. Пока нашли да к докторам доставили, там уж и спасать некого было. Это Нина сама, своими глазами видела. А то, что люди рассказывают, так еще страшнее: мужик один из Красных Хаток за долги девчонку с хлопцем поймал и у себя в погребе на цепи целый месяц держал. Кормил хуже псов. Ох, страшная жизнь. Тут запьешь.
Через полгода они с Колей оба получили визы. Американские туристические. В агентстве сказали:
– Ваш долг нашей фирме превысил две тысячи долларов. Советуем вам согласиться на любое предложение. Мы выставляем вас на нашем сайте. Надеемся, что будет запрос.
От ужаса, от всего, во что они вляпались, Нина перестала спать. Ложилась с ним рядом (конечно, с любви начинали, потом уже сон!) и вскоре проваливалась. А через полчаса вскакивала в холодном поту. Сердце останавливалось. Вот кладу ладонь на левую грудь – нет сердца, не бьется. Потом: как давай грохотать! Бум! Бум! Прямо в горло. И вновь: ничего.
– Вам нужно скайп завести, – сказали в агентстве. – С вами будут связываться по скайпу.
Старенький компьютер, Колин, отдали соседу, купили новый. Опять, значит, в долг. Завели скайп. Она уже и считать перестала, сколько они должны. Много. Ох, Господи! Много!
Во вторник вечером компьютер затрясся, как припадочный: Уа! Уа! Уа! Коля как раз с улицы вошел, дрова колол на морозе. Весь в серебре, высокий, борода кольцами.
– Давай, отвечай. Клиентура пошла.
Ледяным пальцем нажала кнопку. Во весь экран расплылось мужское лицо. Глаза выпуклые, нос небольшой, аккуратный, губы сжаты в ниточку. Говорит вежливо, слышно, что волнуется. А уж как она волновалась, это и передать нельзя.
– Здравствуйте, – говорит он и слегка пришепетывает при этом. – Вы Нина?
– Я Нина. Здравствуйте.
– Меня зовут Вадим Левин. Мне вас порекомендовали в агентстве «Рука помощника».
– Знаю. Знаю я это агентство, – отвечает. А у самой ноги ватные, слова к языку примерзают.
– У меня жена больна, – говорит Вадим Левин. – Ищу женщину по уходу.
– Понимаю. Понимаю вас.
– Расскажите мне о себе, – просит он. – Поподробнее.
– Что рассказать?
– Что хотите. Какая вы, что вы любите…
Чуть было не вырвалось: «Колю люблю!» Усмехнулась.
– Так вы меня видите. Я же вас вижу.
– Да, – согласился он. – Вижу, конечно. На то он и скайп. Вы славная, кажется. Но что вот вы все-таки любите?
Надо было, наверное, сказать, что она готовить любит, или в доме прибираться, или за больными ходить, а она сказала:
– Петь люблю. Я раньше у нас в церкви в хоре пела.
У него приподнялись брови.
– Вы религиозный человек, Нина?
Ей стало не по себе. Что он такие вопросы задает?
– Я каждое воскресенье в церковь хожу.
– В церковь? Это хорошо, – кивнул он.
– Почему хорошо?
– Ну, мне так кажется, что люди, которые, ну, я имею в виду…
Запутался. Потом усмехнулся тревожно и мягко.
– А чем у вас жена болеет?
– Жена?
– Да, жена. Вы же говорите, что вам помощь для жены нужна?
– Жена моя память теряет.
Правильно все-таки, что она на медсестру выучилась. Альцгеймер, конечно.
– Давно это у нее?
Он объяснил. Еще о чем-то поговорили. Жилищные условия свои описал. У нее будет своя комната внизу с душем и телевизором. Нужно было спросить про деньги, но она стеснялась, не спрашивала, пока он сам не сказал.
– Вас устроит сто долларов?
– В месяц?
– Как в месяц? В день.
Она чуть не вскрикнула. Это же ее зарплата! А он будет в день платить. Значит: в понедельник – сто, во вторник – сто, в среду – сто… Пол поехал под ногами. Оглянулась на Колю. Он так и стоял, как с улицы пришел, даже телогрейки не снял. Только серебро с бороды сползало медленно, обнажая маслянистую черноту. Нина перевела дыхание.
– Меня устроит. А выходные будут?
– Я бы очень попросил вас, – сказал он старательно, – чтобы не больше одного выходного в неделю.
– Мне только в церковь сходить, – заторопилась она. – Только в церковь, и все.
И тут ее всю обожгло: она разве согласилась? А Коля-то как же?
– Ваша виза, – продолжал вежливый Вадим Левин, – позволяет вам прожить в Америке три месяца. Мне так объяснили. Но мне бы… – Он замялся. – Мне бы не хотелось менять помощниц каждые три месяца, понимаете?
– Понимаю, – ответила она, хотя ничего не понимала.
– Вас что-то привязывает к дому?
– Меня? К какому дому?
Он опять поднял брови, удивляясь на ее бестолковость.
– К вашему дому. Там, где вы сейчас.
– Ну, да, – она сильно вздрогнула. – Ну, муж у меня.
И тут же испугалась, дико испугалась, что сейчас этот самый скайп плеснет ей «уа» прямо в ухо, и Левин исчезнет с экрана.
– Я смогу задержаться, – она закусила губу. – Не беспокойтесь, пожалуйста. Задержусь, если надо.
Они проговорили до рассвета. Даже любви не было между ними в эту ночь. Коля вставал, накидывал ватник, выходил на крыльцо покурить. Возвращался промерзший, посеребренный еще не утихшим и редким снежком. Ложился рядом с ней. От него пахло табаком и свежим холодом.
– Как же я без тебя? – бормотала она, вжимаясь в него всем телом. – Ну, ладно неделя. Ну, месяц. А это ведь долго.
– Тогда откажись, – отвечал он. – Еще ведь не поздно.
Она чувствовала облегчение: еще ведь не поздно! И тут же ее опаляло: долги!
– А деньги-то как? – вспоминала она, и слезы затапливали лицо.
– Так будем на всем экономить. Сожмемся.
– Да как мы сожмемся? Твоим хлопцам нужно помочь?
– Пускай теперь сами. Раз нету возможности…
Ох, это слова! Как же им не помочь? Да ведь и для него самого отказать сыновьям – унижение. Как это: чтобы у отца денег не было? Коля ведь непростой человек, фантазер. Как в Голландию хотел попасть, увидеть тюльпаны! В Австралию тоже хотел. Два года назад решил в мэры города баллотироваться. Еле его отговорила. Да он бы и так не прошел, смешно говорить. Рядом с ним и она начинала иногда фантазировать: заработать денег, уехать вдвоем на курорт, лечь на белом песке под лохматой пальмой и чтобы какой-нибудь «дринк» принесли. С соломкой.
Под утро он устал от ее слез, задремал. В свете, похожем на сильно разбавленное молоко, проступил куст рябины у самого крыльца, на котором сидели птицы и выклевывали из-под снега сморщенные черные ягодки. С такой жадностью выклевывали, с яростью, так огрызались друг на друга сорванными голосами, что она отвернулась. И птицы – как люди.
Улетала из Киева. Как прошла последняя ночь, как собрала чемодан, как приезжала дочка из Бобрищей попрощаться – она ждала ребенка в неполных свои девятнадцать, и этого Нина стеснялась, неловко быть бабушкой, – ничего она почти не помнила. Ничего, кроме него. Он тоже волновался, все время курил, и запах его кожи, его жестких волос, смешанный с запахом табака, проник в ее ноздри да там и остался. Она чувствовала его все девять часов полета, и только утром, когда уже подлетали к Нью-Йорку, запах свежего кофе, который разливали стюардессы по пластмассовым чашечкам, вытеснил его. В Нью-Йорке длинноногая, но неприятная девушка с наклеенными ресницами, представительница все того же агентства, помогла ей сделать пересадку на маленький самолет, который, поднявшись в небо, не сразу набрал высоту, и Нина еще минуты три-четыре видела под собою горящую – всю в синих, всю в красных, всю в желтых огнях – в потоках лилового мертвого света, чужую ей землю, на которой уже не различить было ни одного человека, ни одного дома, ни одного дерева. Ей пришло в голову, что это – последняя правда. Нет ни человека, ни дома, ни дерева. А Коли – подавно.
Если бы ей предложили прямо тогда, в самолете, умереть, она ни секунды не стала бы думать.
Еще одна, такая же длинноногая и неприятная представительница агентства, встретила ее в аэропорту. Поехали к Левиным.
– Вы не знаете, какие они? Я имею в виду люди-то они какие? – спросила Нина.
– Мы по домам не ходим, – сухо ответила представительница. – Анкету он заполнил, все нормально. Работает в престижной компании. Зарплата хорошая. Не бойтесь не уголовник.
Про жену Нина и спрашивать не стала. Какая есть – такая и есть. Больной человек. Подъехали к дому. Место красивое, улица тихая, с двух сторон дороги – каменные особнячки. Что поразительно: никаких заборов.
– У вас что, не грабят? – спросила она.
– От места зависит, – объяснила представительница. – В таких местах никто никого не грабит. Но есть и другие районы. С решетками в окнах.
Из окна своего кабинета Левин увидел двух женщин, но не побежал вниз отворять им дверь, не засуетился. За последние полгода он сильно сдал. Зоина болезнь тихо, неторопливо и беззлобно убивала обоих. Она не пугала их смертью, пугала жизнью. По утрам не хотелось просыпаться. В голосе жены ничего не изменилось, даже прежняя ее смешливость еще звучала в нем, только последние два года Зоя все время повторяла одно и то же. Как попугай.
– Надо пойти погулять, – говорила она. – Надо пойти погулять.
Потом забывала, опускалась на стул, смотрела в одну точку. И снова:
– Пойти погулять. Мне надо пойти погулять.
Не отходя от окна, он услышал ее суетливые шаги по лестнице к входной двери. Потом шаги замерли. Жена не помнит, как открыть дверь. Теперь можно не бояться того, что она уйдет и ее нужно будет искать. Она не уйдет. Чтобы открыть дверь, нужно вспомнить, как ее открыть. Зоя стояла неподвижно, молча. Про звонок она уже забыла. Ее лицо, еще недавно напоминавшее лицо Софи Лорен – пусть в старости, но те же высокие скулы, и тот же разрез крупных глаз, – застыло как маска. Ни один мускул не шевелился. Даже волосы, несмотря на то что на них подул ветер (стену рядом с входной дверью занимало высокое окно с открытой фрамугой), – тусклые волосы ее слабо приподнялись надо лбом, как мертвые, и тут же вернулись обратно. Иногда ему казалось, что это располневшее тело и это слегка напоминавшее его жену лицо принадлежат какому-то другому человеку, который, попав по ошибке или по злой чьей-то воле внутрь Зои, укрепился там, но он действительно ничего не знает о прожитой ею жизни, поэтому и повторяет одно и то же, самое простое, а окружающим кажется, что это она, Зоя, забыла обо всем. Поскольку больна. А может быть, Зои давно уже нет? Ее просто нет, умерла. И постепенно догнивает, мертвая, в этом не принадлежащем ей располневшем теле с таким неподвижным спокойным лицом.
– Подожди, – сказал он сверху. – Сейчас я спущусь и открою.
– Кому? – удивилась она.
– Приехала домработница.
– Какая еще домработница? – Зоя вспылила, повысила голос. – Кому здесь нужна домработница? Я тебе сказала, что мне никто не нужен!
Он отодвинул ее плечом и открыл дверь. Длинноногая представительница агентства вошла первой, Нина за ней. Хозяйка прижалась затылком к стене и вздрогнула сильно, всем телом.
На следующее утро началась новая жизнь. Не нужно было вскакивать затемно, задавать корм скотине, растапливать печь, потом бежать на автобусную остановку, чтобы не пропустить маршрутку, довозившую ее прямо до больницы. Теперь, открывая глаза, она видела в дверном проеме седую растрепанную голову Зои и слышала ее веселый голос:
– Вставай. Гулять пора.
Спорить или просить подождать бесполезно. Зоя все равно не уйдет, а будет стоять и повторять одно и то же:
– Гулять пора. Гулять пора. Гулять пора.
Нина поднималась с постели, бежала в душ, одевалась, наскоро закалывала волосы.
– Пойдем, пойдем! – торопила Зоя. – Я тебя заждалась.
– Сначала нужно позавтракать.
– А я позавтракала.
– Вы не позавтракали. И Вадим скоро проснется. Ему перед работой поесть нужно.
– Он ушел, – хитрила Зоя. – Поел и ушел.
– Он спит. Пойдемте на кухню.
Хозяйка недовольно бурчала что-то себе под нос, но слушалась. Они поднимались на кухню. Нина варила кашу, делала бутерброды. Не дожидаясь, пока появится муж, Зоя жадно набрасывалась на еду. Она еще помнила, как пользоваться ложкой, но что делать с ножом, забыла.
– Кусочек поменьше, – кивала на хлебницу. – И белым намажь.
Нина отрезала небольшой кусок хлеба, мазала его маслом.
– И этот вот сверху, – Зоя показывала на сыр. – Побольше кусочек.
Вадим, старый и помятый после ночи, не смотрел на них и не разговаривал. Завтрак заканчивался в ледяном молчании, которое Зоя не то чтобы помнила по прежней их жизни (она ничего не помнила), но страх, впитанный ею за всю эту жизнь, страх его ледяного молчания не смогла победить даже болезнь, и теперь этот страх, ежедневно возвращаясь по утрам, вызывал сильную дрожь ее пальцев и те непроизвольные подергивания левой щеки, которые врачи, ничего не зная о Зоиной жизни, относили к симптомам Паркинсона.
– Гулять пора, – говорила она.
– Дождь, – отрывисто произносил хозяин. – Вы обе промокнете.
– Какой еще дождь? – удивлялась Зоя. – Пора погулять.
Нина торопливо убирала со стола, набрасывала куртку, хотя было уже тепло почти по-летнему, надевала плащ на Зою. Они выходили на улицу, на пахнущий нежной травой мокрый воздух.
– Давайте споем, – предлагала Нина.
Зоя, которая, как утверждал Вадим, никогда раньше не пела, за последние две недели пристрастилась к пению.
– Какую? – спрашивала Нина, зная, что Зоя все равно ничего не вспомнит.
– Какую хочешь, – хитрила Зоя.
– То-о не ветер ве-е-етку клонит, не-е дубра-а-авушка шумит, – мягким своим, грудным голосом начинала Нина, стесняясь петь громко и оглядываясь по сторонам.
– Не дубра-а-авушка шумит! – подхватывала Зоя.
– То-о мое, мое сердечко стонет, – еще тише продолжала Нина.
– То мое, мое сердечко сто-о-онет! – надрывалась хозяйка.
Не переставая петь и переходя от одной песни к другой, они сначала описывали круги вокруг дома, потом пересекали улицу и углублялись в небольшой перелесок, отделявший каменные особнячки от здания школы. Деревья светло зеленели листвой, такой молодой и прозрачной, что при виде их прозрачной, совсем еще неопытной жизни бывалому человеку хотелось плакать. Через час Нина выдыхалась. Пора идти домой. Вызывать Колю по скайпу. Ой, Коля-я-я-я! Ой, Коля-я-я…
Она замечала, что он каждый раз готовится к разговорам. Поначалу это радовало ее, потом начало беспокоить. А вдруг он скрывает от нее что-то? Зачем так стараться? Надевать чистую рубашку и бриться до того, что кожа возле носа стала малиновой?
– Ну, здравствуй, хорошая моя, – говорил он неторопливо. – Как ты там?
– Я нормально, – отвечала она. – Справляюсь. Зарабатываю. Через неделю переведу тебе семьсот долларов.
У него влажно вспыхивали глаза.
– Семьсот? Это ладно.
– Ты только сразу отдай их за телевизор. Соловейко отдай триста и Якимчуку четыреста. Тогда мы будем в расчете.
– Хлопцы мои сотню просили.
– Конечно! – Она вся краснела. – А как же? И хлопцам отдай.
Нужно было попросить его позвонить дочке, которой совсем скоро рожать, и ей тоже что-то подкинуть, но тогда ничего не останется. Дочке нужна кроватка для ребенка, нужна коляска, много чего нужно. Время, однако, еще есть, подождет. Главное: долги. Коля к тому же не слишком жаловал Нинину дочку, считал ее избалованной и эгоистичной.
– Да за такую мамку, как ты, – говорил он еще в самом начале их совместной жизни, – за такую мамку, знаешь? На смерть пойдешь, если нужно. А ты у нее «спасиба» не допросишься.
(Теперь, когда они и видятся только по скайпу, не нужно о дочке. Только раздражать. Сама ей потом переведу сотни две, заработаю и переведу.)
– Придвинься, – шутил он. – Придвинься, родная. Дай мне хоть пощупать тебя. О-о-от так! Хорошо!
И прижимал руки к ее груди на экране. И опять она не знала, что думать. Раз так шутит, значит, ему невмоготу. Без женщины невмоготу или без нее?
– Соскучился? – всхлипывала она.
– А то! – говорил он спокойно.
В этот день Зоя жаловалась на рези в желудке, ничего не ела и ушла спать в шесть часов вечера. За окнами зарядил дождь, смывая все краски: зеленые – с травы и листьев, пунцовые и белые – с пушистых цветов на магнолиях.
– Вы, Нина, не верьте нашей весне, – раздраженно сказал Вадим, вытирая рот салфеткой. Они заканчивали обед. – Сегодня тепло, деревья распустились, а завтра, может, снег пойдет. Все померзнет.
Она промолчала.
– Как в жизни, – вздохнул он. – Точно как в жизни. В моей, во всяком случае.
– Да в любой, – прошептала она.
– Я хотел поговорить с вами, – он нерешительно пошевелил пальцами в воздухе, словно стряхивая с них невидимую воду. Она знала эту его привычку. – Вот о чем поговорить. Поговорить о том…
Нина напряглась так сильно, что заныли виски.
– Хотите остаться в Америке?
– Насовсем?
– Ну, да. Насовсем.
– Хотела бы, – просто ответила она. – Конечно, хотела бы. Мы там не проживем. Ни денег, ни работы. У меня-то еще ладно. Все-таки профессия есть. А у мужа совсем ничего.
– Так он вам все-таки муж?
– Мы не записаны.
– Да не важно! – усмехнулся он. – Я думал, может, вы хотите здесь замуж выйти? Чтобы статус получить.
– А вам что за дело? – с неожиданной для себя резкостью спросила она и тут же смутилась, до слез покраснела.
Он не удивился.
– Ваша виза через два месяца закончится. Вы уедете обратно, а мне нужно будет опять кого-то искать. Зоя к вам привыкла. Она вас даже любит.
– Она никого не любит. Вы же знаете.
– Тем хуже. – Он сморщился. – Тем хуже. Но как бы то ни было, я бы вас потерять не хотел.
– Мне в церкви сказали, – пробормотала она, – мне одна женщина там сказала, что у нее племянница тоже так приехала… И тоже из наших мест… Хотела остаться, чтобы потом всю семью вытащить. И не смогла. Денег не смогла таких заработать, чтобы заплатить. За такое замужество, не настоящее, очень много нужно заплатить. И потом еще юристу…
– У меня есть один знакомый… – Вадим нерешительно пожал плечами. – Неудачник. Пьющий. Юра Лопухин. Некоторые считают, что он гениальный художник.
– И не женат? – спросила она и поняла, что нельзя было задавать этот вопрос: саму себя выдала.
Вадим едко посмотрел на нее:
– Был женат на американке, она его сюда и привезла из Москвы. Потом они развелись. Он пил. Но поначалу его работы покупали даже музеи. Хорошие музеи. И частные коллекционеры покупали. Я не очень разбираюсь в живописи, честно вам говорю, но мне нравится то, что он делает. Вернее, делал. Потому что он уже год не работает.
– Пьет?
– И пьет тоже. Но не в этом дело. Не только в этом. У него гангрена правой кисти. Вы ведь знаете, что это такое.
– Я знаю, сталкивалась.
– Ему предлагают ампутацию. Но он не хочет. Не дает руку отрезать. Ни в какую. Попадает в больницу каждые два-три месяца, там его накачивают антибиотиками, отпускают. Возвращается домой, пьет. Совершенно один. Никого у него нет.
– А жена? Она не помогает?
– Они давно расстались. Грязь в доме такая, что нельзя войти, запах жуткий. Но художник он хороший. И человек, кажется, неплохой. Хотя очень странный.
– А я ему зачем? Вы к чему ведете?
– К тому, что… – Вадим замялся. – Ну, мне пришло в голову, что, может быть, Лопухина попросить на вас жениться? Тогда у вас появится право на проживание здесь, право на работу, медицинская страховка.
Нина положила ладонь на горло, которое вдруг горячо запульсировало.
– Что, он вот просто так: возьмет и женится на мне? Без всяких денег?
– Он очень одинок. Инвалид. Была одно время какая-то баба, но она не вылезала из казино. Проиграла все свои деньги, дочкины деньги, все, что мать оставила после смерти, дом продала. И тоже проиграла. Иногда, говорят, даже ночевала в машине.
– Русская?
– Полька. Он говорил, что красивая. Но тоже, кажется, совсем больная, это еще хуже алкоголизма. Он ее просто приютил. Никаких романтических отношений там не было. Вот я и подумал, что он все-таки добрый человек, не похож на остальных.
Дождь, наконец, утих. Воздух, пропитанный терпкой синевой вечера, хотелось глотать, пить, захлебываться им. Нина ходила и ходила по тому же маршруту, по которому утром они гуляли с Зоей. Что делать? Сказать Вадиму, что она согласна? Пусть он поговорит с этим художником. Однако с чего он взял, что тот вообще захочет жениться? В церкви одна женщина объяснила, что фиктивный брак – это уголовное преступление, и если поймают, тут же выкинут из страны. Хорошо бы еще в тюрьму не попасть! Но как можно доказать, что брак – фиктивный? Сегодня фиктивный, а завтра настоящий, свечку-то никто не держал. Голова шла кругом. Больше всего ей хотелось прижаться сейчас к Коле, и пусть он разденет ее, пусть уложит. Раздвинет ей ноги. И свет погасить. Тогда и уйдут эти страшные мысли. Коля часто называл ее овцой. Правильно называл. Таким, как она, нужно дома сидеть. Она посмотрела на часы. Поздно его вызванивать, спит давно. Но если не поговорить сейчас, не признаться, покоя не будет. Как он скажет, так и надо поступить. В глубине души Нина не сомневалась, что Коля поднимет ее на смех, а может, и обидится. Замуж, идиотка, собралась!
На компьютерном экране его лицо было хмурым, заспанным, немного отекшим. Не дай Бог, пил.
– Разбудила я тебя?
– Так два часа ночи. Конечно, разбудила. Мне в полшестого корову доить. Ай забыла?
– Ничего я не забыла! – жарко прошептала она и почти коснулась губами его лба. – Я здесь не живу, срок отбываю. Какая без тебя жизнь?
– Короче, Нинок. – Он зевнул. Знакомо, протяжно. – Что там у тебя?
Она вдохнула полную грудь воздуха.
– Коля, ты как посмотришь, если я не по-настоящему здесь замуж выйду?
Глаза его вспыхнули.
– А что, есть такой вариант? – спросил он отрывисто.
– Пока еще нет. Но хозяин говорит, что может спросить тут одного… Не женатый, болеет.
– За деньги?
– Хозяин говорит, что, может, и так. Не за деньги. Погасли зрачки:
– Кому ж это надо без денег!
– Коля, если за деньги, я не вытяну. Откуда мы возьмем такие деньги? Пятнадцать тысяч долларов. Я в жизни не заработаю.
Он взъерошил волосы обеими руками.
– Нинок, ты сама решай. Меня не спрашивай. У меня тут свои дела, ты знаешь. Корову подоить, свиней накормить. Лето придет – за огородом присматривать. Скоро буду как баба.
И сам засмеялся, как будто от боли.
– Не сомневайся во мне! – прошептала она и не выдержала, всхлипнула. – Я сильная.
– А я в тебе не сомневаюсь, – сказал он. – Знаю, что сильная.
Сон был страшным до обморока. Один из тех снов, которые не забываются даже после смерти. Нина возвращается обратно домой с пустыми руками. Спрыгивает с автобусной ступеньки в пыль, густую, горячую. Дышать ей становится нечем. Воздух черен от слепней, и кусты сирени, посаженные вдоль дороги, кажутся седыми от жары.
– Г-о-осподи! – кричит она, но звук останавливается, пыль в горле не выпускает его. – Да как же я так?
Рядом содрогается автобус.
– А Коля-то где? Что не встретил?
Она догадывается, что Коля будет очень сердит за то, что она ничего не заработала, но он ведь думает, что это так легко: привезти из Америки мешок с деньгами, а это трудно, очень трудно, ведь заработать хочется всем, а платить не желает никто, а уж как она старалась, пока была жива Зоя, из сил выбивалась, но Зою куда-то свезли, а может, сама померла, и нету работы, ну, нету ее!
– Воды бы попить. Колодец тут был. Где колодец?
Нина снимает туфли, которые до боли натерли ноги, и, увязая в горячей пыли, торопится к дому. Там Коля. Она чувствует, что Коля бросил ее, уехал к Ядвиге, и острая ревность впивается в ребра.
– Меня к евреям отправил деньгу заколачивать, а сам туда. Вот я покажу…
Из седого куста сирени выходит маленькая женщина, которую Нина раньше никогда не видела в поселке.
– Мамлюка! – говорит женщина. – Я Мамлюка. Нина не удивляется: Мамлюка так Мамлюка.
– А Колю хоронят. Ты к Коле приехала?
Нина оседает в пыль, зажав рукой левую грудь, и видит на своей ладони красную ягодную мякоть, которая медленно течет соком сквозь слабые белые пальцы, как будто сквозь марлю.
– Все сердце себе извозила, – смеется Мамлюка. – Иди, вон несут…
Но Нина не может подняться.
– Иди, вон Ядвига! А вон его хлопцы. Иди! Без тебя ведь зароют.
Незнакомые люди проносят мимо Колю в красивом гробу. Лицо его в ярких бумажных цветах. Глаза приоткрыты.
Он жив! – понимает она. Они так с Ядвигой придумали! Пока меня нет, обмануть. Сказать, что, мол, умер. И бабу ко мне подослали чужую!
Проснувшись, она не сразу открыла глаза, хотя яркий свет лег на все ее лицо тяжелой золотой ладонью и смял ей ресницы.
– Домой пора ехать! – решила она. – И денег не нужно. К нему пора ехать.
Зоя торопила гулять, уже стояла в дверях, высокая, полная, седая, в коротких оранжевых шортах.
– Что спишь да все спишь? – удивлялась она. – Что спишь да все спишь?
– Я договорился с Юрой Лопухиным, – безразлично заметил за завтраком Левин, глядя в «Нью-Йорк тайме». – Он приедет часам к пяти.
В апреле Лопухину исполнилось пятьдесят два года. Шесть лет назад в галерее на Ходынке он познакомился с Иветт. Она тоже считала себя художницей, хотя занималась в основном фотографией. Он знал не больше двадцати английских слов, Иветт объяснялась с помощью разговорника. Через три месяца они поженились. С ее стороны это был экстравагантный и необдуманный поступок, но вся Иветт была экстравагантной и необдуманной. На московском морозе, когда он первый раз поцеловал ее, губы ее были холодными и сладковато-кислыми, как тугие дольки мандарина.
В Нью-Йорке она снимала крошечную студию, и там, сразу после приезда, он написал ее портрет: обнаженная женщина выходит из очищенного мандарина. Портрет был лубочным, красивым. Иветт связалась с одним из нью-йоркских дилеров, и тот купил его за полторы тысячи долларов.
– Теперь ты будешь содержать меня, – сказала жена. – Этот парень знает толк.
– Хорошо, – ответил он.
Ничего хорошего, однако, не последовало. Они возненавидели друг друга с той же внезапною яростью, с которой только что соединялись телами по ночам. Любовь их устала и забилась в угол, а ненависть оказалась неутомимой. В конце концов, он не выдержал.
Деньги, полученные за проданные работы, поделили пополам, и Лопухин переехал в Бостон, где с конца девяностых расписывал витрины его друг по Суриковскому училищу. Нужно было пробиваться в одиночку. Снял комнату в квартире, где, кроме него, жили трое студентов: один филиппинец и два американца. Английский впитался быстро, как вода в песок. Он много работал. Нью-йоркский дилер, который знал толк, продал еще два холста: портрет старика в частную коллекцию русской живописи и зимний пейзаж профессору Гарвардского университета. На этом холсте пригнувшиеся от метели липы Гоголевского бульвара боролись с тоской. Она не пускала. Он тоже был деревом, он тоже боролся. Тоска становилась сильней с каждым днем. Потом с каждым часом. Он начал глушить ее водкой. Слегка отпустило, но руки дрожали. Особенно утром. Писать не хотелось. Он принялся было за графику, но это не шло: он был слабым графиком. Деньги подходили к концу. Лето истекало душистым потом и мстило земле за ее равнодушие. Люди прятались в домах с кондиционерами и выходили на улицу только под вечер, когда желтое, как лимон, солнце поспешно гасло, и тьма опускалась на грешные головы.
…он помнил, что было уже темно, и очень хотелось есть, но лень было тащиться в магазин. Он заказал пиццу по телефону. Через пятнадцать минут в дверь постучали, звонок у него давно не работал. Он отворил и увидел, что на пороге, прижимая к себе дрожащую болонку, стоит очень красивая, вызывающе красивая, но не молодая женщина. Серые глаза ее были горькими и одновременно беспомощно-блаженными. Он был слегка пьян и спросил, усмехнувшись:
– А пицца-то где? Я болонок не ем.
Тогда она заплакала.
– Меня только что бросил мужчина. – У нее был сильный акцент, низкий и влажный голос. – Я жить не хочу.
Ему всегда казалось, что это Агнесса принесла ему несчастье: гангрену руки. Насколько правдивой была Иветт, настолько лживой и скрытной была Агнесса. Существовал ли на самом деле тот мужчина, который бросил ее, или она придумала его, пока стучала в дверь? Правда ли, что ее выкинули из квартиры и кто-то грозил ее зарезать? Лопухин не стал допытываться. Он пожалел и ее, и болонку, старое, несчастное существо с розовым полысевшим личиком. Деваться им было некуда. Они прожили у него пару недель, потом Агнесса исчезла. Утром Лопухин проснулся от того, что болонка плакала и скулила на коврике возле его кровати. Он почувствовал, что отвечает за эту маленькую жизнь, которой осталось на донышке: у болонки слезились глаза, дрожали лапки, походка была неуверенной. Он положил подушку на продавленное кресло, соорудив ей постель, кормил старушонку вареной курицей и водил ее гулять на красном ремешке, оставшемся от прежней хозяйки. Через месяц Агнесса вернулась без копейки денег, такая же красивая и измученная.
– Ты где была? – равнодушно спросил он.
– Играла в казино, – так же равнодушно, погасшим голосом, ответила она. – Я все проиграла.
Жара внезапно кончилась, и пришла холодная, с порывистым ветром, осень. Вытаскивая из окна кондиционер, Лопухин пропорол палец гвоздем. Агнесса сама промыла рану, сама забинтовала. Через несколько дней палец почернел и потерял чувствительность. Он пошел в больницу, где сказали, что началась гангрена, потому что у него диабет, и в руках давно нарушено кровообращение. Палец уже не спасти, его нужно ампутировать. Все внутри Лопухина взбунтовалось. Большой палец правой руки был нужен ему для работы. Доктор, который настаивал на ампутации, стал его личным врагом. За несколько дней Лопухин написал небольшой холст «Демоны и художник». Демоны были черными, фиолетовыми и красными. Они окружали художника с отрезанной по локоть правой рукой. Художник лежал на перине, похожей на разорванное облако, худой и тщедушный. Наверное, пьяный, судя по тому, как безвольно свисала с перины его голова на длинной морщинистой шее. Лопухину казалось, что лучше этого он никогда ничего не писал, однако Агнесса заявила, что холст неудачен, потому что Лопухин плохо чувствует композицию. Он в ярости замахнулся на нее бутылкой, Агнесса успела отскочить, они поругались, и вскоре она опять исчезла. Он остался один с болонкой. Чернота на большом пальце поднялась выше, достигла запястья. Доктор несколько раз предупреждал его, что может начаться общее заражение крови, от которого Лопухин, скорее всего, погибнет. Теперь разговор шел не об одном пальце, а о целой кисти. Лопухин не соглашался на ампутацию, но ежедневно приходил в больницу на перевязку. Когда медсестра разматывала бинты, в комнате поднималось зловоние: рука его быстро сгнивала.
Вадим Левин был знакомым того самого приятеля по Суриковскому училищу, который расписывал витрины. В прошлом году, еще до того, как появились Агнесса с болонкой, приятель привел к Лопухину Левина и еще двоих, которые интересовались живописью. Из разговора с ними Лопухин извлек две вещи: гости ничего не смыслили в искусстве, но были порядочными и неглупыми людьми. Говорить с ними было непросто, поскольку, как все неглупые люди, они не представляли себе, что можно интересоваться живописью и ничего в ней не смыслить. Внимательно рассматривая работы, они делали свои замечания. Лопухин чувствовал, что если опять кто-то скажет, что он плохо справляется с композицией или что-нибудь в этом роде, он не сумеет сдержаться: благо на полу валялось много пустых бутылок. Но визитеры были вежливы, может быть, им не так часто приходилось сталкиваться с живыми художниками, и они не сказали ничего, что могло бы его обидеть. Левин спросил, сколько стоит картина, на которой был тот же Гоголевский бульвар, только не в зимнюю стужу, а летом, когда листва горела на закатном солнце, и детская песочница напоминала только что вылупившегося цыпленка.
– Поднимает настроение, – задумчиво сказал Левин. – Я бы у себя в кабинете повесил.
Лопухин чуть не взорвался, чуть не сказал, что настроение лучше всего поднимает рюмка водки и хорошая любовница. Но промолчал. Картину отдал за восемьсот долларов. Левин тут же выписал чек.
Со дня их знакомства прошло полгода. Теперь Лопухин уже не мог работать: правая рука его, обмотанная несколькими слоями бинтов, стала отдельным существом, которое всем остальным казалось мертвым и вызывало у них отвращение своим трупным запахом, и только он один не мог предать это существо, не давал похоронить его, а всюду таскал с собой.
– На что ты надеешься? – выпытывал сосед-филиппинец, юркий и любопытный. – Ведь это уже не рука.
Пару раз в неделю он ездил на рынок на велосипеде – машины у филиппинца не было, – привозил корзину уродливых китайских кореньев и волосатых овощей, варил Лопухину острый, ярко-оранжевый суп.
– Ешь. Только этот суп поддерживает в тебе жизнь, – настаивал он. – Я знаю, что говорю.
Лопухин, покрякивая, ел суп и отмалчивался. Потом расставлял вдоль грязных стен все то, что еще недавно было сделано этой рукой, и острое торжествующее наслаждение переполняло его. Оно было такой силы, что, если бы ему предложили на выбор: никогда больше не испытать этого наслаждения и жить, как другие, или испытать его еще пару раз, а потом умереть, Лопухин выбрал бы второе.
В конце весны болонку разбил паралич. Агнесса как раз вернулась после очередного проигрыша и утром обнаружила на кресле подергивающееся кудрявое тельце с заплаканными глазами. Вдвоем они отвезли болонку в ветеринарную лечебницу. Агнесса вела машину, а Лопухин держал умирающую. У болонки были огненно-горячие потертые красные подмышки, она слегка пахла сладковатыми духами Агнессы. В лечебнице сделали укол, и болонка заснула. Во сне у нее остановилось сердце. Лопухин напился так, что захрапел прямо на полу. Агнесса заметила, что он прижимает к себе правую забинтованную руку и левой слегка поглаживает ее так же, как недавно поглаживал собаку.
Левин не стал вдаваться в подробности, почему именно к нему он обратился с просьбой жениться на домработнице, медсестре из украинского городка. Сказал только, что если эта медсестра должна будет уехать обратно, его положение станет отчаянным: жена очень сильно больна. Лопухину даже и не пришло в голову, что фиктивными браками торгуют так же, как квартирами и машинами. В его голове выросла другая картина: Левин познакомит его с женщиной, которая поможет вылечить гангрену. Она медсестра. Трудно сказать, почему он возложил такую надежду на обыкновенную медсестру, которой к тому же ни разу не видел, но у людей, подобных Лопухину, отсутствует то, что называется здравым смыслом. Поэтому жизнь их, обычно недолгая, всегда изобилует странными встречами и дикими мыслями. Бывают, однако, и яркие вспышки: любви, например, или, скажем, таланта.
Он ехал знакомиться с ней на трамвае после очередной перевязки. Запаха своей руки он и так никогда не чувствовал, а сейчас, когда она сияла свежими, как ландыш, бинтами, никакого запаха и не было. Никто не пересаживался подальше от него, а многие вежливо улыбались.
Домработница Левина ему понравилась. Особенно приятным и неожиданным оказалось то, что, увидев его, она ярко покраснела и сморгнула выступившие от смущения слезы. Сели пить чай. Левин был на работе, но Зоя, обветренная от прогулок, сидела с ними за столом. Она помешивала варенье в розетке и за весь вечер не произнесла ни слова. Лицо ее было застывшим, как маска.
– Мне нравится, когда люди умеют рисовать, – негромко сказала Нина. – У нас соседка еще девочкой так хорошо рисовала, прелесть. Потом в Киев переехала.
– И стала художницей?
– Ой, что вы! Какая же это профессия? Нет, она теперь духи продает, у нее своя компания, маленькая, правда.
В ней было что-то домашнее, уютное, располагающее к тишине и доверчивости. Лопухин смотрел, как она нарезает пирог, только что вынутый из духовки, и любовался сосредоточенностью ее лица, светлыми негустыми волосами, которые она сдувала со щеки, чтобы они не мешали ей, длинной бровью с маленькой, как зернышко гречихи, родинкой. Он даже не мог сказать, так ли уж красива эта украинская медсестра. Но внешность ее не зависела ни от косметики, ни от прически. Цепкий глаз живописца подсказывал ему, что и измученной, и заспанной, без всякой помады и пудры, она не утратит своей привлекательности. Нина аккуратно положила на его тарелку кусок горячего пирога с капустой и сверху помазала корочку маслом.
– Так будет вкуснее, – сказала она, и Лопухин поймал ее теплое дыхание на своем лице.
Он вдруг успокоился. Опять пришло лето. Опять наступил этот зной, этот блеск. Он может сидеть здесь и пить с нею чай. И есть этот сытный капустный пирог. Она будет рядом. Она не уедет. И он будет чувствовать это дыхание.
– У вас там семья, в Украине?
Она покраснела до слез:
– Я не замужем. Давно развелась. Но дочь у меня. Ей вот скоро рожать. Живет с одним парнем. Они не расписаны.
– Что ж так?
– Жизнь такая. – Она серьезно и открыто посмотрела на него. – Никто ни за что отвечать не хочет. А семья – это большая ответственность. Может, он работу найдет где-нибудь. Даже, может, и за границей. А куда же он их тогда денет? Дочку мою с ребенком?
– А вы почему с мужем развелись?
– Я с мужем? Так пил очень сильно.
– И я сильно пью, – сказал Лопухин.
– Вадим мне сказал, – прошептала она. – Вы лучше бы бросили. Гангрена у вас…
Она опустила глаза.
– И что? Ну, гангрена… – сказал Лопухин. – Бывает такое… Не вешаться, правда?
Он положил забинтованную руку почти вплотную к ее мягкой, аккуратной руке. Она не пошевелилась.
– Наверное, вам это все ни к чему, – пробормотала она и подняла мокрые от слез глаза. – Такое одолжение чужому человеку. Но я бы могла скопить немного денег и заплатить, если вы согласны…
– Согласен жениться? – спросил он тревожно.
– Ну, да. Я тогда бы осталась…
И вдруг что-то радостное, сильное, молодое вспыхнуло в нем. Что-то, похожее на щенячий восторг, который он всегда испытывал, когда доставал свои холсты, прислонял их к стенам и подолгу смотрел на них. Нина сказала, что уедет она или останется, зависит от него. Главное, что она останется. А потом… Кто знает, что будет потом? Главное: спасти руку и опять работать. Помочь этой женщине. Он чувствовал, как нервный дрожащий огонь поднимается по позвоночнику и печет затылок. Ему стало весело и хорошо.
– С ума вы сошли, – сказал он негромко. – Какие там деньги?
– Познакомились? – бодро спросил Коля. – Жених согласен?
Он говорил так, как если бы все было решено.
– Согласен, – ответила Нина. – А может, не будем?
Глаза его стали сухими и узкими.
– Как знаешь. Долги-то ведь сами собой не заплатятся.
– Он странный, – шепнула она. – А ну как он влюбится?
– Приеду и морду набью, – весело сказал Коля, и глаза выкатились наружу, разбухли. – Давай решать проблемы по мере поступления.
– Хорошо! – согласилась она. – Раз ты говоришь, что так надо, я сделаю. Но только тогда приезжай. Соскучилась, сил моих нет.
– А это хорошая мысль, – и Коля кивнул. – Ты с ним распишись, как у вас там положено. Бумажки подай на зеленую карточку. Найди мне дешевый билет, я приеду.
Теперь они оба жили как в чаду. Лопухин: оттого, что вся жизнь его изменилась. Он приходил к Левину каждый день, обедал с ней вместе, пил чай, разговаривал. Вечером она делала ему перевязку, и он уезжал домой, в уже накалившуюся от солнца квартиру, где на подоконнике так и лежал красный лакированный поводок умершей болонки. А Нина вся переливалась от счастья. Левин дал взаймы полторы тысячи долларов, и она купила билет для Коли. Коля прилетит через месяц. И будет с ней тут две недели. Она не ходила по земле, она летала. Зоя, с ее неподвижным лицом и тонкой полоской слюны в углу рта, казалась ей лучшей подругой.
В воскресенье Нина взяла Лопухина в церковь. Седьмое июля, праздник Иоанна Предтечи. Он долго отнекивался.
– Да я, может, в Бога не верю.
– Ну, что ж, что не веришь? Вот ты говоришь, что не веришь, а сам Его чувствуешь.
– Откуда ты знаешь, что я Его чувствую?
– Мне кажется так.
– Наверное, да. – Он внезапно смутился. – Но только не в церкви.
– А что тебе в церкви мешает? И там тоже люди. Они вот приходят и просят. У всех свое горе. Счастливых-то мало.
Лопухин согласился по одной причине: побыть рядом с нею. Вдвоем побыть, вместе.
«Ведь мне ничего от нее не нужно, – думал он. – Какой из меня муж? Да и ей ничего не нужно, лишь бы остаться здесь и вытащить дочку с ребенком. Наша судьба не в том, чтобы спать в одной кровати, – тут что-то сжималось в груди. – А в том, чтобы помочь друг другу по-человечески».
В церкви было душно, пахло растопленным воском. Нина, нарядная, в белом платье и пестрой косынке на голове, сразу же устремилась вперед, поближе к алтарю. Лопухин остался в притворе. Церковь была маленькой, построена давно, во времена, когда еще не было в здешних краях такого скопления православных людей. Началась служба. У Лопухина закружилась голова – наверное, от духоты, от этого сухого палящего зноя, который постепенно овладел всей землей и жег на ней все: каждый лист, каждый камень.
– Господу помолимся! – запели на хорах.
Он попробовал вслушаться в то, что пели, но слова молитвы сливались в один протяжный и торжествующий, переходящий от самого высокого до самого низкого регистра звук, в котором угадывались не только голоса поющих, но все еле слышные вздохи, шуршанья одежды и даже совсем уже тихое потрескиванье темно-желтых свечей.
Левой здоровой рукой Лопухин расстегнул воротник рубашки и протиснулся на крыльцо. Но и там толпился народ, громко плакал ребенок на руках у матери, пухлой ладонью отталкивая от себя потное материнское лицо. Тогда он отошел в тень, сел под деревом. Через полтора часа Нина, разрумяненная и похорошевшая, подбежала, размахивая сумочкой.
– А я подумала, ты утек от меня! – радостно воскликнула она. – Небось, голова заболела?
Поехали обратно на старой дребезжащей машине Лопухина через зелень и полуденный свет.
– Какой день сегодня хороший! – тем же радостным голосом продолжала Нина. – А пели как славно!
– Ты мне расскажи в двух словах, что за праздник такой. А то я одно только слышал, что Иоанн Креститель жил в пустыне, ходил в шкуре верблюда и ел дикий мед и кузнечиков. Акриды – ведь это кузнечики?
Она всплеснула руками, вспыхнула, повернула к нему рассерженное, но все еще сияющее лицо:
– Ах, глупость какая! Кто будет кузнечиков есть!
– В Голливуде, говорят, очень любят. Актриса-то эта… Как ее? Анджелина Джоли. Ест кузнечиков.
– Да перестань! – тихо, с досадой, перебила она. – Какой Голливуд? Тут чудо чудесное!
– Ну, расскажи, – усмехнулся Лопухин, с тоской подумав, что, не будь гангрены, он бы написал ее портрет. Косынку вот эту в лиловый цветочек, и ярко горящее ухо, и прядь, которая выбилась из-под косынки.
Она недоверчиво посмотрела на него: не шутит ли? Но он не шутил.
– Иоанн Креститель, – вздохнув, негромко начала она, – родился за полгода до Иисуса. Его отец был священником. Но он был уже стариком, и его жена, Елизавета, была тоже старой. Отцу было знаменье, что жена забеременеет, а он не поверил, и за это Бог сделал его немым на несколько месяцев. Он начал опять говорить, только когда уже родился сын.
– Старик – это, наверное, такой, как я? Лет пятидесяти с небольшим?
– Тогда долго жили. Какой ты старик? Вскоре после того, как Иоанн родился, отца убили, потому что царь Ирод хотел перебить всех младенцев…
– Ну, это известные вещи…
– Царские слуги искали младенца Иоанна, а отец не сказал им, что Елизавета спряталась с ребенком в пещере. И его убили.
– Про пещеру я тоже кое-что знаю. Из живописи, правда.
Она не обратила внимания на то, что он сказал.
– Елизавету преследовали, но она добежала до горы, которая расступилась и приняла ее с ребенком. Так она его спасла от убиения.
– Убиения?
– Ну да: убиения, смерти. Ты слова такого не слышал?
Лопухина все больше и больше поражало ее наивное и одновременно упрямое желание досказать то, что было так дорого ей, хотя не имело к ее собственной судьбе, наполненной заботами о грубом и ежедневном выживании, никакого отношения. Она и раньше нравилась ему своей застенчивой уютностью и простотой, но теперь, глядя на эти светло блестевшие глаза, на яркую краску, которая расползлась по всему лицу, захватила шею и начало полной груди, спрятанной под белым платьем, он чувствовал, что начинает сильно, по-детски волноваться, как никогда не волновался от присутствия женщин, вызывавших в нем либо грустное раздражение влюбленности, либо бесстыдное плотское желание.
– Когда Иоанну Крестителю отсекли голову, – донесся до Лопухина ее голос, – жена Ирода взяла эту голову себе и всячески измывалась над ней, она ему мстила за то, что он вывел ее на чистую воду. Она была большой грешницей и жила с братом своего мужа. Но одна женщина, служанка, кажется, – Нина на секунду запнулась. – Да, кажется, служанка, выкрала голову и похоронила ее. А его правая десница, та, которую он положил на голову Иисуса, когда крестил Его, тоже была отсечена. И стала святыней. Ее даже иногда возят в разные места. В Россию привозили. Паломничество целое было. Она где-то сейчас в Черногории. Хранится в золотом ковчеге. Так батюшка рассказывал. Не здешний священник, а дома, у нас.
– Руку возят? – встрепенулся Лопухин.
– А что ж тут такого? – спокойно ответила она. – Это же не твоя рука и не моя. Это святая десница.
– Но выглядит просто рукой?
– Рукой без двух пальцев. Мизинца и безымянного. Их тоже отсекли. Но они существуют. Батюшка говорил, что мизинец в Турции где-то, в монастыре, а безымянный палец, я не очень помню… В Италии, кажется.
– Я никогда не понимал, – осторожно, чтобы не обидеть ее, пробормотал Лопухин, – зачем это нужно: канонизировать покойников. И все эти игры с их прахом, скелетами…
– Какие же игры? – воскликнула она. – Да что ты такое сказал! Если человек жил честно и умер за веру, и если его мучили за то, что он верил, так как же может быть, что во плоти его не сохранилось всего этого? Благодати этой? Если во плоти жила его святая душа? Конечно, Господь освятил своей благодатью любой волосок, а не только что руку! Что же, по-твоему, ни мучеников не было, ни святых? Что ты такое сказал!
Нина чуть не плакала, кусала губы, и, в конце концов, отвернулась, прижалась лбом к закрытому окну. Лопухину стало стыдно, словно он действительно сделал что-то дурное. Она, с ее наивностью, упрямством и цельностью, стояла, как показалось ему сейчас, гораздо выше, чем те умные, образованные и снисходительно-ироничные во всем, что касается веры, люди, которых он знал. И то, что судьба сложилась так, что через несколько дней чужая женщина в белом праздничном платье, легко краснеющая от любого пустяка, доверчивая и одновременно твердая в своих убеждениях, станет его женой, пусть даже фиктивной, наполнило сердце нелепым восторгом. Теперь он был почему-то уверен, что как только брак будет заключен, все переменится. Да, они не будут жить под одной крышей, не будут спать в одной кровати, но разве в этом дело?
Если бы кто-то спросил его, а в чем тогда дело, Лопухин не стал бы даже и отвечать такому человеку. Слова очень мало что значили.
Рассказ Нины про десницу Иоанна Крестителя не оставлял его. Он долго не мог понять, почему. Потом все же понял. Вышел на открытую запущенную террасу, где жильцы хранили ржавые велосипеды, дырявые теннисные ракетки и прочую рухлядь, сел на рыжий от ветхости диван, переживший на этой террасе десятки холодных зим и дождливых весен, вытянул перед собой забинтованную руку. Ясный луч солнца упал прямо на нее, и рука, увеличенная многослойными бинтами, желтовато-оранжевая от льющегося с неба огня, показалась ему мертвой застывшей птицей со свернутой набок головой.
– Отпилят и выбросят в помойное ведро, – с отвращением пробормотал он. – А это не просто рука. В ней я, в ней работы мои. Так нельзя.
Через три дня нужно было идти к доктору, показывать рану. Он знал, что за прошедшие две недели ничего не только не улучшилось, но стало намного хуже, потому что из раны сочился серый гной, и даже Нина, старающаяся, чтобы он не заметил, насколько непросто даются ей эти перевязки, слегка отворачивалась, когда разбинтовывала руку. Несколько раз она осторожно намекала ему, что лучше бы все-таки решиться на операцию, потому что, чем дольше тянуть, тем больше вероятность полной ампутации, до плеча, а возможно, даже и общего заражения крови, от которого девяносто процентов людей отправляются на тот свет, но Лопухин мрачнел и не отвечал. Никто не смел давить на него, никто не смел советовать, что ему делать с собственной правой десницей, на счету у которой столько замечательных полотен. Пока он живет, и она будет жить. В кровавых бинтах и запекшем гное. Жить с ним в одном теле, с душой по соседству.
Брак их зарегистрировали очень быстро. Поехали с Зоей и Левиным в удаленный от столиц тихий деревенский штат Вермонт, и там, в мэрии, заполнили анкеты и там же через час расписались. Зоя стояла радостная, с огромным букетом белых роз, с бриллиантовыми серьгами в ушах. Она забыла, зачем они так далеко ехали, но когда процедура была закончена и молодоженам пришлось поцеловаться, уронила букет и громко захлопала в ладоши.
– Ну, надо отметить, – сказал Левин. – Пойдем, посидим где-нибудь. Шампанского выпьем.
Зашли в небольшой ресторан на берегу горной реки, узкой, но мощной, каменистое дно которой сверкало светло-голубыми камнями. Зоя сразу решила, что они переехали на дачу, и во время обеда несколько раз порывалась спуститься вниз и проверить воду: не слишком ли холодно будет купаться. Нина неестественно улыбалась, разглядывала меню, в котором не понимала ни слова, мышцы лица ныли от напряжения. Ей хотелось побыть одной, взгляды Лопухина тяготили ее не меньше, чем лепет безумной Зои, которая вдруг стала очень разговорчивой, а красота гор, по которым бежали ярко-белые потоки и переливались от темно-лилового, бархатного, до светло-зеленого деревья и кустарники, раздражала, как что-то ненужное, словно навязанное.
Вернувшись домой и уложив усталую Зою, она бросилась к компьютеру. Там, дома, была ночь, но Коля не спал.
– Порядок? – спросил он с тревогой. – Женились?
– Женились, – убито сказала она. – В соседнем штате, в мэрии. Вот только вернулась.
– Ты что? Плачешь, что ли? Не плачь. Все в порядке.
– Какое в порядке?
Она чуть было не рассказала ему, что Лопухин становится все ласковее с ней, перестал пить, и ей тягостно, невыносимо, потому что он, больной, одинокий человек, привязался, начинает зависеть от нее, а уже никуда не денешься, брак зарегистрирован, и нужно прожить в этом браке три года, прежде чем получишь легальный статус, а Зоя с каждым днем глубже и глубже погружается в темноту, и муж ее хочет одно: отодвинуться от этой болезни, спихнуть Зою на кого-то другого, и, главное, страшно: вранье-то ведь может раскрыться, теперь, говорят, очень даже следят за этими браками. Они не живут одним домом, какая же это семья?
– Чего ты боишься, дуреха моя? – сказал он. – Приеду, обнимемся, враз все наладим.
Она как опомнилась. Ведь правда, он скоро приедет, у него и виза на руках, и билет есть, значит, ей еще потерпеть немного, и она почувствует родную, огненную тяжесть его тела, сильное, до боли, давление жесткой грудной клетки на свои ребра, и долго они, долго будут неспешно любить и ласкаться, стонать будут, плакать, и Коля оттянет назад ее волосы и взглянет в глаза ей своими глазами…
Ее обожгло.
– Ну, то-то! – сказал он, довольный. – А плачешь! Да мы с тобой горы свернем!
– А вдруг он помрет?
– Кто помрет?
– Юра, муж мой.
– Еще мне тут поговори! – Он оскалился. – Какой тебе муж! Муж тебе уже есть! – И хлопнул себя по груди. – Вот он, муж! А что это он вдруг помрет?
– Он болен. Гангрена. Я ведь говорила.
– Да как так: помрет? Там что, нету врачей? В Америке не помирают, я слышал.
Она заснула под утро и проснулась от страха. Небо было светло-розовым, только на горизонте тянулась мягкая серая полоса.
– Что с вами? – спросил ее Левин за завтраком. – Плохой сон приснился?
– Да, очень, – сказала она и замкнулась.
Сон был плохим, но дело было не только в самом сне, а в запахе, который преследовал ее всю ночь, и сейчас еще она не могла его забыть. Запах был, кстати, знакомым: так пахнет формалин. Во сне она ампутировала Колину руку. Рука была здоровой, сильной, поросшей редкими золотистыми волосками, и Нина не понимала, почему она согласилась, что руку нужно отрезать. Больница, в которой все это происходило, была незнакомой и находилась там, где вчера зарегистрировали ее брак с Лопухиным. Вокруг было много грохочущей горной воды, но только она была мутной и грязной.
– Да режь, не боись, – говорил Коля и сплевывал грубо в летящую воду. – Раз надо – так надо.
Замирая от того, что предстояло ей, Нина аккуратно положила крепкую Колину руку на белую тряпку и начала отсекать кожу, перерезать сухожилие, зная, что, как только она достигнет кости, придется пилить, и Коля не выдержит боли. Но он все шутил и плевался, стараясь попасть в середину реки.
– Тебе что, не больно? – не выдержала она.
– Ну, больно не больно, а надо терпеть. Болеть не бояться – волков не пасти.
Может быть, он сказал что-то другое, но, проснувшись, Нина вспомнила именно это: «Болеть не бояться – волков не пасти». Закончился сон как-то гадко: она вдруг почувствовала ненависть к этому здоровому, наглому мужику и тут догадалась, что это не Коля, а кто-то чужой, наверное, не человек, поэтому он и не чувствует боли, и, догадавшись, начала бить его, громко воя от отчаяния, стараясь дрожащим кулаком попасть ему прямо в лицо…
Вечером в воскресенье, вернувшись к себе домой, Лопухин увидел сидящую на ступеньке Агнессу. С тех пор как она в очередной раз исчезла, прошло месяца три.
– Ты не беспокойся, я ненадолго, – сказала Агнесса, тяжело поднявшись и завиляв всем телом ему навстречу. – Я собираюсь замуж, хочу забрать кое-какие вещички.
Они вместе вошли в душную неубранную комнату.
– Ой, Боже мой! – У Агнессы страдальчески надломились брови.
Лопухин подумал то же самое, что думал всегда, когда смотрел на нее: как случилось, что такая огромная красота досталась ничтожной и суетной женщине?
– Не надо на меня так смотреть, – сказала Агнесса. – Если чью-то жизнь я сломала, мой дорогой, то только свою.
И быстро вытянула руку, на которой сияло бриллиантовое кольцо.
– Да, да, настоящее, – вздохнула она. – И пахнет большими деньгами. Понюхай.
Прижала кольцо к его носу. Лопухин послушно понюхал.
– Ты мне посоветуй, – Агнесса улыбнулась с той самой блаженной беспомощностью, которую он хорошо знал. – Как мне удержаться и не рвануть сегодня в казино. Потому что там я проиграю это колечко, и кончится моя прекрасная помолвка. А он, – она сделала ударение на слове «он», – взял с меня честное слово, что больше ноги моей не будет в этом заведении.
– И ты дала слово?
– Дала. И не просто дала, поклялась.
– Чем?
– Тобой, – засмеялась она. – Есть только один человек на свете, который мне все еще дорог.
– Да брось ты! – сказал Лопухин. – Вранье это все.
– Вранье, но не все. Я стерва, я не женщина даже, потому что не люблю ничего и никого. Только играть. Я родилась для этого, – она запнулась. – Но все-таки… Все-таки… Когда я с собачкой на руках постучалась к тебе в дверь, я ничего не хотела. Только заснуть и не просыпаться. Меня выгнал любовник, денег не было ни копейки, сил тоже, но была эта собака, помнишь ее? Маленькая моя девочка, старушечка моя. Беленькая-беленькая, а носик черный. Представляешь, если бы у меня был черный носик? – она откинулась на диване и заколыхалась от смеха. В диване завыли пружины. Агнесса вытерла глаза салфеткой. – До сих пор забыть не могу. Собачка одна и удерживала. Я поклялась, что если мне откроет мужчина и у него будет доброе лицо… Тогда ничего. Поживем. И ты нам открыл.
– Какая-то чушь. Слишком много клянешься. Плохая привычка, – пробормотал Лопухин.
– Сейчас я тобой поклялась, – Агнесса вздохнула. – Мне вдруг захотелось нормальной жизни, показалось, что вот опять появился человек, который мне это все предлагает, пора успокоиться, бросить игру… Можно, в конце концов, полечиться. Ведь лечат других. Посижу на таблетках… А то ведь и сдохну в приюте каком-нибудь. Вчера мы зашли в магазин на Ньюбьери, он выбрал кольцо и купил. Ты хоть представляешь себе, сколько оно стоит?
– Не очень. А я-то при чем? Купил он кольцо. И что дальше?
– А дальше я почувствовала, что лучше поклясться, что брошу играть, а то не сработает. Сорвусь и забуду. А с клятвой вернее. – Глаза ее стали прозрачными, скользкими.
Лопухин легонько покрутил пальцем у виска.
– Какая ты жуткая, темная баба!
Она усмехнулась:
– Рука твоя как?
– Паршиво. Но резать пока не даю. Хочу побороться.
Агнесса прижала ко рту ладони:
– Прости! Я забыла про руку.
– Держи свою клятву. – Голос его вдруг сел, как при сильном волнении: – Не хочется ведь, чтобы руку отрезали.
Она медленно и глубоко вздохнула.
– Почему ты меня не спрашиваешь, откуда взялся мой новый бойфренд?
– Что спрашивать? Тебе достаточно зайти в любую забегаловку, выпить кофе, и кто-нибудь тут же возьмется.
– Опять угадал! Напротив клиники Святой Елизаветы есть кафе. И там всегда полным-полно врачей. Кофе хороший, не такой, как у них в столовой. Я туда иногда заглядываю, и все происходит так, как ты говоришь: обязательно кто-нибудь подсядет. Но все мелкота. А месяц назад подсел Жан Мари.
– Француз?
– Да, родился во Франции.
– И не мелкота?
– Нет, нисколько. Хотя, если со стороны посмотреть, ничего особенного. Лысый, плечики узкие. Но высокий, выше тебя. Глаза добрые. Голос приятный. Поговорили минут двадцать, он торопился, его пациенты ждали. Вечером пригласил в ресторан. А на следующий день снял мне квартиру. Мне ведь опять деваться было некуда. То в машине ночевала, то у племянницы.
– Что ж ты ко мне не пришла?
– Не хотела перегружать. Думаешь, у меня совсем совести нет?
– Думаю, что нет.
– Согласна. У меня совести нет. А у тебя вообще ничего нет. Какой смысл к тебе приходить?
– Тоже верно! – коротко хохотнул Лопухин. – Но клясться мной тоже не стоит.
Она закусила губу.
– Не стоит, не стоит! Но я же раскаялась. Ты пить, что ли, бросил?
– С чего ты взяла?
– Ну, так.
– Женился я, вот что.
– Женился? – Агнесса привстала. – Зачем?
Лопухин промолчал.
– Я испорчена мужским вниманием. Признаю. А с тобой мы жили в одной комнате, и ты на меня ни разу не покусился Вообще почти не замечал… Скажи я кому – не поверят.
– Так не говори.
– А эта жена твоя…
– Что?
– Ну, зачем ей… Зачем ей калека?
Лопухин отошел к окну. Агнесса легонько погладила его по спине.
– Миленький…
– Уходи. Поговорили.
– Я не сорвусь, – сказала она. – Не буду играть. Не волнуйся.
– Играй на здоровье! Мне что!
Она ушла. Лопухин вяло подумал, что в ее рассказе, может быть, не было ни капли правды. А может, все – правда. Он продолжал смотреть в окно, где шла обычная летняя жизнь: пробежала соседская кошка в ошейнике с колокольчиками, потом двое черных мальчишек пронеслись на велосипедах, потом на трамвайной остановке неподалеку остановился трамвай, и водитель громко – на все раскаленное солнцем пространство – объявил, что можно выходить.
И вдруг это все изменилось: высоко над деревьями появилась синева, явственно отделившаяся от светло-малахитового неба, накрыла собою двор, кошку, мальчишек, помойку, сарай. Она начала быстро темнеть, и уже не синей, а лиловой, пошла выше и доросла до облаков, дрожа белой пеной. Он видел, как эта волна медленно, очень медленно, постепенно становясь все темнее и темнее, приближается к нему, меняя свои очертания и словно бы строя гримасы. Он стал торопливо закрывать окно, но правая, больная рука, не слушалась его и только мешала здоровой руке, которая начала сильно трястись, как трясутся руки стариков и алкоголиков. Лопухин понял, что это конец.
«Как странно, – успел он подумать. – Агнесса меня проиграла. Но ведь не может же быть, чтобы она так быстро добралась до казино… Это совершенно невозможно».
Он не испугался того, что умирает, но испугался другого: не хватит дыхания, и он не успеет поймать мыслью что-то главное, что-то самое важное, на осознание которого никогда не было ни сил, ни желания. И теперь он начал судорожно, торопливо вспоминать, перебирать. Все было не то. Все не то.
И тут его вдруг осенило.
«Какой я Веласкес? – подумал он радостно. – Какой Рафаэль? Я пьяница и мелкота».
Ему стало тихо, светло и спокойно. Вот это и было тем главным, с чем нужно отсюда уйти. Слово «мелкота», которое только что употребила Агнесса, рассказывая, как в кафе к ней подсаживались мужчины, на которых ни в чем нельзя рассчитывать, рассмешило Лопухина до колик, и, испугавшись, что его сейчас вырвет от смеха, он быстро сел на пол, привалился к дивану и потерял сознание.
Последние пять-шесть месяцев Вадим Левин жил в смутном ожидании новой беды. Жена, которая лет сорок назад так безудержно тянула его к себе, – жена угасала. Не только психически. Она облетала, как дерево, на котором не осталось ни одного листика, и даже случайная птица, решившая отдохнуть в своем быстром энергичном полете, ни за что не села бы на его мертвую ветку, пугаясь того же, что все: угасания. В ее ненакрашенном, немного дрожащем рту еще жили какие-то ненужные слова, которые натыкались друг на друга, словно они были слепыми, глухими и не понимали, куда им деваться: толпиться обратно в пологое горло или все же вывалиться наружу. Она чувствовала, что люди не понимают ее, и сердилась на это. Гнев ее был бурным, но коротким. Через секунду жена забывала, что сердится, и улыбалась широкой счастливой улыбкой.
Один и тот же кошмар преследовал Левина по ночам: он входит в спальню Зои, молодой и здоровой, чтобы переспать с ней, входит из своего кабинета, слегка удивляясь тому, что он ночует в кабинете, но вместо красивой и веселой жены видит узколицую старуху, трясущую головой ему навстречу.
– Ты кто? Ты откуда здесь? – кричит Левин и, как это бывает только во сне, изо всей силы замахивается на нее, но старуха вытягивает шею, напоминая перевернутую на спину черепаху, и вылезшие из орбит глаза останавливают его.
– Ты кто? – шепчет он.
– Опять не побрился сегодня, – радостным Зонным голосом отвечает она. – Давай я побрею.
Он покорно садится на кровать. Старуха достает откуда-то чашку с мыльной пеной и кисточку, которыми никто давным-давно не пользуется, и, намылив ее, касается его щеки. Пена расползается по лицу, щекочет ноздри, заливает уши. Сквозь пену Левин чувствует холодный блеск наточенной бритвы, и страх охватывает его: такая зарежет, какой с нее спрос?
– Мне деньги нужны, – доверительно говорит старуха. – Большие хорошие деньги нужны.
– Зачем? – спрашивает он сквозь пену.
– Поеду в Стамбул.
Она раскрывает рот, и все внутри у нее начинает бурлить, точно в откупоренной бутылке. На этом сон обрывался.
«Ну, что? К психиатру, что ли, идти?» – с отчаянной злобой спрашивал он себя и тут же махал рукой, понимая, что никуда не пойдет и ничего никому не расскажет.
Он очень хорошо помнил первые два года Зоиной болезни. Ему было не то чтобы страшно за будущее, не то чтобы жалко ее или жалко себя, – ему было стыдно. Так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Все эти люди, по привычке еще приходившие к ним в гости, не должны были ничего заметить. Ни Зоиного красного, как свекла, лица, когда она вдруг сердилась на что-то, и он боялся, что сейчас она выпалит матерное слово, которое раньше было бы принято со смехом, потому что жена иногда позволяла себе такие шуточки, и это было стилем, ее собственной пикантностью, дерзостью, шалостью, но сейчас – вместе со свекольным лицом и острым, как шпилька, черным взглядом – могло напугать, оскорбить, и поэтому, напряженно улыбаясь, Левин обнимал ее за располневшую талию, отводил в сторону, и там, в его руках, она быстро успокаивалась, лепетала чепуху, и через несколько минут с той же напряженной улыбкой он возвращался к гостям, сразу замечая, что гости опускают глаза и слишком весело беседуют. Да, жуткий был стыд. Но постепенно Левин привык и к стыду тоже, а произошло это потому, что он научился смотреть на жену как на постороннюю. Она уже не была частью его самого и его жизни, она была просто больной старой женщиной, живущей с ним вместе. Он должен был обеспечить этой женщине спокойную жизнь, но при этом отодвинуть свое существование от ее существования, как один стул отодвигают от другого. И это ему удалось. С приездом домработницы жизнь стала проще: теперь можно было уйти вечером и не беспокоиться, что Зоя вдруг проснется и примется бродить по дому, не включив свет и натыкаясь на мебель. Уйти было можно, но некуда, некуда! У приятелей, полысевших и погрузневших, обремененных собственными болезнями и болезнями своих раздавшихся, накрашенных жен со слишком гладкими неподвижными лбами и голосами, простроченными низкими нотками старости, не оставалось сил на то, чтобы, как это было раньше, спорить о политике или часами потягивать коньячок, наслаждаясь покоем, достатком, безобидным трепом о России, Америке и Израиле, ленивым спором о политике или столь же ленивыми рассуждениями, где лучше провести отпуск: в Венеции или в Австралии. Теперь они рано ложились, засыпали за телевизором, а если принимались спорить, то быстро обнаруживали, что запас прежних аргументов, имен, дат и прочего куда-то исчез.
Шло лето. Зоя под руку с домработницей ходила по темным тенистым аллеям и пела народные песни. К обеду всегда была курица с кашей и изредка Нина пекла пироги. Внешне их жизнь казалась спокойной и почти застывшей, как речная вода летним полднем, но Нина все чаще появлялась к завтраку заплаканной, а Левин ежедневно сидел в кабинете за компьютером до глубокой ночи, потому что боялся, что, заснув, увидит все тот же нелепый свой сон. Они не делились друг с другом ничем и даже в глаза не смотрели друг Другу.
– Послушайте, – с резкостью, за которой скрывалась неловкость, сказал как-то Левин. – Вы все переживаете из-за своего… ну, кто он там вам?
– Муж. А кто же еще? Левин усмехнулся:
– Муж у вас здесь. Юра Лопухин.
– Издеваетесь, да? – угрюмо спросила она.
«А ведь она не так проста, – подумал Левин, забыв на ее лице свои выпытывающие зрачки. – Совсем не так проста, как я думал…»
Она вспыхнула и быстрым движением ресниц стряхнула со своего лица его взгляд.
– Вы, Вадим, в моем положении не были. За что вы меня осуждаете?
– Я вас? Да нисколько! А что касается положения… Так мне и своего достаточно. Вон оно, мое «положение», сидит, телевизор смотрит. Хотите, поменяемся?
Зоя, в красной войлочной шляпе, купленной когда-то в Испании, куда они с мужем ездили отдыхать и смотреть фламенко и корриду, сидела на краешке дивана и неподвижно смотрела на экран не включенного телевизора.
– Не хотите? – раздраженно повторил Левин. – Ну и перестаньте рыдать. У меня тоже нервы не стальные.
– Я не рыдаю! – Она вскинула голову. – С чего это вы взяли, что я рыдаю? С того, что у меня по утрам глаза красные? Я сны часто вижу плохие. От этого красные.
– У вас тоже сны? – насмешливо перебил он. – И я все время одну и ту же дрянь вижу! Одну и ту же! Почти каждую ночь! Хоть спать не ложись. Надо бы нам у Зои спросить, вдруг и она сны видит? Она вам не жалуется?
– Она мне все время жалуется, – с сердцем ответила домработница. – Что вы ее забросили и любовницу завели.
Левин потерял дар речи.
– Зоя вам жалуется?
– Каждый день и по многу раз.
– И что она говорит?
– Она говорит, что опять видела, как вы ночью привели к себе в комнату какую-то старуху.
– Старуху?! Я ночью? Почему старуху?
Нина помолчала. Потом заговорила громким шепотом:
– Что вы все переспрашиваете да переспрашиваете? Не глухой же вы, в самом деле! Ей что покажется, то она и говорит!
– А что ей кажется?
– Да Господи! Какая вам разница! «Мой Вадик на старуху польстился. Она на черепаху похожа. А он ее любит. Вот я, – говорит, – молодая, красивая, а он не со мной спит, а с ней». Достаточно вам?
Во глубине комнаты Зоя тихо сняла свою красную шляпу и, кажется, задремала.
«Это же у меня сон про старуху! – покрываясь потом, сообразил он. – С ума я тут скоро сойду!»
– Николай мой в пятницу сюда прилетит, – твердо сказала Нина. – В гости прилетит.
– Куда именно он прилетит? – напрягся Левин.
– Ко мне прилетит. Стосковались мы сильно. Ему вдруг захотелось наорать на нее, сказать, что этот дом – не общежитие для запорожских безработных, что ее дело – ухаживать за его больной женой, и он ей платит неплохие деньги именно за это, но нельзя было ни кричать, ни возмущаться. А что, если она найдет другую работу и бросит Зою? Он был в ее власти. Она это знала.
– Нина, – еле сдерживаясь, сказал он. – Вы понимаете, что вашему возлюбленному, Николаю этому, и вашему мужу законному, Юре Лопухину, нельзя пересекаться?
– Почему? – спросила она, раздувая ноздри. – Вы же сами говорили, что с его стороны, с Юриной, то есть, это… ну, просто хороший поступок?
– Ты что, идиотка? – заорал Левин, но тут же опомнился: – Простите меня, я сорвался. Нина, ни вы, ни я не предупредили Юру, что у вас есть, так сказать, любимый человек там, дома. А это нужно было сделать.
– Почему? – повторила она, глядя в пол.
– Ну как: почему? Он бы не женился, если бы вы ему не понравились. Никакой корысти у него не было.
– Что это значит: понравилась? – У нее опять раздулись ноздри. – Я что вам тут, вещь? «Понравилась», вишь ты!
– Нет, вы не вещь, – Левин сжал кулаки и спрятал руки в карманы. – Нет, ты нам не вещь. Но хочешь остаться в Америке, верно?
– А ты бы пожил там! – Она резко вскрикнула. – Пожил бы, как мы там живем! У моей сестры дочка раком заболела, операцию, сказали, надо в Германию везти делать. А деньги где брать? Сорок тысяч евро! Где их брать? Так моя сестра, знаешь, на что согласилась?
– На что?
– Нашла в Киеве двух голубеньких, они ребеночка решили завести, искали женщину, чтобы стала суррогатной мамкой. Поехала в Киев, ей там ввели коктейль этот…
Она начала дрожать и задыхаться.
– Коктейль? Что еще за коктейль?
– Ну, это я так… Пошутила. – Она задыхалась. – Сперму ввели одного из этих голубеньких, она забеременела. Думала, они ее домой отпустят, к дочке. Дочка у нас в больнице тогда лежала, кожа да кости… А геи эти ей говорят: «Нет уж, пожалуйста, Анна, вы здесь, при нас, под нашим наблюдением должны находиться. А то еще герпес какой принесете, а то еще СПИД!» Она говорит: «У меня ребенок помирает! Я от нее не отойду, я же не шлюха!» «Нет, – говорят, – такого уговора не было. Сидите здесь, в Киеве». И сняли ей комнату. Она девять месяцев в этой комнате, как в клетке, металась. Родила им мальчика, деньги получила и скорей домой! Успела на дочкины похороны.
– Грустно… – пробормотал Левин.
– Вам «грустно»! Да вы того, через что мы каждый Божий день проходим, в страшном сне не увидите!
– А ты не суди, – опять напрягся он, чувствуя, что ненавидит эту женщину так, как никого в жизни не ненавидел. – Судить, знаешь, проще всего. Мне, думаешь, легко? – И кивнул на спящую с открытым ртом Зою. – Я бы поменялся сейчас с последним бомжом на вокзале, лишь бы всего этого не видеть! А дальше что будет?
– Детей надо было тебе завести… – вздохнула она.
– Не дал Бог детей. Что теперь обсуждать?
Она блеснула на него глазами:
– Я сразу вам всем говорю: не буду я вам тут игрушкой! И Коля приедет ко мне! Понял? Нет?
– Это ваше решение, Нина, – холодно, видимо, овладев собой, сказал Левин. – Мой вам совет: не делайте глупостей. Вы ведь знаете, что такое депортация?
– Слышала! Только вот запугивать меня тоже не надо.
– А кто вас запу… – Левин не договорил, потому что Зоя, проснувшись, стояла на диване на коленях, как это делают дети.
– Вадик! – нежно звала она, обеими руками рисуя в воздухе огромное сердце. – Вадюша! Пойди, посиди со мной рядом!
Левин скрипнул зубами и сел рядом с ней.
– Я тут все телевизор смотрю, – прошептала Зоя, положив голову со сморщенным сухим лицом ему на плечо. – Смотрю фильмы нашего детства, Вадюша. Такие смешные! «Летят журавли», например. Помнишь, Вадик?
Левина всегда удивляло то, что Зоя иногда до малейших подробностей вспоминала то, что было тридцать или сорок лет назад, но совершенно не помнила и не понимала ничего из происходящего сейчас.
– Мы с тобой сидели в кинотеатре «Повторного фильма» и смотрели «Летят журавли», – так же нежно, слабым, улыбающимся голосом продолжала жена. – Ты меня все по коленкам гладил. Потом стал кофточку расстегивать. Я вижу, что ты уже собой не владеешь, – она радостно засмеялась. – И говорю тебе: «Я пить хочу, умираю. Принеси мне газировочки». Ты выскочил из зала. На нас все зашикали. А я сижу в темноте, смотрю на экран и ничего не вижу, слезы текут. – Плечо у Левина, на котором лежала ее голова, стало мокрым и горячим. – Помнишь, Вадик? Такая была красота!
Левин не ответил. Сердце его начало бухать и быстро ворочаться внутри, как увесистое, маленькое животное ворочается в мешке, куда его только что спрятали силой.
Лопухин, найденный без сознания соседом по квартире, был тут же доставлен в больницу. В машине «Скорой помощи» он пришел в себя.
– Куда мы едем?
– Мы едем в больницу, – ответил ему медбрат, похожий на мальчика своим тщедушным телом и тонкими руками.
– Отпустите меня! – Лопухин попробовал привстать. – Отпустите! Не нужно никакой больницы!
У медбрата тут же окреп голос, глаза приняли стальной оттенок.
– Нет, нет! Полежите, дружище! – и железной рукой притиснул Лопухина к носилкам. – В больнице во всем разберутся.
– Послушайте! – забормотал Лопухин. – Я сам лучше всех знаю, что со мной. Я с этой гангреной живу уже пару лет, и ничего! Только рисовать не могу. Но если мне оттяпают руку, я жить не смогу, понимаете?
Он прочувствовал, что сейчас не выдержит, разрыдается, стиснул зубы.
– Лежите, лежите! – уже мягче, сочувствуя, сказал медбрат. – Врачи разберутся.
– Я никогда не дам своего согласия! – прохрипел Лопухин, багровея не только лицом, но и шеей. – Меня еще можно лечить! А резать – последнее дело! Тогда пусть совсем умертвляют!
В больнице у него началась истерика. Лопухин плакал, кричал, требовал, чтобы позвали самого главного специалиста по гангрене, не давал притронуться к своей правой забинтованной руке, на марлевой поверхности которой проступили желтовато-зеленые мокрые пятна. Сделали укол, и через пять минут он провалился в глубокий, тяжелый, похожий на каменный, сон.
…увидел себя на ступеньках церкви, в которую недавно его водила Нина, услышал, что там идет служба. Во тьме, в теплом блеске свечей, особенно ярко, как звезды на небе, светились веселые детские лица. Тела детей не были видны и не было понятным, кто их держит, почему они так высоко.
Вскоре он сообразил, что дети сидят на руках невидимых родителей, и опять удивился, что родители, священник, дьякон погружены в кромешную темноту, и только дети освещены так ярко, что виден любой волосок на затылке. И вдруг, в темноте, проступило знакомое. По радостному трепету, охватившему его, Лопухин догадался, что эта еле заметная женщина, которая стоит на коленях со свечкой и молится, конечно же, Нина.
«Голубушка! – подумал он с нежностью. – О чем она просит?»
Он смотрит на ее светловолосую голову, мягко склоненную шею с проступившими под кожей хрупкими холмиками позвонков, круглый и нежный рисунок плеч, которые тоже немного колеблются. Взгляд его стекает ниже, лаская ее спину, обтянутую белым холщовым платьем, с выступающими лопатками, которые сразу напоминают ему едва заметные, словно бы недоразвившиеся по какой-то причине ангельские крылья.
«Вот так я ее напишу! – радостно подумал он. – И чтобы торчали эти пятки в черных босоножках со стоптанными каблуками. Да, чтобы они торчали из-под белого подола. Как это сделал Рембрандт. Потому что он гениально это сделал, потрескавшиеся черные пятки у блудного сына. Ведь все смирение человека именно в этих пятках…»
И с волнением, которое ново и внезапно для него, замечает, как мощно возвышаются над черными пятками ее ягодицы, напоминающие свежие хлеба, чувствует соль в горле, сладкую истому во всем теле, вспомнив, что Нина – его законная жена…
– Ну, что? Ампутация? – сказал горбоносый, ярко-синеглазый молодой доктор, слегка улыбаясь губами и грустно темнея глазами в ответ на вопросительный взгляд другого, тоже молодого, жилистого и худого доктора с сеточкой кружевных сосудов на висках. – Ждать нельзя. Погибнет.
– Конечно. Но он ведь согласия не даст.
– Ну, почему не даст?
– Художник, я только что выяснил. Работать не сможет. Сопьется.
Синеглазый понимающе кивнул.
– У него, между прочим, жена имеется. Недавно женился. Так что юридически можно, в принципе, с ней договориться.
– Жена не может принимать за него решение, – заметил второй доктор и подавил зевоту. – Черт! Я вторые сутки дежурю, забыл, как моя собственная жена выглядит. Ну, что? Тогда нужно сказать Нэнси, чтобы срочно разыскала его жену, пусть приезжает. Все равно она должна знать, что он попал в больницу.
Пожилая медсестра, с мелко кудрявыми волосами, начавшими седеть на затылке, с кольцами на всех пальцах, ласково кивнула головой, когда синеглазый попросил ее сообщить жене пациента Юрия Лопухина о том, что произошло.
Вечером в субботу Нина заявила Левину, что завтра берет выходной: Николай приезжает. Лицо у Левина стало каменным, он на нее не смотрел.
– Вы уже брали на этой неделе полтора дня. В среду сдавали отпечатки пальцев для документов, так? Вчера ездили в церковь на вечернюю службу.
– Хорошо. Я отработаю. Я верну это время.
– Значит, вам нужен весь день завтра?
– Да, целый день. И ночью я не буду ночевать здесь.
У Левина подскочили брови.
– А где вы будете ночевать?
– С мужем.
– Ах, с мужем! Ну да, ну да! А где будет ночевать ваш муж?
– Еще не знаем. Но нам обещали сдать комнату.
– А, вам обещали сдать комнату! Отлично, отлично.
– Я же говорю вам, что отработаю, – у нее задрожали губы.
– Отработаете, и спасибо.
Она посмотрела на него быстро и странно: со стыдом, неприязнью и одновременно так, словно хочет о чем-то попросить.
– Я вот о чем… Если уж нам совсем будет негде… Так, может, он здесь…
Левин громко сглотнул слюну. Он подумал, что еще совсем недавно, ну, год-два назад, когда Зоя была здорова, и в доме было весело, многолюдно, бестолково, никому бы и в голову не пришло отказать в ночлеге приезжему незнакомому человеку, потому что стилем их с Зоей жизни была именно такая разухабистость, открытость, показное добродушие, за которое их любили, и поэтому не было ни одного выходного, чтобы их не позвали на чью-нибудь свадьбу, день рождения, просто так: посидеть, поболтать… Но теперь! Но теперь, когда жена с ее полуоткрытым ртом сидит перед невключенным телевизором и тихо дремлет, когда он не может отлучиться на неделю, слетать, например, в тот же Питер, теперь, когда в гостях она молчит с неподвижным лицом и всклоченными, сизыми от седины волосами, – теперь все иначе. И не надо пользоваться его домом, его деньгами, им самим, не надо пользоваться тем, что Зои нет, а та, которая носит ее платья и поет «Подмосковные вечера», гневно блестя черными глазами, – давно не Зоя.
– Только в самом крайнем случае… – пробормотал он. – В самом, самом крайнем…
– Понятно, – сказала она тихо, но ноздри ее раздулись. – Теперь все понятно.
«Она ненавидит меня, а я ненавижу ее! – подумал Левин. – За что? Но ведь это так!»
– Вы, если вечером сегодня куда-то уходите, – сказала Нина, не глядя на него, – поднимитесь к Зое, а то она вчера плакала. Боится, что вы ее бросили.
– Бред! – простонал он. – Вы знаете, Нина, что все это бред! Она через две минуты уже забыла, почему она плакала!
– Бред – не бред, а только больного человека тоже нельзя так…
– Как? – он впился глазами в ее замкнувшееся брезгливое лицо.
– Вот так. Совсем не уважать.
– Слушайте, вы знаете ее диагноз? Вы знаете, что ее эмоции ровным счетом ничего не значат? Что она сегодня, например, проснется и начнет готовиться к экзаменам в институт? Или к нашей с ней свадьбе? А вы говорите: «Плакала»!
– А я говорю: «плакала»! – вскрикнула Нина. – Потому что я так чувствую. А вы чувствуете иначе, ну и пожалуйста.
Махнув рукой, Левин, как мальчик, взбежал вверх по лестнице и увидел, что жена примеряет летнее платье перед зеркалом.
– Все забываю, это какой цвет? – сокрушенно сказала Зоя. – Вот вижу: пальтишко. А цвет забываю.
– Синий. Синий, милая.
– А, синий! – облегченно воскликнула жена. – Но ты мне скажи: какой синий? И что это: «синий»?
Она вдруг застенчиво прикрыла ладонью голую грудь и подошла к нему мелкими шажками, которые за последние полгода полностью вытеснили ее прежнюю походку.
– Люблю тебя, Вадик, – сказала она. – А ты любишь «синий»?
Левин молча, тоскливо смотрел на нее.
– Меня тут не любят, – сказала жена. – Они любят «синий». Какая я «синий»? Скажи им всем, Вадик.
Внизу громко зазвонил Нинин мобильный, она подошла. Сказала «алле» и замолкла. Потом пробормотала на своем ужасном английском:
– Йес. Ноу. (Да. Нет.)
Опять замолчала. Левин подумал, что звонят из каких-то эмиграционных служб, и связан звонок с тем, что Нина подала документы на получение «зеленой карточки». Она не поймет то, что ей говорят, нужно помочь.
Он спустился. Нина держала телефонную трубку у уха, глаза ее были расширены.
– Что с вами? – негромко спросил Левин. – Кто это?
Она молча передала ему трубку.
– Your husbasnd has been hospitalised, he is in our emergency room. – Левин услышал мягкий, низкий хрипловатый голос, который характерен для немолодых чернокожих женщин, хороших хозяек, заботливых медсестер и больничных нянечек. – Please, come. We need you here[1].
– I m missis Lopuhin friend. She doesn t speak any English, – сказал Левин. – What s wrong with her husband? What happened?[2]
Нина смотрела на него так, будто ничего из того, что он сейчас скажет, не имеет никакого значения. На ее лице установилось твердое тупое желание обрубить все концы и не позволить ни ему, ни Зое, ни Лопухину помешать ей встретить завтра утром Колю и быть с ним. Не важно, где. Просто быть с ним.
– Нужно поехать в больницу к Лопухину, – сказал Левин, закончив разговор с медсестрой. – Он попал туда по «Скорой», без сознания. Завтра утром будет решаться вопрос ампутации.
– А я-то при чем? – спросила она, глядя, как это часто бывало в разговорах с Левиным, исподлобья.
– Вы, – еле сдерживаясь, произнес Левин, – его официальная жена. Если он, находясь в таком тяжелом положении, как сейчас, не сможет принять решения, вы должны будете принять его.
– И что? И бумаги должна подписать?
– Наверное, да. Но я точно не знаю.
– Не буду, – сказала она, отвернувшись. – Вы в Бога не верите, вам все равно. А я не хочу греха на душу брать.
– Я что-то вас не понимаю совсем. Ведь он вам помог. Вы помните, как он помог?
Она закрыла лицо руками и так стремительно выбежала из комнаты, что чуть не упала, зацепившись за угол ковра.
В своей комнате Нина плотно затворила дверь и встала на колени перед иконой Николая Угодника. Дикая тоска по совсем недавнему времени, когда было скудно, темно, голосисто, но не было страшно – не так, как сейчас, – всю сжала ее.
«Да что ж они так навалились и мучают?» – подумала она с каким-то детским бессильным отчаяньем.
И вдруг поняла, что все это не так. Что просто такая вот жизнь у людей. Где каждому кажется, что его мучают.
– О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый мой заступниче!
Помози мне, грешной…
Она не успела дочитать молитвы, не успела пригладить растрепанные волосы. Левин постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел:
– Сегодня уже нечего ехать. Его перевели в палату, он спит. Завтра там нужно быть ровно в восемь. Я разговаривал с врачом. Ко всему у него еще и проблемы с сердцем.
– Я не могу завтра в восемь, – сказала она, и лицо ее стало упрямым, незрячим. – Я Колю поеду встречать.
– Пошел к черту Коля! – заорал Левин. – Ты хоть понимаешь, о чем идет речь?
Он хлопнул дверью так, что задрожали стекла. Она прижалась к ним горячим лбом, машинально следя мокрыми глазами за сумрачно-алыми, с синевой, почти прозрачными облаками…
Левин проснулся в половине десятого. В доме стояла настоянная на влажных ночных запахах лета тишина. Ему вдруг вспомнилось что-то очень-очень далекое, детское: тихое утро на даче, радостный застенчивый запах цветов с клумбы у самой террасы, кусок потолка, до того нагретый солнцем, что с застывшей капли смолы на одной из балок вот-вот и закапают желтые слезы.
«Черт возьми, как быстро прошла жизнь! – без всякого сожаления и злости подумал Левин. – Жизнь прошла, а я остался».
Он вспомнил о том, что жена неизлечимо больна, домработница устраивает истерики, работа осточертела, впереди – одни испытания, а о том, что встретится женщина, которую можно будет обнять, притиснуть к себе, насладиться любовью, – смешно даже думать. Сегодня воскресенье. Значит, нужно как-то убить этот прекрасный летний день. От слова «убить» он содрогнулся. Да, именно так. Он не живет, он убивает прекрасные дни. То зимние, снежные, с легким блистаньем, то эти вот: летние и золотистые.
Поскольку в доме было тихо, он понял, что Зоя с Ниной, наверное, пошли гулять и вернутся часа через три-четыре, не раньше.
И тут его перевернуло.
– Идиот! Как же я мог забыть про Лопухина! Она должна была поехать в клинику к восьми утра! А я даже адрес не дал ей!
Он спустился вниз, где была столовая и кухня. Зоя в прозрачной белой рубашке, босая, стояла перед плитой и задумчиво смотрела на нее.
Он чуть было не спросил ее, где Нина.
– Ты что здесь стоишь?
– Попить.
Он понял, что она хотела зажечь газ и забыла, как это сделать.
– Садись. Я тебя накормлю, – сказал он жене. Она послушно села. Под прозрачной рубашкой – откуда у нее такая рубашка? – чернели маслины сосков.
– Яичницу будешь?
– Что это? – спросила она, усмехнувшись.
Он пожарил яичницу. Она быстро и жадно съела. Вокруг губ образовался желтый налет. Левин намочил салфетку и, вздохнув, вытер его.
– Помаду сотрешь, – лукаво сказала Зоя. – Всегда так: я только накрашу…
Никакой помады не было и в помине. Левин опять глубоко вздохнул, скомкал салфетку и бросил в мусорное ведро.
Раздался телефонный звонок. Звонил тот же доктор из клиники, с которым Левин вчера вечером разговаривал. У доктора было дежурство. Он спрашивал про жену Лопухина, которую не дождались к консилиуму.
– Я не знаю, где она, – ответил Левин. – Я был уверен, что она в клинике.
Он врал и чувствовал, что его голос выдает это.
– Мистер Лопухин нуждается в том, чтобы сейчас с ним был кто-то из самых близких. Он не может самостоятельно принять решение. А без его согласия мы не имеем права на ампутацию. Но положение критическое. Мы боимся общего заражения крови: кость уже задета.
– У вас ведь есть номер мобильного телефона его жены? – уточнил Левин.
– Она не отвечает, – сухо ответил доктор. Положив трубку, Левин попробовал дозвониться сам.
«Абонент временно недоступен, оставьте сообщение после длинного сигнала…» – услышал он.
– Нина, – резко сказал Левин в пустоту. – Вы должны быть в клинике. Не делайте глупостей. Вернее, не делайте того, о чем вы будете жалеть. Не совсем же вы чурбан и сумасшедшая!
Не нужно было оскорблять ее, не сдержался. Он потер лоб и спустился по лестнице вниз, в ее комнату. Кровать была аккуратно застелена, словно Нина и не ложилась. Над кроватью теплилась лампадка и висели две иконы: Богоматерь с Младенцем и Николай Угодник. Чуть пониже – фотографии: дочка Марина и Коля. Левин и раньше видел эти фотографии, но не обращал на них никакого внимания. Сейчас всмотрелся: Марина была похожа на мать, но мельче чертами, а Коля почему-то показался Левину отвратительным, хотя был красивым, кудрявым, веселым, с большими глазами в пушистых ресницах.
«Вот из-за таких красавцев у женщин и головы сносит», – морщась, пробормотал Левин и вернулся в кухню к жене.
Зоя сидела в кресле-качалке. Прозрачная белая рубашка пылала на солнце, и казалось, что Зоя горит. Она молча подняла на мужа черные усталые глаза.
– Пойдем погуляем, – прошептала она робко, боясь, что он откажет.
У Левина задрожало сердце. Она горела, сгорала прямо на его глазах, ее настигало, выдавливало из их сорокалетней веселой жизни, уничтожало, на нее уже примерили саван, хотя она еще дышала, и ни одного следа насилия не было на ее теле. Только сейчас ему пришло в голову, что Зоя все знает. Знает, но не может выразить, потому что сначала вырвали ее язык, а то, что ворочается во глубине рта, есть плотный отросток, кусок красной мышцы, покрытой слизистой оболочкой.
– Пойдем погуляем, – сказала она. – А то от тебя, как с козла молока…
Он был человеком суховатым, иногда страстным, но не с ней, а с другими, о которых она предпочитала ничего не знать, он был уверен, что может контролировать и будущее, и настоящее, а в прошлое заглядывал редко, через силу, решив, что и в прошлом он не сделал ничего дурного, а если и сделал, то по вине обстоятельств или людей, он не понимал, что такое судьба, поскольку в его замкнутом мире, оттороченном пылью чужих мыслей, не существовало судьбы, а были одни лишь причины и следствия, но сейчас, когда судьба наступала на него со всех сторон, сейчас, когда Зоя, жена, вот так, непритворно, сгорала – прозрачная, алая, желтая, с сосками чернее маслин, – сейчас ему вдруг захотелось кричать. От страха.
Левин не закричал. Он подошел к качалке, на которой она сидела, и погладил ее по сизой, всклоченной голове.
– Я читала в журнале, – небрежно и ласково сказала жена, – кажется, в журнале «Наука», что был один козел, который выкормил своих детенышей. Ты представляешь? – это слово далось ей с трудом, но она справилась, произнесла. – И о нем написали книгу. А может быть, памятник. Я уж не помню…
Всю ночь Лопухин спал так крепко и сладко, как никогда. Может быть, давным-давно, еще в России, когда завершал работу, которую особенно любил. Тогда он еще не был алкоголиком и ему не грозила ампутация правой кисти. Палата была на пятом этаже, окно не открывалось, еле слышно гудел кондиционер, а небо, стремящееся целиком вместиться в его комнату, низкое небо, было похоже на море своим малахитовым, призрачным цветом.
В половине девятого пришла медсестра брать кровь и мерить давление. Она была бледно-шоколадной, шелковистой, наверное, родом с островов, потому что черты ее молодого лица были не африканскими, а, скорее, европейскими, если не считать разреза ярко-голубых глаз: продолговатых и приподнятых к вискам.
– А где я? – не проснувшись до конца, спросил Лопухин. – В больнице? Зачем?
Она улыбнулась и напомнила про гангрену.
– Сознание я потерял? – удивился он. – И что я потом тут устроил?
– С вами будет разговаривать хирург. Минут через десять-пятнадцать. Хотите, мы завтрак сейчас принесем?
Он все еще не мог включиться до конца. Вчерашняя истерика со слезами и просьбами была начисто забыта.
– Я резать не дам, – сказал он.
Медсестра, прикосновения которой были такими же шелковистыми и шоколадными, как ее кожа, овал ее милого лица и длинные ресницы, видимо, не собиралась говорить ему ничего лишнего, а просто повторила, что доктор сейчас обсудит с ним его положение.
Вчерашний доктор, которого сам Лопухин напрочь забыл, ярко улыбаясь, вошел в палату и сел на стул рядом с кроватью.
– Ну, что? – спросил он. – Как дела? Я доктор Андреас.
– Прекрасно, – нервно заговорил Лопухин. – Я художник. И мне нельзя отрезать правую руку. Это все равно что сразу убить меня. Вы понимаете?
Доктор Андреас погрустнел.
– Если мы не произведем ампутацию, вы погибнете. У вас поражена кость, все ткани гниют. Организм полностью отравлен. Подумайте сами, дружище. Ведь вы жить хотите?
Лопухин вдруг заметил, что лоб молодого доктора покрылся мелким бисерным потом. Он, видимо, волновался. Это его тронуло, но сдаваться он не собирался.
– Вы что, практикант здесь? – грубо спросил Лопухин.
– Нет, я давно уже кончил учиться, – ответил доктор Андреас, слегка удивившись бесцеремонности больного.
Лопухин на секунду ощутил зависть к нему, жизнь у которого, судя по всему, наполнена готовыми делами и ежедневными заботами, так что он не успевает томиться по работе, которая, может быть, ждет его в будущем, не знает диких волнений, когда подступает лихорадка любимого дела, не снятся ему эти все сновидения с их запахами, светом, яркими красками…
– А если я откажусь? – сказал он не доктору Андреасу, а, скорее, себе самому.
– У нас был консилиум, – вежливо объяснил тот. – Мы ждали, что придет ваша жена, но вот очень странно: она не пришла.
– К чему вам жена?
– Дружище, такое решение вы должны принимать вместе с женой, это правило.
Через несколько секунд вошел еще доктор – на этот раз пожилой, в коричневой бархатной бабочке под халатом, дорогих башмаках и песочных вельветовых брюках. Он быстро переглянулся с Андреасом, сел на кровать и руку с плоскими круглыми ногтями положил на одеяло.
– Ну, что же, поедем готовиться?
Взгляд его выпуклых, умных глаз, в одном из которых лопнул сосудик, и вокруг зеленого зрачка разлилась лужица крови, странно подействовал на Лопухина. От этого доктора веяло покоем, устойчивостью жизни, и даже в том, как он барственно и дружески положил руку с круглыми ногтями на одеяло, под которым пряталась умирающая рука Лопухина, было что-то настойчивое, властное, чему у Лопухина не было ни сил, ни желания сопротивляться.
– Протез будет полностью имитировать отсутствующую правую конечность, – негромко и медленно, словно гипнотизируя его, сказал доктор в бабочке. – Вы никогда не видели, как выглядят современные протезы?
– Но я же художник, – слабо возразил Лопухин.
– Понимаю. Очень понимаю и сочувствую. Но тут ведь вот какое дело: если не ампутировать, вы скоро погибнете. Антибиотики уже не работают. Стало быть: вы не художник с таким прогнозом. Протез же дает вам шанс. В пятидесяти случаях из ста левая рука берет на себя функции правой. Я не берусь ничего утверждать, мы же не в игрушки играем, но я позволю себе надеяться, что ваша левая рука не будет бездействовать и многое из того, что умела правая, возьмет на себя. Вам решать.
– А если я все-таки откажусь? – уставившись на бархатную бабочку до того, что она стала расползаться, спросил Лопухин.
– Ну, тогда… – доктор недоуменно развел руками. – Тогда нужно устроить небольшое юридическое мероприятие, на котором вы в присутствии судьи, вашей жены и пары свидетелей подпишете бумагу, в которой будет сказано, что вы официально отказываетесь от жизненно важной операции. Мы вас отпустим, будете, как обычно, приходить на перевязки, но, к сожалению, долго это не продлится. Сепсис – это быстрая, молниеносная вещь.
Бархатная бабочка стала бесформенным пятном, она заслонила собою не только доктора, стену и хрупкое сооружение отодвинутой к окну капельницы, но и небо, изо всех сил стремящееся влиться в палату своей доверительной голубизной. Ничего не осталось, кроме этого мигающего, темного пятна, внутри которого ждала смерть. Лопухин плакал и трясся от своих слез, не вытирая их и уже ничего не пряча.
Доктор Андреас погладил его по спине так, как гладят детей, когда пытаются их успокоить.
– You ll be fine, you ll be Ok, – сказал он. – You ARE an artist. You already ARE[3].
Лопухин поставил закорючку на какой-то бумаге, потом пришла шоколадная медсестра и еще раз померила давление. Потом пришла другая медсестра, улыбчивая, кудрявая, ярко-рыжая, и сделала кардиограмму. Минут через пять пришла третья с серьезным болезненным лицом, долго считала пульс, слушала сердце и, наконец, сделала какой-то укол. Лопухин неожиданно почувствовал нежную и благодарную любовь ко всему: этим медсестрам, доктору с бархатной бабочкой и доктору Андреасу, пустой белой кровати, которую с его кроватью разделяла тумбочка, столь доброму чистому небу, на котором сейчас остановилось чудесно вылепленное облако, напоминающее женское лицо, знакомое, кстати (какой-то певицы), но, главное его переполняла любовь и благодарность к своей забинтованной, страшной руке, которую он так и не сумел спасти. Уже не плача, он смотрел на нее и мысленно разговаривал с ней так, как когда-то разговаривал с маленькой парализованной болонкой Агнессы, которая изо всех сил смотрела на него своими угасающими глазками. Мысли его путались, но это была какая-то приятная, сладостная путаница, в которой все на свете вдруг соединилось и словно бы проросло друг в друга. А главное, не было смерти. Ее не было в том смысле, который пугает человека и невыносим для него, потому что человек не может принять того, что принимают все остальные живые существа. Они же – от крошечной божьей коровки до дерева – знают, что смерть – это не конец того, через что они уже прошли, а начало другого, через что еще придется пройти, но где это будет и как это будет, не знает никто.
Лопухина переложили с кровати на каталку, потом в сопровождении той же болезненной и серьезной медсестры перевезли в лифте на другой этаж и там вкатили в операционную. В операционной с ним коротко побеседовал анестезиолог, серьезная медсестра пожелала удачи, ушла, улыбнувшись неожиданно яркой и белой улыбкой, хирург, появившись в маске и шапочке, снял с себя маску и крепко пожал ему левую руку, а потом наступила легкая, покачивающаяся темнота, словно его опустили в аквариум.
…он писал портрет женщины, имени которой не помнил, но помнил, что она его жена и что от того, как получится этот портрет, зависит вся его жизнь. Он писал ее стоящей посреди неровного поля, засыпанного подмороженными, сероватыми, мелкими цветами, напоминающими засохших бабочек. Женщина была в летнем платье и теплом платке, наброшенном на круглые плечи, босая, спокойная, тихая. Лицо ее было, как показалось ему во сне, слегка похожим на лицо Моны Лизы, такое же мягкое, с задумчивым и ускользающим взглядом. Он чувствовал, что взялся за невыполнимую задачу, потому что Мона Лиза написана несравненным Леонардо, и ему, Юрке Лопухину, дураку и пьянице, нужно знать свое место и не лезть куда не просят, но в руке его, цепко держащей кисть, горел сильный, ровный огонь, как в печи, он слышал его гул, его слабое потрескиванье. Рука двигалась сама по себе, безошибочно нанося то светлые, то темные мазки, останавливаясь, увязая, выпархивая. В глазах его женщины проступило какое-то диковатое наслаждение, которое ничем не напоминало Мону Лизу и которого сам Лопухин слегка испугался. Рука его, однако, продолжала работать, она продолжала гореть, и он ей доверился…
Самолет из Нью-Йорка, где у Коли была пересадка и где он провел всю ночь, опаздывал. В церкви ей сказали на прошлой неделе, что лучше не летать компанией «Дельта», всегда опаздывает. Нина терпеливо ждала, глядя на табло и ни о чем не думая. Прошел час. Она зашла в уборную и попила холодной воды прямо из крана. Вернулась на прежнее место. Наконец на табло загорелось одно слово: LANDED. Значит, слава Богу, приземлился. У нее отнялись ноги, и, не чувствуя их, она подошла к той двери, откуда он должен был вот-вот появиться. Выходили разные люди, какого-то старика вывезли на инвалидном кресле, младенца с золотым пухом на голове вынесли на руках, а Коли все не было. По Нининой спине тек холодный пот, голова пылала. Но вот и он вышел. Он нисколько не изменился с того дня, когда они простились в киевском аэропорту, и даже рубашка была той же самой: в полоску, немного застиранной.
Она не бросилась к нему, она подождала, пока он подойдет, и тут упала на него, как падают на землю, если только представить себе, что земля принимает другое, перпендикулярное самой себе, положение. Она упала на него всем телом, в котором душа ее была растворена, как кусок сахара растворен в горячей воде, поэтому, если искать в теле душу, то вряд ли ее и найдешь – растворилась.
– Ну? – выдохнул он. – Вот и я.
Она не ответила, не оторвалась от него, не пошевелилась.
Свадьба
Cо своей первой женой Галиной Еремеевной я познакомился прямо перед армией. Тогда было принято, чтобы военнослужащие с девушками переписывались. Галина Еремеевна не была моей девушкой – мы с ней на каком-то дне рожденья один раз всего и увиделись, я ее даже не очень хорошо запомнил, но она мне дала свой адрес, и я написал ей письмо. Галина Еремеевна ответила сразу и прислала фотографию. На фотографии она мне понравилась. Особенно понравилась ее толстая белокурая коса, которая лежала на плече, как батон хлеба. Я до этого никогда не видел, чтобы у женщины были такие толстые косы. Только на елке у Снегурочки. Мне сразу начали сны сниться: расплетаю я эту косу, а она у меня в пальцах запутывается, выскальзывает, я тороплюсь, раздираю волосы руками, чуть не плачу от нетерпения, а Галина Еремеевна лежит тихо рядом, уже безо всего. Вернулся из армии, сразу женился. Через год дочка родилась: Елена. Еще через два года сыновья – близнецы. Иван и Петр.
Ни для кого не секрет, что в обычной семье люди грызутся и лаются, как с цепи сорвались. И дети с родителями, и родители между собой, и брат с братом, и сестра с сестрой. Летом, когда окна открыты, такое иногда из квартир доносится, что лучше не слушать. А ничего, все привыкли. Но у нас с Галиной Еремеевной никогда такого не было. Если она на меня обижалась, так только бледнела и глаза опускала. Я от этой ее привычки на стенку лез. «Поори ты на меня! – думал. – Хоть раз рот открой! Что ты как неживая?» А она – никогда. Побелеет, и все. Надо сказать, что недостатки у меня, наверное, были, не ангел, но я от нее не гулял. У нас в семье все мужчины такие: и отец мой, и дед. Порода, наверное. И я в них пошел. Один раз у меня женщина была в командировке, в Севастополе, но там такой воздух, деревья так пахнут, что не удержишься. И еще пару раз грех случился здесь, в Москве, когда жена с детьми летом отдыхать уезжала. Тоже понятно: темнеет поздно, жара, вокруг все томятся, на гитарах играют, слабый пол в сарафанах ходит, все наружу вываливает, а ты возвращаешься с работы, квартира раскаленная, вода в кране теплая, и печаль тебя всего охватывает, раздражение какое-то. Сильное, но приятное. Без женщины не справиться.
В целом мы с Галиной Еремеевной жили неплохо. Косы давно не было, да если бы даже и была коса, вряд ли я бы стал ее во сне видеть, а вот лицо у моей жены долго еще оставалось прежним: застенчивым, тихим. Улыбка открытая.
Но, как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Года два назад – ей как раз шестьдесят исполнилось – стала Галина Еремеевна все на свете забывать. То одно забудет, то другое. Сколько она разных вещей потеряла! Часы, очки, украшения. Про кошельки я уж и не говорю. Про ключи тоже. Имена стала забывать. Дни недели, даты. Про что ни спросишь – «не помню». Детей наших узнавала, а как кого зовут, забыла. Сначала стеснялась этого, сжималась вся, потом привыкла. Или просто замечать перестала. Зато взяла моду на меня раздражаться. Ей казалось, что это я во всем виноват. Бусы пропали – я куда-то спрятал, пальто в магазине оставила – это я ее торопил.
Тоска наступила, хоть домой не приходи. Раньше она к моему возвращению с работы прихорашивалась: то платок красивый на плечи накинет, то губы накрасит поярче. Душилась всегда, это у нас с самой свадьбы так пошло. Я ей лет сорок назад сказал, что мне нравится, когда от женщины духами хорошими пахнет. Она и старалась. Может, правда любила? А может, так, привычка. Во всяком случае, меня она дольше всех помнила: и имя мое, и кем я ей прихожусь. Не выпускала, так сказать, поводья из рук. Однажды пришли к доктору, он ее спрашивает:
– Ну, как у вас с настроением?
Она говорит:
– Намного лучше, чем раньше.
Он брови приподнял. А она ему объяснила очень складно, лучше любой здоровой:
– Я ведь теперь не слежу, когда муж домой приходит. Почему он задерживается, тоже не беспокоюсь. Даже спросить, где был, и то забываю.
Меня пот прошиб. Такая откровенность из нее вырвалась.
Но и это все, в конце концов, закончилось. Дома такую Галину Еремеевну держать было уже не по силам. Я не хотел работу бросать, в сиделку превращаться, а одну ее на полчаса нельзя было оставить. Уходила из дому гулять, а обратную дорогу забывала. Мне соседи рассказывали: «Идет твоя Галина, на улице мороз, а она в легкой кофте. Ничего не замечает, поет». Пару раз ее домой милиционеры доставляли. Елена, дочка, нашла однажды у самого метро, а от нашего дома это не меньше километра. Никаких родственников, на которых можно положиться, у нас не было. Да и кому охота с больным человеком сидеть? Сам заболеешь.
По большому блату и за хорошие, кстати, деньги устроил я жену в дом престарелых артистов. Дочка помогла, она осветителем сцены работает. Все в нашей семье вздохнули с облегчением. Галина Еремеевна теперь вращается среди таких знаменитостей, что мне иногда даже не по себе становится. Вот вам картина: вывезут их утром в залу, все на инвалидных креслах, все в чистых халатиках, в белых носочках, и давай они кружиться! Кресла ведь эти с ручным управлением. Такую скорость престарелые артисты иногда развивают, чертям тошно! Случаются, конечно, столкновения, но это предусмотрено, обходится без травм. Когда я Галину Еремеевну туда сдавал, на нее смотреть было больно: зрачки потухли, волосы клочками, шея торчит, как у черепахи. А главное – выражение лица. Скорбное, измученное. Как будто она свой век дожила и ничего у нее, кроме скорби, не осталось, даже воспоминаний. Пришел через месяц ее навестить и глазам своим не поверил. Совсем мне другую женщину выкатили. Волосы седые на косой пробор, заколка в виде рыбки, как у школьницы, а тапочки белые. И смотрит спокойно так, доброжелательно.
– Галина! – говорю, – Тебя не узнать!
А она мне честь отдает:
– Ефрейтор Чугрова на связи!
Весной я собрался жениться. Оформить развод с Галиной Еремеевной – дело простое. Она же все равно ничего не помнит. Развелся, но дал себе слово навещать ее в этой богадельне и, главное, деньги платить за ежемесячное содержание. Мы все теперь скидываемся: я и трое детей – они уже взрослые, больше моего зарабатывают, – так что ни бывшую жену, ни мать на произвол судьбы не оставили.
Сразу после развода я поехал в санаторий. Врать не буду: очень хотел познакомиться с какой-нибудь помоложе. Блондинкой, обязательно блондинкой, потому что брюнеткам я никогда не доверял. Могу и доказательство привести, почему им доверять нельзя, но это не сейчас. Я, еще когда Галина Еремеевна дома жила, решил, что нужно вторично жениться, семью завести. Внебрачные связи мне никогда не нравились. Подцепишь дрянь какую-нибудь. Бабу дрянную подцепишь, потом от нее не отделаешься. Будет мне телефон по ночам обрывать. Я вообще человек терпеливый, но, когда ночью спать не дают, во мне просто зверь просыпается.
В первый же вечер за ужином мы познакомились с Люсей. Про возраст она, может, и привирает. Говорит: сорок пять. Мне кажется, что там за пятьдесят перевалило, потому что шея у женщины всегда возраст выдает, я по Галине Еремеевне помню. Как женщине пятьдесят стукнет, у нее на шее ниточки такие появляются, тонкие, но глубокие, как на древесной коре. Но Люся говорит: сорок пять, – и я не спорю. По мне, чем моложе, тем лучше. А в паспорте тебе сейчас за деньги вообще любую цифру напишут: хоть сто, хоть шестнадцать.
Моему предложению Люся очень обрадовалась и сразу начала к свадьбе готовиться. Мне эта свадьба с самого начала была хуже горькой редьки. Лучше куда-нибудь в Эмираты слетать. Или в Турцию. Сейчас ведь недорого. Все уже наездились, наплавались, назагорались и опять на свои дачные участки потянулись, к огурчикам да к помидорчикам. Но Люся уперлась: «Хочу чтобы свадьбу!» И список гостей составила. Я только одно спросил: «Сколько будет народу?» Она говорит: «Не больше тридцати пяти человек, не бойся!» Пришло, конечно, человек семьдесят. Она и школьных подруг позвала, и из техникума, и соседок по общежитию, ну, и родственников, конечно. Показала мне список. Против каждой фамилии написано, кем ей этот человек приходится.
Сняли ресторан у китайцев, не дорогой ресторан, но места много. Люся на платье сэкономила: купила у одной своей подруги. Та уже тринадцать лет как развелась, а свадебное платье все в шкафу висело: думала, может, опять пригодится, потом располнела так, что в дверь не влезает, и платье решила продать. Фату и туфли Люся купила новые.
Детям, конечно, пришлось сообщить заранее. Сыновья сперва опешили, потом хохотнули слегка, стали меня по плечу хлопать:
– Ну, отец, ты даешь! Крестины-то скоро?
Елена, дочка моя, ничего не сказала. Мне всегда с сыновьями было проще, чем с ней. На них я и прикрикнуть мог, и руку пару раз поднимал. Они ничего, не обидчивые. А эта – как что не по ней – побледнеет, вроде Галины Еремеевны, и глаза опустит. И как-то мне всегда от этого тошно становилось. Старался с ней не связываться, все на мать перекладывал.
– Ты, Галина, – говорил, – сама со своей дочерью разбирайся.
Галина Еремеевна, пока здорова была, очень хорошо с Еленой ладила. Понимали они, что ли, друг друга, не знаю. Знаю только, что когда у Елены не ладилось в жизни, она сразу к маме бежала. Забьется к ней под одеяло, и шепчутся они всю ночь. Я тогда в столовую шел спать, ни во что не вмешивался. Ну, а как Галина Еремеевна заболела, Елена очень переменилась и стала меня избегать. Только и видел ее опущенные ресницы. И разговаривала она со мной не так, как раньше, а тихо-тихо, почти что шепотом. Поэтому и я невольно свой голос понижал. Плохо нам было друг с другом, совсем плохо. А тут приходится такую новость сообщить! Я даже речь приготовил. Думал, скажу так: «Дочка! Мне ведь всего шестьдесят три года. Человек я крепкий, на здоровье не жалуюсь. Очень еще пожить хочется. Мы с твоей матерью друг друга любили, уважали, взаимно поддерживали. Ну, случилось такое несчастье: мать рассудок потеряла. Что же, и мне теперь себя похоронить? Ты меня пойми. Сама ведь уже замужем, взрослая, должна такие вещи понимать». Тянул я, тянул с этим разговором и сыновей просил не лезть раньше времени. Дождался, пока Елена ко мне приехала, что-то ей из материнского шкафа нужно было достать, и говорю ровно теми словами, как приготовился:
– Дочка! Мне ведь всего шестьдесят три года. А она побледнела и тихо-тихо меня спрашивает:
– Не наигрался еще?
Я чуть не взорвался. Вся в мать пошла! Та ведь тоже мне нервы трепала: сначала вот так побледнеет, потом из нее неделю слова не вытянешь. Наверное, и рехнулась, в конце концов, от своей этой скрытности.
– Ты про что? – спрашиваю. – Про какую игру? Но она губу закусила, все, что из шкафа вывалила, подбирать не стала, и бегом в прихожую. Я за ней.
– Брось, – говорю, – свои фокусы! Надоело! Я с матерью твоей знаешь сколько этих фокусов насмотрелся?
Застыла, молчит. И уходить – не уходит, и слова не произносит. Смотрит в одну точку. Мимо меня, конечно. Я справился со своей злобой и говорю ей по-хорошему:
– Ты, дочка, на свадьбу придешь? Братья твои обязательно там будут. С женами.
– Приду, – говорит. – Не одна.
Я подумал, что она про мужа своего говорит, про Юру. Он тоже в театре осветителем работает.
«Ладно, – подумал я, – вроде обошлось. Самое трудное позади».
Но настроение она мне в тот день очень сильно испортила.
Люся потребовала, чтобы обязательно венчаться. Дурацкая, конечно, затея. Я лично человек неверующий, мне эти спектакли ни к чему. Но нельзя с первого дня с новой женой ругаться. Тем более церковь все-таки. Старинный обряд.
Обвенчались мы утром, сразу после загса, священник попался молодой, расторопный. За сорок минут управился. Взяли недорого: шесть тысяч. Люся во время венчания глаза прикрывала, изображала, наверное, как она глубоко все переживает. Наконец, к двум часам добрались до китайского ресторана. Я был голодный, как черт. Пошел на кухню, взял себе кусок студня, съел, рюмочку опрокинул. Сразу внутри потеплело. Вернулся обратно. Люся в белом платье, в фате до пят стоит у дверей, гостей встречает. Пришли мои сыновья: Петя и Ваня с женами, и зять пришел, Юра.
– А где, – спрашиваю, – Елена?
– Она попозже придет, – говорит. – Ее на работу попросили выйти. Опоздает немного.
Мне что-то сразу в этом ответе не понравилось. Но я больше всего не люблю в своих эмоциях копаться, никогда до добра не доводит.
Пошла, значит, свадьба. Тосты, поздравления, начали даже «горько» кричать. Но я жест такой рукой сделал, что, мол, вот этого не нужно, не перебарщивайте. Дети ведь тут мои сидят, неловко. А Елены, кстати, все нет и нет. Я на Юру через стол поглядел и спрашиваю его глазами: где Елена? А он отвернулся. Поставил перед собой бутылку водки и все подливает. Весь огненным стал. «Поругались, – думаю. – Издевается она над парнем. А у него моей твердости нет. Совсем подкаблучник».
Перед тем как сладкое принесли, началась музыка с танцами. Музыканты оказались азартными, играли все, что заказывали. Мы тоже с Люсей потоптались, обнявшись, потом она к кому-то другому перепорхнула, потом к третьему. Я на это никакого внимания не обратил: пусть себе прыгает, я ее постепенно к порядку приучу, не все сразу. Отошел к окну, высунулся на улицу, весной подышать. Странное какое-то у меня было чувство внутри. Я про Галину Еремеевну даже не вспоминал: при чем тут Галина Еремеевна, если я новую жизнь начинаю? Она свое отжила, пусть ей теперь тепло будет в ее богадельне, пусть она там кушает себе на здоровье, а мне нужно дальше двигаться. И тут за спиною как грянут «Калинку»! Музыка до того зажигательная, что все в пляс пошли: и трезвые, и пьяные. Кто платочком замахал, кто руки в боки упер. Веселятся люди, на свадьбе гуляют. Начал я к своей молодой протискиваться. Она в самом центре пляшет, туфли новые скинула, фату подобрала, щеки горят. «Ну, ладно, – думаю, – пора и мне стариной тряхнуть. А то, как старик: все в окошко гляжу. Сейчас покажу вам, где черти зимуют».
Но я не успел, слава Богу.
Открывается дверь, и появляется дочь моя старшая, Елена. Толкает перед собой инвалидное кресло. А в кресле – Галина Еремеевна. В тех же самых белых тапочках, и та же заколка на ней в форме рыбки. Не знаю, как я в этот момент выглядел. Наверное, страшно, но я себя не помню. Помню, что к полу прирос, и по спине у меня пот потек ручьями. Музыка оборвалась сразу, будто ее ножницами перерезали. Вот говорят: «лучше сквозь землю провалиться», и правильно это говорят. Есть в жизни такие минуты. Тишина наступила гробовая. Смотрю на Галину Еремеевну. Она веселая сидит, довольная, словно ее и впрямь в гости привезли. Мне головой своей седой, с заколочкой-рыбкой, кивает:
– Здравствуй! Здравствуй!
Понимаю, что имени не помнит и, кто я, тоже не помнит, но такая приветливая, такая ко мне дружелюбная, ласковая!
– Как дела? – спрашивает. – Все у тебя хорошо? И у меня тоже все хорошо. Мы вот гуляем тут с Лялечкой.
«Лялечкой» она иногда Елену называла, когда та маленькой была. У меня в голове застучало: то ли бежать броситься куда глаза глядят, то ли Елену по морде так ударить, чтобы от нее мокрое место осталось, то ли вырвать у нее из рук это кресло и на улицу. С другой стороны: а что я на улице с Галиной Еремеевной буду делать? Такси не поймаешь. Да и не факт, что Галина Еремеевна не разорется от страха благим матом, тогда еще хуже. А вокруг по-прежнему молчание. Кто-то, слышу, закашлялся, на него зашикали, как в театре. Я к самому креслу подошел, и тут Галина Еремеевна руку мне протянула. Робко так, приветливо. Я до того растерялся, что руку ей быстро пожал и тут же этой рукой – как вдарю Елене пощечину! У нее все лицо распухло за одну секунду. Крепко я вдарил.
– Лялечка! – зашептала Галина Еремеевна. – Деточка моя! Иди скорей к маме! Мама тебе все объяснит! Не плачь только, Лялечка!
Вокруг все что-то говорить начали. Все разом, и громко, будто плотину прорвало. Кто-то врача пытался вызвать по мобильному, кто-то кричал, чтобы я перед дочерью немедленно извинился. А я посреди всего этого бардака ничего не видел. Одну Галину Еремеевну. Сидит она, сжавшись, на своем кресле, испуганная до полусмерти, ноги в тапочках под себя поджимает, и губы дрожат.
– Деточка моя! – бормочет. – Лялечка! Не плачь только, деточка! Потерпи.
«Ну, все! – думаю. – Хватит с меня! Нечего мне с этой хулиганкой, церемониться! Отца опозорила!»
Начал Елену от Галины Еремеевны отрывать, а у нее пальцы, как клещи, железные. Примерзли, и все. Тут на меня сзади кто-то навалился. Обернулся: а это зять мой родной, Юра. Пьяный, страшный, лицо сизое, глаза из орбит вылезают. Я его оттолкнул, но он мужик крепкий. Пошатнулся и опять на меня, с ревом, слюной брызжет.
– Не лезь куда тебя не просят! – прошу. – Я сам со своей дочерью разберусь!
Ревет, весь в соплях, и опять с кулаками. Главное, что вокруг никто не вмешивается, даже сыновья мои. Стоят и смотрят. И жены их тут же. Как два манекена.
– Юра! – говорю. – Тебе скандал нужен? Тогда давай по-честному: я тебя сейчас по стенке размажу и чтобы духу твоего здесь не было!
Пиджак на пол скинул и правую ему руку скрутил таким приемом, которому еще в армии научился. Я много лет самбо занимался, вот и пригодилось. Он пополам согнулся, хрипит, а разогнуться не может.
Вдруг Галина Еремеевна приподнялась на кресле. Встать-то ей трудно, давно ноги не держат, но и приподниматься она, как я понимаю, давно не пыталась. А тут оперлась на Елену, повисла на ней и машет ладошкой:
– Деточки! Извините меня! Деточки! Потерпите! Слово даю, я никогда ничего такого в своей жизни не испытывал. Чувствую, горло перехватило, во рту соль. И Юра опомнился. Мы уже и драться не деремся, друг на друга не смотрим. Елена Галину Еремеевну обняла, обхватила ее голову, все лицо материнское в себя вдавила, а мать вырывается и опять:
– Деточки! Извините меня! Потерпите, деточки! Ну, что дальше было? Ничего не было. Елена с Юрой кресло обратно на улицу покатили, за ними Ваня с Петькой побежали. Я еще слышал, как Галина Еремеевна на всю улицу плакала, горько так, низко, и все что-то объяснить пыталась, все у кого-то прощения просила. Потом все затихло. Уехали, видимо. Гости сразу разошлись. Ни одного не осталось. Принесли китайцы пирожные с фруктами, а зала пустая. Одни мы с Люсей. Она фату с себя сорвала, лицо несчастное, слезы текут. Сразу стало видно, сколько ей на самом деле, а не по паспорту.
– Ну, вот, – говорю, – хотела ты, милая, свадьбу. Молчит.
– Ладно, – говорю. – Поехали домой.
Смотрит на меня затравленно, словно я ее ударить могу.
– Поехали, поехали! – тороплю. – Всяко в жизни случается.
Она пошла в уборную, переоделась и туфли сменила на обычные босоножки. Поймали частника, поехали к себе на Шаболовку.
Сейчас она спит, а я вот сижу, вспоминаю. Что завтра-то будет?
Случайная встреча
После развода со вторым мужем мое тело стало гореть, словно сухое полено, брошенное в закрытую печь. Боли не было. Мне не хотелось ни кричать, ни сопротивляться. Я просто горела. Другие поленья в печи от удушья скрипели, звенели и брызгали искрами в красную гущу. Я знала, что это еще не конец и нужно привыкнуть.
Ни первый мой муж, ни второй не успели убить меня. Хотя каждый из них стремился к этому по-своему: Володя многодневным ожесточенным молчанием, Всеволод – скандалами с перевернутым обеденным столом и разбитой посудой. На молчание я отвечала молчанием, на разбитую посуду – тоже молчанием. Каждый из моих разводов напоминал побег. Я убегала по льду, прикрытая черным, во многих местах порванным платком, и лед прожигал мне ступни. Он тихо и грозно гудел, готовясь к тому, чтобы вытолкнуть воду, в которой утонем и я, и ребенок. Ребенок бежал за мной следом, босой, как и я, и тоже прикрытый платком.
Это был мой сон, много раз повторившийся за эти одиннадцать лет.
Всеволод появился через три месяца после Володи и усыновил моего Юрочку. Володя сначала возмутился, потом его отозвали на Дальний Восток, где немолодая уже женщина родила ему сначала двоих сыновей, потом, через год, и двух дочерей. Бывшая свекровь показала мне фотографию: хмурый и толстый Володя держит на одном колене кудрявых мальчиков, на другом – лысых новорожденных девочек. Он забыл про нашего сына, тем более что оба колена его были заняты. Всеволод стал отцом Юрочки, но был с ним суров не по-отечески. Я оказалась столь неопытна в чувствах, что перепутала строгость со злостью и мечтала только о том, чтобы в нашей новой семье все быстро наладилось. Однако со временем стало казаться, что – как ни убирала я нашу единственную комнату и крошечную кухню, как ни надраивала кастрюли, как ни крахмалила постельное белье, а главное: как ни проветривала, – запах несвежего старого тела пропитывал собою все, к чему я прикасалась. Как будто бы кто-то, невидимый, гнил не то на полатях, не то под обоями.
Между тем Всеволод начал делать вид, что ревнует меня, и скандалы в нашем доме стали такими же частыми, как майские грозы. Я не верила тому, что он и в самом деле ревнует, потому что искренне не замечала в это время никаких мужчин. У Всеволода был волевой подбородок, глаза мягче бархата, темные брови. Женщины обращали на него внимание даже в троллейбусе. Когда он входил, они липким контральто вздыхали во влажном тепле и как будто плескало морскою волной: «А-А-Ах!» Но он делал вид, что все вздохи ему совсем безразличны. Может быть, оттого, что безразличны они не были, Всеволод и ополчился на мои «измены». Юрочка чувствовал приближение скандалов, как звери чувствуют приближение холодов. Он забирался под стол и тянул на себя скатерть, пытаясь укутаться ею. Через полгода я увидела, как Всеволод целуется с нашей соседкой Галинкой на лестничной клетке. Сломался лифт, я поднималась по ступеням, и на втором этаже, возле батареи, Всеволод целовал кругломорденькую, с пушком над серебряной губкой Галинку, чье совершеннолетие мы только что всем нашим домом отметили. Я ойкнула. Галинка раскрыла глаза, зажмуренные в поцелуе, смутилась и тоже заоикала. Развод наш был все же немного кровавым, поскольку мы долго делили квартиру. В конце концов, он взял деньгами.
И сон, как я в черном рванье убегаю, опять повторился.
Итак, я осталась одна. Вернее, с ребенком. Ребенок был тихим, себе на уме. Но это от боли. Бывает, что дети от боли взрослеют. Бывает, что резко умнеют. Бывает, что вдруг начинают безумствовать: красть вещи, к примеру, пытаться уехать в каком-нибудь грязном товарном вагоне. А мой стал себе на уме и притих. Но я не заметила этого. Во мне забродила тяжелая злоба. Она поднималась со дна, не давала мне спать по ночам, пожирала меня. Тогда я решила, что нужно клин клином, иначе не выжить.
Я стала ходить в нашу красноярскую филармонию, потом в театр оперетты, надеясь познакомиться с приличным человеком. Филармонию посещали в основном старики и студенты музыкального училища, а в оперетте было скучно: по сцене скакали козлами мужчины во фраках и пели, а в зале сидели семейные пары. В антракте я покупала себе кока-колу со льдом и тянула ее через трубочку, прислонившись к колонне. Семейные пары проплывали мимо, как иностранные суда. Глядя на накрашенные лица женщин и тихие, с местью в зрачках, лица спутников их, я видела, как в топках этих судов орудуют сотни чертей: они пляшут у грязных котлов, серый пар не выходит, как нужно, в трубу, а сгущается в тучи, и каждый из этих судов под угрозой.
Мысль о новом замужестве вызывала тошноту. Чего я хотела? Не знаю. Наверное, только любви. Да, именно так. Я хотела любви. А жизнь выжимала меня, как белье, выдавливая из сосудов и мышц, из кожи, из глаз, из печенки и легких потоки и сгустки отчаянья.
Резинкин, одноклассник и первая моя романтическая привязанность, приехал в Красноярск из Москвы всего на неделю. В Красноярске у него жили родители, скромные, непьющие, похожие друг на друга, словно они были не мужем и женой, а однояйцевыми близнецами. Но, кроме того, чтобы повидаться с родителями-близнецами, Резинкин заглянул в родной город по делу. Слово «дело» давно вышло из людского употребления и стало звенящим и крепеньким:
«бизнес». Резинкин приехал по бизнесу. Он позвонил мне вечером после самолета, и я вдруг обрадовалась так сильно, как будто приехал жених или брат.
– Давай повидаемся, Аннушка, – сказал мне Резинкин.
Голос у него остался таким же мальчишеским, и он точно так же пришепетывал. Это окончательно растрогало меня. Утром Резинкин был занят, а я не пошла на работу, потому что заболел Юрочка. У него поднялась температура, и кашлял он гулко, с надрывом и хрипами. Я вызвала врача. Юрочку послушали, заглянули в его темно-красное, воспаленное горло и сказали, что это вирусный грипп. Я испугалась, что наша встреча с Резинкиным не состоится, потому что мама моя стала капризной, могла и отказаться посидеть с заболевшим Юрочкой, раз у него грипп. Помню, как я стояла у окна своей жаркой комнаты, в которой сильно пахло водкой и подсолнечным маслом – Юрочке поставили водочно-масляный компресс, – смотрела на слабый снежок, летящий с высокого неба, и слезы душили меня.
– А мне ничего и не нужно! – шептала я в это высокое небо. – И пусть ничего не получится! Пусть!
Мне стало казаться, что все вокруг врут, стремясь доказать, что у них все в порядке, а я не хочу и не буду. Зачем? Мой Юрочка снова закашлял во сне, и я наклонилась, пощупала лоб. Он был все таким же сухим и горячим.
Почему я до сих пор не могу забыть эти тоскливые минуты в комнате, отсуженной у мягкоглазого Всеволода, светлеющий в сумерках профиль ребенка на синей, в бордовых цветочках, подушке, и запах компресса из масла и водки? Никак не могу. Это не забывается.
Мама позвонила и сказала, что придет через час и отпустит меня на встречу с Резинкиным.
– Он, кстати, женат? Анатолий Резинкин? – спросила она. – Очень славный был парень.
– Он, кстати, женат, – объяснила я ей.
– Ах, Боже мой! Да наплевать! – вспылила она. – Ты можешь дружить, с кем ты хочешь! Пожалуйста!
Резинкин явился с букетом. На нем была длинная серая дубленка и синие узкие джинсы. Ботинки, похожие на ковбойские сапоги, звякали своими железными подковами, пока он шел от входной двери в комнату, и по звуку можно было подумать, что это пришла лошадь.
Я тоже принарядилась, но мне было далеко до Резинкина. Кроме того, у меня ведь ничего и не было, кроме белых итальянских брюк, купленных в комиссионке, и двух связанных мамой кофточек. Все остальное, висевшее в шкафу, можно было носить на работу, но для свидания с москвичом, приехавшим к нам по бизнесу, не годилось. Я надела белые брюки, туфельки, не подходящие для вновь насыпавшего снега, и одну из этих нарядных и очень модных, как думали мы с мамой, кофточек. Зимнее пальто было старым, с полинявшей подкладкой, поэтому я легкомысленно набросила на плечи совсем тонкое, тоже купленное в комиссионке, мышиного цвета, весеннее. Все вместе смотрелось, наверное, странно, поскольку был март, еще длилась зима, а я нарядилась, как будто иду гулять с ухажером по солнечной Ялте.
– Не замерзнешь, сибирячка? – заботливо спросил меня роскошный кавалер Резинкин и тут же хлопнул себя по лбу. – Да мы же такси можем взять! Конечно! Какие проблемы!
Он остановил первую попавшуюся машину, мы сели на заднее сиденье, и Резинкин тут же начал обнимать меня и целовать в губы.
– Соскучился, Анна, – шептал он, моргая. – Ужасно соскучился я по тебе!
Слюна у него была жгуче-соленой, как будто Резинкин недавно съел воблу.
– Сначала, конечно, поужинать нужно, – и он укусил меня в щеку. Легонько, как Мура, соседская кошка, кусается, когда ее не выпускают гулять. – Потом мы поедем…
– Куда мы поедем! – Я вырвалась. – Юрочка ведь заболел!
– Поправится Юрочка! Ну, заболел… Все дети болеют.
В ресторане было много народу, играли грузины: два скрипача и пианист. Резинкин хлопотливо разместился за столиком, снял с меня пальто, с себя дубленку, бросил все это на свободный стул, отодвинул вазочку с цветами и жадно схватил меня за руки.
– Сдавать в гардероб наши вещи не будем? – спросил его официант и согнулся почти пополам. – Тут хотите оставить?
– Да некогда нам! – отмахнулся Резинкин. – Хотя… Знаешь что? Попроси, чтобы сдали, а мы тут пока что покушать закажем.
Подбежала молоденькая официантка с оттопыренным, как у африканки, задом, схватила в охапку пальто и исчезла. Вернулась минут через пять, Резинкин засунул ей деньги в карманчик.
– Ну, Аннушка, что будем пить? Водку любишь? А я коньячок. Есть у вас арманьяк?
Согнувшийся официант погрустнел, ответив, что нет арманьяка – увы, его нет, – зато водочка есть и разных коньячных напитков в избытке.
– Ну, что же вы, сибиряки? Несолидно! – сказал ему добрый веселый Резинкин и сразу уткнулся в меню.
Я тоже открыла и с первой страницы увидела, что лучше сразу закрыть. Любая закуска здесь стоила больше, чем я получаю в неделю.
Резинкин ел быстро и жадно. Он не сомневался, что эта ночь – наша, поэтому так торопился. Шашлык слегка зачернил его крупные зубы.
– Сухой! – Он кивнул на шашлык. – Ты подумай: хорошее мясо – и так погубить!
Тогда я спросила его про семью.
– У тебя ведь двое детей, Толик? Или я что-то путаю?
– Двое, двое. – Он буркнул, уткнувшись в тарелку, и уши его стали красными.
Я вспомнила, что у него еще в школе всегда были красные уши. Мне вдруг стало весело.
– Чего? Я ведь правду сказал! – Он не понял. – Ну, двое детей у меня.
А я все смеялась.
– Ты, Анна, такой не была! – Резинкин понурился. – Анна! Я помню, ты грустной была, молчаливой девчонкой. Но жутко красивой.
– Сейчас подурнела? – спросила я весело.
– Нет, не подурнела, – сказал он серьезно. – Но что-то в тебе изменилось. Сломалось как будто.
– Воды утекло знаешь сколько, а, Толик?! Да больше воды, чем у нас в Енисее!
Резинкин под белой пышной скатертью зажал мои ноги своими ногами. Ковбойский каблук больно стукнул по щиколотке.
– Послушай! – сказал мне Резинкин. – Ты думаешь, что вот, мол, приехал, богатый, и хочет немного расслабиться. Так? Ну, так ведь ты думаешь? Ну, признавайся!
– Совсем я не думала.
– Честно, ну, честно!
– Да честно, не думала.
У него было мальчишеское лицо, похожее на то, которое я знала в школе, и голос был прежний: смешной и мальчишеский. Вообще он был все-таки Толей Резинкиным, и я ему нравилась так же, как раньше.
– Поедем отсюда, Анюта! – сказал он.
– Куда?
– Все потом объясню!
Резинкин поспешно схватил меня под руку. Потом вдруг доел свой шашлык одним махом и вытер хрустящей салфеткой губы. Допил из бутылки коньяк и при этом решительно прополоскал им же рот. Он, как полководец, знал каждый свой шаг.
– Соскучился я, – повторял он в такси, где пахло духами и высохшей рвотой. – Соскучился я по тебе, хуже некуда!
Через двадцать минут мы подъехали к гостинице, которая раньше называлась «Советской», а лет пять назад ее переименовали в «Красноярскую». Осенью прошлого года в банкетном зале этой гостиницы играли свадьбу моей сестры Наташи. Вскоре после свадьбы ее молодой муж утонул в Енисее. Была, правда, версия, что кто-то сильно ему тогда в этом помог. Наташа и мама не стали копаться: боялись. И, думаю, правильно сделали. Идти в «Красноярскую» мне не хотелось, но и объяснять, почему, было поздно. Резинкин ворвался в фойе. За стойкой высокая, с властным лицом, стояла дежурная. Тягуче она сообщила, что номер в гостинице уже не сдается на час или два. На сутки – пожалуйста. Так же, как было при Ельцине и Горбачеве.
– Не важно, не важно! – сказал ей Резинкин. – Пусть будет на сутки. Как при Горбачеве!
– Я предупредила. – Она застучала ногтями в компьютере. – Бывает, приходит какой-нибудь, даже не скажешь по виду, и тут начинает… «Верните мне деньги, верните мне деньги!» А мы отвечаем: «Вас предупредили? Вы разве глухой?»
Она улыбнулась спокойной улыбкой.
– Понятно! – сказал ей Резинкин. – Ну, люди!
Наконец мы получили ключи, и по длинному, красной ковровой дорожкой покрытому коридору подошли к двери, на которой висел номер 113. Внутри было душно, как в бане.
Резинкин толкнул меня прямо в кровать и тут же содрал с меня белые брюки.
– Давай хоть немножечко поговорим! – взмолилась я. – Толя! Ну, не по-людски!
– Еще даже как по-людски! – дыша шашлыком и коньячным изделием, ответил Резинкин. – Совсем по-людски!
Наверное, он был по-своему прав: о чем нам сейчас говорить? И зачем? Я вытянулась под своим старым другом и дернула шнур выключателя. Стало темно и тревожно. В окне летел снег, и тяжелое зеркало казалось серебряным. Резинкин любил меня так горячо, с такою неистовой жадностью, словно последние годы провел на войне и истосковался, воюя, по женщинам. Поэтому наша любовь вскоре кончилась. Он вскрикнул, как раненный в сердце, зажмурился, сжимая мне грудь своей потной рукой. Прошло минут пять или, может быть, больше.
– Уютно с тобой, – прошептал вдруг Резинкин. – Намного уютнее, чем с остальными. А можно я, Аня, немножко посплю? Сама виновата: всего разморила…
– Спи, спи! – разрешила я, вспомнив, что дома болеет мой Юрочка. – Толя! Ты спи, отдыхай, я пойду потихонечку…
– Куда-а-а ты пойдешь? – прорычал он сердито. – Пойдет она, здрасьте! У нас с тобой ночь!
Я выскользнула, пошла в душ. Вернулась: Резинкин уже крепко спал.
Дежурная с властным лицом говорила по двум телефонам. Увидев меня, она просто спросила:
– А что ж вы так быстро? Уже?
– Да, уже, – ответила я. – Да чего там возиться? Но он еще спит.
– Пусть поспит, – кивнула она. – Оплатил ведь за сутки.
Я вышла на улицу. Отяжелевший, осипший от снега и сырости ветер рванул мои волосы и отпустил.
– Куда вас подбросить? – Машина, визжа протертыми шинами, остановилась.
Я села и четко сказала свой адрес. Шофер был без шапки, смотрел исподлобья. Спросил, можно ли закурить. Я кивнула. Доехали быстро, минут за пятнадцать.
Юрочка спал, и мама спала рядом с ним на диване. Она встрепенулась, услышав меня, и приподнялась – в своем старом халате, с торчащим пучком на затылке.
– Вернулась? Я чуть было не позвонила в милицию!
– Еще и двенадцати нет.
– Все равно. Теперь я одна за тебя отвечаю. Когда ты при муже жила…
– При каком? Их два было, не забывай.
– Да не важно! – Она отмахнулась. – Где Толя Резинкин?
– Наверное, дрыхнет в гостинице.
– Господи! В гостинице дрыхнет?
– А где же еще? На улице холодно. – Я сняла туфли.
– Ты циник, – сказала она. – Просто циник.
– Я очень устала. – Я громко зевнула. – Ужасно устала.
Легла рядом с ней на диване.
– Ну, спи, – сказала она. – Только кофту сними. Испортишь. Красивая кофта, помнется.
Резинкин позвонил в полдень. Мамы уже не было, я кормила Юрочку гречневой кашей.
– Анна, я скотина, – грустно сказал Резинкин. – Я что-то совсем оборзел. Извини.
– Да ладно тебе! Не за что извинять, – ответила я.
– Я хочу с тобой встретиться. И все объяснить.
– Объясняй. Только быстро.
– А можно зайти? Хоть на десять минут?
– Нельзя. Говорю тебе: Юрочка болен.
– Да, помню, – сказал он убито. – Послушай! А я ведь женат.
Я расхохоталась.
– Ну, что ты смеешься?
– А что ты хотел?
– Хотел, чтобы ты одну вещь поняла. Мне очень с тобой хорошо. Просто очень.
Я стиснула зубы.
– Ты нравишься мне, – сказал он угрюмо. – А я? Тоже нравлюсь?
– А то! Очень даже.
– Не врешь? – Он обрадовался. – Поклянись!
– Клянусь: очень нравишься. Что ты, ей-богу!
– Тогда у меня предложение, Анна, – и он задышал очень громко и быстро. – Ты только подумай сперва, не отказывай.
– Какое?
– Приедешь в столицу на майские праздники? Я ахнула.
– Толя! Семью куда денешь? Отправишь в Дубай?
– Нет. В Дубай не отправлю. Но я никогда деловых своих встреч на праздники не отменяю.
– Так я, значит, встреча твоя деловая?
– Не надо так, Анна. Я правду сказал.
Мне нравилось, что он простой. Он не врал. Вернее, конечно, он врал, но не мне. А до остальных никакого нет дела.
– Ну, ладно, – сказала я вдруг. – Я приеду. Скажу маме, что семинар. Очень важный. Для вузовских преподавателей, вот что.
– Я денег оставлю! – Резинкин дышал так громко, что ухо болело. – С запасом! Билет сама купишь. Там разные рейсы…
– Куплю, – согласилась я.
– Анька! Я счастлив!
Я чувствовала, что слетаю с катушек. Та злоба, которую я прикормила, оставшись одна, не давала покоя, она раздувалась, как жаба под тиной. Ее нужно было кормить. Чем угодно: скандалами с мамой, слезами, бессоницей. Столица на майские праздники – блеск!
Как раз то, что нужно. Слетаю в столицу. Наставлю рога неизвестной москвичке.
Перед отъездом Резинкина мы встретились у нашей бывшей школы. Тепло было, и облака в синем небе, густые, как сливки, стояли над нами и не уплывали: им тоже хотелось каких-то событий. Резинкин достал пачку денег.
– Тут хватит, – сказал он немного смущенно. – Ты не экономь, не стесняйся, Анюта. Сниму тебе номер в гостинице «Спутник». С тридцатого вечера и по шестое. Подходит? Нормально?
– Ты – радость моя! – и я засмеялась, скрывая неловкость. – Примчался, как принц на коне, осчастливил! Везет мне…
– Ну, Аня! – Резинкин скривился. – Зачем так?
Он поцеловал меня в губы. Смутившись, все сливочные облака разбежались, как будто им стало неловко и скучно. В троллейбусе я посчитала купюры. Хватило бы и на четыре билета. И тут меня словно ужалило что-то: зачем мне лететь самолетом, когда и поездом можно доехать? Дешевле! Я выеду вечером двадцать седьмого, тридцатого буду в Москве, вот и все.
Юрочка никак не мог поправиться до конца, и только я отводила его в детский сад, кашель снова возвращался, а по ночам поднималась маленькая температура.
– Какой еще семинар! – Волнуясь, мама всегда косила левым глазом, и зрачок ее вплывал глубоко в переносицу. – Какой семинар еще, Аня! Ребенок болеет, а ей семинар! Скажи мне как есть! Решила хвостом повертеть?
– Мне все оплатили! Дорогу, гостиницу! За что? Чтобы я там вертела хвостом?
– Ах, делай, как знаешь! – И мама вдруг всхлипнула.
Подруги мои, Маша с Зоей, пронюхав, какой «семинар» состоится в столице, всплеснули руками и переглянулись.
– Не будешь же ты ходить там в одних брюках? Наверное, он пригласит в ресторан, в театр, в кино, в дискотеку какую… Не все же вам в койке валяться, скажи!
Маша принесла белые сапоги, которые с трудом застегнулись на моей довольно-таки полной ноге, а Зоя две юбки и свитер. Они потащили меня в парикмахерскую, и там я подстриглась и сделала «прядки». Теперь голова моя стала похожей на пестрые перья совы.
– А бровки мы про-та-ту-иру-ем. Вот что, – сказала мне Маша. Я даже покрылась мурашками: слово дышало холодным столичным развратом. – Реснички давай нарастим, так надежней. Останется он у тебя и увидит тебя ненакрашенной утром. Зачем нам? А так – днем и ночью при полном параде. Ты, главное, Анька, не бойся его!
А я не боялась. И меньше всего меня волновало, что Толя Резинкин подумает утром. Боялась я только себя. Нарастала внутри меня боль, нарастала, сверлила. Тогда я купила коньяк. Завернула его в шерстяные рейтузы и спрятала. Ложась в одиночестве спать, выпивала одну, а случалось, и две сразу рюмки. Спала до шести, а потом просыпалась с неистово бьющимся сердцем.
Пришел день отъезда. Холодное солнце. Вчера было так хорошо и тепло, сегодня – опять зимний холод, блестящий по-зимнему воздух. Семья моя: старая мама и мальчик пришли проводить. У них были грустные бледные лица. Потом мальчик громко закашлял в ладошку, и мама сняла с себя шарф. Поезд тронулся. Я видела, как мама быстро набросила на Юрочку шарф, и вдруг все стало белым: пошел сильный снег.
Выпутываясь из внезапной метели, свистел, грохотал, уносился наш поезд туда, где ни холода нет и ни снега, а жизнь бьет ключом, и никто не боится, что может случиться беда, неприятность, поскольку бед нету и нет неприятностей, а есть только скорость, движение, свобода: ту-ту! Не догоните! Ту-ту-ту-ту-у-у!
Я громко сглотнула горячие слезы, нашла свою дверь, постучалась. Мне сразу открыли ее изнутри. Мужчины. Их трое. И все молодые. И все поднялись мне навстречу с готовностью.
– Вот это соседка! – присвистнул один.
Я знала, что место мое наверху. Взялась было за чемоданчик – куда там!
– Мы вам не позволим! Зачем вам на верхнюю! Да мы с вас пылиночки будем сдувать!
Я чувствовала, что глазами все трое уже раздевают меня. На мне больше не было вязаной кофточки, бюстгальтера, трусиков. В глазах их горел желтый масляный блеск. Так хищники смотрят, когда поджидают косулю какую-нибудь или зайца.
Мы начали бурно друг с другом знакомиться.
– Альберт, – сказал тот, что недавно присвистнул. Он был быстрым, нервным, улыбка фальшивая. – Какие бывают чудесные встречи! Я рад, как ребенок.
– И я очень рад, только я не Альберт, а также давно не ребенок. Я Ваня, – и толстый, с мучнистым лицом, отодвинул рукой помрачневшего сразу Альберта. – Я Ваня, Иван. Очень редкое имя.
Тут я засмеялась и одновременно взглянула на третьего. Он был загорелым, как будто бы ехал с каких-нибудь там островов, но глаза! Совсем голубые, хмельные, тяжелые, они испугали меня. Я попала как будто в капкан: не могла оторваться. Мой взгляд погружался все глубже и глубже.
Он стиснул мне пальцы:
– Руслан Евстигнеев.
Я дернула руку. Он не отпустил.
– Я думаю, нечего лясы точить! – На губе Ивана вдруг выскочил длинный, прозрачный пузырь. – Обедать немедленно! Там и продолжим. Согласны вы, Анечка?
Я растерялась.
– Зачем долго думать? – вмешался Руслан. – Я всех угощаю.
– С чего это ты? – Альберт покраснел. – Это я угощаю.
– На месте решим, – Иван взялся за ручку. – Пойдемте, а то все столы разберут!
Вагон-ресторан колыхался, как море. Две официантки, привычно качаясь, уже принимали заказы.
– Садитесь, – сказал Евстигнеев. – Успели.
У него был низкий, немного махорочный голос, дыхание пахло костерным дымком. Мы сели. За окнами стало темнеть.
– Я вам говорил, что куда лучше поездом, – Иван плотной нижней губою отфыркнул прядь черных волос. – Говорил? А вы, дурачье: «самолетом… быстрее…» И кто же был прав? На каком самолете мы б Аню такую нашли? На каком?
– С чего это ты говоришь: «Мы нашли»? А может быть, Аня нас всех и нашла? – Руслан, изучавший меню, поднял брови. – Ишь ты, размечтался… Он Аню нашел…
И вдруг подмигнул:
– Верно, Аня?
Я вспыхнула.
– Ну, вот, значит, так. – Он взял нож и стукнул по рюмке. Над нами нависла кудрявая белая официантка. – Неси-ка, Тамарочка, нам поскорее…
Она округлила вишневые глазки:
– А я не Тамарочка.
– Кто же тогда?
– Я Лена. Елена. А можно: Алена.
– Ну, так даже лучше. Аленушка, значит. Неси нам, Аленушка, пару бутылок какого-нибудь коньячку подороже и водки графин. Это так, для начала. А что на закуску у вас посвежее?
– У нас все хорошее, все очень свежее. – Она возмутилась. – Когда ж было портиться? Ведь только отъехали.
– Икорочки красной тогда, рыбки белой, салатиков разных. Есть крабный салат?
Она застрочила в раскрытом блокноте.
– Колбаска хорошая есть у нас, финская. Хотите?
– Валяй! – И Руслан улыбнулся. – Мы, Лена, тебе, как родной, доверяем.
Она уплыла.
– Вы живете в Москве? – спросила я, чтобы начать разговор.
– Сейчас – да, в Москве, – усмехнулся Альберт. – А так – кто откуда. Иван из Архангельска, я с Украины.
– А что в Красноярске? По бизнесу к нам приезжали, наверное?
– Ну, а по чему же еще? Бизнес бизнесом, но и погуляли слегка. Оттянулись. Хороший у вас городишко, богатый.
– Тот город хороший, где телки красивые, – вмешался Иван. – Мне Сибирь всегда нравилась.
Наш стол запестрел: осетрина, икра, хлеб белый, хлеб черный, блестящая зелень. Елена расставила кучу бутылок. Я выпила рюмку и вдруг захмелела.
– Давай, давай, Аня! Не бойсь! Все свои! – Альберт откупорил пузатую водку. – Поспим завтра утром, нам не на работу!
Мы выпили. Мне стало странно-спокойно. Все правильно. Вырвалась, еду в Москву. Ребята попались хорошие, добрые. И Толя Резинкин хороший и добрый. Схожу там в музей, погуляю по улицам. Потом я уеду обратно, а Толя вернется к семье и обычным заботам.
Иван и Альберт стали потными, хриплыми. Желающие пообедать толпились в дверях, все столы были заняты. Елена сама стала красной, как борщ. Коса ее выпала из-под наколки, подмышки халата темнели от пота. Руслан Евстигнеев кивнул подбородком.
– Аленушка, счет.
Все трое полезли в карманы. Руслан сказал очень громко:
– Я всех угощаю.
И вытащил толстую хрусткую пачку. Накрыл ею хлебницу, сверху поставил пустую бутылку. Иван засмеялся:
– Не может, как люди… И здесь отличился! При выходе из ресторана Руслан схватил меня за руку.
– Спать-то ведь рано. Пойдем у окошка с тобой постоим, природой подышим.
– Идите! – Альберт облизнулся. – Зачем терять время? Я тоже потом к вам приду… Подышать…
Язык у Альберта слегка заплетался. В одном из купе заиграла гитара. Руслан подождал, пока наши попутчики уйдут и за ними захлопнется дверь. Потом он обнял меня так горячо, что я задохнулась.
– Замерзла?
– Нет, что ты!
– Рассказывай, Аня. – Махорочный голос пополз по щеке. – Зачем ты в Москву-то? Мужик, что ли, там?
Я быстро кивнула:
– Мужик. Одноклассник.
– Ну, я так и думал. Женатый, конечно?
Я снова кивнула.
– Да хрен с ним. Забыли! А ты развелась?
– Развелась, даже дважды, – сказала я честно. – Сперва с одним мужем, а после с другим. Ну вот не везет мне! Не знаю, что делать.
– Еще повезет. – Рука его съехала вниз, большой палец уперся мне в копчик. – Не переживай.
– Кто переживает?
И мы повернулись вдруг так резко, что чуть не столкнулись носами. Он, не улыбаясь, слегка наклонился и впился сначала в мой рот, потом в шею. Я окаменела. Он не отпустил, целуя, сползая все ниже и ниже, ныряя губами под тонкую блузку, уже расстегнувшуюся и измятую. Я с силой втянула в себя его запах.
– Постой, – прошептал он, – спрошу проводницу, найдет нам купе…
И быстро, отталкиваясь руками от стен, пошел к проводнице в конец коридора. Я чувствовала свое тело так остро, как будто с меня вдруг содрали всю кожу.
Вернулся он взбешенный.
– Ни одного! Пойдем тогда в тамбур!
– Но в тамбуре люди!
– Какие там люди? Плевал я на них!
– Давай до Москвы подождем…
– До Москвы? Ты дурочка, что ли?
И снова схватил меня, снова сдавил, притиснул к себе. Снова стало темно.
Через несколько минут из нашего купе вышел Иван в майке и шелковых пижамных штанах. В руках он держал тюбик с пастой и щетку.
– А я думал, что вы прямо с поезда прыгнули! – сказал он, выкатывая глаза. – Нельзя в темноте любоваться природой. А может, вы и не природой любуетесь?
– Любуемся. Очень, – Руслан раздул ноздри. – Давай теперь вы полюбуетесь с Аликом.
– Здоров ты шутить! – огрызнулся Иван.
– Прошу тебя, как человека. Полчасика…
– Не, поздно!
И он отмахнулся.
Мы оба припали к окну. Пахло гарью: наверное, свалка дымила. Наш поезд проехал какую-то свалку. Он больше ко мне не притронулся, словно и я его чем-то серьезно обидела. Потом мы вернулись в купе, где храпели Иван и Альберт, а за мутным стеклом неслись освещенные красными вспышками деревья, столбы, провода и заборы.
– Спокойной всем ночи! – сказал он негромко. Залез, подтянувшись, на верхнюю полку, и согнутый локоть, скульптурно белея, застыл на лице.
Я лежала на спине и пересчитывала проносящиеся по потолку отсветы. Раз, два, три… Раз, два, три…
Вдруг весь потолок осветился багровым и снова погас. Опять темнота, лязг железа во тьме. Я видела первого мужа, второго, Резинкина, снова второго… Какая любовь? У кого и к кому? Есть только инстинкт размножения, только. Раздвинуть мне ноги, пролить свое семя, потом отвалиться, заснуть и забыть. Мы все лжем друг другу и все отбываем на свете свою неудачную жизнь, как вор отбывает свой срок заключения.
Поезд остановился на какой-то станции. Мимо окна бодро проковыляла старуха с мешком за плечами, за ней – тоже с черным мешком – худющая девочка лет десяти. У девочки было скуластое личико.
«Куда она тащит ее среди ночи?» – подумала я.
Проснулись соседи мои часов в десять. Лохматые, но добродушно-веселые. Опять потащили меня в ресторан: позавтракать, опохмелиться.
– Культурно, – сказал мне Иван, – посидим. Люблю, когда все по порядку, культурно.
Руслан был спокоен, в глаза не смотрел. Альберт звал меня «пулеметчицей Анкой». Потом все пошли покурить, я вернулась в купе. Руслан открыл дверь, заглянул.
– Ты жива?
Я стиснула зубы. Он мне подмигнул.
– Партнеры мои! На рожон не полезешь!
К концу дня пошел редкий дождь, за окном поплыл томный запах душистой сирени. На грядках возились какие-то люди. Казалось, наш поезд почти до колен срезал им тела, когда делал изгиб. Торчали лопаты и черные ноги.
Московский вокзал был жестоким, крикливым. Меня охватило волной ругательств, взволнованных окриков и поцелуев. Вокруг обнимались, спешили, прощались, отдельные лица слипались друг с другом, потом их вдруг разъединяло тележкой, которую черный как уголь носильщик толкал и руками, и грудью, и шеей.
Руслан вынес мой небольшой чемодан.
– Тебя до такси проводить? Или встретят?
Резинкина я не ждала. Он ведь думает, что я тороплюсь к нему на самолете. Откуда ему, москвичу при дубленке, машине, квартире и даче, представить, как жить на зарплату с ребенком, который к тому же все время болеет?
– Нет, я на такси доберусь.
– Ну, пошли.
Мы вышли к стоянке.
– Куда тебе ехать?
– В гостиницу «Спутник».
– В гостиницу «Спутник»? Скупой твой мужик! В гостинице «Спутник» – один Казахстан. Приличные люди туда не заходят.
– А мне безразлично, – ответила я.
– Да черт с ним! Ты встретиться хочешь?
И все изменилось, как по волшебству. Он просто спросил, не хочу ли я встретиться, но эта крикливая очередь, люди с их злобными лицами, эти носильщики, снующие между людьми, это небо, нахмуренное и нависшее, лужи с обрывками грязных газет и бутылками – все стало прекрасным, весенним, приветливым, а хрупкий звоночек трамвая коснулся ушей моих, как голосок райской птицы.
– Я очень хочу.
Он слегка покраснел.
– Ну, так уж и «очень»?
– Да. Очень хочу.
Не знаю, откуда взялась эта смелость. Руслан стоял рядом и не уходил. Тогда я слегка подтянулась на цыпочках и поцеловала его прямо в губы.
– Звоню тебе завтра в гостиницу, слышишь? Фамилия как?
– Чья?
– Твоя! Чья еще?
– Гладилина.
– Все! Я запомнил!
– Постой! – Я не представляла, как это сказать.
– Боишься, что он будет рядом? Смешно!
– Нет, я ничего не боюсь. Ничего. Вернее, боюсь, что тебя не увижу.
– Увидишь, не бойся. Конечно, увидишь! Ведь я же тебя не распробовал, Аня.
И он усмехнулся. Такси подкатило.
– Я завтра звоню тебе прямо с утра. Ты с хахалем там не тяни, мало времени.
Я вывернула себе шею: следила за ним, пока он не исчез. Увидела: вот закурил, передернулся, потом посмотрел на часы, поднял плечи. Потом его смыло толпой. Просто смыло.
Не успела я войти в свой номер, раздался звонок. Резинкин.
– Ну, как добралась? Как вообще все дела? Сейчас подскочу, если не возражаешь.
А мне так хотелось принять душ и лечь!
– Соскучился я, – вдруг признался Резинкин. – Минуты считал!
«Провалился бы ты!» – подумала я вдруг со злостью, но в трубку сказала спокойно:
– Давай приезжай. Мне только помыться сначала. Вся потная.
– Помойся, помойся! – вскричал он с восторгом. – Конечно, помойся! Я не помешаю! Помоемся вместе, я тоже весь потный!
Ура. Ко мне едет Резинкин. Ура. И будет со мной спать на этой кровати. И тело мое должно в лад запульсировать с его потным телом.
Прошел почти час. Резинкин ворвался с огромным букетом. Отбросил букет, а меня облепил горячими, словно блины, поцелуями.
– У-у, радость моя! – бормотал он, целуя. – У-у, ты сибирячка моя, моя радость!
Слюна его была снова соленой.
В постели он так торопился, что снова любовь оказалась недолгой. Резинкин, счастливо вздыхая, накрыл пятерней мою правую грудь. Я чувствовала, как стучит его пульс.
– Ты спать собираешься, Толя? Устал? – и я осторожно сняла его руку.
– А дома что скажут? «Опять, значит, шляешься? И не надоело? Детей постыдись! – Он передразнил незнакомый мне голос. – А ну, раздевайся!»
Я приподнялась:
– Зачем «раздевайся»?
– Зачем? Очень просто! Ей нужно собакой служить на таможне! Она, как собака, должна все обнюхать!
Я расхохоталась до слез.
– Ты смеешься? А мне каково? Я давно бы ушел, но жалко детей. Она их не отдаст!
Он был простодушен, несчастлив, затравлен. Лежал сейчас рядом со мной и, как прежде, слегка шепелявил.
– Тогда собирайся, – сказала я мягко. – Пока ты доедешь, пока то да се…
– Ох, как мне не хочется! Если б ты знала! Сказать тебе правду?
– Конечно, скажи.
– Когда я один жил, я просто летал! Клянусь тебе, Анька! Летал белым лебедем! Мне все бабы нравились, все до одной! И всех я хотел, а теперь…
– А теперь?
– Теперь вот я трахаю всех без разбора, а здесь, знаешь, – пусто! – Резинкин ударил себя по груди. – Я больше любить никого не смогу. Она во мне все поотбила, зараза!
– Но, Толя, меня же ты любишь?
И я улыбнулась, давая понять, что это всего лишь удачная шутка.
– Тебя я люблю. Нет, не так! – Он поправился: – Не то что люблю, я тебе доверяю. С тобой мы друзья, мы ведь выросли вместе. И спать мне с тобой хорошо, и вообще… Короче: ты, Анька, меня не бросай.
– Не брошу, не бойся. И все-таки, зайчик, пора уходить… Зачем на скандал нарываться, подумай!
– Я ей объяснил, что партнеры приехали, и мы идем ужинать. Вроде поверила. Анюта, ты знаешь, такое бывает, что жизнь не мила! Вот и деньги же есть… Да все вообще есть. А ночью проснусь, она лежит рядом. «У-у-у, – думаю, – ведьма!»
И он скорчил рожу. Чтобы не смеяться, я встала, открыла бутылку боржоми.
– Водички налить?
– Да какой там водички! – Тут он спохватился: – А ты ведь голодная! Ведь ты с самолета! О чем же я думаю?
– Я ела! Ну, честное слово! И кто на ночь ест?
– Я ем. – Мой любовник понурился. – Вот доктор сказал: не хватает чего-то. Не помню, чего, но мозгам нужен сахар. Проснусь часа в два, посмотрю на нее и сразу на кухню. Беру в холодильнике торт и сжираю. Еще и коробку всю вылижу, во как!
Я все-таки расхохоталась. Резинкин слегка улыбнулся.
– И то хорошо: хоть тебя насмешил!
– Прости, я сочувствую. Правда сочувствую.
– Я завтра часам к четырем появлюсь, – сказал мне Резинкин. – Ты тут не скучай.
Я чуть было не подскочила от радости: все утро свободна!
– А до четырех?
– А до четырех будут гости: тесть, теща и младший брательник. Обедать припрутся. Придется сидеть. Часам к четырем я слиняю. Дела!
И он подмигнул. Мы с ним были друзьями. Мы выросли вместе, он мне доверял. Откуда ему было знать, что я стерва?
– В какой ресторан пойдем завтра, Анюта? Ты любишь японский?
Мне стало неловко: у нас в Красноярске никто не ходил просто так в рестораны. Вернее, ходили, конечно, но те, к которым семья наша не относилась. В японском к тому же нет вилок, а палочками я до сих пор не научилась, неловко.
– Пойдем лучше просто в какой-нибудь, Толя. У вас ведь здесь столько всего…
– Это верно, – кивнул он. – Жратвы – завались!
У двери мы поцеловались. Резинкин шагнул за порог с таким видом, как будто он прыгает вниз с парашютом.
– До завтра, любимая. Жди к четырем.
Я сразу легла, попыталась уснуть. Сон долго не шел. Потом провалилась и вскоре увидела жирную женщину с тяжелым, недобрым лицом. Она протянула мне несколько ягод на пухлой ладони.
– Зачем это? Что?
– Не спрашивай, ешь! – приказала она. – Осталось два дня. Всего два. Торопись.
Я в страхе проснулась. Еще была ночь. Отдернула шторы: по небу летели как будто обрывки рентгеновских снимков: пушистые, рваные, с темными пятнами.
Руслан позвонил ровно в три.
– Ты не спишь? Одна, я надеюсь?
– Не сплю. Нет, не сплю. Сон видела, очень плохой.
– Они не сбываются. Не огорчайся.
До боли в груди наслаждалась я тем, как он тяжело дышит в трубку. До боли. Такого со мной никогда не бывало.
– Ты завтра свободна?
– Да. До четырех.
– Нормально. Успеем.
«Успеем»! Но я промолчала: пусть так. Мы успеем.
– В одиннадцать буду у «Спутника». Жди.
– Целую, – сказала я тихо.
Так и не заснув, дождалась до шести и в шесть пошла завтракать. Есть не хотелось. В углу трое толстых сердитых мужчин и две толстых женщины, сдвинувши головы, негромко и сдержанно ссорились. Потом одна женщина крепкими пальцами раздвинула веки и белой салфеткой пыталась достать из глазницы соринку. И все остальные следили за ней. Я вспомнила, что вчера не позвонила домой, в Красноярск. Там болеет ребенок, а я здесь сижу и считаю минуты, пока меня не заберет человек с махорочным голосом. Я сумасшедшая. Как всем сумасшедшим, мне даже не стыдно.
Скорее всего, маму я разбудила. Она была сонной, охрипшей и тихой.
– Как Юрочка?
– Ночь не спала. Очень кашляет. Пронзительный, лающий кашель. Как раньше.
– А температура?
– Не знаю, не мерила. Ведь я с ним одна: две руки, а не десять!
– Ну, что, тебе градусник трудно поставить?
– А что, тебе трудно с ребенком побыть? Ребенок болеет, а где его мамочка?
– Я скоро вернусь.
– Она скоро вернется! А вот если это не вирус? Тогда что?
Я похолодела:
– С чего ты взяла?
– В Сибири живем. Уголовники рядом. Шел, харкнул на снег – и привет!
– При чем здесь ребенок?
– Ребенок при том! Включи свою голову, Аня! Ребенок не станет три месяца кашлять от вируса!
– Врачи говорили, что это бывает… Что даже и больше бывает. Ведь ты же сама это слышала!
– «Слышала»! За эту зарплату врачи тебе, Аня, любой чепухи наболтают! Плевать им!
– Я скоро приеду, осталось три дня.
– Да дело не в днях! Дело в общей картине!
– Дай Юрочку! Он ведь не спит?
– Нет, не спит. Ты нас разбудила обоих. Сейчас. Она закричала:
– Иди сюда! Мама!
И тут же простуженный маленький голос коснулся меня, словно светлая тень.
– Ты скоро приедешь?
Он был родничком, полным тихого страха.
– Я скоро приеду. Совсем-совсем скоро. Ты там не скучаешь?
– Немножко скучаю.
– Я тоже скучаю, – сказала я. – Юрочка! Осталось чуть-чуть: всего несколько дней.
– Я знаю. Скорей приезжай.
– Какой мне подарок тебе привезти?
Молчание. Значит, он думает.
– Поезд? – спросила я. – Помнишь, мы видели поезд, который работает на батарейках?
– Нет, он дорогой. Стоит много рублей. И бабушка будет ругаться. Не надо!
Руслан ждал на улице. Он был в очках, смотрел в телефончик. Какая-то рядом стояла машина. Наверное, новая и дорогая.
– Руслан! – Я повысила голос: – Руслан!
Он резко, как зверь, встрепенулся всем телом. Увидел меня, сверкнул яркой улыбкой, махнул мне рукой.
– Давно ждешь?
– Подъехал минуту назад. Пока тебя не было, я тут обзванивал вчерашних девчушек.
– Девчушек? Обзванивал?
– Вчера у меня тусовались друзья, и кто-то забыл очки «Прада». Теперь всем звоню, как дурак, и никто еще не признался. Не знаю, что делать. Куда мне девать их?
И тут его как осенило:
– А хочешь: возьми их себе?
– Чужие очки? Я себе? Ты рехнулся?
– Не бойся: шучу. Знаю, что не возьмешь.
Мы сели в машину, и вдруг он раздвинул горячей и быстрой рукой мои ноги, проник в меня на секунду и тут же убрал уже мокрые пальцы, смеясь.
– Экзамен сдала на отлично! Поехали!
Тогда я зажмурилась. Низ живота ломило, как при наступлении схваток.
– Терпи, моя радость, – сказал он спокойно. – Осталось всего ничего потерпеть.
Из глаз моих хлынули слезы. Мужья, мой тихий ребенок, мой нищенский дом, – все вдруг зашаталось и, словно пласт снега, примерзший к лесному стволу, поползло. Со скрежетом, стоном ползло, чтобы солнце прогрело весь ствол и наружу бы вылезли все ветви его, еще голые, черные, стесняющиеся своей наготы.
– Давай я спою, – засмеялся Руслан. – А то ты так плачешь – народ набежит. Какую ты песенку хочешь, Анюта?
Я, не отвечая, махнула рукой.
Он пел, а я плакала. Пел, а я плакала.
Руслан жил на Котельнической набережной. Он поставил машину рядом с подъездом массивного серого дома. Мы поднялись на шестой этаж. Лифт был с большим зеркалом, но на стене, наверное, просто гвоздем процарапали: «Любили друг друга, пока не подохли». Руслан открыл дверь, оглянувшись зачем-то. В такой богатейшей роскошной квартире я в жизни своей не была. В ней каждая мелочь блестела: подсвечники, мебель, белье в пышной спальне. Я сбросила туфли, осталась в колготках.
– Да ладно! – сказал он с досадой. – Придет домработница, все уберет. Пойдем сразу в спальню. Пойдем? А может, ты проголодалась? Ты ела?
Я вспомнила, что и Резинкин вчера порывался меня накормить. В постели должна лежать сытая женщина.
– Ну, что ты молчишь? – спросил он. – Хочешь есть?
– Нисколько.
Зажала обиду в кулак, отошла, взглянула в окно и увидела реку, блестевшую мрачно, темно и враждебно. И небо над городом, полное дыма, как будто бы где-то в его облаках случился пожар. Все было чужим. Вон и туфли мои стоят на пороге, пытаясь сказать, что мы не нужны, что мы лишние здесь. Надеяться не на что.
Руслан обхватил меня сзади, прижался. Ни нежности, ни хоть намека на нежность! Одно раскаленное, остервенелое, чуть не пропоровшее платье желание.
– Давай! – прошептал он. – Что время тянуть?
– Постой…
– Да стоит уже! Ты что, не чувствуешь?
Он стиснул меня, оторвал от окна и, впившись губами мне в губы, понес в огромную спальню, где солнечный свет слегка золотил покрывало и зеркало. Мы в нем отразились, и мне пришло в голову, что, может быть, я и одета неверно. На нем, вон, простая рубашка и джинсы, а я в длинном платье и в кофточке с блестками.
…все перемешалось, и стало темно. Так густо-темно, словно я в подземелье. Из всех прежних звуков остался один: слегка шелковистый, тяжелый, саднящий звук соединившихся тел и настойчивый скрип пышной кровати, как будто бы нас сейчас было трое: кровать, я и он. Потом я не выдержала, закричала.
– Еще? – прорычал он. – Понравилось, да? Скажи: «Ну, еще!» Что молчишь? Попроси!
И вдруг он ударил меня по лицу. Мне не было больно, хотя он ударил с размаху, коротким и резким движением.
– Не смей меня бить!
– Так тебе же понравилось! Сама попросила, моя золотая!
– Я не золотая, и я не твоя! Не смей меня бить!
– Нет, моя! Чья еще? Теперь уже точно: ничья! – Он всей своей силой обрушивался на меня, и вздымался, и снова обрушивался, а в глазах дрожало веселое синее бешенство. – Теперь мы с тобой на всю жизнь и до смерти! Запомни, моя золотая! До смерти!
И это все оборвалось. Я исчезла. Меня больше не было. Только шумящий, кровавый огонь.
Когда я с трудом разлепила ресницы, Руслан, не сказав мне ни слова, ушел.
Я приподнялась. Сквозь раскрытую дверь увидела, что он сидит за столом и пьет, запрокинувши голову. Тогда я взяла простыню с нашим запахом, всю мокрую, и завернулась в нее. Неслышно к нему подошла. Он все пил, и острый кадык с ярко-красной прожилкой дрожал под загаром.
– Когда тебе надо вернуться в гостиницу? – спросил он. Поставил бутылку на стол. Глаза, голубые, уже опьяневшие, меня словно не замечали. – В четыре?
Я сжалась.
– Нет, раньше.
– Ах, раньше? – сказал он. – Тогда собирайся. Не то будут пробки, застрянем надолго…
Я не шевельнулась.
– Давай, детка, в душ!
– Сейчас. – Я внезапно охрипла. – Сейчас.
– А то будут пробки, и ты опоздаешь.
Минут через десять мы сели в машину. Он вяло погладил меня по колену.
– Ты хоть погуляй тут немного, в столице… Есть пара местечек, вполне неплохих…
Но я стала камнем, а камни молчат.
– Да ладно тебе! – усмехнулся он грустно. – Обиделась, вижу. Такие дела. Я завтра тебе позвоню вечерком. Захочешь – увидимся. А не захочешь…
– Тогда что?
– Тогда не увидимся, детка.
Он затормозил перед самой гостиницей. Мы поцеловались губами, холодными, как два лягушонка. И тут от сказал:
– Ты знаешь, а я ведь тебя не боюсь.
Я не поняла:
– А кого ты боишься?
– Всех, кроме тебя, – сказал он. – Почти всех. Придут и прихлопнут. Накроют простынкой… Вот мне говорят: «Ты б охрану завел». А я не хочу. Почему не хочу? А кто его знает? Безмозглый, наверное, – он стиснул мне руку. – Ну, ладно, до завтра.
И сразу отъехал.
В гостинице двое высоких кавказцев с густыми усами вошли со мной в лифт. Попробовали познакомиться.
– Пахнешь! – сказал мне один из кавказцев. – Так пахнешь! Стоял бы и нюхал! Вся женщиной пахнешь!
Кровать в моем номере не застелили. Я сразу легла. Не дай Бог Резинкин придет без звонка! Но он позвонил.
– Толя, я заболела.
– А чем? – испугался Резинкин.
– Не знаю. Наверное, съела какую-то гадость. Живот дико крутит.
– Ну, вот… – Он совсем растерялся. – Анюта… Давай отвезу тебя к доктору, хочешь?
– Какой еще доктор? Попью чаю с медом, к утру все пройдет.
– Мне приехать к тебе? Ну, так, посидеть. Хочешь, яблок куплю? Они, говорят, хорошо помогают…
– Смотреть не могу на еду. Каких яблок!
– Так я позвоню тебе утром, идет?
– Но только не рано, а то я не высплюсь.
– Все. Договорились, – сказал мне Резинкин.
Я быстро разделась, нырнула в постель. Закрыла глаза. И опять, и опять… Все заново! Заново! Вот он срывает с меня это платье, и Машина кофта трещит, высекая лиловые искры. Вот он раздвигает мне ноги и входит. Вот мне прямо в глаз капнул пот с его лба. Вот руки его, вот горячие плечи… Везде его руки: внутри всей меня, они и сейчас там. Зачем он ударил меня по лицу? Не больно, не стыдно. «Сама попросила, моя золотая! Тебе ведь понравилось!» Да, это так. Пусть делает все, что он хочет, пусть бьет. Я дня без него не могу, ни денечка. Я встала, раздернула шторы. Шел дождь, и город блестел. Расцветающий город. Весь шумный, огромный и пахнет травой. Дыханье ее прорастает сквозь влагу. Мне нужно скорее уехать отсюда, как можно скорее, иначе умру.
Потом я заснула, и женщина с пухлым, недобрым лицом протянула ладонь.
– Где ягоды? – Я говорю.
– Нету ягод. Прошло твое время, моя золотая. В Москве сейчас пробки, нигде не проедешь.
Кто мог позвонить мне так рано? Не знаю. Ошибка, наверное. Бросили трубку. А может быть, мне это тоже приснилось?
Вдруг громкий стук в дверь.
– Гражданка Гладилина!
– Кто там?
– Милиция.
Я похолодела.
– Откройте! Милиция!
Надела халат и открыла. Милиция. Один – раздраженный, с лицом алкоголика, другой – добродушный, похож на Высоцкого.
– Оденьтесь, – сказал мне «Высоцкий», добавив: – Гражданка Гладилина. С нами пройдете.
– Куда?
– Этот вот человек знаком вам? Смотрите.
И он показал мне Руслана, который был сфотографирован в профиль и щурился.
– Он? Да, он знаком мне. Руслан Евстигнеев.
– Руслан Евстигнеев? – Они усмехнулись. – Ну, ладно, не важно. Оденьтесь, пожалуйста.
– Зачем? Еще ночь!
– Все узнаете скоро.
– Он умер? – спросила я вдруг.
– Да. Убили.
Наверное, я пошатнулась, и оба меня поддержали за локти.
– Звонок вам – последний в его телефоне. Он, видно, набрал вас, и тут его… это… Прикончили, в общем.
– Прикончили как?
– Укол ему сделали. Прямо сюда. – «Высоцкий» откинул широкую шею и пальцем коснулся артерии. – Просто! Мгновенная смерть.
И тут что-то странное произошло. Его я не видела, но ощущала: тепло продолжало сочиться оттуда, откуда он, может быть, видел меня. Он, значит, еще не ушел, еще здесь. И ждет меня, чтобы проститься. Он ждет! Я заторопилась.
Спустились на лифте. Внизу стало нечем дышать. Я ловила губами сырой, темный воздух, и воздух проталкивался через горло, как будто был комьями грубой земли.
– Внимания не привлекайте к себе, – сказал алкоголик.
– А вы его видели? Точно убит?
– Куда уж точней! Не бывает точнее.
И он покрутил головой, словно радуясь.
– За что?
– А за что убивают? За бабки. Я ясно услышала: «бабы».
– За женщин?
– За деньги! Тут вам не кино. Каких женщин?
Минут через десять – пробок не было – мы оказались на Котельнической. Солнце еще не взошло, но хрупкая, перевитая тенью голубизна осторожно поблескивала на земле. Дверь в квартиру Руслана была открыта настежь, на лестничной площадке толпились перепуганные соседи.
– Незачем здесь стоять, граждане! – сердито сказал им «Высоцкий». – Вы мертвых не видели? Что там смотреть?
Руслан лежал на полу, накрытый простыней. Мне разрешили подойти.
– Ни до чего не дотрагивайтесь! Гражданка Гладилина, вы меня поняли? Взгляните, и все.
Я взглянула. У него было тихое, спокойное лицо. Волнистые волосы мягко застыли в том самом последнем, коротком движении, которое он успел сделать при жизни. Они до конца открывали весь лоб с узорчатым, темно-коричневым шрамом, который Руслан, верно, прятал. Я не испугалась того, что увидела. Напротив: я вдруг поняла, что ему сейчас хорошо. Наконец-то он вырвался. Он ждал этой смерти, иначе, конечно, давно бы завел себе пару охранников. Но вот почему он хотел умереть? Хотел и боялся? Ведь он мне сказал, что только меня не боится. Меня. Теперь и накрыт он был той простыней, в которую я завернулась. Той самой. Вчера она вся была в пятнах, вся мокрая.
Смотрю на него. На кого: на него? Его больше нет. Как так: нет? Ведь я разворочена им, грудь болит, а низ живота так же ноет, как ныл, когда он меня целовал тогда, в поезде. Ведь он только что был во мне! Только что! Зачем же я, дура, его отпустила? Держать нужно было, зубами держать, и был бы живым! Сказала же эта старуха во сне: «Осталось два дня». И как в воду глядела.
– Гражданка Гладилина, вы нам мешаете. Пройдите на кухню.
Но я не послушалась. Он был ледяным, как стекло на морозе. Я поцеловала его и погладила.
– А ну уберите немедленно руку! Ведь вам говорили: не трогайте тело!
На кухне ждал следователь. Худыми и длинными пальцами он извлекал из миски порезанный крупно лимон, высасывал жадно, потом бросал на пол.
– При каких обстоятельствах вы познакомились с покойным? – слегка кисловатым и сморщенным голосом спросил он меня.
Я ответила.
– Ясно. А в поезде с ним были эти ребята? – И сунул мне в нос фотографии.
– Да. Иван и Альберт.
– Они так вам представились?
– Да.
– А он? Он себя как назвал?
– Он? Русланом.
– Какой он Руслан?
Я вся вздрогнула:
– Что?
– Он Петр Русланов. Какая вам разница? – И снова поморщился. – В постели его вы когда оказались?
– Вчера. Оказалась в постели вчера.
– Вчера. Хорошо. А потом?
– Потом что?
– Он высадил вас у гостиницы?
– Да. Он высадил. И обещал позвонить.
– Он вам позвонил. А пока ждал ответа, его и убили. Он громко вздохнул.
– Ну, с вами все ясно, гражданка Гладилина.
– Что ясно?
– Последний контакт на его телефоне. Проверили. Чисто случайная встреча.
Я встала.
– Петрович! – сказал кто-то громко. – Жене сообщать? Или, может, попозже?
Я вновь опустилась на стул.
– Чего «позже»! Пускай вылетает! – ответил Петрович.
– Он разве женат? – У меня пропал голос.
– Женат. Еще как! Но запрятал жену с мальчишкой в Америку, побезопасней. Шальной был мужик. Его тут стерегли. Ходил без охраны, врагов была тьма. Когда вы домой в Красноярск собираетесь?
– Хотела бы прямо сегодня.
– Тогда телефончик оставьте, пожалуйста.
Он съел с кожурою остаток лимона. Потом содрогнулся с каким-то восторгом.
– Курить отвыкаю! Лимон помогает.
Я вышла в прихожую. Тело Руслана, накрытое с головой, отодвинули к самому окну, и эксперт в лиловых резиновых перчатках рассматривал пол в том месте, где оно лежало недавно.
– Мне можно проститься? – спросила я громко. Эксперт как-то странно моргнул:
– Мы думали, вы убежите отсюда.
– Я только проститься. Прошу вас. Пожалуйста. Он пальцами в ярко-лиловой резине слегка сдвинул вбок простыню.
– Прощайтесь, но быстренько. И чтоб не трогать! Я села на корточки. Что-то случилось: в лице его был сильный страх, очень сильный. Я вновь ощутила тепло. Значит, он еще где-то рядом и снова боится. Они говорили: «труп», «тело», но я, опять прикоснувшись к плечу его, знала, что он меня ждал и что мы все прощаемся.
– «Не бойся, ты слышишь? – сказала я тихо и поцеловала его темный шрам. – Теперь будет все хорошо. Ты не бойся».
Ресницы его слегка вздрогнули: это дыханье мое потревожило их.
Я не стала дожидаться лифта и медленно спустилась вниз по лестнице, прощупывая ногами каждую ступеньку. Уже наступило прохладное утро, и все как-то невыносимо блестело. Особенно эта река. Я заплакала. В воде, приподнявшейся после дождя, дрожали два облака. Плыли, качаясь, внутри перламутрово-грязных разводов, и их белизна украшала собой грохочущий и запыхавшийся город.
Когда он меня обнимал в этом поезде, и ветер лизал нам затылки, шумя в открытое наполовину окно, когда он меня, всю меня, опалил своим сумасшедшим огнем, от которого мне стало легко, как в раю, и тепло, как было тепло в теле матери, – разве тогда я любила его? Нет, конечно. Я просто хотела какого-то дикого, какого-то невыносимого счастья. Он предал меня, я его. Мы охотились за легкой добычей. Случайная встреча! Куда уж случайней! Я села на лавочку, ноги дрожали. Сквозь слезы я видела, как отворилась подъездная дверь и как два санитара катили носилки к служебной машине. Потом появились «Высоцкий», и следователь, вдруг ставший коротким на фоне деревьев, звонил по мобильному. Все, увезли.
И я начала все прокручивать заново. Вот Толя Резинкин в роскошной дубленке, моя недовольная мама, мой мальчик. Гостиница, где мы справляли недавно Наташину свадьбу. Вот Толя целует меня в губы, в горло, слюна у него ядовито-соленая… Я знаю, что Толя не любит меня, и я его тоже, но все-таки что-то… Потом идет дождь, и под маминым зонтиком слегка расплываются мама и Юрочка, и я успеваю заметить, как сын мой закрыл рот ладошкой и сильно закашлялся. Потом темнота, стук колес, проводница, но я ничего уже не замечаю. Я слышу красивый махорочный голос и вижу глаза, голубые, как небо, нахальные, жадные, неторопливо скользнувшие в вырез моей белой блузки. Какой-то Альберт и какой-то Иван, хотя они и не Иван, не Альберт, ухаживают, подливают коньяк. Куда я попала? К кому, с кем я еду? Не знаю, не помню… Хочу, чтобы этот, с махорочным голосом, обнял меня. А поезд несется сквозь ночь, и сиренью, еще до конца не расцветшей, так пахнет, что хочется плакать от счастья. Родной мой! Вчера могла лечь на пороге и ждать, пока ты откроешь. Спасла бы тебя.
Поклон тебе, Шура
Она на нас сыпалась, сыпалась, сыпалась: ледяная, обжигающая лица крупа. И вместе с порывистым ветром грозила нам гибелью. Вот так вчетвером и погибнем на этой холодной Канавке, а может быть, Мойке: засыпет, и все. Нет, я не шучу. Какие тут шутки, когда мы приехали увидеть дворцы, Летний сад, Эрмитаж, а нас и не встретили? Странно. А впрочем, наш друг, общий друг, ведь покинул Москву навсегда, его взял Товстоногов, теперь у юнца в голове одни тайны большого искусства, ему не до нас. А звал-то зачем? Просто сердце хорошее. Позвал и забыл. И такое бывает.
– Да вы приезжайте, девчонки! Да запросто! Да тут этих комнат свободных! Вы че? Увидите Питер! Сам все покажу!
И вот мы приехали. Он нас не встретил. И комнат свободных в его общежитии – увы! – ни одной. Угрюмая ведьма вязала носок.
– Мало что обещал! Какой обещатель нашелся, скажите! Ну, вот и ищите, кто вам обещал!
И мы, пристыженные, вышли на улицу. Парадные флаги краснели, как сгустки еще не утратившей яркости крови. Порывами ветра их то раздувало, то снова свивало в жгуты. Ах, вы, флаги! Куда нам деваться? Ведь мы здесь погибнем.
– Я думаю, надо идти на вокзал, – сказала одна из нас, рыжая Юленька.
– Билетов-то нет. Что нам этот вокзал? – сказала другая – полковничья дочка. Отец, добродушный, с большим красным лбом, недавно давил сапогами восстание, которое вражеская оппозиция устроила в Праге. И все подавил. Вернулся к семье и гостинцев навез.
– А может быть, на самолете? – Я всхлипнула. Все трое махнули рукой. Абрашидова, подруга моя, у которой квартира была в самом центре Арбата, схватилась рукой за живот:
– Умираю!
Кишки ее – толстые, тонкие, средние – всегда были невыносимо чувствительны. Щенячьим урчанием предупреждали, что боль подступает, и мы под угрозой. Не только одна Абрашидова, все мы. Поскольку куда нам деваться с умершей? С живой-то никто никуда не берет.
А как хорошо было в поезде ночью! Как мягко стучали по рельсам колеса, как густо настоянный чай отражался в вагонном стекле, как дрожал в нем лимон, и сколько зовущего было в деревьях, которые – в первом печальном снегу – белели во тьме этой ночи! Ах, Боже мой! Как быстро все кончилось. Мы здесь погибнем.
– Мне плохо, – сказала, держась за живот, подруга моя Абрашидова. – Ужас.
Глаза ее были черны и безумны. Кишки зарычали, как целая псарня.
– Ты можешь еще потерпеть или нет?
– Мне больно. Я просто теряю сознание.
– Что делать? – спросила полковничья дочь. – Ведь я говорила, что ехать не нужно! Какой он предатель! Он просто нас предал!
Она опустила ресницы и стала похожа лицом на отца, крутолобого, который шутить не любил и предателей выдергивал с корнем, как с грядки сорняк. И тут мы услышали голос. Грудной, слегка хрипловатый и женственный голос:
– И что мы стоим тут? Кого мы тут ждем?
Она была, кажется, в ватнике, черном, бесформенном ватнике. На голове пушистый платок. И глаза – сине-серые.
– Кого мы тут ждем? – Она улыбнулась слегка, ненавязчиво.
И мы рассказали. Моя Абрашидова негромко рыдала во время рассказа.
– Ну, ладно, пойдемте, – сказала она. – Чего здесь стоять? Вон ветрила какой!
– Пойдемте куда? – И мы все так и замерли.
– Ко мне. У меня поживете. Я Шура. А вас как зовут?
Мы ответили как.
– Вот и хорошо. Что там жить-то? Три ночи. Мы с мужем и с детками в маленькой комнате, а вы вчетвером все в большой. Места хватит. Одна на диване – нет, две на диване, а две на полу. Голодными вас не оставлю, не бойтесь. Икры черной нету, но супа всем хватит.
Тут ветер подул так, что мы задохнулись.
– Ну, быстренько, девочки!
И мы побежали за ней прямо в арку. Двор был гулко-страшен, в нем пахло водою. В парадном дрожала унылая лампочка.
– Нам с вами в подвал. – И она усмехнулась. – В подвале живем, ждем квартиру. Сказали, дадут через год. Мы уж им и не верим.
Квартира в подвале была темновата, хотя горел свет в коридоре и в кухне. Везде была копоть, какие-то трубы, сушилось белье на веревке, ребенок катался вовсю на своем самокате и чуть нас не сбил.
– Ну, нашел где кататься! Дождешься весны, вот тогда и катайся! – сказала она и сняла свой платок. – Пойдемте, девчонки. Муж пьян, но он тихий. А дети хорошие, добрые. В маму. – Опять усмехнулась, блеснула глазами. – Вот эта дверь – к нам. Проходите, девчонки.
Какой-то мужчина, босой, в мятой майке, сидел за столом над початой бутылкой. На блюдце лежал кусок черного хлеба и вялый огрызок моченого яблока.
– А-а, что ж ты так скоро? А я и не ждал. Обедать вот начал. – Он громко икнул. – А ты и гостей привела? Ну и ладно. Садитесь, подружки. – Он встал, пошатнувшись. – Обедать хотите? У нас все готово. Ты, Саша, давай, собирай тут на стол…
Она глубоко и спокойно вздохнула.
– Не хватит с утра-то? – спросила она. – Опять надерешься, как на дне рожденья, опять неотложку тебе вызывать. Детей пожалей. Вот помрешь, а им, бедным, и вспомнить-то нечего будет. Не стыдно?
– Нет, будет! – Он весь покраснел. – Как так нечего? Родного отца и чтоб нечего вспомнить? Ты— мать, а такую… тут порешь!
– Ругаться не смей! – Она стиснула руки. – Без ругани, понял! Иди лучше в спальню! Соседи еще даже и не проснулись, а он уж надрался ни свет ни заря!
И муж вдруг послушался. Жестикулируя, обдав нас тугим, плотным запахом пота, он скрылся за дверью.
– Ну, вот. Спать пошел. – И она усмехнулась. – Сейчас напою вас чайком и пойду, двор надо убрать. Я ведь дворник тут, в доме. Мету за квартиру. А вы раздевайтесь!
Шел жесткий ноябрь: были праздники, пьянки, на улице сыпало льдистой крупой. Никто нас не ждал в этом мертвенно-бледном, слегка позолоченном городе. И вдруг мы попали в подвал. К чужой женщине. К ее босоногому пьяному мужу. Слегка пахло йодом, капустой и тем, что жарили к завтраку люди на кухне. Наверное, рыбой, наловленной в узких, затянутых слизистой тьмою, каналах.
Она постелила: двоим на диване, двоим на полу.
– Всю ночь тряслись в поезде. Вот и ложитесь. Куда вам идти спозаранку? Успеете! Сегодня к тому же музеи закрыты. А вы ведь в музеи, наверное, приехали?
Мы выпили чаю, разулись, легли. Она погасила нам свет и ушла.
Когда я проснулась, они еще спали. Полковничья дочка и рыжая Юленька – на старом диване, чьи толстые ножки давно облупились и были похожи на лапы облезшей собаки, а мы с подругой моей Абрашидовой возле бормочущей что-то свое батареи – на тощем матраце и двух одеялах. Проснувшись, я вспомнила, где я, и сразу в мой мозг, разомлевший от долгого сна, нахлынула ночь с отраженным в стекле размякшим лимоном и утро, когда мы стояли, продрогшие, не понимая, куда нам идти, что нам делать теперь, и тут ощущение полного счастья вдруг так обдало меня жаром, что я, локтем придавив сине-черные кудри подруги моей Абрашидовой, стала негромко смеяться.
Чему я смеялась? Да так. Всему сразу. Тому, что тепло, и тому, что уютно, что мы – словно на корабле, уносимом во тьму беззащитной, неведомой жизни, увидели берег, наполненный солнцем.
Туман
Серый теплый туман, окутавший город, раскрылся к вечеру, вокруг посветлело, как будто опять взойдет солнце, но вместо него хлынул дождь, тоже теплый и серый.
Сергей стоял на балконе. Брат разговаривал по телефону в комнате, и он не хотел ему мешать, потому что разговор был нервным, тяжелым. Он стоял и смотрел на льющуюся отовсюду воду, и ему казалось, что он никогда не уезжал из Москвы, не было в его жизни двадцати пяти лет в Нью-Йорке, двух браков, работы, а главное – вечной тревоги за Одри. Он подумал, что одна из этих жизней – то ли в Нью-Йорке, то ли в здесь – рано или поздно окажется сном, потому что обе не вмещаются под одной кожей, не укладываются в голове.
Сейчас, когда хлынул этот, пахнущий именно Москвой, ее землей и зеленью, дождь, и вспухла песочница, и под зонтом прижались друг к другу две мокрые девушки, выкрикивая то «ах ты!», то «ух ты!», – все словно раздвоилось.
– Я тебе предлагаю завтра поехать в Серебряный Бор, – мрачно сказал брат, выходя к нему на балкон. – Парило, парило, хорошо, что так льет. А то задохнулись бы.
Сергей искоса посмотрел на молодое серьезное лицо брата и спросил:
– Ну, что? Не согласна?
– Я поставил условие. Если она не хочет рожать, я не женюсь. Пусть валит обратно в Одессу. А если хочет остаться в Москве, я женюсь, но это только для ребенка.
– Почему ты хочешь, чтобы именно она родила тебе ребенка? – слегка посмеиваясь, спросил.
Брат сморщился:
– Да не об этом я! Мне нужно, чтобы она родила того ребенка, который уже есть! Ты что, не понял? Раз он уже есть, я не хочу, чтобы его убили! Это же мой ребенок.
– Тебе римским папой работать…
Брат не улыбнулся на его шутку.
– Странные вы все какие-то, – тихо сказал он. – Этот ребенок в ней через два месяца шевелиться начнет, а она его убить хочет!
– А жить ты с ней как собираешься? Ведь ты же не любишь.
– Кого там любить? Я к ней хорошо относился, нормально. Все эти два года. Привык. Сейчас вот противно…
– И все-таки хочешь ребенка?
– Ребенок уже существует. Не важно, как он называется: плод, зародыш или эмбрион. Мне не важно.
Этот упрямый двадцатидвухлетний парень родился во втором браке отца. Когда Сергей с мамой уезжали в Америку, его и в помине не было. Родители развелись по настоянию мамы, которая разлюбила отца и закрутила роман на стороне. Ее осуждали все: и родственники, и друзья, и знакомые. Ни один человек не мог понять, зачем расставаться, разорять насиженное гнездо, раз можно совмещать приятное с полезным, тем более что муж все равно ни о чем не догадывался, а любовник был прочно, надежно женат. Но мама совсем не могла притворяться. Потом, когда этот ее роман закончился, появился другой человек с замечательно мягкой улыбкой и твердым подбородком. Он любил маму и дружески относился к подрастающему Сергею, но не хотел ни жениться, ни даже жить одним домом, потому что в свободное время сочинял музыку и мастерски играл на гитаре. К тому же привык к одиночеству. Сергею исполнилось восемнадцать, когда мама так же резко рассталась с гитаристом, и они решили эмигрировать в Америку. В Нью-Йорке жила мамина близкая подруга Вика, которая обрывала телефон и звала к себе. Подали документы на выезд, им отказали. И тут у Сергея появилась женщина. Вернее сказать: появилась его любимая первая женщина. Она была моложе на полгода, худа и бледна, с голубыми, как незабудки, глазами. Волосы у нее были длинными, их можно было намотать на руку, и рука становилась коричневой и блестящей. Сергей не стал посвящать ее в планы отъезда, раз им все равно отказали. Но прошло еще полгода, и они получили разрешение. Ледяными губами он сказал Лене, что уезжает. Она на глазах стала гаснуть, слабеть. В ней все изменилось: движения, голос. Он долго не мог забыть, как однажды, когда они, обнявшись, шли домой от метро, на них налетел сильный ветер, который принялся вырывать Лену из его объятий, словно почувствовал, до чего она слаба. И Лена едва не упала.
О Господи, как это было давно. Нью-Йорк своим грохотом все раздавил: и Ленины слезы, и мамины слезы, и эту Москву, где он рос в переулке на Чистых прудах. Теперь они с мамой жили в Бруклине, и знакомыми их были поляки, немцы, итальянцы. Встречались и русские. Правда, не много. В двадцать лет он зачем-то женился на очень энергичной девице по имени Клара, которая поразила его тем, что носила красные замшевые сапоги с летними платьями и даже шортами. Через полгода молодая жена начала заводить философские беседы о том, что она не чувствует себя его половиной, Сергей сразу же предложил развестись. Они развелись очень быстро, вполне дружелюбно, и изредка даже ходили на ланч, но Клара куда-то исчезла, уехала, а красная замша сапог растворилась в нью-йоркских закатах.
Однажды раздался звонок, и голос, совсем молодой, сказал в трубку:
– Я брат твой. Звоню из Москвы.
Разница между ними была огромной: двадцать лет. Сергея поразило, как Максим произнес «я – брат твой», а не «я – твой брат», что было гораздо привычней. Они начали переписываться, перезваниваться, и через два года (уже были дети, была Адриана!) Сергей прилетел в Москву. Его встречали отец, семнадцатилетний Максим и толстая, вся шелковистая, в оборках и ленточках, мачеха. Отец разрыдался глухим густым лаем, притиснул Сергея к груди и долго его никуда не пускал.
– Ты не забывай: мы по деду армяне. А это народ очень даже чувствительный, – шепнул ему брат.
Потом наступило тяжелое время, ему было не до отца, не до брата. Том, мамин муж, погиб странной смертью.
Они: мама, он, Адриана и крошечные, как дети, родители Тома – хоронили цинковый гроб, в котором лежало то, что доставили из Мексики специальным самолетным рейсом. Том всегда уезжал в солнечные края, по крайней мере, два раза за пасмурную нью-йоркскую зиму, ибо не выносил ни низкого серого неба, ни воздуха, почти всегда влажного, скользкого, мутного. Обычно он брал с собой маму, но в этот раз что-то у них не сработало, и Том прихватил попугая Бекетта, коварную старую умную птицу, влюбленную в Тома до полной истерики. Когда в маленькую, взятую напрокат машину на полной скорости врезался грузовик, от Тома осталось кровавое месиво, и Бекетт, прилипший к его голове с радробленным лбом и глазами, в которых успел отразиться весь ужас аварии, своей птичьей гибелью лишь подтвердил, что есть и любовь до последней минуты, и верность до самого смертного часа.
Прошло еще два года. Сергей снова прилетел в Москву, уже отдавая себе отчет, что Москва помогает ему хотя бы на короткое время отключиться ото всего, связанного с домом и болезнью дочери. Одри оставалась далеко, и что бы ни происходило там, какие скандалы между нею и Адрианой ни разражались бы, как бы ни трясло от этих скандалов тринадцатилетнего Петьку, – все равно ничего нельзя было изменить на таком расстоянии, хотя они и дергали Сергея по телефону: то одна, то другая.
В этот приезд он разыскал Лену и потом рассказал брату, что вместо девочки с русалочьими волосами в метро на «Кропоткинской» его ждала очень красивая, но странно чужая, ненужная женщина, в которой от прежней Лены остался лишь голос и голубизна пугливого взгляда. Она первым делом призналась, что мужа не любит, а вышла с тоски, а любит одну только дочку, которая мечтает стать очень известной актрисой. Заискивающе, чувствуя, что она не интересна ему, Лена рассказывала подробности про мужа, про дочку, про свою московскую жизнь, а он смотрел в ее голубые, испуганные глаза и думал, что та ослабевшая девочка, которую ветер пытался отнять, не выжила все-таки и умерла.
Пока на свет не появилась Одри, Сергей не знал, что можно так сильно любить ребенка, а все остальное поставить на карту. Какие тут женщины! Одна Адриана, жена. Мать Одри и Петьки. Они познакомились через несколько месяцев после его развода, и Адриана оказалась настолько не похожей на его бывшую жену, что даже смотреть на то, как она варит кофе, смеется, закинув голову, красиво убирает постель, раскладывает подушки, вешает плед на спинку стула, – даже смотреть на это после неуютной и неженственной Клары с ее красными замшевыми сапогами было отдыхом. И когда Адриана, почувствовав, что он совсем не готов снова жениться, нашла работу в Риме и уехала, ничего не прося и не требуя, образовалась пустота. Больше всего он испугался одиночества. Молодые замужние женщины, с которыми он вместе работал в компьютерной компании, были до отвращения похожи на Клару, в их глазах была та же суетливая жадность к жизни, те же потрескивания сопровождали их заученные спортивные движения, и даже ели они так, как ела Клара: брезгливо расковыривая еду на тарелке и облизывая пальцы с длинными, покрытыми лаком ногтями. Он встретился с одной, потом с другой, но все это было таким одинаковым: и вскрикиванья, и грудной влажный шепот, и даже застежки на блузках и лифчиках.
Прошло чуть больше месяца, он взял отпуск и полетел в Рим. Адриана не ждала его и не сразу поверила, что он звонит из аэропорта. Вечером они сидели в маленьком ресторане на улице Маргутта, тихой улице в самом центре Рима, куда не доносился ни шум, ни птичий гвалт туристов, и мягко горел свет в синих, с розовой густой бахромой, абажурах, а на спинке деревянного, тоже синего, стула Адрианы была табличка: Федерико Феллини. 1987 год.
– Синьора, – улыбаясь, заметил официант, длинные, лошадиные зубы которого сахарно блестели на смуглом лице. – За вашим столиком обедал маэстро Феллини.
– Я хочу, чтобы ты вернулась со мной в Нью-Йорк, – злясь на себя за то, что голос у него звучит нерешительно, сказал Сергей. – И вышла за меня замуж.
Он испугался того, что Адриана откажется. Она была сильной, упрямой и гордой.
– Ну, что ты молчишь? – спросил он.
– Ведь я католичка, – шепнула она. – Брак – дело святое.
И посмотрела на него вопросительно, с надеждой и робостью. Тогда он солгал:
– Я чувствую так же, как ты. – И, взяв ее лежащую на столе руку, слегка поцеловал костяшки среднего и указательного пальцев. – Брак – дело святое.
Ни опыт его матери, ни его собственный опыт с Кларой не подтверждали того, что требовала Адриана, но ему уже некуда было отступать. Он прилетел, чтобы вернуть ее и с ней прожить жизнь. Она заплакала от радости и положила мокрое от слез лицо прямо в его раскрытую ладонь.
День их венчания был одним из тех светлых, но безжизненных дней, которые бывают в самом начале ноября. На всем лежал ровный, безжизненный свет, и птицы летали так низко и плоско, как будто их что-то пугало на небе.
Питер или, как он называл его, Петька родился через год после свадьбы, и мама гордо повесила над своей кроватью фотографию Адрианы, кормившей новорожденного грудью.
– Смотри, смотри, – восторженно говорила мама. – Ведь это настоящее adoration! Я не знаю, как сказать по-русски: «adoration»?
– Поклонение, – перевел он.
– Как она смотрит на него! Как Мадонна на Младенца!
Адриана в белой рубашке, с распущенными густыми волосами, с торжеством и нежностью смотрела на круглоголового ребенка, который сосал ее грудь и пухлой ручонкой своей упирался в ее подбородок.
Петьку Адриана носила легко, словно играючи, и родила его за три часа, отказавшись от обезболивания. Вторая беременность была пыткой. Звук рвоты, саднящий и сдавленный звук, который по многу раз за ночь доносился из уборной, поначалу вызывал у Сергея досаду, словно жена не должна была посвящать его в свою «физиологию» и справляться одна, потом это чувство досады сменилось на острую жалость. Глядя на ее желтое в темных пятнах худое лицо, припухшие глаза и растрескавшиеся губы, он чувствовал, что это он виноват, хотя и не мог объяснить себе в чем.
Одри ни за что не хотела вылезать наружу из мокрого от пота материнского живота. Сергей стоял над кроватью роженицы, сжимавшей его руку своей горячей рукой, слышал ее стоны и ждал, чтобы все это кончилось. Когда акушерка поднесла к самому его лицу крошечную, еще окровавленную, слабо, но отчаянно вскрикнувшую новорожденную, Сергей даже вздрогнул: так пристально она на него посмотрела.
Опухоль была обнаружена, когда Одри еще не исполнилось года. Она была доброкачественной, но неоперабельной. Главное было – не дать этой опухоли разрастись и захватить другие участки мозга. Начали химиотерапию. Крошечная, без единой волосинки на розовой голове, девочка, на которую они с Адрианой любовались, когда она тихо спала в своей кроватке, украшенной кружевами и белыми лентами, девочка, которая живет на свете всего десять месяцев, на этой кроватке своей, как на лодке, плыла из спокойного белого мира в другой – тоже белый, в зеленых халатах, где каждой душе было страшно, и каждая стояла у самой черты, за которой кончался покой, белизна, тишина.
В страхе и надежде, в постоянных переходах от надежды к страху и наоборот, они прожили почти двенадцать лет. В перерывах между сеансами химиотерапии Одри быстро стряхивала с себя приметы болезни и, лысая, в красном беретике, то и дело спадающем с головы, носилась по дому, играла в саду и строила козни соседским мальчишкам, плосколицым мексиканцам, отец которых преподавал математику в школе и часто, якобы в шутку, заставлял свою жену одеваться проституткой. Сергей не обращал на это внимания, но внимательная Адриана, заметив, как учитель математики разглядывает миниатюрную Одри с ее длинными незагорелыми ножками и хрупкими, как еле заметные крылья, лопатками, немедленно оборвала эту дружбу.
Когда Адриана вышла на работу, в доме появилась домработница Маша, родом с Украины, большая, полногрудая, с бархатными томными глазами, которая полюбила обоих детей, особенно Одри, научила их говорить по-русски, и вечером, когда отец возвращался с работы, Петька спрашивал его:
– Жопа не устала в машине целый день кататься?
Одри не отставала от брата и однажды, когда старуха на джипе опередила их и заняла стоянку, на которую нацеливалась Адриана, крикнула ей в открытое окно:
– Довольна, сучара?
Дети росли. Забота о них поглощала все силы. Родители ссорились. Но дом был красивым, уютным. Адриана, следуя своему испанскому вкусу, везде расставила зеленые деревья в кадках, развесила иконы, украшенные бумажными цветами, но главным были многочисленные фотографии самих детей: маленьких, в колясках и на полу, среди летней зелени, в зимних ушанках, под елкой, увитой горящей гирляндой, на мощных коленях у доброго Сайты в кудрявом его парике и огромном, блестящим от инея красном халате. На отдельном столике стояла большая фотография Одри, сделанная в день ее первого причастия. Семилетняя девочка с так туго заплетенными волосами, что выпуклые синевато-черные с продолговатым разрезом ее глаза от сильно натянувшейся на висках кожи казались слегка подрисованными.
Эти фотографии запечатлевали их жизнь, праздничную, беззаботную. Они напоминали витрину магазина, где среди винных бутылок мерцают гроздья стеклянного винограда и глиняные окорока обнажают прослойки жемчужного жира. Их настоящая жизнь пряталась от глаз посторонних. А посторонними были все, кроме них самих, Маши и бабушки. Внутри этой жизни, как угли, пылали рентгены, скрипели каталки с больными. Старенькие волонтерки перебирали пальчиками синие гиацинты и желтые тюльпаны, чтобы, составив букеты, разнести их по палатам, доктора с темными, набухшими от усталости подглазьями терпеливо растолковывали родителям всех этих худых тонкоруких детей свои опасения.
Пока была Маша, оба они работали. Но в Машу влюбился провизор, итальянец, который, несмотря на свои сорок пять лет, ни разу не был женат и продолжал жить в одном доме с родителями, где мама его варила, зажаривала, пекла так много и вкусно, как варят, жарят и пекут в одной только шумной и нежной Италии. Высокий, с гладкими, сизыми от бритья щеками, провизор стеснялся привести домой американку, а итальянок, которых он изредка все-таки приводил, мама не одобряла. Когда же в аптеку, где он колдовал над порошками и капсулами, вошла Маша, полногрудая, с томными бархатными глазами, держа за руку Одри, похожую на тех маленьких Мадонн, которые стоят в каждом итальянском дворе, у провизора затряслись руки от восхищения.
В воскресенье вся семья, включая детей, была приглашена на настоящий итальянский обед, и Маша понравилась маме. Свадьбу сыграли через два месяца. Плача счастливыми слезами, Маша расцеловала Одри и Петьку, перекрестила каждого и переехала к мужу.
Зарплата Адрианы была почти вдвое больше, чем у Сергея, поэтому решили, что уволится он, а новую домработницу искать незачем. Жена продолжала вставать в семь, быстро выпивала чашку кофе, быстро подкрашивалась – от ее молодой красоты остались только густые, до пояса, прямые волосы, а тело обабилось и располнело, – садилась в машину и тут же закуривала, хотя Сергей злился и требовал, чтобы она бросила курить, грозил раком легких и даже однажды сказал, что курящая женщина отбивает у него желание.
Адриана пропускала его слова мимо ушей и продолжала курить, а перед сном обязательно выпивала бокал, а то и два бокала калифорнийского красного вина. Только тогда тревога медленно гасла в ее светло-карих глазах, а щеки слегка золотились. Он не должен был осуждать жену. Они были парой животных, которым приказывают прыгать прямо в огонь, и кнут, поднимающий кучу опилок, в любую секунду готов с диким свистом обрушиться им на затылки и спины.
Самым страшным временем было ожидание результатов очередного снимка. Чаще всего это ожидание растягивалось на неделю. Если опухоль не увеличивалась за три месяца, их отпускали. Но если она сдвигалась на полмиллиметра или сбоку от ее изображения, похожего на лягушонка, появлялся еще один плотный комочек, назначали новую химию. И сестры вздыхали, и доктор мрачнел. И снова халаты, каталки, вливания…
Так же, как и остальные, этот отъезд в Москву был побегом. Едва только самолет поднялся в воздух, дрожь в солнечном сплетении и сдавленность слева, у сердца, с которой он ел, спал, дышал, прошли. Он знал, что все это никуда не денется, что через две недели, как только он приземлится в Нью-Йорке, вернется и дрожь, и тревога, и сдавленность, но это не скоро. Четырнадцать дней – ведь не час и не два.
Слава Богу, Адриана позвонила утром и сказала, что все в порядке. Она на работе, дети с мамой. Одри подложила себе под майку два апельсина, чтобы получилась женская грудь, и так они с Петькой поехали к маме. Сергей посмеялся. Дождь утих, только сильно капало с деревьев, а внизу, во дворе, девочка лет тринадцати убегала или, скорее, делала вид, что убегает от гонявшегося за ней парня, и ярко светились под фонарем ее легкие, каждым волоском вьющиеся, отброшенные на спину пряди. Брат опять заговорил о том, что Марина не хочет рожать и сегодня утром позвонила ни свет ни заря и сказала, что она не в подчинении у него, и бросила трубку. Сергею казалось, что разумнее отпустить эту Марину на все четыре стороны, пусть она делает, что хочет, но он знал, что Адриана вела бы себя точно так же, как брат, хотя он и не был католиком.
– Ладно, давай спать ложиться, – сказал Максим, устыдившись, что он столько времени говорил только о себе. – Что я тебя мучаю.
– Нисколько не мучаешь, – возразил Сергей. – Ведь мы же семья.
Утро было теплым, ярким, и некрасивые новостройки с их плоскими поверхностями, выкрашенные в одинаковые светло-болотные тона, преобразились от солнца. В воздухе еще стоял запах отцветшего жасмина, и это сразу напомнило Сергею лето, дачу, на которой они жили вместе с отцом и мамой, и мама, совсем молодая, с высоко подобранными волосами, ходила по сочной траве босиком.
Приехали рано. Серебряный Бор Сергей помнил смутно.
Река была тихой, еще не разбуженной, и еле заметно дымилась ее золотая рябая поверхность.
– Тут тебе, конечно, не океан, но вода неплохая, чистая, – грубовато-ласково сказал брат. – Вон раздевалки, а вон лежаки выдают. Ты подожди, я сейчас.
Поигрывая мускулами, он пошел за лежаками, а Сергей лег на песок и закрыл глаза. На секунду ему стало стыдно своей радости и неловко от того блаженного покоя, который, как парное молоко, разлился по телу.
Маленькие босые ноги с тонкими щиколотками осторожно переступили рядом, заставив его открыть глаза. Молодая белокурая женщина стояла над ним:
– Простите, вы не знаете, здесь дают полотенца?
Он быстро вскочил. Лена, такая, которой она сохранилась в его памяти и которой больше не было, с печальным, слегка постаревшим лицом, спрашивала, выдают ли на этом пляже полотенца.
– Полотенца – не знаю. Лежаки дают, – ответил он.
– Да что лежаки! – сказала она огорченно. – Я сумку с полотенцем забыла. Купальник на себя надела, а полотенце забыла. И крем от загара забыла. Ну, ладно! Что делать!
Она говорила спокойно и неторопливо, точно так, как раньше говорила Лена, и так же, что было совсем удивительно, поигрывал еле заметно кадык на тонкой ее длинной шее. Он чувствовал, что нельзя так пристально разглядывать незнакомую женщину, но кожа на его голове похолодела, стянулась, и он все смотрел и смотрел.
Она замолчала, смутилась.
– Но вам полотенце не нужно! – опомнился он. – Уже припекает, и так легко высохнете.
– Мерзлячка ужасная. – Она улыбнулась. Лена улыбалась широко, а эта – слегка, словно ей не хотелось растягивать губы, которые были похожи: такие же бледные, плотные, сильные, которые он остро помнил на вкус.
– Знаете, что? – пробормотал он. – Давайте я вас лежаком обеспечу, раз вы полотенце забыли.
– Ой, что вы, зачем! – И она покраснела всем милым знакомым лицом. – Лежите, пожалуйста, и отдыхайте.
Запнулась.
– Сергей, – сказал он и протянул руку.
– Вера.
Рука была очень горячей и, главное, очень доверчивой. Такая рука была только у Одри. И, может, у мамы, но страшно давно. Вот это его испугало. Нужно было разыскать куда-то запропастившегося брата и сматываться отсюда. Вместо этого он задержал ее руку в своей и сказал с глупой и, как показалось ему, фамильярной усмешкой:
– Стойте здесь и никуда не уходите. Сейчас принесу вам лежак.
Она улыбнулась испуганно.
Брат шел навстречу.
– Куда ты? – спросил его Максим.
– Неважно. Сейчас, – ответил он коротко.
Все, что было потом – когда, устроившись на лежаках, они повернулись друг к другу и начали разговаривать, – он почти не запомнил. Оба они волновались так сильно, что то и дело теряли нить разговора. Он даже не сразу сказал ей, что живет в Америке, и получилось неловко: как будто он скрыл.
– А я в прошлом году ездила с подругой в Мексику, – сказала она. – Да, в Мексику, на океан.
– Понравилось?
– Очень. Разве океан может не понравиться? Там обезьянки были. Идешь по тропинке, а обезьянка прыгает с дерева прямо тебе на руки. Шелковая! И мордочка шелковая. Мы их там бананами кормили. Наберем в столовой бананов и кормим.
Он слушал этот голос и все пытался понять: действительно ли она напоминает Лену или это ему кажется. Обычная подтасовка памяти. В ее голосе, широкоскулом лице, прозрачном взгляде, даже в ее худых и нежных ключицах было что-то, что перевернуло душу, а Лена, наверное, так и хранилась в душе его все эти годы. Та Лена, которую ветер пытался отнять и вскоре отнял наконец. А детскость, которую он в ней почувствовал, мешала ему, чтобы грубо желать одно ее тело, как он после Лены желал других женщин. Одну только Лену, скорее, жалел, чем просто желал, и в близости с Леной всегда была жалость.
Брат наплавался и вышел из воды, загорелый, с мощной грудной клеткой, занесенной красноватым кудрявым пухом. Он, видимо, не знал, как себя вести: подойти к ним или, наоборот, не мешать.
– Вот, Вера, мой брат.
– Привет, – сказал брат. – Очень рад познакомиться. Я Макс.
Она опять покраснела, встала с лежака и протянула руку. У нее была тонкая талия, родимое пятно на левом плече, похожее на маленькую татуировку.
– Слушай, Серега, – забормотал брат. – Я забыл совсем: у меня в двенадцать часов в городе встреча. Какой же я идиот! Бегу одеваться! А тебе торопиться некуда, ты еще даже и не поплавал. Машину я тебе оставлю, сам поймаю такси, их тут пруд пруди.
Он вдруг испугался так сильно, что под кудрявыми волосами выступил горячий пот.
– Зачем мне машина? Раз ты должен ехать, я тоже поеду.
У брата вытянулось лицо. И, увидев это, Сергей понял, что поступает правильно. Раз брат тоже что-то заметил, так лучше сейчас же уехать.
– Извините, Вера, – твердо выговорил он. – Полным-полно дел.
Она посмотрела спокойно, пытливо:
– Когда вы домой улетаете? Скоро?
– Когда я домой улетаю?
– Ну, да.
– Да кажется, через неделю. В субботу.
– Хотите в театр пойти?
– Я? В театр?
– В театр.
Он уловил смущение, но и напор в ее голосе, и его обдало воровской радостью от того, что она, сама предложив эту встречу, снимает с него и намек на ответственность. Еще не хватает ему здесь, в Москве, за что-то опять отвечать! Как будто ему мало той его жизни.
– Я уехал двадцать пять лет назад, – сказал он. – И с тех пор ни разу не был ни в одном московском театре.
– Но к вам же все время кого-то привозят, – заметил Максим.
– Так я не хожу. Жена ведь не знает ни слова по-русски.
Это было обращено к Вере. И прозвучало вызовом. Однако она не смутилась:
– Жена у вас американка?
– Она родилась в Аргентине. В Нью-Йорк привезли еще девочкой.
– А дети у вас говорят по-испански? Теперь нужно было сказать про детей.
– Да, девочка очень свободно, а мальчик… Он все понимает. Но как-то не любит. И с русским такая история. Их спросишь по-русски, они все поймут, а вот отвечают – увы! – по-английски.
Она усмехнулась. Глаза ее стали немного темнеть, лицо вдруг закрылось. И он сразу сдался:
– Конечно, хотелось попасть бы в театр…
– Попасть – не проблема, – сказала она. – Подруга моя у Фоменко работает.
– Работа хорошая. – Брат хохотнул.
– Большое спасибо. – Сергей подал руку. – Я вам позвоню.
Записывая телефон, он запомнил его наизусть. Взглянул один раз и запомнил.
В театре Фоменко шел спектакль «Три сестры». Было почти темно, на сцене тушили пожар, и одна из актрис куталась в черный деревенский платок. На Вере было что-то серебристое, нарядное, а накрашенные ресницы так сильно изменили ее лицо, что в первую минуту он даже не узнал ее. Сидеть в этом зале так близко от тела, которое утром он видел в купальнике, вдыхать кисловатую терпкость духов и чувствовать, что через пару часов им нужно куда-то пойти и где-то остаться вдвоем, – все это пугало его. Но вместе с испугом росло нетерпение. Громкие голоса актеров раздражали. Вообще каждый звук раздражал.
Занавес наконец задвинулся, три сестры с грустными и усталыми лицами кутались в свои вязаные платки и кланялись низко, подчеркивая, что они служат публике, хотя и слегка презирают ее.
Они вышли на улицу. Был вечер, но полная темнота еще не наступила, и город светился огнями в густых, слегка влажных, сиреневых сумерках. Уличные фонари ярко подсвечивали траву и деревья на бульваре, листва на которых от этого света казалась почти металлической. Сергей поднял руку, машина какая-то остановилась.
Высунулся парень:
– Далеко ехать?
– Мы едем к тебе, – понизив голос, сказал Сергей, стараясь заглянуть ей в глаза. – Потому что я живу у брата. Говори адрес.
– Мосфильмовская, 18, – сказала она.
– Садитесь. – И парень боднул головой темный воздух. – Подходит.
В машине Сергей сразу обнял ее за плечи. Она не отодвинулась, не сбросила его руку. Оба смотрели вперед и молчали.
– Вот здесь, – сказала она водителю.
Вышли из машины, дом был пятиэтажным, без лифта. Она жила на пятом этаже. Пока поднимались, он не удержался и опять сильно обнял ее.
– Почти пришли, – сказала она, задохнувшись.
В постели Сергей сразу понял, чего он боялся. Того, что она, ее тело, дыхание, движения будут похожи на Ленины. Но Лена исчезла. Она была веточкой, которую ветер сломал так, как ветер обычно ломает деревья. А части разломанного существа, наверное, так и лежат у метро, где та же старуха в песцовой ушанке торгует мороженым.
А эта была взрослой, сильной. Она приникала к нему с такой жадностью, с таким откровенным и чутким бесстрашием, что все обновлялось внутри. Стучало в ушах, билось сердце, хотелось кричать во весь голос, стонать и смеяться. Такой сумасшедшей животной свободы он раньше не знал. И тело впервые горело, как будто упало в огонь, дикий мощный огонь, в котором не страшно, не больно, а весело.
Потом он заснул, провалился куда-то, в какое-то мягкое прелое сено, которое пахло духами и солнцем. На рассвете, когда за окнами начала переливаться листва на деревьях, он хрипло спросил:
– Прости, ты не замужем? И что, не была никогда?
– Я была, – сказала она так же хрипло и тихо. – Ребенок был, сын. Умер через неделю. Родился до срока. И я развелась.
– И ты развелась? Почему?
Тени, которые проступили утром под ее глазами, вызвали в нем неожиданное умиление. Так умиляла какая-нибудь мелочь в лице Одри, вроде веснушек на переносице или подсохшей болячки на губе.
– Муж ни в чем не был виноват. Но если бы мы остались вместе, я бы не пережила… Не потому даже, что муж, конечно, не мучился его смертью так, как я, а потому, что… Нет, я не могу объяснить.
– Да я понимаю, – сказал он.
– Совсем не могу объяснить, – вздохнула она. – Не могу объяснить.
– Когда на работу тебе? – спросил он.
Вчера в антракте она сказала ему, что работает куратором в музее изобразительных искусств на Волхонке.
– Я могу позвонить и сказать, что заболела. Но врать не хотелось бы. Мало ли что… Тебе ведь, наверное, нужно домой?
И от того, что она так мягко и грустно, словно заранее согласившись на то, что они все равно скоро расстанутся, напомнила, что ему пора уходить, у Сергея заныло в груди.
– Да здесь-то могу к тебе хоть переехать, – сказал он неловко. – А дома, в Нью-Йорке, там двое детей…
Она опустила глаза.
– Ты даже не думай. Иди и забудь. Когда я тебя пригласила в театр, мне просто хотелось еще раз увидеться.
Он вдруг почему-то вздохнул с облегчением. Взглянул на нее и отправился в душ. В коридоре висело большое зеркало, отразившее его с головы до пят. И дикая мысль, что ведь через неделю, когда, оторвавшийся от Адрианы, он тоже пойдет сразу в душ, и их зеркало, большое старинное зеркало в спальне – подарок родителей Тома, – поймает его наготу, вызвала отвращение. Он задержался в душе дольше, чем нужно, долго не смывал с себя мыльную пену, долго вытирался и причесывался, потому что отвращение не только не проходило, но с каждой секундой усиливалось. Гадок и ничтожен был, прежде всего, он сам, но и Вера была виновата, что он так ничтожен, и даже жена на другом конце свете несла на себе часть их общей вины.
Вернувшись из ванной, он не увидел Веру ни в спальне, ни в смежной столовой, ни в кухне. На балконе, уже вовсю залитом светом, ее тоже не было. Значит, она догадалась, каково ему сейчас, и освободила его прежде, чем он успел объяснить ей, что больше не стоит встречаться. Да и как бы он это объяснил? Опять говорить, что там двое детей? Но именно их не хотелось касаться. Дети – это не козырь, а вся его жизнь, сердцевина ее, и лишний раз их выставлять он не станет. Она – удивительная, эта Вера. Какая-то чуткость в ней есть ко всему. Оставила мужа сама. И за что? За то, что не разделил ее горя. Но ведь мужики все не так понимают. Им нужно сначала привыкнуть к ребенку, потому уж, конечно… И то ведь не все. Не все и не сразу. Таких, как Максим, вообще не бывает. Но женщинам это отнюдь не мешает. А ей помешало. И эта вот ночь… Что, собственно, произошло? Молодые свободные люди (в Москве он считал себя тоже свободным!) сходили в театр, потом переспали. Кому они сделали больно? И разве же это измена жене?
«Измена, – сказал он себе и напрягся, стараясь понять, что такое измена. – Когда ты кого-то действительно любишь в ущерб и жене, и семье. Это тайная жизнь. Тогда и жена твоя будет страдать, ведь женщины чувствуют, что не нужны. Не дай Бог, чтобы Адриана узнала! Она ведь не станет терпеть ни секунды. – Его передернуло. – И все-таки как хорошо! Какой был чудесный рассвет. А я уже спал. Просыпался, и спал. И губы какие! Да, как хорошо…»
Волевым усилием он заставил себя не думать больше о прошедшей ночи. С прощальной нежностью взглянул последний раз на застеленную постель (она успела даже постель застелить!), увидел серый халатик, тапочки, застывшие на ковре с покорным выражением, и, прошагав к двери, открыл ее, стремительно сбежал вниз по лестнице.
Ему не хотелось делиться с братом. Но брат все равно, наверное, спросит, почему он не ночевал дома. Лучше рассказать самому. Максим ни о чем не спросил. Они завтракали и говорили о какой-то чепухе. Потом брат сообщил, что поставил Марине ультиматум: если она сегодня не решит, что делать с беременностью, он ее больше не хочет видеть. Вещи соберет в чемодан и выставит этот чемодан за дверь. Пусть приходит и забирает.
– Зачем же так круто?
– Чудной ты, Серега. Мне кажется, в жизни все круто. И главное: выбор. Сидеть на двух стульях нельзя.
– Конечно, не дай Бог сидеть на двух стульях, – ответил он брату. – Я сам бы не смог.
– Отец предлагает на даче пожить. В такую жару чего в городе делать? У них там вода в двух шагах, дом большой, мать столько цветов развела, не хуже, чем ВДНХ…
– Давай! – отозвался он бодро. И сразу подумал, что, значит, теперь они уж никак не увидятся. – Поедем, конечно. Сортир там на улице?
– Ты что? Обижаешь! – И брат покраснел. – По-твоему, мы и порядков не знаем?
Поехали на дачу. Раньше это был двухэтажный летний дом с одной куцей печкой внизу. Крайний к лесу. Забор, за которым шумели деревья, валился всей тяжестью прямо в крапиву. Вода из колодца была ледяной, и зубы сводило от этой воды. Теперь оказалось, что дом и сарай снесли подчистую, а лес порубили. В саду, где цвели «золотые шары» да неприхотливые астры, краснели и снежно белели высокие розы. Дом был совсем новым, с камином и ванной.
Отец и мачеха суетились, не знали, куда посадить. От запаха лилий, поставленных в вазу, плыла голова. После обеда с окрошкой, винегретом, селедкой, которая ярко синела от солнца, луком, только что сорванным с грядки, молодой картошкой, шашлыком, водкой, коньяком армянским и коньяком французским Сергей расцеловался с мачехой, которая все заглядывала в глаза, беспокоилась, не ударила ли она в грязь лицом своим угощеньем, пошел во глубину сада и устроился в гамаке под яблоней. Небо оказалось так близко, как никогда в жизни. Он снял майку, кеды и вдруг провалился. Опять рядом вырос Серебряный Бор, какие-то люди и, кажется, Одри. Она приложила тяжелую раковину к голове.
– Ой, ой! Почему я не слышу? – спросила она у отца.
– Чего ты не слышишь?
– Я моря не слышу, – ответила Одри. – Наверное, я стала глохнуть. Ведь опухоль может и в ухо пойти. Врачи говорили…
– Никто тебе не говорил ничего!
Он вскочил с песка, чтобы отнять у нее раковину, но Одри уже убежала вприпрыжку, и он догадался, что все это розыгрыш: она просто хочет его напугать.
– Какая ты дрянь! – закричал он беззвучно. – Мы с мамой всю жизнь свою прожили в страхе! А ты еще смеешь смеяться над нами!
– Не с мамой, не с мамой!
– А с кем?
– Откуда я знаю? Ведь ты же молчишь!
Он вдруг с облегчением понял, что все это сон и что надо проснуться. И вскоре проснулся. Увидел террасу. Себя в гамаке и опять эту воду, в которой купались какие-то люди. И Одри опять подошла совсем близко, прищурив глаза.
– Не смей никогда заикаться про маму, – сказал он. – Я не позволяю тебе…
Она опустилась на корточки. Сжалась. Ему стало стыдно, и он наклонился, пытаясь поднять ее, поцеловать. Она отворачивалась, не давалась. Лица ее он все не мог разглядеть, но тело – особенно плечи, колени – вдруг сделалось словно железным.
Она продолжала сидеть на песке, чужая и окостеневшая.
Разболелась голова. Мачеха заварила ему крепкого чаю с медом и лимоном, отец принес нераспечатанную пачку аспирина. Сергей вспомнил, что он и раньше всегда принимал аспирин от головной боли.
– Ты, конечно, человек молодой, тебе хандрить рано. – Отец суетился. – Но все же, сынок, я тебе говорю: проверь-ка сосуды. По маминой линии и по моей у всех были очень дрянные сосуды…
Сергей, ничего не отвечая и усмехаясь, погладил легонько отца по плечу.
«Чудно это все, – думал он. – Ведь как он любил мою маму! Пока мы с ней были в Москве, он все время хотел, чтобы мама вернулась к нему. Все время звонил, говорил: «Все простил. Давай хоть попробуем». А как мы уехали, сразу женился. И что? Никакой не случилось трагедии. Нормальная, добрая женщина, сын. Цветов насадила, вон, целое поле. А мне писал редко, звонил еще реже. И вот я теперь приезжаю, и он как будто дуреет… «Сынок» да «сынок»…»
Вечером мачеха принесла самовар, и все пили чай на открытой терассе.
– А я тебе тут карамелек купил. – Отец суетился. – Конфеты «Подушечки». Не помнишь, наверное? Ты их любил. Когда мне врачи запретили курить, так я только ими и спасся. Положишь ее под язык и сосешь. Тебя вспоминал. Ты их очень любил…
Он знал, что, скорее всего, не заснет. Стоял у окна. Слушал, как горячо и как шелковисто поет соловей, вдыхал душный запах болотных цветов, который шел волнами из глубины недавно посаженной рощи. Желание переполняло его. Все тело горело. Внутри темноты какие-то синие, красные искры то вспыхивали, то опять исчезали. Он больше не мог. Это было сильнее. Его лихорадило, и, как от ветра метались деревья, бросая узоры на лунную полосу, так в нем все металось, рвалось, нарывало.
«Что делать? Вернуться в Москву? На чем? Уже электрички не ходят. А если сейчас позвонить ей?»
В половине шестого он разбудил брата.
– Дай мне ключи от машины.
– О'кей, – не удивился брат. – Но ты какой-то перевернутый. Я лучше тебя отвезу. Куда скажешь.
– Отцу объяснишь?
– Объясню, не проблема.
Несмотря на раннее утро, шоссе было забито машинами, которые еле ползли. В начале девятого брат сбросил его на Мосфильмовской. Опять нарастала жара, и город был снова похож на горячий и перекосившийся весь в черно-красных нашлепках от вытекших ягод пирог.
Две старухи сидели на лавочке, облизываясь от жары, и разговаривали тихо и вяло.
– А дочка когда померла, она как взяла, так слегла, – монотонно, без малейшего выражения, рассказывала одна. – Сама как взяла, так слегла.
– Ты вишню варила? – спросила другая старуха.
– Еще не варила. Но в таз поклала. Так я говорю, что она, как слегла…
Сергей посмотрел на часы. Без четверти девять.
«А может, она здесь вообще не ночует? – сверкнуло в его голове. – А может, она и встречается с кем-нибудь?»
Все, что он начал восстанавливать в памяти, подтверждало это подозрение. В квартире ее было слишком уж чисто. Нигде ни пылинки. Цветы в вазе высохли. И это понятно. Стояли давно, поэтому высохли. Еды никакой. Кофе не предложила. Нет, кофе она предлагала, но он сам сказал, что не хочет. Потом была ночь. Не до кофе. Еще что? А то, например, что все полотенца разложены стопками. Он в ванной ведь был. Они все разложены стопками, никто ими не вытирался. Да, он идиот! Ох, какой идиот! Заморский петух! «Я хочу эту женщину!» Ну, хочешь – хоти. Сколько будешь хотеть? Еще полчаса? Подождем полчаса.
С похолодевшей головой он ходил и ходил по маленькому палисаднику, и ему казалось, что он ходит по воздуху.
– Ну, все, – вслух сказал он. – Пора и честь знать.
И тут она вышла из дома. Он смотрел, как она приближается, и волновался так сильно, что на секунду забыл, как ее зовут. Она шла прямо к нему, и ее шаги совпадали с ударами его сердца. Глаза ее были темны и напуганы.
– Я ждал тебя, здравствуй.
И сразу же вспомнилось имя.
– Я ждал тебя, Вера.
Старухи смотрели на них, раскрыв рты.
– Пойдем, – прошептала она еле слышно.
Последнюю ночь они не спали ни минуты. Она плакала, потом затихала, шла в ванную, умывалась холодной водой, возвращалась и опять плакала.
– Я приеду, – бормотал он, гладя ее горячее, мокрое от слез лицо. – Увидишь, приеду.
– Я знаю. – Она затихала. – Конечно, приедешь. Когда? Через год?
В глубине души он не верил тому, что обещал. И она понимала это. Слова они произносили просто так, чтобы не молчать, потому что молчание было опасным и жутковатым, как незнакомый лес глубокой ночью.
Адриана встречала его в аэропорту. Она заколола на затылке свои густые и длинные волосы, которые так украшали ее, и от этого лицо казалось полнее и проще.
– Ну, как? Отдохнул там?
Ни подозрительности, ни враждебности не было в вопросе Адрианы, но он все-таки уловил нотку отчуждения, растерялся, а целуя ее, почувствовал сильный запах табака.
– И сколько же пачек ты выкурила?
– Я их не считала, – сказала она.
Дети набросились на него с визгом и криками. Одри оттолкнула Петьку, у которого от горя задрожали губы. Несмотря на свои почти двенадцать лет, она была маленькой, как восьмилетняя, и поэтому сразу вскарабкалась на отца, как обезьянка, замерла на его руках, так стиснув отцовскую шею, что он чуть не ойкнул.
– Больше никуда тебя не отпущу! – вскрикнула она, картинно вскидывая глаза к потолку, как это делала Адриана в молодости. – Со мной будешь дома сидеть!
– А я никуда больше не собираюсь, – сказал он покорно.
– Нет, я понимаю, отец там и брат. Конечно, ты должен был их навестить, но эта… – шепнула ему Адриана. – Она меня всю извела. «Зачем он уехал? Когда он вернется?» Ты сам разбирайся с ней, я не могу…
Он лег спать одновременно с детьми, не было еще и половины десятого. Адриана пришла намного позже. Он видел, как она раздевается. Немолодая женщина с немного выступавшим вперед животом и густыми тяжелыми волосами. От волос тоже пахло табаком.
Значит, она курила на крыльце после ужина. Обручальное кольцо вдавилось в мякоть безымянного пальца, и от этого верхняя фаланга немного распухла. У нее было смуглое тело, и белоснежный лифчик на большой груди шел ей больше, чем бесформенное платье, подчеркивая эту смуглость, каштановый блеск ее длинных волос и черные брови. Она не вызвала у него ни малейшего желания. Дикая мысль, что так будет всегда, обдала кипятком. Он еще крепче закрыл глаза и даже захрапел слегка, чтобы жена не усомнилась в том, что он спит. Она грустно посмотрела на него, осторожно опустилась справа, так и не сняв своего кружевного лифчика, и погасила ночник. Они неподвижно лежали рядом, не притрагиваясь друг к другу. Он знал, что глаза у нее открыты, и хотел хотя бы обнять ее, но присутствие здесь, в комнате, на этой постели, между ними, той женщины – присутствие жгуче телесное и въевшееся в него, – мешало не только объятью, но даже простому вопросу. Он чувствовал, что если мягко спросить: «Ну, как ты справлялась? Устала, наверное?», жена благодарно ответит ему, тогда можно будет и пробормотать, что он не заснул в самолете, весь вымотан… Но это ведь ложь. Это все одна ложь. Такого в их жизни еще не случалось. Поэтому он отодвинулся к краю и, словно бы не замечая ее, стянул на себя простыню.
Разрушилась жизнь. И это ведь он, его «похоть», как он с отвращеньем себе говорил, разрушили жизнь.
Жена рано вставала, выпивала свой кофе и уезжала на работу. Их близость случалась так редко, что любой другой женщине сразу пришло бы в голову, что ее обманывают. Но Адриана, которая не представляла себе, что муж, самый близкий человек, способен на ложь, поняла только то, что она не вызывает прежней любви, и сразу замкнулась, притихла, выпивала два бокала красного вина за ужином и с сильно блестящими глазами, с глубокими складками по обеим сторонам рта, ложилась спать рано, так что когда он приходил, в спальне было уже темно, и жена, уставшая за день работы, слегка опьяневшая, дышала протяжно и жалобно. Одри быстро взрослела, как взрослеют дети, на которых много лет давит страх. А на нее – сколько она помнила себя – родительский страх давил постоянно. Сами не понимая этого, они сделали все, чтобы она чувствовала себя исключением, и постепенно, привыкнув к этому, она начала невольно пользоваться своей исключительностью. По воскресеньям мама водила их с Петей в церковь, где Одри скучала, водила глазами по сводам, иконам, цветным витражам, все время отпрашивалась в уборную, слюнявила тонкий пробор перед зеркалом, снимала колготки и вновь надевала. Когда она наконец возвращалась, служба подходила к концу, но мама ее продолжала стоять в той же позе, в которой стояла вначале: она опиралась коленями на бархатную подставку, расположенную перед каждой скамьей, и, положив подбородок на скрещенные руки, шептала, обращаясь к Деве Марии, изображение которой сияло над алтарем. Мама просила Деву Марию помочь им и сделать так, чтобы Одри выздоровела. Но снимки ее мозга по-прежнему были то лучше, то хуже, а иногда не показывали никаких изменений. Над их теплым домом, с цветами, с иконами, висела ворсистая черная туча. Никто, кроме них, этой тучи не видел.
Чувствуя полную свою безнаказанность, Одри иногда хитрила, жаловалась на головные боли и под этими предлогами увиливала от школы. Отец никогда не сомневался в том, что она говорит правду, но мама, вспыльчивая и требовательная, подозревала ее.
– Пойди и скажи, что пора подниматься! Скажи, что пора идти в школу!
Сергей послушно шел на второй этаж в детскую, и душа его становилась растопленным куском воска, когда он видел, как Одри, на левой ключице которой краснело отверстие (порт для вливаний), лежит, сжавшись в мягкий комочек. Не спит, но закрыла глаза. Ресницы намокли и слиплись от слез. На веке дрожит светло-синяя жилка.
– Ну, что? Не желает? О, что ты с ней делаешь! – кричала ему Адриана. – Ты ей потакаешь во всем, не боишься того, что все это вернется обратно! Она тобой вертит и крутит, как хочет, но ей же придется расхлебывать это!
– Ну, хватит! – Его начинало трясти. – Она говорит, что болит голова? Так, значит, болит! Кому лучше знать? Нам с тобой или ей?
– Да врет она все! Это ты ей внушаешь…
Они начинали кричать, забывая, что Одри все слышит.
– Даже если у нее сейчас и не болит голова, в школе она все равно заболит через час, и медсестра позвонит, чтобы я приехал за ней!
– И пусть медсестра позвонит! Нельзя! Нельзя ее уберегать от всего! Она вырастает уродом!
– Пусть лучше уродом, но лишь бы росла! Ты о чем сейчас споришь?
Они замолкали и, полные ненависти, уже не смотрели друг другу в глаза.
Одри понимала, что нет ничего надежнее, чем отцовская защита. Нет ничего вернее, чем его любовь. Мама стала вызывать в ней неприязнь. Иногда она, правда, спохватывалась, прибегала ночью в родительскую спальню и ложилась под бок именно маме, которая сквозь сон судорожно прижимала ее к себе. Но оттого, как мама начинала гладить ее голову и беспорядочно целовать ее лицо и волосы, у Одри сразу что-то размякало внутри, и она снова чувствовала ту любовь к маме, которую раньше чувствовала всегда, но которая теперь только мешала. Поэтому переметнулась к отцу. И прибегая по ночам, пристраивалась уже не к маме, а к папе, который также крепко, как мама, обнимал ее. Оба они – и мама, и папа – хотели одного: чтобы ей было хорошо. Но ей было плохо. Душа ее стала похожа на зверя, который не знает, откуда напиться: нигде нет ни капли воды.
Разрушилась жизнь. Только дом оставался таким же уютным, нарядным и теплым.
Простившись с ним рано утром шестнадцатого августа, Вера позвонила в музей на Волхонке и сказала, что сегодня не придет, заболела. Потом наглухо закрыла шторы, чтобы в комнате продолжалась ночь, втиснула лицо в подушку, остро пахнущую им, его волосами, и начала вспоминать. Она не хотела тратить ни секунды драгоценного времени и поэтому вспоминала все с самого начала: Серебряный Бор, театр, потом как он обнял ее в машине, и все ее тело покрылось мурашками. Каждая минута, проведенная с ним, стала вроде драгоценной фотографии, которую память укрупняла и делала четче и четче. Она боялась, что он никогда не позвонит, и поэтому зажимала уши ладонями, чтобы ни один посторонний звук не мешал ей прислушаться к его голосу и сохранить его.
Нутром она чувствовала, что эти пять дней, которые они провели вместе, можно выдавить из себя только силой, подобной гипнозу, а может быть, шоку. Когда полтора года назад умер ее новорожденный мальчик, она знала, что не только не забудет его, но никогда и не освободится от горя. Муж предлагал ей поехать куда-нибудь, чтобы отдохнуть и начать все сначала. Это невинное предложение вызвало в ней такое отвращение к нему, которое она не смогла преодолеть. Одной было легче. По крайней мере, она не ловила на себе ничьих удивленно-испуганных взглядов. Никто не учил ее, как выползать из той темноты, которая сразу накрыла ее, когда золотистого, теплого цвета, как будто игрушечный, гроб опустили в весеннюю землю. То, что может появиться другой мужчина, и этот мужчина излечит ее, избавит ее от навязчивой памяти и гробе вместе с телом, в котором все было родным (и особенно родным и щемящим был крохотный рот, похожий на сморщенную еживику!) – что может другой человек ей помочь, она себе не представляла.
Простившись с ним утром и проведя целый день в постели наедине со своими воспоминаниями, от которых она то холодела, то заливалась краской, Вера ждала, что через день-другой опять хлынет в сердце тоска и опять появится перед глазами ребенок. Но вместо тоски ее вдруг охватила горячая, дикая, глупая радость. Она подходила к окну, например, и видела двор, весь шумящий и пестрый, и счастье, причины которому не было, так переполняло ее, что хотелось смеяться от этого счастья. Ей даже казалось, что если Сергей и не позвонит, даже если они не встретятся больше, какая-то дверь отворилась внутри, откуда идет сильный свет. Теперь она не опускала глаза, как делала это все время с тех пор, как умер ребенок, и ей было легче смотреть себе под ноги, – теперь она все поднимала их к небу, и небо как будто ждало ее взгляда.
Неделя прошла, пока он позвонил.
Одри Смирновой (Смирнофф по-английски) исполнилось двенадцать лет, и она все время была в кого-нибудь влюблена. Она влюблялась в официантов, в своих одноклассников, в кузена Константина, но больше всего на свете она была влюблена в своего отца. Он постепенно становился ее игрушкой, потому что куклы ее уже не интересовали, книги тоже, сверстники были заняты делами, которые ей, про причине болезни, были недоступны, а отец был с ней все время и подчинялся любому желанию. Она заводила музыку, и они вместе танцевали так, как на сцене танцуют рок-звезды. Они пели под гитару, на которой он играл, и устраивали дома караоке. Он ездил с ней ко всем врачам и успокоительно подмигивал, когда эти врачи приступали к осмотру и ее начинало привычно подташнивать от легкого страха. Отец был с ней летом, зимой, днем и ночью. Да, мама тоже старалась. Но в маме не было той безотказности, которую она искала и находила только в отце. До мамы она снисходила, к отцу же рвалась всем своим существом. Мешал очень Петька, потому что отец любил его, и эта тихая, но сильная любовь выводила Одри из себя. Отношения с братом испортились настолько, что она с трудом переносила за обедом его присутствие. Четырнадцатилетний Петька иногда тоже срывался, повышал голос, и несколько раз мама заставала его рыдающим в гараже. Тогда мама тоже рыдала и требовала объяснений. Отец, жалко сморщившись, обнимал Одри и уводил ее в кино или в магазин, а на следующий день пытался загладить свою вину перед Петькой. Одри подслушивала под дверью, хотя отец разговаривал с братом только по-русски, а она начала забывать этот язык, и не все было ей понятно. Получалось, однако, что отец просит Петьку не обращать внимания на ее поведение и пожалеть сестру, у которой и без того непростая жизнь. Она не хотела, чтобы ее жалели, и от того, что безвольный Петька сразу же соглашался с отцом, ненавидела его еще больше. Мама была на стороне брата, и Одри объяснила себе, что мама давно тяготится ею, потому что никому не нужна больная дочка. Когда Адриана покупала ей очередную курточку или ботинки, Одри благодарила сквозь зубы, чувствовала фальшь и не верила ей.
Сама Адриана перестала удивляться всему, что преподносила жизнь, поэтому холод мужа и нелюбовь дочери пыталась компенсировать отчаянной привязанностью к сыну, который, чувствуя тоску и страх матери, начал избегать сестру и, зная, что любое его внимание к отцу будет встречено истерикой Одри, лавировал между ней и родителями.
Цветы оставались в их доме. Цветы и иконы.
Та сила разрушения, которая пылала в Одри, та сила любви ее только к отцу сделали ее безразличной по отношению ко всему, что происходило вокруг, но особенно проницательной по отношению к тому, что происходило в их семье. Сначала она хотела как можно сильнее очернить маму в папиных глазах. Но вскоре почувствовала, что в этом нет нужды, потому что папа и сам сторонится мамы и как-то темнеет, если мама обнимает его на людях или прижимается к нему, когда они сидят на диване и смотрят телевизор. Он уже не закидывал руку ей на плечо и не гладил ее по колену, как это бывало раньше. Но самым неожиданным было то, что папа все чаще и чаще оставался спать в своем кабинете на первом этаже, и теперь у Одри появилась возможность, о которой она раньше всегда мечтала: спать на большой кровати вместе с мамой, чтобы не бояться тех сгнивших людей, которые часто входили во сне, пугая ее так, что редкую ночь она не кричала от страха. Возможность спать с мамой теперь появилась, но Одри не пользовалась ею, и мама спала совершенно одна в большой пышной белой кровати, а утром пугалась, что все проспала, накраситься не успевала, в машину садилась помятая, бледная, зажавши в губах сигарету.
Но иногда Адриана все же не выдерживала и начинала кричать, требуя от дочери то одного, то другого. Одри убегала в уборную, садилась на закрытую крышку унитаза, складывала ладони ковшиком и, обратив глаза вверх, громко просила Деву Марию взять ее к себе. Родители распахивали дверь и застывали на пороге с перекошенными лицами. Одри знала, что делала. Она напоминала им то время, которое они и так не могли забыть. Это было семь лет назад. Опухоль ее стала вдруг стремительно расти. Порт над левой ключицей, через который вводили лекарство, инфицировался, и поэтому назначили химиотерапию в виде больших ярко-желтых таблеток. Четыре таблетки в неделю. Она не могла проглотить ни одной. Ее выворачивало до крови.
– За каждую буду тебе покупать что хочешь! Ну, сделай усилие! – Отец орал так, что весь дом содрогался.
Она, умоляюще глядя, проглатывала. И тут же ее вырывало.
– Опять, блин, опять! – Отец убегал. Потом возвращался.
Четыре раза в неделю они отправлялись в уборную: она, мама, папа. Они – впереди, она сзади. Потом мама, вся побелев, говорила:
– Ну, детка, давай!
Протягивала на ладони таблетку. Папа держал стакан с апельсиновым соком и бутылочку воды.
Одри садилась на крышку унитаза и начинала молиться.
– Пресвятая Дева Мария! – Молилась она с той же интонацией, с которой по вечерам молилась Адриана. – Помоги мне проглотить лекарство! Сделай так, чтобы меня не вырвало! Или лучше возьми меня к себе! Возьми меня к себе!
Через две недели Адриана сказала, что больше не может. Ребенок погибнет. Начали искать гомеопатов, колдунов, наткнулись на румынскую гадалку, которая жила в доме, пахнущем шоколадом, и сама была какой-то шоколадной, почти черной, огненно-горячей. Одри заметила, что у нее волосатые ладони. Потом купили в китайском магазине лохматый маленький гриб, положили его в банку, залили соленой горячей водой, и он начал вдруг разрастаться, плескать какими-то жуткими белыми щупальцами. Она каждый день выпивала стакан слегка пузырящейся жидкости. Маша, которая часто ее навещала, беременная и под ручку с провизором, кричала своим звучно-бархатным голосом:
– Да шо вы рехнулись? Сережа, ты шо? Он, гриб этот твой, срет вам в банку, а вы потом эти срачки девчонке даете?
Настало время очередного снимка. От страха у Адрианы отказали ноги, она не смогла встать с постели. Снимок показал, что рост опухоли остановился.
Семь лет прошло, они ничего не забыли. Кровавая рвота на белом полу темнела, как будто ее не убрали.
Сергею удалось вырваться в Москву в самом конце весны. У отца юбилей: семьдесят пять лет. У брата родилась дочка.
– Конечно, езжай, – сказала жена. – Ну, как не поехать?
– Ты думаешь, справитесь? – спросил он, лукавя и с ней, и с собой.
– Возьми с собой Питера, – простодушно попросила Адриана. – У него каникулы. Пусть посмотрит Москву.
Потом он долго не мог забыть, как съежился от этой просьбы, как жалко забормотал, объясняя, что у брата сейчас остановиться нельзя, там младенец, а у отца всего две маленьких комнаты. Адриана вздохнула и промолчала.
Он взял билет на пятницу, тринадцатого, но до этого нужно было еще попасть в Майами, где девятого готовилась свадьба Мариты, сестры Адрианы. Марита была фантазеркой, поэтому свадьбу играли на пляже, куда, на горячий песок, пришел загорелый нотариус для регистрации брака. Вечером жених и невеста венчались в церкви Святой Терезы из Лизье, известной как «Маленький цветок Христа».
Весь день сильно парило, но к шести подуло свежим ветром с океана, и воздух наполнился не темнотой, но мягким зеленым туманом, в котором, как капли росы, далеко-далеко, дрожали почти не заметные звезды. Церковь стояла на тихой улице. Гостей было немного. Пока ждали жениха с невестой, Адриана и Одри принялись рассматривать фотографии святой Терезы. На нескольких изображениях девочка, похожая на статуэтку, нарядная, в подобранных, мелко завитых кудряшках, пытливо смотрела из узеньких рамок, и, видно, старалась понравиться всем, как свойственно только веселым, бесстрашным и любящим жизнь существам. На остальных фотографиях та же девочка с таким же пытливым и ищущим взглядом смотрела по-прежнему очень светло, открыто, но тени веселости не было, как не было и ни прически, ни платья, а был белый с черным чепец камелистки, скрывающий волосы.
– Она кто? – нахмурилась Одри. – Святая? Вот эта?
– Святая, – краснея, ответила ей Адриана. – Она была очень хорошей, прекрасной.
– А чем это? – У Одри зрачки почернели, и в каждом зажегся внутри огонек, как у волка.
– Она родилась в конце прошлого века в Нормандии. Отец ее был ювелиром, семья очень верующей.
Мари Франсуаза Тереза была самой младшей. И вроде бы, как говорили потом, росла как другие. Обычная девочка. Любила все праздники, музыку, танцы. Но много болела. И несколько раз ее просто чудом спасали. Не люди и не доктора. Ты же знаешь: тогда медицина была еще слабой. Она уверяла, что Бог ее спас. И всем говорила, что чувствует Бога. Почти даже видит Его. Но не ясно, не так, скажем, как я сейчас тебя вижу, а как-то иначе…
– Как я? – И Одри понизила голос до шепота. – Ну, мама, ты знаешь, что я вижу ангелов. Я с детства их вижу!
– Я знаю. И мы говорили об этом. И доктор тебе объяснял, что это, скорее всего, вспышки света, которые ты…
– Это ангелы! – У Одри вдруг перекосилось лицо. – Это ангелы!
– Да Господи, я же не спорю с тобой! Об этих вещах вообще нечего спорить.
– Ну, вот и не спорь! И плевать мне на доктора!
– Дай я доскажу. И потом эта девочка сама, добровольно, ушла в монастырь. Ей даже шестнадцати лет еще не было. И стала монахиней.
– Зачем?
– А потом, после смерти…
– Она умерла?
– Она очень болела. Поэтому рано совсем умерла. Мне кажется, лет в двадцать пять. Или раньше…
– А чем? У нее была опухоль?
Красные пятна, похожие на ягоды бузины, выступили на шее Адрианы.
– Нет, туберкулез. Это тоже болезнь. Сейчас его лечат довольно легко. Тогда еще не было наших лекарств…
В открытых дверях церкви, сильно освещенные закатным солнцем и словно горящие в этом огне, появились новобрачные. Марита, которая пару часов назад веселилась на пляже в простом белом платьице и босиком, сейчас была выше, стройнее и старше, как будто бы и не она. На лице ее не было никакой косметики, а фата заволакивала голову, как облако, и когда она под руку с женихом медленно шла к алтарю, облако вытянулось, и сквозь белую ткань слегка золотился пол церкви. Во время венчания женщины плакали, а Одри все время хотелось сбежать, поэтому крепко, до боли, она сжимала отцовскую руку.
Когда подъезжали к гостинице, она задремала. Потом вдруг внезапно и громко проснулась:
– Ну, вот! Я сказала себе, что увижу! Пожалуйста! Вот она. Ваша святая.
– Какая святая? – И одновременно родители вздрогнули от неожиданности.
– Я видела сон про святую Терезу. Она была жутко испачкана кровью. Совсем, кстати, мне не понравилась.
– Зачем ты рассказываешь ей эти вещи! – Сергей раздраженно взглянул на жену.
– А что я сказала такого?
– Как?! Ты мне сказала, что эта святая всю жизнь проболела, потом умерла. – И Одри просунула между родителями лицо с затуманенными глазами. – Я сразу подумала: точно, как я. Но только я ангелов вижу все время. Наверное, я тоже буду святой.
Сергей съехал на обочину и остановился.
– Садись за руль, – коротко приказал он Адриане. – Петька, иди вперед.
Он пересел на заднее сиденье и прижал к себе дочь. И снова вдавились в него и запутались внутри его сердца ее эти слезы, ее эти косточки, волосы, руки…
В Майами было жарко, и ночь была жаркой, такой же, как день, в воздухе стояла лихорадочная томная влажность, а город вдали все не спал и переливался огнями, безумствовал в курортной отравленной праздности. Кондиционер в гостиничном номере работал громко, спать не хотелось. Сергей вышел на берег и долго сидел на песке. Светало, когда вместе с каким-то бодрым стариком, сразу же приступившим к йоговским упражнениям, из дверей гостиницы выскользнула Одри, заплаканная, в том же платье, в котором она была вчера на свадьбе, застыла, разглядывая белых чаек, подравшихся из-за какой-то рыбешки, потом подошла, села рядом.
– Твой сын еще спит, – сказала она. – Проспит до обеда. И мама, наверное, тоже. Вы зря поселили меня вместе с Петькой. Мне лучше бы было с тобой, а его вместе с мамой.
– Послушай, но он же твой брат.
– Ну, и что? – И Одри слегка закатила глаза. – Какая мне разница: брат он, не брат? Мне, может быть, эта вон птица дороже?
Он всмотрелся в распухшее от слез бледно-оливковое лицо, по-прежнему напоминающее лицо маленькой Мадонны с выпуклыми веками и горько опущенным ртом.
– Мне кажется, что мама была права: если бы ты регулярно ходила в школу, – сказал он спокойно, – ты не была бы такой избалованной и не позволяла бы себе того, что ты себе позволяешь…
– Ты что?! Ты серьезно? – Она усмехнулась, как взрослая. – Что я позволяю себе? Наверное, только одно: что живу.
Он похолодел:
– Что значит «живу»?
– То и значит: живу. – Углы ее рта опустились сильнее. – Давно бы могла умереть. Как Тереза.
Она замолчала.
– Когда ты летишь?
– Куда я лечу?
– Как куда? Ну, в Москву.
Он вспомнил, что послезавтра улетает в Москву к любовнице.
– Я скоро вернусь.
Она внимательно посмотрела на него близорукими глазами. Иногда она смотрела так, что хотелось завыть.
В аэропорту Сергея встречала большая семья. Отец, похудевший, взволнованный, красный, в костюме при галстуке, мачеха на каблуках, Марина, фигуру которой заметно испортили роды, и брат, возвышающийся надо всеми, как крепость, украшенная флагом. Флаг этот он нежно держал на руках и нежно дышал в его лысый затылок.
Скрывая свое равнодушие, Сергей особенно крепко и долго обнимал отца, долго, с преувеличенным интересом, разглядывал младенца.
– Маринка сказала: «Давай назовем, чтоб все вокруг ахнули. Тем более раз твой братишка в Америке». – И брат усмехнулся. – Вот так и назвали: Джульетта Максимовна.
Марина укусила Сергея темно-желтым взглядом и засмеялась неожиданно простодушным серебряным смехом. Поехали к отцу, где Джульетта тут же закатила скандал, поэтому обед прошел скомканно. Вчера, перед вылетом, он звонил Вере, и они договорились, что первую ночь он останется у отца, иначе неловко. И несмотря на то что он летел к ней, а все остальное было лишь предлогом, ему стало как-то спокойнее от того, что сейчас не нужно хватать машину и мчаться на Мосфильмовскую. Страх, причины которого он не понимал, парализовал все внутри. Это началось в самолете, как только погасили свет, и пассажиры, кто тихо, а кто-то очень громко, заснули. Он слегка отогнул шторку иллюминатора, и непроницаемая чернота холодно и зловеще посмотрела на него так, как иногда может посмотреть на одного человека другой, случайно попавшийся и незнакомый. Он отшатнулся, опустил шторку, крепко закрыл глаза, но страх начал одолевать его с такой силой, что он с трудом удержался от того, чтобы не подозвать стюардессу и не попросить какого-нибудь успокоительного, если у них есть…
Ему постелили в большой комнате на диване. Постельное белье было свежим, накрахмаленным, нарядным: в розовых цветочках. В открытом окне накрапывал дождик и одуряюще пахло душистым табаком, запах которого он помнил с детства, потому что на редкой подмосковной клумбе не сажали этого скромного по виду цветка, который раскрывается только в темноте.
Пришло утро. Теперь можно было принять душ, одеться и, пока отец и мачеха спят, уехать к Вере. Но мачеха, маленькая без каблуков, вся в складках своей белой, шелковой кожи, которой везде было много: на шее, на толстых щеках, на локтях, просунулась в дверь и шепнула ему:
– Хоть кофе-то выпей. Успеешь.
И опять ему стало легче, что можно еще оттянуть, подождать. Они сели за кухонный стол, на котором дымились две чашки кофе и очень уютно накрыт был – с яичницей, сырниками, колбасой и оладьями, как принято это в Москве, – сытный завтрак. Мачеха, ярко-румяная от волнения, с пестренькими прядками в поредевших волосах, сказала, оглядываясь, как будто боясь, что их кто-то подслушает:
– Я папе-то сразу вчера объяснила, чтоб не приставал к тебе и не задерживал. А то он пристанет. Ты сам знаешь, как. Ему нужно в лоб все сказать. Недогадливый. Пусть думает, что ты к нему прилетел. Гордится тобой. Прямо хуже ребенка.
Он растерялся, глотнул слишком горячего кофе, закашлялся. Мачеха замахала атласными ладошками:
– Водички возьми. Вот водичка, Сережа. Никто к тебе в душу не лезет, не бойся. Максима ты знаешь. Он – камень, и все.
Она вдруг зашмыгала носом.
– Вот, видишь? Женился. Зачем? Без любви. Ну кто же так делает, а? Люди женятся, раз будет ребенок, им женщину жалко. А он не поэтому.
– А почему?
– А он потому, что ребенок… Ему – ну, клянусь тебе верой и правдой, – ему на Маринку совсем наплевать!
Она покраснела, наморщила лобик.
– Не то что он просто ребенка хотел… Он, может, об этом и вовсе не думал! Но как она только сказала ему, что, мол, залетела, так он захотел! Какой там аборт! Лег костьми бы, и все. Вот и поженились. Джульетте-то месяц всего, а он ведь с ума по ней сходит. Да, да. И сам пеленает, и ночью встает. Уж ты извини меня за прямоту: не знаю, с женой-то он спит или нет. А если и спит, так ведь не от души! А так, по привычке одной, криво-косо.
– У всех криво-косо, – сказал он неловко. У мачехи вспыхнули темные глазки:
– У нас с твоим папой такого не помню. Сергей растерялся, не знал, что ответить. Уж больно проста она, больно атласна…
– К мужчине ведь, главное, не приставать. – И мачеха мягким и легким движением пришлепнула сырник сметаной. – Мужчина – как конь. В конюшне его не удержишь. А я медитировать тут начала…
– Зачем вам? – спросил он.
– Ну, как? Помогает. Уходишь в астрал – и ищите меня! А что ты не кушаешь?
– Как я не кушаю? И что там, в астрале?
– В астрале? Чудесно. Виденья бывают.
– Какие виденья?
– Да разные, всякие. Как будто какую-то дочку свою я вижу, а все подойти не решаюсь. А дочки-то не было ведь никогда! Один только Макс. Вот какие виденья.
– Забавно, – сказал он и встал, улыбаясь.
– А может быть, это твоя была дочка. – Она тоже встала. – Кто знает, ведь правда?
– А может, и так. Спасибо за завтрак.
– Иди, дорогой. Я совсем заболталась. Того гляди папа проснется. Иди.
– А вы что, обратно в астрал?
– А я в магазин, – засмеялась она. – А то жарко станет, куда я пойду?
Дворничиха в темно-красной косынке на черноволосой голове, горбоносая и беременная, подметала двор. Сергей набрал номер.
– Не спишь?
– Нет, не сплю.
– Я еду, – сказал он.
– Я жду.
Вечером он перевез из отцовской квартиры свои вещи к Вере на Мосфильмовскую. Отец развел руками и ни о чем не спросил.
Каждую ночь Сергею казалось, что их обоих относит к самому краю земли, где она сходится с небом и где теплый шум то становится громким, пронзительным, безостановочным звуком, а то вдруг стихает, как грозно стихает шум бора, когда подступает гроза.
Одри ненавидела маму за то, что мама все делала не так. Если бы она вела себя правильно, папа никуда не уехал бы и не ночевал бы в своем кабинете на первом этаже. А мама курила, толстела, кричала. На всех фотографиях мама была похожа на киноактрису. Куда это все подевалось, скажите? Одри представляла себе, как папа, высокий, кудрявый, с широкой улыбкой, идет по Москве. Входит в Кремль, например. И там много женщин. И все они видят, как папа красив. Тут Одри до боли вжималась в диван. Ведь он – ее папа, он должен быть с ней. А он не спросил у нее разрешения поехать в Москву. Взял билет и поехал. Во всем, во всем мама одна виновата! Зачем, например, пить вино каждый день? Она что, не видит, как папе противно?
За ужином, на котором, кроме нее, мамы и Петьки, была еще бабушка, Одри изо всех сил ударила кулаком по бутылке, когда мама потянулась к ней. Бутылка упала. Вино окровавило скатерть, и лужица в форме сердечка застыла на белом пюре.
– Ты что? Одурела? – сказала ей мама, сужая глаза.
– Да, я одурела, – ответила Одри.
– Тогда посиди в своей комнате.
Рискуя повалить все, что попадется на пути, она бросилась наверх. Упала на кровать. Пронзительно звенело в ушах, перед глазами прыгала темнота. Она зажала уши ладонями. В темноте появились красные кабаньи туши, подвешенные на крюках.
«А эти откуда?» – подумала Одри спокойно и сразу же вспомнила, что этой осенью, когда они ездили с папой к китайцу, который, как люди наврали, все лечит (и опухоль тоже!), пыхтел впереди грузовик, и в кузове были такие вот туши.
– Какой ужас, да? – сказала тогда Одри папе.
– А ты не смотри, – ответил он ей.
В дверях, расползаясь, двоясь, соленая даже по виду от слез, заливших ее, как из крана вода, вдруг выросла мама.
– Послушай меня. Что с тобой? Моя доченька…
Одри хотела крикнуть, чтобы ее не трогали, но голос пропал. Тогда она просто махнула рукой. И мама послушалась. Тихо ушла. На цыпочках, словно идет по канату.
Тогда градом хлынули слезы. Где папа? Да кто его знает! А мама похожа на мертвую тушу. Такая же красная, страшная, мокрая. И в пятницу нужно опять ехать в клинику. Опять ее там закатают в трубу и будут глядеть, как растет ее опухоль.
Тогда она все поняла. Очень просто.
Зачем было ждать столько дней и ночей? Давно бы уж сделала, чем терять время.
В субботу решили поехать в Суздаль. Почему в Суздаль? Потому что нельзя все время валяться в постели. Вера сказала это, смеясь. Она очень много смеялась. И даже в постели.
– Ну, чем я сейчас-то тебя насмешил?
– Не знаю, – смеялась она. – Я так счастлива. На рассвете они встали, подошли к окну. Все было прозрачным, сияющим, розовым. Сергей искоса посмотрел на эту женщину, которая стояла рядом. Она была обнажена и бесстыдно раскрыта всему: земле, небу, всем запахам, всем земным звукам, небесному голосу птиц. Напротив, на тесном балконе, увитом цветами, уставленном лейками, разгуливал пестрый петух.
– Смотри, – засмеялась она. – Вон петух!
– А что, теперь кур можно дома держать?
– А что здесь такого? Раз он не мешает?
Тень набежала на ее радостное лицо.
– И мы с тобой ведь никому не мешаем? Ответь мне: ведь мы никому не мешаем?
Он обнял ее:
– Кому мы мешаем?
– Постой! – Она отодвинулась. – У нас ничего с тобой нет впереди?
– У нас впереди, – сказал он, – мы с тобой.
– Но мы с тобой – это когда мы с тобой…
Он почувствовал себя так, как если бы кто-то его стал душить.
Задвинули шторы и снова легли. Темно стало в комнате.
– Я не хочу… – Он громко сглотнул. – Не хочу я ломать! Тебе. Твою жизнь.
– О Господи, что ты? Зачем?
– Что зачем?
– Зачем ты сейчас говоришь, что ломаешь…
– А что я, по-твоему, делаю? Конечно, ломаю. И ты это знаешь.
– Но я ведь не просто так! Как же…
– Что как же? – Он резко привстал на кровати. – Что как же? Вот если сейчас позвонит Адриана…
Она затрясла головой:
– Не смей мне о ней говорить!
– Вот видишь? «Не смей»! Живу, как в капкане. Она вскочила, набросила на плечи халат и убежала в ванную. Он услышал шум воды и грубый клокочущий звук ее плача, который его испугал.
– Открой мне!
Она замолчала, затихла.
– Открой!
И сам рванул дверь. Лицо ее было как будто ослепшим. Он встал на колени и вжался в нее.
– Прости меня. Я идиот.
Она опустилась на корточки. Они быстро сблизили лица. Потерлись носами.
«Вот если бы Одри меня сейчас видела!» – сверкнуло в его голове.
– Ну, хватит, – сказала она. – Все прекрасно. Так едем мы в Суздаль?
Ехать в Суздаль они собирались на отцовской машине. Вера быстро переоделась, взяла с собой сумку с вещами. В Суздале решено было провести два дня.
– Готова? – спросил он ее очень бодро.
Она успела причесаться и даже слегка подкраситься. На ней была белая кофточка, черные шорты, и эта ее длинноногая хрупкость, и талия, какая-то слишком уж тонкая, скорее, годящаяся для подростка, и легкий загар на открытых плечах, но главное: эти спокойные чистые черты молодого лица и глаза, опять просиявшие прежней любовью, – все это он словно впитал в себя – быстро, одним только прикосновением взгляда…
– Полдня потеряли, – сказала она.
И тут зазвонил телефон.
– Ответь! Я не слушаю.
– Ты не обидишься?
– Нет, я не обижусь. Ответь, наконец!
Поначалу он ничего не мог понять. Адриана захлебывалась, и вместо предложений вылетали сдавленные куски слов.
– Что? Что? Повтори! – кричал он.
– Она перерезала вены! – Жена захлебнулась.
– Жива?
– Да, жива! Я с ней сейчас в реанимации. Утром. Я утром увидела… дома… в крови…
– Сейчас вылетаю!
– Она сейчас спит. Поставили капельницу… Говорят…
– Кто? Кто говорит?
– Доктор Тернер, он здесь… Они его вызвали… утром сегодня.
– Что он говорит?
Адриана опять зарыдала. Потом он услышал, как кто-то позвал ее. Кажется, Тернер, ведущий врач Одри.
– Мне надо идти, – сказала жена. – Вылетай, ради Бога!
Пот градом лился по лицу. Он вытер его рукой вместе с зажатым в ней телефоном. Нужно ехать в аэропорт, лучше, наверное, в Шереметьево. Нет, в Домодедово, ведь он и прилетел в Домодедово. И брать билет на первый рейс до Нью-Йорка. Он сел в машину. А кто это рядом? А, Вера. Да, Вера. Ему срочно нужно домой.
– Езжай осторожно, – сказала она. – До аэропорта отсюда не близко.
Она не спросила ни слова. Наверное, поняла, что нельзя. Но все это было неважным сейчас. Ему срочно нужно домой. И вдруг слезы страха – такого, который его раздавил, – покатились наружу.
– Мне нужно домой. С Одри там…
– Тогда давай я поведу, – сказала она.
От слез он не видел почти ничего, поэтому и уступил. Вера села за руль. Опять везде пробки, объезды, гудки. К двум часам добрались до аэропорта. С ним был только бумажник и те вещи, которые она собиралась взять в Суздаль.
– Сережа, с машиной что делать?
– С машиной? Максиму скажи. Он ее заберет.
Написал телефон Максима.
– Ну, все. Я пошел.
– Ты прости меня, слышишь? – сказала она.
– О чем ты? – нахмурился он. – Что за глупости?
Компания «Дельта» предложила единственный оставшийся у них билет в бизнес-классе. Он схватил этот билет, и тут объявили посадку. В бизнес-классе можно было задвинуть штору, чтобы никто не приставал. Восемь часов в самолете тянулись вечность. Иногда подступало так, что он зажимал рот подушкой. От слез было легче на две-три минуты.
Самолет приземлился. Он сразу набрал Адриану. Она не ответила. То, что можно позвонить прямо в клинику, не пришло в голову. Он позвонил маме, и слабым детским голосом мама сказала, что она тоже здесь, потому что у Одри сейчас операция.
– Какая?
– Ты сам все поймешь. Но доктор сказал, что ее нам спасут…
И мама заплакала.
Вот клиника. Двери. Вот лифт. К лифту очередь. Но втиснулись все. Вот комната для ожидания. Мама. И Петька с компьютером. Увидев его, они сразу вскочили.
– А где Адриана?
– В уборной. Ей плохо.
– Когда они начали? Что оперируют?
– Там нужно убрать гематому. Она ведь упала… когда это сделала…
– Когда она сделала что?
Жена вошла в комнату. Она была в джинсах. Живот выступает. В лице то же самое, что у него во всем его теле, – панический страх.
– Как ты долетел?
– Долетел, слава Богу. Когда они кончат?
– Они только начали. Часа полтора. Там же ведь гематома.
– Мне мама сказала. Как это случилось?
– Сейчас объясню. А кофе ты хочешь? Вот кофе. Налей папе, Петя.
– Не надо. Я выпью воды. Петька, сядь. Ты сам-то хоть ел? Возьми десять долларов. Тут есть столовая…
– Нет, папа, не надо, я ел. Мы с бабушкой ели.
– Она вскрыла вены. Не вскрыла, порезала. Мне тут объяснили, что дети так делают. – Глаза ее остановились. – Но чаще бывает, что им не тринадцать, как ей, а постарше…
– Неважно! У вас был скандал?
– Сережа! – Мама схватила его за руку. – Тут нет никого виноватого. Мы ужинали: Петька, я, Адриана. И Одри, конечно. Она рассердилась на что-то… Ей-богу, я даже не знаю, на что…
– На то, что стояла бутылка с вином, – сказал глухо сын.
– Она разлила всю бутылку, и я ей велела идти в свою комнату…
Адриана говорила без всякого выражения, с теми же остановившимися глазами.
– Она убежала. И я пошла сразу за ней. Она была зла на меня, очень плакала. Тогда я ушла и легла.
– Я тоже осталась у вас ночевать. Мы с Петей убрали посуду. – У мамы дрожала рука, на которой болтался браслет со словами «I love you» (остался от Тома!). – Он что-то еще почитал, я заснула. В твоем кабинете заснула, как мертвая…
– В четыре я вызвала «Скорую». Пошла покурить на крыльцо и увидела, что свет в ее комнате так и горит. Она часто ночью не спит, ты же знаешь…
Сергею до ярости вдруг захотелось во всем обвинить Адриану, во всем. С ее этим тихим безжизненным голосом.
– А ты не могла ее раньше проверить? – спросил он, темнея лицом и всей шеей.
– Откуда я знала?
В конце концов, понял он, что было ночью. Разрезала вены на левой руке. Не сильно, на самой поверхности кожи, но кровь моментально пошла, и от вида полившейся крови она и упала. Скорее всего, без сознания.
– Упала и стукнулась о сундучок, – сказала ему Адриана. – Ты знаешь, там есть сундучок у нее…
– Я знаю, – кивнул он. – Ударилась сильно?
– Да вроде не очень. Но вот, гематома… Ее надо срочно убрать, а иначе…
Прошел еще час. Они ждали. Потом отправили маму и Петьку поесть.
– Да я и куска не могу проглотить. – У мамы опять задрожала рука.
– Пусть Петя поест. Ты его отведи.
– Я что? Пятилетний? Могу сам дойти.
– Пойди вместе с бабушкой. Супу хоть съешьте. Они с Адрианой остались одни. От долгого страха и от ожидания внутри все как будто сгорело, как в печке. Потрескивали только угли.
– Послушай, – сказал он. – Не мучай себя. Ведь ты ни при чем.
– А кто же «при чем»? – прошептала жена. – Я знаю, что я виновата.
Она «виновата»! Она, а не он, улетевший к любовнице…
(Он вспомнил горячее женское тело с раскрывшимся лоном и весь передернулся.)
«Еще только мне не хватает здесь грохнуться!» – подумал он вяло.
Дверь операционной растворилась, вышел доктор и две медсестры. Они с Адрианой вскочили навстречу.
– Я все удалил, – сказал доктор. – Теперь будем ждать.
– Чего ждать? – Жена задрожала так сильно, что доктор, обняв, усадил ее снова и сел с нею рядом.
– Сама операция, в общем, простая. Но нужно учитывать общий диагноз…
Через двадцать минут им разрешили увидеть Одри. Она была белой, спала. Без кровинки. Нос длинный и острый, совсем не ее. Повязка по самые брови. Они с Адрианой присели на корточки, чтобы хоть почувствовать, как она дышит.
Три месяца он о Вере не вспоминал. Иногда только приходило в голову, что, может быть, хоть позвонить. Не на мобильный, потому что он не хотел разговаривать, а на домашний в то время, когда она на работе. Оставить на автоответчике коротко: «У дочки была операция. Сейчас она восстановилась, но трудно. Депрессия, даже не хочет ходить. Работаю только из дома. Все с ней. Тебя никогда не забуду. Спасибо».
Потом он решил, что нельзя ведь так прятаться. Она-то, в конце концов, чем виновата?
И он позвонил. Было утро. Зима. В Москве уже шесть. Вера, может быть, дома. Открыл половинку окна и высунул голову. Покалывающий его лоб свежий воздух принес запах зимнего белого сада с давно уже сгнившей травой у корней засыпанных снегом деревьев.
Она подошла. Голос мягкий, знакомый.
– Я слушаю вас.
– Это я, – сказал он.
В груди зашумело, заныло, забухало. Как будто со скрежетом быстро сползает сорвавшийся поезд под насыпь.
– Я все собирался тебе позвонить, – сказал он совсем уже глупо, по-детски.
– Как дочка? – спросила она еле слышно.
Он ей рассказал.
– А как сын?
– Хорошо.
Она помолчала. Потом еще тише сказала:
– А я не одна.
– Не одна? Как? А с кем? Ты что, замуж вышла?!
Она засмеялась. Потом слегка всхлипнула.
– Ну, что ты? Я – замуж? Нет, я не одна, потому что… Ну, в общем…
Опять замолчала. Он так и не понял.
– Да что ты, ей-богу! Не можешь сказать?
– Могу. Мне вчера уже сделали снимки. Он очень хороший.
– Кто он?!
– Ну, ребенок. Мой мальчик. Мне снимки вчера показали. Он – мальчик.
Ирина Муравьёвафевраль – март, 2018
Об авторе
Ирине МУРАВЬЕВОЙ не важна тема. Вся ее проза, начиная с ранних романов, раскачивает большинство тем подобно маятнику: во весь диаметр. Она оставляет всякому свободу выбора, не настаивает на том, чтобы читатель согласился с ее разделением на добро и зло, белое и черное, не подавляет его собственного жизненного опыта, но, будучи сфокусированной на поиске точности и красоты слова, ищет свой путь к чужому сознанию.